Дарья Маликова (Дарья Гаечкина)
Свет. Сборник миниатюр
«Свет» – сборник миниатюр, состоящий из трёх частей: «Будь как море», «Дом» и «Двадцатилетие». Нужно отметить, что особая повествовательная тактика сборника осложняет подробное составление синопсиса. В первой части героиня от первого лица рассказывает о нескольких месяцах, проведённых на Севере. Она впервые оказывается в Скандинавии, с которой крепко срослось её сердце, и переживает всё, что с ней происходит, с глубиной сильно и много чувствующего человека. Героиня путешествует по югу Швеции, касается незнакомой жизни, знакомится с холодным морем и одиночеством, отправляется в путешествие в норвежские фьорды, встречает рассвет у маяка и глубже узнаёт себя. Рассказ героини – это не повествование о действиях, в которых зачастую нет ничего примечательного, но запечатление момента, текстовая фотография, оставившая след в её памяти.
Вторая часть сборника, «Дом» – это история больно взрослеющего человека. Возвращаясь в родной город, героиня видит всё другими глазами, и за единое лето с грустью прощается с детством. В её рассказе – колоссальная любовь ко всему, что её окружает, и эта любовь и держит её на плаву, и причиняет боль. Любовь и боль – именно это героиня стремится запечатлеть в своих рассказах.
Третья часть, «Двадцатилетие» – это дневниковые записи героини, также посвящённые глубокому эмоциальному пути взрослеющего человека. Ничем не примечательные повседневные происшествия – поход в театр, примерка платья для бала, знакомство с Казанью или Парижем для героини – концентрированное жизненное мгновение. Именно из таких и состоит её жизнь – и именно об этом она хочет рассказать. О том, что каждая минута достойна того, чтобы заснять её словами.
Близких налогов, насколько известно автору, нет.
Меня зовут Дарья Александровна Маликова, мне 22 года и я занимаюсь литературным импрессионизмом. Занимаюсь давно, прошла все мыслимые и немыслимые этапы творчества и, кажется, должна пройти ещё столько же. Уроженка родины Ленина, студентка магистратуры МГИМО МИД РФ, скандинавист и будущий дипломат. Говорю на английском, шведском и французском языках. Финалист Русских Рифм-2016 в номинации «Художественная проза». Публиковалась в Литературной газете (№ 17-18 (6596) (3-05-2017)). Издала два сборника миниатюр с помощью портала Ridero:
«Будь как море» litres.ru/darya-gaechkina/bud-kak-more-sbornik-miniatur/
ozon.ru/context/detail/id/142417082/
numl.org/oJs
(ссылки укорочены для удобства)
Продано или прочитано с указанных выше сайтов 50 электронных экземпляров, 40 экземпляров продано в печатном виде.
«Дом» litres.ru/darya-gaechkina/dom/
ozon.ru/context/detail/id/139272253/
numl.org/oJt
(ссылки укорочены для удобства)
Продано или прочитано с указанных выше сайтов 118 электронных экземпляров, более 50 экземпляров продано в печатном виде.
Проводила литературные чтения в библиотеке Ф.М. Достоевского в Москве, дважды участвовала в форуме «Таврида», смена молодых писателей и поэтов.
Веду личный блог VKontakte (552 подписчика) vk.com/gchkn и Telegram-канал (117 подписчиков) vk.com/gchkn. Личные социальные сети насчитывают 906 подписчиков (vk.com/dar_malikova), 949 подписчиков (instagram.com/dar.malikova) и др.
В своё творчество вкладываюсь так, как только может вкладываться человек, профессия которого бесконечно далека от литературы; впрочем, литературой, созданной другими, беспрерывно занимаюсь уже несколько лет: руковожу собственным литературным проектом chamberproject.ru. С командой добровольцев мы уже несколько лет собираем на едином сайте молодых поэтов и прозаиков и их тексты, создаём стильные вещи с цитатами из их текстов и помогаем с продвижением. В декабре 2018 года портал выпустил сборник «Чистовик» тиражом в 120 экземпляров, распроданных на презентации и по предзаказу.
«Чистовик»: chamberproject.ru/product/chistovik/
Тел.: +7 909 926 49 75
Е-mail: dar.malikova@gmail.com
VK:
ID 1080806
Часть первая. Будь как море
В шведском языке есть пословица, звучащая как «Gör som havet – våga». Если перевести её буквально, получится «Будь как море – делай волны». Бессмыслица на первый взгляд, но для шведа вся суть кроется во втором значении слова «våga». «Våga» значит быть храбрым. «Våga» значит осмеливаться. Именно такой я и старалась быть там – когда бросалась в холодную Балтику, в норвежские фьорды и в заповедную глубь дороги на маяк. Именно этому, кажется, и учила меня Скандинавия. Будь храброй. Будь как море.
И я, как витязь, который горд
коня сохранить, а живот сложить,
честно поплыл и держал Норд-Норд.
Иосиф Бродский, Письмо в бутылке
Я надела голубую рубашку – в цвет неба и отделки кресел.
Уважаемые пассажиры, самолёт готовится к взлёту.
Голос Аманды Бергман в наушниках отдаёт холодком, будто на лёд постелили бархатный плед. Поднимается солнце; самолёт поводит крыльями, как плечами, и кажется, будто от утренних облаков ему зябко. Тело, на десять тысяч метров оторванное от земли, кажется пустым и лёгким, душа и вовсе истаяла, как медуза, вынесенная на песок, и я решительно настраиваю себя предаться безудержному гедонизму в тот самый момент, когда самолёт опустит нос и коснётся посадочной полосы.
Окунуться в холодное море цвета моей рубашки.
В поезде стоит душный гвалт, много детей, за окнами исполинские ветряки мерно гребут прохладный морской ветер широкими лопастями. Поскольку каждый в вагоне с равной долей вероятности может говорить на датском, шведском или английском языках, объясняемся жестами, улыбками, втискиваемся с чемоданами в уголок между стеной и дверью. Вытираю пот с висков ребром ладони. Выуживаю мягкий шведский говор из потока строгой датской речи и, прикрыв глаза, покачиваю головой, как под музыку. По мосту поезд едет гладко, быстро, как твёрдой рукой пущенная стрела.
В Копенгагене допускается два варианта: либо ты – на съёмках фильма про Копенгаген (здесь всё время хочется сказать режиссёру, что в таких домах не живут, потому что они похожи на пряники), либо – действительно в Дании, но тут случается приступ восторженного неверия и во избежание счастливой истерики ты решаешь сходить за мороженым. В метро неприлично пялишься на надписи и тщетно пытаешься понять, что хуже: уступить место пожилой женщине и прослыть невежественным иностранцем, или не уступить и… прослыть невежественным иностранцем. В поезде на подъезде к Кальмару становится пусто, прохладно и станции объявляют по шведски: до улыбки привычный, мягкий, горловой звук. В кресле напротив Николина с серьёзным лицом углублена в Солженицына; у неё кудрявые пшеничные волосы, пушащиеся, как перья, и приятное веснушчатое лицо. Она сама такая птичка: энергичная улыбчивая щебетунья. Поджимаю под себя ноги, придерживаю коленкой чемодан и, отрываясь от книги, долго смотрю на простенькие, ровненькие шведские поля. Глаза расслабляются и будто растворяются в их светлом ситцевом море.
В сутках у меня сегодня 25 часов. Слава «Аэрофлоту» и часовым поясам.
По приезде храбро бросаюсь в балтийскую воду с разбега. Забегаю по щиколотки и с верещанием возвращаюсь обратно, как щенок. Волны с презрением обрызгивают мне джинсы и возвращаются в море.
Ишь ты, тепличное растение.
Если сидеть на пирсе и свесить ноги, вода кажется малахитовой и от неё тянет холодом. Плавать в такой могут только сумасшедшие или скандинавы. Это очень красиво: рослая, розовощёкая шведка, с волосами белесыми, как мука, с глазами голубовато-прозрачными, в строгом закрытом купальнике, плавно разводит руками в этой малахитовой воде, приподнимает нос и подбородок, смотрит на горизонт. На горизонте серые баржи, затянутые туманом, и маленькие белые треугольники парусов.
Вместо воробьёв у Макдоналдса попрошайничают большие белые чайки; у них серые головы, широкие крылья и пронзительные голоса; то и дело слышится, что кто-то вскрикивает от ужаса, вздрагиваешь, смеёшься, а они косятся своими чёрными масляными глазами.
На улицах кролики. Бурая шубка, ушки прижаты, глаза миндальные, всё, как положено – серыми шариками высыпают на газоны к темноте. Темнеть начинает к половине одиннадцатого. Небо будто расширяется и становится сначала жемчужно-серым, а потом – сразу индиго.
На окне у меня жалюзи, и оттого по утрам пустая маленькая комната вся в солнечную полосочку. Полосочки выхватывают из сонного пыльного полумрака пачки Доширака, термос с захолодавшим за ночь кофе, в беспорядке ночью купленный шведский творог (на вкус как крем или сливки), мятую карту и ключи от велосипеда. Велосипеды мы взяли напрокат на сутки. Велосипедов в городе больше, чем пешеходов. Велосипеды здесь существуют рядами, кучами, парами и поодиночке, прислонённые к стенам – хозяин только что отошёл и сейчас вернётся. Нельзя быть настоящей шведкой, если у тебя нет велосипеда.
Рано утром ветер тянет влагой с моря, сырой, студёной, но солнце уже жарко печёт плечи и тыльную сторону ладони, пока я вслед за Мартином проношусь мимо массивных каменных стен замка, мимо стаи диких серых гусей с красными клювами, мимо пирса, вдоль продрогшего пляжа – прямо, к самой южной оконечности полуострова, где гугл карты сдаются и жалобно просят обновить страницу. Мы останавливаемся и разворачиваем бумажную карту, прихваченную из туристического бюро. Карта хрустит и не слушается от ветра, ветер бьёт резко, плашмя, порывами. Мартин переворачивает кепку козырьком назад, Николина трясёт кудрями и по-детски беззаботно улыбается.
До самого края мыса я добираюсь одна, по щиколотку в нагревшейся на солнце зыбкой травяной топи, первая, гордая, босая, обгоревшая и замёрзшая одновременно – ты ж моё славное северное солнце! Горизонт режет глаза. Стою на огромном скользком валуне, скосолапившись, чтобы не упасть. Гальюнная фигура грудью встречает Балтику.
Отвозя велосипед обратно, держу его за спиной, будто боюсь, что отберут, и прошу продлить аренду на месяц.
Мне сегодня сказали, что я хорошо говорю по-шведски.
Если встать к городу спиной и смотреть на замок, вы с ним остаётесь одни. Замок такой тяжёлый, что чувствуется, как он давит на землю своим каменным телом. Холодные стены метровой толщины пропахли морем, просолились за четыреста лет, и теперь вдоль них бегают дети с волосами цвета льна.
Незадолго до одиннадцати я приезжаю за покупками. На парковке совершенно пусто и мертвенно тихо, только фонари льют на асфальт свой белый свет и шуршат колёса велосипеда. У самого входа дорогу мне перебегает заяц. Он такой большой, что сперва я принимаю его за оленёнка и останавливаюсь. Заяц останавливается тоже – сухопарый, быстрый, настороженный. Мы мгновение смотрим друг на друга: ночь, холод, ветер с моря, пустая парковка. Потом он исчезает.
Я ещё немного пялюсь на то место, где он только что стоял.
По дороге домой сворачиваю к морю. Город глубоко, спокойно спит. Вдоль замка разгоняюсь на пустых аллеях под густыми кронами, в корзинке велосипеда трясутся спаржа, селёдка и помидоры. Колёса слетают с асфальта и шуршат по гальке. Море дышит в темноте: неспешно, раскатисто. Свет с деревянного пирса тут же гаснет в холодной тёмной воде.
Закрываю глаза и стою долго.
Я восхитительно запустилась за неделю. Моё лицо отвыкло от того, чтобы его чем-то мазали. Нос облуплен, глаза красноватые от беспрестанного, крутого ветра. Веснушки. Заросшие брови. Тыльная сторона ладони обгорела неровно и некрасиво, как у всех здесь, кто с утра до ночи не слезает с велосипеда. Никаких мешков под глазами. Набрала обратно свои килограммы. Много сплю днём, много гуляю по темноте, много медитирую под тяжёлыми стенами замка, прикрывающими от моря мою неподвижную фигуру в жёлтой кофте. Много сижу на пирсе. Волны холодно дышат в мои подошвы.
Чайки над крышами: я всё никак не перестану удивляться.
Мой будильник давно отключён, телефон не выходит из тишины беззвучного режима. Существование неторопливое и обволакивающее, как тёплый туман. Часто езжу в магазин и бесстыдно предаюсь пищевому гедонизму. Кокосовое масло и яблоки. Cвежий сладкий хлеб, морская рыба в алюминиевых банках, густые йогурты, в которых стоит чайная ложка, свежемолотый кофе и жирное молоко. Наслаждение тем, как, крошась, ломается хлеб и кофе льётся в чашку.
Темнота приносит с собой тяжёлую стужу. Надеваю оба имеющиеся свитера, наливаю какао в термос, хватаю с крючка ключи от велосипеда. Шины шуршат на тихой улице, на дороге врассыпную бросаются маленькие бурые кролики с белыми хвостами-пумпончиками. Переднее колесо рассекает ледяную тягучую темноту. Мартин ждёт на велопарковке у городской библиотеки, в пятне света от фонаря; накинув капюшон, пытается включить у велосипеда передний свет. Я сходу сообщаю, что, по моим соображениям, мы оба, вероятно, сrazy; он смеётся и разворачивает руль.
– This way.
Едва не съехав в темноте на лестницу, оставляем велосипеды и спускаемся вниз. Доски пирса влажные, холодные, зыбкие. Слышно каждую нотку голоса, каждый оттенок неуловимых интонаций, каждый плеск воды о серый песок. Здесь никогда не делается совсем темно. Свет будто гнездится на западе, между землёй и морем, изжелта-рыжий, тёплый, ждёт рассветного часа; фонари отражаются в воде, глубоко синей, шёлковой, мажут по ней золотыми пятнами. Луна прямо над пирсом. Стынь висит над водой.
Где-то справа хлопает крыльями утка.
Выходим из автобуса на маленькой остановке посередине трассы. Жарко. Насколько хватает глаз – поля, ровно стриженные, прямо раскроенные жёлтые и зелёные лоскутки. От ветра по ним пробегает беспорядочная рябь. Асфальт калёный, разметка размягчилась от солнца. Вынимая велосипеды из багажного отделения, водитель с сочувствием интересуется, как мы собираемся попасть обратно на большую землю. No idea, говорю я. Жму на педали. Пролетающие мимо машины, как жуки, обдают жаром, пылью и стрёкотом. Николина доверяет мне, счастливо улыбается и поднимает к сатиновому небу лицо, Мартин хмурится и теребит козырёк у бейсболки. Мартин – швейцарец. У швейцарца не может не быть плана. Швейцарец всегда должен знать, куда мы едем, по какой конкретно дороге, во сколько планируем прибыть и во сколько – остановиться на ланч. В его понимании мы, вероятно, если не crazy, то совершеннейше bold. Дорога – кочки да камни, в корзинке велосипеда подпрыгивает зелёный рюкзак, по сторонам пятнистые коровы топчут копытами пёстренькую, мягкую полевую траву. Солнце горячо жарит руки, щёки и лоб, и тут же северный ветер норовит выхолодить грудь, и никак не привыкнуть, что ты здесь всегда – между жаром Сциллы и холодом Харибды. Разгоняюсь на спусках, нахожу старую ветряную мельницу с застывшими крыльями и забираюсь внутрь; пахнет старьём и пылью, трещит посеревшая от времени деревянная лестница.
Покупаем у местных клубники; на четыре монетки по десять крон – коробочка сочащихся ягод. Таблички «Цветы» и «Экологичная клубника» здесь пишут вручную на белых картонках. Едим сразу, пачкаем липким соком руки и рот. Пожилая полячка в белом платке смотрит на нас и смеётся.
У шведов большие светлые теплицы с запотевшими стенами. Узнавала дорогу у красивой шведки в рабочих перчатках и с коленками, выпачканными в земле.
Она не перешла на английский.
Клубникой объедаемся прежде, чем приезжаем в порт; синеглазые дети с льняными волосами плещутся в воде пятнадцать с половиной градусов Цельсия. Вода здесь, на острове, светлая, с крупными, полными волнами. Стелем плед на крутых, пористых прибрежных валунах и достаём припасённую еду, глядя на режущий глаза, сверкающий залив и Эресуннский мост.
На пароме, идущем на большую землю, плещется шведский флаг.
Моё любимое время суток – когда перед закатом небо становится цвета голубой эмали. Матовое, пастельное, оно поднимается вверх и светлеет, светлеет, чтобы потом резко опуститься в темноту. Я лечу по набережной, и по ветру за мной плещется чёрный шарф. Горло продуло, и теперь я похожа на Остапа Бендера с загорелым лицом. Трава холодеет, становится бледнее на два оттенка, и из неё маленькими головками тянутся к небу простенькие белые цветы. Руки у меня липкие от яблочного сока, внутри прохладно и пусто. Самолёт, над тем местом, где только что село солнце, оставляет на небе золотистый, пламенный след. Ветра совсем нет и вода, серебристая, как ртуть, отражает длиннокрылые силуэты чаек. Они падают на воду, взрывают её крыльями, беспокоят, а потом бесшумно качаются на месте.
Я то отпускаю руль велосипеда и лечу с горы в золотисто-жёлтом море роскошных шведских полей, то уезжаю на маленький свежеструганный пирс далеко за Långviken и, невидимая в густых и плотных зарослях камыша, часами втягиваю в себя море через глаза.
Я совсем мальчишка. На ногах живого места нет. Острая коричневая полоса загара ровно по коленки – там, где заканчивается платье. Совсем перестала беречься. С каким-то упрямым упорством лезу в студёную воду, бегаю по стенам замка, по самой кромке, пошатываясь и по-птичьи раскинув руки. Будто стала шире.
Поздно ночью встаю с кровати, беру персик, сидр, ключи и плед и отправляюсь медитировать к морю. На пляже пустынно, холодно и тихо. Мокрый песок серовато-коричневого цвета бережно разровнян. На пирсе моргает готовящийся потухнуть фонарь. Когда не видно волн, кажется, что они вот-вот нахлынут и укроют с головой: переливчатые, нефтяные, неторопливые.
Я закрываю глаза и представляю, как вхожу в воду и иду на само дно, глубже, глубже, а потом останавливаюсь у острова, висящего в глубине, как в воздухе, и касаюсь рукой его мокрого бока.
В Одде холодно, туманно и зелено.
Одда – крохотный городок на юго-западе Норвегии, у самых фьордов. Всю дорогу туда я пялилась в окно автобуса, и в мой разинутый рот мог бы влететь небольшой пассажирский самолёт. За стеклом, в серой предрассветной темноте, вдоль узкой трассы неслась горная река – вода густо-бирюзового цвета с белоснежной клокочущей пеной. Горных вершин не было видно из-за тумана, и водопады срывались в реку с самого неба. Автобус спал; я смотрела на часы – два часа до прибытия – и тоже силилась поудобнее устроить голову между рюкзаком и шершавой обивкой кресла, но за новым поворотом распахивалось новое озеро, застывшее, стеклянное, и спать вот так просто, проезжая мимо, было никак нельзя.
Нас пятеро на пустой остановке в горах, я и мои попутчики – трое молодых индийцев и полненькая латвийка. Городок в горной долине. По дну долины течёт река, и оттого всё время слышится, будто где-то рядом закипает чайник. Маленькие квадратные домики, по-скандинавски цветные, карабкаются по склонам и кучками толпятся среди тёмной зелени. Улицы совершенно пусты. Порой кажется, что живут в городе исключительно чайки – они здесь такого размера, что походят на альбатросов, и такого самомнения, что уступают дорогу только после третьего сигнала клаксона. Не считая их характерных криков и клокотания реки – мертвенная тишина.
Автобус уходит, и мне делается смешно. Нас пятеро на пустой остановке в горах. Я прижимаю тыльную сторону ладони ко рту и не могу сдержать смех. Сейчас. Сейчас из-за угла выйдет Уолтер Митти. Или Валдис Пельш – и скажет, что это программа розыгрыш. Изо рта при выдохе идёт пар. И индийцы, и Линда поглядывают на меня с некоторой долей сочувствия. Я познакомилась с ними в автобусе из Осло; мы проговорили два с половиной часа, свернувшись на задних сиденьях. Я много махала руками, ребята спрашивали про Путина, за окном то и дело ощущались исполинские тёмные силуэты, пока невидимые. Индийцы и Линда уже провели ночь на соседнем Прекестулене и теперь ехали на Язык. У каждого – большой походный рюкзак, спальный мешок, аккуратно свёрнутый пенный коврик и непромокаемые ботинки. В общем – ни дать ни взять манекены с витрины Спортмастера.
По пути на ближайшую заправочную станцию я пялюсь то на горы, то на свои кроссовки. Оборачиваю вокруг шеи шарф. Зябко и так свежо, будто воздух здесь пропитан эфирным маслом. В маленьком магазинчике Линда бодро здоровается с заспанным норвежцем за прилавком и привычно двигается к автомату с кофе. Беру себе горячий шоколад и две самые дешёвые булки, пахнущие специями. По ту сторону витрины крутятся зачерствевшие хотдоги и маффины в пластиковой упаковке. Забывшись, отвечаю норвежцу по-шведски и замечаю, как хмурится его лицо. В желудке у меня что-то ноет и подрагивает – очень долго не ела и не спала, говорю я себе, но это неправда. Обхватываю горячий стаканчик, сжимаю в охапку бумажный пакетик с булками. В кофе много пены и молока. Снаружи Линда смеётся и курит, индийцы фотографируют чаек на большой фотоаппарат. Ревёт река, выбрасывает в воздух клокочущие массы малахитовой воды и кремовой пены. Позади этого грохота – тишина. Тяжёлая, осязаемая. Такой первобытной тишины я никогда ещё не слышала. Я объясняю им в пятнадцатый раз: просто собралась и поехала. Захотела уехать в горы. Рашн крейзи.
В полностью заполненном салоне девушек двое: Линда и я. Отметив это, Линда морщится и ворчит: «The story of my life!». Со стороны её, в полной экипировке, можно принять за хорошенького рыжего мальчика; кроме того, с привычкой много курить и смачно ругаться в компанию Линда вписывается более чем гармонично.
Что никак нельзя сказать обо мне.
У подножия горы я с серьёзным видом переобуваюсь из кроссовок в маленькие резиновые полуботиночки. Ботиночки раскрашены под кеды, обладают шнурками и выглядят совершенно по-идиотски. Затылком чувствую полный любопытства взгляд своих попутчиков. С трудом застёгиваю раздутый рюкзак, привязываю к шлёвкам тканевую сумку с едой и надписью Linnaeus University, туго заплетаю волосы, чтобы не лезли в глаза. Индийцы тихонько переговариваются на хинди. Улыбаются. Наверное, гадали, дойду или не дойду. Не то чтобы я очень об этом думала. В смысле, я понимала, что все правы: и Линда, которая откровенно заявила, что я nuts, и Лёша, который узнал о поездке первым и ёмким словом охарактеризовал уровень моих умственных способностей. Наверное, если бы я готовилась к маршруту за неделю, а лучше всего – ещё в Москве, всё было бы совсем по-другому. Я скупила бы себе половину ассортимента ближайшего спортивного магазина, обзавелась бы новенькими ботинками на рифлёной подошве и хрустящим походным рюкзачком, прочитала бы статьи в интернете, расспросила бы тех, кто уже совершил подъём.
Но так не вышло. Вышло, что я стояла там в джинсах, розовой куртке, шарфе, лихо закинутом на плечо, и всё время смеялась, и пялилась на горы, и шутила, что с середины маршрута буду звонить девять-один-один. И в этом – в моём помятом виде, в моих дурацких резиновых полусапожках (спасибо, мам), в трескающемся по швам зелёном Fjällräven Kånken, здесь, в горах, выглядевшем чуть хуже, чем глупо, заключалась большая часть пузырящегося восторга, который я смаковала тогда в шесть утра по норвежскому времени. Сладостный ужас совершаемого безумства. Пустота и трепет в горле. Молодая храбрящаяся гордость.
(Как показала практика, для того, чтобы комфортно существовать на маршруте, совершенно не обязательно наличие навороченного термобелья, палок для треккинга и высокотехнологичной куртки Columbia. Но если вы не хотите выглядеть белой вороной, лучше, конечно, ими обзавестись).
Подробно описывать маршрут – затея кощунственная. Маршрут – это таинство. Это то, что навсегда остаётся только между тобой и горами. Сюда – только в одиночестве. Первые пару километров ты слышишь тишину и собственное дыхание, поправляешь натирающие ремешки, перевязываешь шнурки, снимаешь один слой одежды за другим, пьёшь воду, фотографируешь, снова пьёшь, обгоняешь, разглядываешь тех, кто обгоняет тебя, оборачиваешься, пялишься вокруг. Горы не торопятся. Горы ждут. Ждут, пока ты отсуетишься, отхлопочешь, а потом опускают тебя в глубокий, немой коматоз. Становится очень тихо. Ты слышишь разговоры тех, кто проходит мимо тебя, ты слышишь непрерывный шелест воды по крутым каменным плитам, слышишь, как ступают по мху подошвы твоих кроссовок, но эти звуки обесцвечиваются и утихают на фоне тишины. Это тяжёлая, обитаемая тишина. Ты чувствуешь присутствие гор. Как ощущается человек, стоящий ровнёхонько за твоим плечом, так ощущается отчётливо и безошибочно присутствие их древних каменных тел. Горы смотрят на тебя. Горы дышат на твоё лицо. Ты знаешь, что ты в гостях; ты знаешь, что ты ступил в их древнее, безмолвное царство, в котором тебе не знаком и не подчиняется ни один закон и в котором ты – маленькая фигурка с токающей в висках красной кровью, в то время как они здесь всегда. Всё, что с тобой здесь произойдёт, зависит только от них, но им до тебя никакого дела нет. Они смотрят туда, где живут внуки твоих внуков, они видели аргонавтов и рождение Посейдона, они стоят на самом сердце Земли и связаны с нею одной сетью сосудов.
Маршрут – это бесконечная, непрерывная медитация. Ты ловишь себя на том, что ни о чем не думаешь. Голова пуста и будто бы заморожена. Ты перестаёшь пить воду и забываешь про бутерброды. Острая боль в ногах растекается по телу и сливается с тобой так, что перестаёт причинять неудобство. Периодически ты садишься и молча, сосредоточенно смотришь. Ветер играется с волосами. Каменная плита покрыта жёстким мхом всех оттенков зелёного и отдаёт стынью. Деревья внизу настолько малы, что не видно, как они шевелятся от ветра. Так же не видно, как течёт вода – застывшее полотно цвета медного купороса. Всё застыло. Времени здесь нет.
На видео оттуда я просто держу камеру перед собой и молчу.
Горы отпустили на пути обратно. Заболели ноги, захотелось есть и надеть шарф, одежда на пояснице оказалась насквозь промокшей от пота. Это как снова вернуться в тело и обнаружить, что оно всё это время взывало к тебе. Я остановилась в стороне от маршрута, расстелила плед на камнях, съела рис и овощи. Контейнер тщательно вымыла в студёной озёрной воде, прозрачной и недвижимой, как начищенное стекло. Помню, как к концу заторопилась, поскользнулась и упала два раза. На последних двух километрах садилась передохнуть прямо посередине дороги. Клала голову на колени и дышала ртом. Растирала икры.
Спустившись, заботливо подвернула под себя немые ноги и долго ждала автобус в углу на траве.
Автобус снова привозит меня к реке. Всё так же клокочет её нервное малахитовое нутро. Спохватываюсь, что не знаю адреса хостела, в котором должна ночевать; спрашиваю кого-то на остановке, волочу ноги от одного случайного лица к другому, пока не оказываюсь возле окошка такси. Машина блестящая, чёрная, с кокетливыми белыми шашечками. Водитель просит сто тридцать крон: это больше, чем у меня есть. Я усмехаюсь, будто он шутит, и устало смотрю на дорогу. Далеко идти, спрашиваю. У него весёлое лицо, седые щёточки бровей и белая форма с шашечками на кармашке рубашки.
Минут пятнадцать пешком. Через мост и наверх.
После десяти часов маршрута пятнадцать минут кажутся мне непреодолимыми. В икрах что-то сжимается и дрожит. Я стыло смотрю на узкое полотно моста.
Водитель косит на меня весёлые глаза и, крякнув, открывает дверь рядом с собой.
Садись. Довезу.
В хостеле я споласкиваю ноги холодной водой и, набросив постельное бельё на кровать, ложусь ничком. В телефоне фотография с Языка Тролля – смешной бонус, ироничный подарок от гор.
Меньшее, что я получила.
Первое, что я вижу утром – горную вершину в деревянной рамке окна. Будто на стену повесили картинку с заставки моего ноутбука. Долго лежу щекой на подушке, потом сползаю вниз с верхнего этажа кровати и, кучей сунув в корзину постельное бельё, выхожу к горам. Страшно хочется горячего чаю и большой бутерброд. В ногах будто вставили металлические штифты, но теперь это даже приятно: неопровержимое доказательство того, что я там правда была. Теперь я уже всё осознаю; теперь уже горжусь собой. Одда лежит передо мной, маленькая, спящая, окольцованная исполинскими каменными телами, и лямки рюкзака натирают мне плечи. На изучение города есть целое воскресенье. Автобус увезёт меня в Осло поздно ночью.
Мне хватает пятнадцати минут, чтобы вспомнить, что если найти работающий после пяти вечера магазин в скандинавских странах – задача трудновыполнимая, то отыскать хоть что-нибудь, не закрытое в воскресенье, дело изначально безнадёжное. Город совершенно вымер. Превратился в нежилую картинку. Даже перекати-поле на этих улицах выглядело бы слишком оживлённым. Я не могу понять и, наверное, никогда не пойму, чем немногочисленные жители Одды занимаются по воскресеньям за наглухо зашторенными окнами, но на омертвевших улицах мне всё время казалось, что город в срочном порядке эвакуирован. Если Рим в своё время спасли гуси, то я в Одде целиком и полностью была обязана захваченным с собой двум пачкам Доширака с грибами. Иначе – голодная смерть на фоне очаровательного пейзажа. Вдобавок к означенным пачкам я обнаружила в кармане два смятых пакетика чёрного чая; после небольшого интро о тяжёлой жизни русского студента в Скандинавии семья поляков, державшая мой хостел, согласилась предоставить мне возможность сидеть в гостиной и в качестве бонуса отсыпала в маленькую чашечку две ложки тростникового сахара. Чуть позже я, правда, обнаружила работающий магазин на заправочной станции – той самой, где мы пили кофе утром перед маршрутом. Норвежец за прилавком узнал меня и улыбнулся. К Дошираку и чаю добавился пресный хлеб и не слишком свежая банка сладкой кукурузы. Все вместе мы представляли собой весьма плачевное зрелище: кукурузу я ела пластиковой ложкой, сидя под маленьким чёрным зонтом на лавке возле памятника добытчикам известняка.
Полагаю, что никогда прежде молоденькая норвежка, утром следующего дня продававшая мне в Осло овсянку с фундуком и горячий эрл-грей, не видела такого восторга на лице иностранного туриста. Полагаю, никогда я ещё так не радовалась горячему завтраку. В Осло мне предстояло пробыть два часа перед посадкой на поезд до Карлстада – два часа с семи до девяти утра. Вываливаясь из автобуса после шестичасового ночного заезда, я не испытывала ни малейшей надежды найти хоть одну открытую дверь. Тем не менее, норвежская столица оказалась ко мне благосклонна.
(Полагаю, хозяева кафе, открывшегося в восемь, просто не были норвежцами).
Потом был Карлстад, затем – Йотеборг; из путешествия по последнему помню только, что сидела на траве в Ботаническом саду и, глядя на стеклянные стены теплиц, обжигалась горячим шоколадом. Большие зелёные листья прижимались к стеклу изнутри. В поездах клала голову на свёрнутую куртку и быстро засыпала. На маленьких станциях совсем, как в России: битый шершавый асфальт, пресс бюро с запылившимися сувенирами и просто одетые люди. Пересадки в Альвесте я ждала на закате; глаза слипались, сумки тянули плечи, и крошечный состав из двух вагонов светил мне в лицо круглыми добрыми фарами.
В Кальмар я возвращаюсь ночью.
Я снова еду на велосипеде. Дорога – свеженький асфальт, от дождя цвета дёгтя и будто политый маслом. По обе стороны от меня сосновые стволы вырастают из земли прямо в небо, с которого падает дождь. Дождик. Он очень мягкий, ласковый. Холодный, конечно. На мне синий дождевик; я завязала капюшон под подбородком и оттого похожа на третьеклашку. Впрочем, в этих соснах любой покажется маленьким. Они совсем титаны, они держат небо, а оно проливается между их стволами. Ручки у велосипеда скользкие от воды, джинсы на коленках промокли до нитки, а внутри дождевика душно и потно. Жужжат колёса. Разметка промылась дождём и теперь совсем белого, радостного цвета. Я проезжаю маленькие красные дома, две развилки, эстакаду и оказываюсь перед Эресундским проливом; рядом с огромным мостом притулился маленький, деревянный, изогнувшийся мокрым скользким горбиком. Велосипед сходу взлетает на пропитанные влагой – и снизу, и сверху – старые доски, и становится страшно и весело от того, что внизу плещется серо-синяя, взбаламученная солёная вода, а сверху падает как сквозь сито просеянная пресная.
Скотчем на стену я повесила карту шведского юга. Каждый раз, оставляя велосипед у дома, я поднимаюсь в комнату и чёрным маркером обвожу на ней ещё один путь.
Со мной всегда Синица. Она присылает мне свой голос из Крыма, из Москвы, снова из Крыма, и голос этот плещет крыльями над моими плечами, как если бы каждое своё сообщение Синица приносила сама. Мне кажется, что душа её по форме похожа на столб света, соединяющий с небом её неспокойное сердце. После смерти мы все вернёмся в землю, а Синица обязательно попадёт в космос, я это точно знаю – она вернётся в его объятия, как если бы выполнила свою миссию. Я слушаю её голос молча, вдумчиво и набрасываю ответы карандашом. Мы говорим о кармических связях и о том, почему Гарри Поттер – ужасная книга. Я вижу, как она говорит, громко, быстро, широко раскрывая глаза, как машет руками, как прижимает ладонь ко лбу, откидывая чёлку цвета апельсинной корки, вижу её синюю юбку солнцем, и рюкзак с брелками из сапожков. Я вижу её в красивой, изящной асане на рассвете на крымском берегу.
И, разводя руки в неторопливом движении ицзицзинь, посылаю ей мысленный привет.
Этот город люминесцентного цвета.
Наверное, поэтому мы не уживаемся. Не уживаемся уже три дня: сначала отчаянно, под конец агрессивно. Чего я только не пробовала. Не замечала, угрожала, умоляла; отшагивала пешком, плавала на паромах, ездила на метро; ходила в магазины, секонд-хенды, музеи; меняла Сёдер на Гамла Стан и Гамла Стан на Сёдер. Без толку. Сегодня утром мы всерьёз задумались о том, чтобы наплевать на последнюю ночь, купить билеты на сутки раньше и уехать обратно, домой. Уличные вывески заплясали перед глазами от восторга, но я не могла не уехать, не выяснив с ним отношений.
Это столица Швеции. Столица Швеции.
Я восхищаюсь этими людьми. Они искренне улыбаются тебе из-за стоек и информационных столов, уточняют, точно ли тебе нужен пакет (ведь он сделан из пластика, а пластик…) и проводят невыносимые минуты в специальных подвалах, чтобы рассортировать мусор. Они часами, кажется, готовят твой заказ в полупустом Макдоналдсе. Они никуда не торопятся. Они не имеют ничего против расплывшихся татуировок. Они с гордостью вешают в окнах шведские флаги рядом с радужными.
После полуночи поезда в метро ходят не чаще, чем раз в десять минут. Гулкий звук их приближающихся громад эхом раздаётся на пустой платформе. Окраинные станции – никаких подземных дворцов, грязная плитка и большие холодные панели с указанием, к какой станции поезд пойдёт в этот раз. Каменная скамья холодит, ноги и руки тоже мёрзнут от сильного кондиционера. Рядом афроамериканская семья пытается что-то выяснить у служащего, тоже афроамериканца. Его руки цвета чёрного шоколада здесь, в холодном свете этих люминесцентных ламп, кажутся неуместными, почти карикатурными. Жёлтая форма висит на нём мешком. Усталое, рассеянное лицо.
Наверху становится совсем неуютно. Здесь на ночь не выключают витрин, и они продолжают по-прежнему освещать белые пластиковые лица манекенов, приглашать поесть за двести крон, подстричься или купить велосипед. Улицы пусты, пусты и отталкивающе, застарело замусорены, так, что ветер с моря гоняет по брусчатке старые бычки и размокшие белые комки бумаги. А люминесцентный свет с витрин продолжает литься, литься и застывать в продрогшем воздухе; он висит, как ядовитое облако. Шаги слышно отчётливо, а я не могу отделаться от ощущения, что случилось что-то нехорошее, что все куда-то ушли, сбежали, спрятались, и что надо быстрее тоже куда-то забиться.
Кто-то сильно пьяный, окатывая запахом спирта и давно не мытого тела, сворачивает за угол возле нас.
Это всё было бы привычно, привычно и смешно, ведь каждый знает, что в Скандинавии всё закрывается после пяти, люди ценят своё время, люди уделяют его отдыху, люди собираются семьями, это правильно и надо, вообще-то, брать пример, а не возмущаться, что негде выпить кофе перед сном, – так вот, всё это было бы смешно и привычно, если бы не эти усыпанные какой-то дрянью улицы, если бы не развязные цыганские женщины, кутающиеся в грязные одеяла на скользких ступенях метро, если бы не этот тревожный, настороженный дух, который висит смогом в воздухе, как тот люминесцентный свет.
Чего я требую от города, который так сильно болен?
Справа, за деревьями, на залитом полуночным белом светом футбольном поле, кто-то расположился на ночлег.
Рядом с крестом на Skogskyrkogården чувствуешь себя маленьким и очень связанным с небом. На похоронах шведки переобуваются в красивые туфли и носят солнечные очки.
Между деревьев неслышно ходят серые фигуры на тонких ногах. Солнце светит сквозь дождь, и оттого кажется, что везде – радуга; в беседку дышит влагой и холодком. Хочется поднять к огню ноги и погреть их тоже. Шарф пахнет норвежским ветром – я не смогла заставить себя его постирать, и теперь к запаху гор примешивается сладковатый дух горящего дерева.
Снаружи, прижавшись друг к другу, мокнут наши велосипеды. Дождь застал нас уже на выходе – это скандинавская погода меняется по щелчку. Небо вмиг обметало серым, потемнели верхушки сосен, и полило. Мы долго ютились сначала под зонтом, затем – в сувенирной лавке. Трогали кружки, магниты, безразмерные футболки с лосиными мордами, с ужасом косились на замороженную лосятину. Николина ест маленький шоколадный брауни, я запихиваю в рот свой неизменный рис и думаю о том, как его ненавижу. Хозяйка, маленькая шведка в мужском спортивном костюме, глядит на нас искоса, потом интересуется – прохладно, по-здешнему: дождь? Дождь, киваю. Нам почти час на велосипедах до станции. Тогда она делает знак рукой и, бесстрашно выйдя под дождь, ведёт нас в огромную, видно, предназначенную для мероприятий, деревянную беседку. Светло и пахнет потухшим костром. Мы много благодарим, хозяйка смахивает с лица волосы и, кинув дров на длинную печь для барбекю, поливает их жидкостью для розжига.
Ну, теперь вам тут поуютнее, говорит она и уходит под дождь, не обернувшись на наши благодарности. Тут так не принято. Мы тянем ладони над огнём. Руки пахнут лосиной шерстью. Живо вспоминаю длинную умную морду, тянущуюся внутрь вагончика, и то, как ощущается на пальцах жёсткая шерсть на рогах. Лось – это что-то очень интеллигентное. Неторопливое. Незлое. Берёт губами берёзовую ветку и тянет на себя всю, и пудовые рога едва не задевают твоё лицо, когда он наклоняет голову. The King, говорит гид. Я ласково глажу короля по шее.
После лосей мы долго возимся с пугливыми лупоглазыми ламами, кормим их капустой. Ламы очаровательные и глупые.
Обратно дорога идёт под гору, по пустой мокрой трассе в лесу. Сосны здесь прямые, как спички, с серебристо-серыми стволами, и подлесника совсем нет, только комковатый бурый мох, под которым не видно земли. Шишкинские картины. Под конец дорога резко делает поворот и бросается вниз, в туннель; я отпускаю педали велосипеда, белая пунктирная разметка сливается в единую размытую полосу, уши жжёт от ветра. В тот момент, когда я оказываюсь в туннеле, наверху проходит поезд.
Голос мой отдаётся эхом и катится в сосны.
Маяк становится видно только глубоко заполночь.
Мы проезжаем крепким сном спящий Оттенбю и, свернув куда-то вниз, влетаем в беспроглядную темноту. Краем глаза я успеваю заметить раскрытые ворота. Дорога бросается вперёд, как взлётная полоса. Ветер нахлёстывает справа, слева и спереди, и становится ясно, что мы – на самой южной оконечности острова, там, где он стрелкой вытягивается в открытую Балтику. Я вспоминаю карту: дорога, по которой мы едем – биссектриса острого угла, строгая, стремительная, рассекает остаток пути по острову до самого пика, там, где его венчает маяк. Это значит, полоса земли настолько узкая, что море должно быть видно и слева, и справа. Сейчас оно только угадывается – тяжкими, грудными звуками, дегтярной, протяжно колышущейся массой. Свято верится, что в моменты сильного шторма море может или легко накрыть землю с обеих сторон, и тогда остров окажется совсем под водой, или, что ещё более жутко, схлестнуть свои волны куполом над дорогой, так что она окажется в водном гроте. Мы знаем, что это неправда, но всё равно думаем об этом.
Маяк – просто проблеск. В самом конце дороги, даже будто над ней, ты вдруг видишь вспышку белого света, направленную прямо тебе в грудь; спустя сотую долю секунды вспышка разворачивается боком, чтобы ты увидел, как далеко тянется её геометрически ровная полоса, а затем пропадает. Сон. Я оглядываюсь назад, переднее колесо велосипеда начинает вилять, в темноте различаю три фигуры позади. Тереза пригибается грудью к рулю и, нагнав меня, некоторое время едет рядом. Она молчит. Видела.
Ехать жутко. Слишком ясно, что вокруг – море, и что ты его не видишь в темноте, и начинает казаться, будто, сверни ты руль на полметра вправо или влево, то сразу окажешься в студёной чёрной воде и пойдёшь ко дну вместе с колёсами, звоночком и железной рамой твоего велосипеда, и на поверхности останутся только пузырящиеся пакеты с едой да пустая бутылка из-под воды.
Но это тоже неправда. Когда облака расходятся, становится видно, что с морем дорогу всё же разделяет полоса пустынной суши. Земля светлая и вся покрыта огромными валунами, вросшими в траву, обсыпана камнями. Деревья, как на картинках в книжках про саванну, кряжистые, с овальными шапками жёстких листьев, и все склонены, согнуты, скручены в сторону суши; дай им волю, вырвутся и убегут от этого страшного морского ветра, который день и ночь гнёт их со стороны воды. И звуки. Резкие, высокие вскрики, протяжные посвисты, глухое ворчание, методичные оклики, постукивание, низкий, шелестящий шорох; звуки носятся в темноте, как тени, как призраки, и от этого волосы на загривке поднимаются дыбом и становится неуютно.
Смоляная темень, студёное море и эти звуки. Низкое жужжание колёс велосипеда. И впереди, венцом – белёсый пульсирующий свет маяка.
Все возможные стремления сужаются до единственной задачи: прикончить эту дьявольскую дорогу, оставить позади эту чертовщину звуков, запахов и движений, на ходу соскочить с велосипеда и, позволив ему повалиться набок, прижаться к белёному боку маяка. Передать ему через ладони все пятьдесят шесть километров, отмотанных тобою на двух колёсах, всё ноющее желание разжечь костёр, высушить вымокшие носки и уткнуть лоб в колени, чтобы от жара лицо ожило и раскраснелось.
К тебе. Мы к тебе ехали. Мы всё это время к тебе ехали вчетвером.
Но пока – дорога, прямая и бесконечная. В какой-то момент кто-то сзади глухо вскрикивает: олени! Торможу резко, чуть не покатившись кубарем через руль, чтобы успеть увидеть лёгкие полупризрачные тени, будто тёмные расплывчатые мазки в воздухе, высокими испуганными скачками перепархивающие дорогу. Совершенно ненастоящие, будто с неба спрыгнувшие. Тонкие рога похожи на ветви, нарисованные на небосводе.
У маяка садимся рядком, прижавшись спинами к холодной стене, вытянув ноги, и смотрим на ночное море. Я суетливо шарю в пакетах наощупь, достаю персик и быстро ем, обляпываясь соком, Тереза крупными кусками кусает яблоко, Рустам поднимает камеру телефона и, наговаривая на динамик, снимает совершенно непроглядное тёмное ничего с красным веночком маяка наверху. Укутанные, как цыгане, уставшие, как черти.
Потом, позже, устало выговаривая шведские слова, я узнаю, что последние четыре километра мы ехали через заповедник, что звери, от редких птиц до диких быков, гуляют здесь свободно и без препятствий, и, самое главное, что нигде здесь нельзя не то что разжечь костёр, но даже бросить спальник и уснуть. Мы просим налить в бутылки воды – нам отдают свою – и возвращаемся к маяку. Там ещё долго сидим, молчаливо готовя себя к пути обратно по этой кишащей звуками дороге, прочь от холодного светлого лика маяка, к спящему городу, искать ночлег.
Так из пятидесяти шести километров получается шестьдесят.
Тереза остервенело давит на педали рядом со мной, задыхаясь, задорно кричит «C’mon, c’mon, Russian girl!», и слева видно оленье стадо, застывшее, тетивою натянутое, разглядывающее нас.
Я не оглядываюсь на маяк. Вернёмся завтра, на рассвете.
Потом – много часов в попытках выбраться к пляжу, Дима, ударившийся током о забор для скота, насквозь промокшие ноги, мальчики, отправляющиеся в разведку за разведкой в темноте, и мы с Терезой, и я – с большим кухонным ножом в руке. В конце концов мы устаём окончательно, ругаемся, сердимся и разжигаем костёр прямо у дороги. Маленькие, как булавочные головки, бесцветные слизняки переползают с высокой влажной травы на рамы и корзинки велосипедов, на обтрепавшиеся пакеты. Мокро, зябко и тихо. Позади – поле, в темноте не видно, какое. По бокам – церковное кладбище и маленький уютный кемпинг с палатками, светящимися изнутри. В кемпинг мы ползём после, с горем пополам высушившись, наевшись чуть тёплых, полусырых сосисок с холодным хлебом, напившись невкусного чаю с каким-то мусором, плавающим сверху, и без спроса бросаем спальники прямо на траву.
Небо уже сереет. Я ставлю будильник на время восхода солнца. Телефон сообщает мне, что спать осталось час и шестнадцать минут.
Просыпаюсь легко, потому что почти не сплю – спальник оказывается слишком старым и тонким для сырой травы, и правый бок всё время ощущает исходящую от земли стынь. Аккуратно расстёгиваюсь, чтобы не будить ребят; они завернулись рядом, бок о бок, как гусеницы, и видно только взлохмаченные макушки и немножко – крепко утопленные в сон, сосредоточенные лица. Кемпинг залит туманом и сном, всё немо и неподвижно, воздух по-ночному влажный и почти сладкий. В груди и желудке промозглая, дрожащая пустота, как всегда бывает, если мало есть и почти не спать. Голова чугунком. Зашнуровываю кроссовки и, поднявшись на ноги, мучительно стискиваю зубы – боль протягивается от поясницы к подошвам, припоминая мне шестьдесят покрытых километров.
Иду кривенько, на прямых ногах, и, пользуясь тем, что администрация кемпинга ещё спит, ныряю в низенькое серое здание с туалетом и душем. От горячей воды руки покрываются мурашками до локтей, я жмурюсь и не могу сдержать короткий, судорожно-радостный смешок – будто поднялись пузырьки из живота, соскучившегося по теплу. Прижимаю дышащие теплом пунцовые ладони к лицу. На чистом кафельном полу от моих кроссовок остаются жирные следы – грязь, песок и трава.
Отогревшись, быстро заплетаю волосы, возвращаюсь в кемпинг и вытаскиваю из корзинки велосипеда отсыревший плед. На покрытой росой траве ноги оставляют тёмные следы. До восхода двадцать минут. Я открываю на телефоне компас и, положив его на ладонь, выхожу на дорогу. Теперь, при свете дня, хорошо видно старую четырёхугольную церковь с циферблатом часов, обсыпающееся тихое кладбище и плохо замаскированное пятно от костра там, где мы вчера остановились ночью. По обоим краям дороги, ровные, как телеграфные столбы, стоят деревья, каждое – в обхват моих рук; их кроны почти соприкасаются над моей головой, и сквозь их тёмную зелень видно светлеющее небо цвета серого мелка.
Я накидываю плед на плечи и голову и бреду по компасу бродяжкой, человечьей божьей коровкой, ровно, ровнёхонько на Восток; шаги мои слышно так, будто вокруг нет вообще ни единого другого звука. С дороги схожу прямо в поле – незасеянное, всё в густой, влажной, спутанной траве. Трава полита серебрянкой росы, прохладной, крупной. Мгновенно промокают ноги, щиколотки, джинсы почти до колен; я иду, рассекая траву, будто перехожу её вброд, и, сверяясь с компасом, нахожу то место, где в промежутке среди деревьев мне видно саму полосу горизонта, уже набухающую красным. В этом месте я успокаиваюсь. На ощупь убираю телефон в карман. Натягиваю плед на уши. Ноги мягко продавливают землю, пропитанную водой. Небо переливает цвета из одной своей части в другую, нерешительно меняет тона, будто не может определиться, в каком оттенке встретить солнце. Наконец оно поднимается наверх и застывает, расцветившись всею палитрой синего, от дымчато-сизого на западе, где ещё дышит уходящая ночь, до высветленного, прозрачно-голубого над чёрными силуэтами деревьев там, куда я смотрю – а на востоке горячеет, пульсирует теплом восходящее солнце. В момент, когда полоска цвета раскалённой стали, подрагивая, прожигает горизонт, грудь сжимается судорогой, как он неловкого вздоха.
Сжимаю пальцами края пледа и представляю, как первые лучи поднимаются вверх по белому боку маяка.
Владелец кемпинга, почесав пальцем подбородок, просит по сорок крон за проведённую ночь, и мы просто сбегаем, завалив велосипеды спальниками, пакетами и рюкзаками. К этому времени становится, не в пример к предыдущему дню, жгуче жарко, ноги скручивает от боли, всем хочется кофе и к морю. Путь мне указывает пожилая женщина в красивом платье цвета персика. Дорога, неасфальтированная, неровная, кидается к пляжу с холма, и по ней можно, подпрыгивая, лететь прямо вниз, к ровной, как белая нитка, полосе моря. В глазах вода искрится кубиками; это – уже открытая Балтика. Дальше – только материк.
Песок здесь кварцево-белый, мелкий, как соль, и в нём пучками растёт трава красивого тёмно-зелёного цвета. Трава плотная, острая, при ходьбе царапает ноги. Я швыряю оземь велосипед, бегу вниз, плюхаюсь на песок и принимаюсь яростно стягивать кроссовки, носки, куртку, намотанную на пояснице, джинсы, леггинсы, надетые вниз для тепла. Балтика смотрит лукаво, мои попутчики – тоже; зайти в воду – как сунуть ноги в таз со льдом, но я всё равно натягиваю купальник за ближайшим валуном и омываю тело, визжа и подпрыгивая.
Все требуют костра; Рустам хмурит брови и просит уточнить, разрешено ли это на пляже. Мне впервые приходится разговаривать со шведскими детьми; они стоят на песке, как выгоревшие на солнце ангелочки с иконок, щурятся. Обветренные губы, перепутанные, коротко обстриженные волосы, по-детски пухлые ножки и лица в песке. Ждём маму, узнаём, что костёр жечь нельзя, смотрим на Рустама.
– Надоели их запреты, – бросает он коротко и идёт за дровами.
Мы находим маленькую, надёжно укрытую от ветра низинку. Дрова такие сухие, что дыма почти совсем нет, а тот, что есть, заплетается в густых зарослях острой плотной травы. Солнце стоит в зените на небе цвета чистого голубого ситца; его гладко выглаженная ткань натянута туго и тоже будто выгорает от палящих лучей. Дима надвигает кепку на глаза и засыпает мгновенно и тихо, как уставший ребёнок. Рустам бережно раздувает костёр, берёт вчерашний бумажный пакет с красным вином и ложится на песок, держа его на животе обеими руками, как крест или свечку. Солнце печёт его невыспавшееся смуглое лицо. Мы с Терезой остаёмся одни у костерка; от жары и белого песка так слепяще светло, что огонь становится прозрачным и почти невидимым. Я боязливо, набрав полную грудь воздуха, дую на затухающие угли, пытаясь вспомнить, как это делали мальчики. Хочется отыграться за вчерашний день, проведённый в дороге, и ночь, мокрую, холодную, неустроенную, поэтому я заботливо разбираю пакеты с едой, откладываю мусор, вытираю всё, что засыпано золой, землёй и песком. Тереза наблюдает за мной и улыбается. Для неё улыбаться – это отдельное действие. Длинноногая, худая, загорелая до черноты, она выучила по-русски только одна слово – «искра», и тем покорила меня. Два дня назад, случайно услышав на пляже мои планы на поездку, она сказала: I wanna go. I want adventure. И вот теперь она сидит напротив, сложив свои красивые жилистые ноги, и что-то тихонько говорит по-испански. Я отряхиваю руки о лиф купальника и, бережно развязав пакетик с кофе, сыплю в крошечную гейзерную кофеварку две ложки и немножко корицы. Надежды на то, что кофе вскипит на маленьком костерке, почти нет, поэтому когда кофеварка издаёт вкусный бурлящий звук, я вскрикиваю от радости и шарю по пакетам в поисках маленькой баночки молока. Я планировала сварить утренний кофе там, у маяка, на рассвете, когда мы ещё верили, что будет палатка, тихий берег и большой костёр, и после того, как все планы пошли по наклонной, эти полстакана кофе с корицей – моя маленькая победа над этим островом. Кофе мы с Терезой пьём вдвоём, передавая друг другу ошпаривающий пальцы пластиковый стаканчик, в полной тишине.
Потом она признаётся мне, что этот кофе – первый, который она пробует в жизни. Я не спрашиваю, почему. Вижу, что ей нравится.
Чуть позже, на самом трудном отрезке обратной дороги, задыхаясь от встречного ветра, Тереза догонит меня на велосипеде и крикнет, громко, чтобы ветер донёс слова.
– Знаешь… что? Теперь каждый раз, когда… мне будет предстоять како-нибудь… испытание, я буду утром пить… кофе… с корицей!..
И я ужасно расплачусь. Два дня спустя с Терезой мы расстанемся очень близкими.
Но пока мы – на берегу; я тушу костерок, укладываю вещи и, осторожно обойдя задремавшего Рустама, ухожу в дальний конец пляжа лежать на песке. Голова клонится вбок, наливается сонной тяжестью, но я не даю себе спать и слежу за временем: в два часа дня со станции нас должен забрать автобус. На него нельзя опоздать – иначе с острова нам уже не выбраться иначе, чем проделав ещё шестьдесят километров на велосипеде.
Автобус нас не забирает.
Мы стоим на развилке – голодные, изжарившиеся на голом пляже под голым солнцем, и провожаем взглядом маленький микроавтобус. Я прижимаю руки к лицу. Начинаются какие-то предложения, какие-то планы, кто-то сердито уходит спать под дерево, кто-то предлагает плюнуть и вызывать грузовое такси; Тереза молча вслушивается в нашу резкую русскую речь и периодически робко просит перевести. Переводить нечего. Следующие два часа мы отчаянно пытаемся добраться хотя бы до центра острова автостопом, но ни один кемпер не способен взять четверых человек и четыре велосипеда. Помню, как ходила взад и вперёд по этой чёртовой развилке, и направо и налево были только две голые дороги, а позади – олени в дикой заповедной пустоте. Стелили пледы на траву у дороги. Лежали. Вскакивали. Снова и снова прижимались руками к нагретым бокам машин, снова и снова спрашивали, не найдётся ли места хотя бы два одного или двух человек с велосипедами. Я сердилась, и чуть не плакала от злости, и всплёскивала руками. Время шло. Жарило северное солнце. Хотелось есть.
И мы едем обратно. Времени до последнего парома, уходящего с центра острова на материк, остаётся ровно столько, сколько днём раньше занял у нас путь к маяку; это значит, что если мы проедем обратный путь хоть на десять минут медленнее, ночевать придётся где-то на Эланде. Тереза робко вспоминает, что в девять утра – экзамен. На четверых у нас единственный не до конца разряженный телефон, пара бутылок воды и – пятьдесят километров обратно. Мы не делаем ни одной остановки длиннее пяти минут. Упрашиваем телефон не разряжаться раньше времени. Отсчитываем минуты. Щёлкаем скоростями. Смотрим на безнадёжно длинную синюю полосу навигатора. Задыхаясь и остервенело вдавливая немые ноги в педали, делимся какими-то сокровеннейшими вещами, по-птичьи раскидываем руки на спусках, жалобно провожаем глазами каждый проезжающий кемпер, читаем стихи на английском, поём по-русски, слушаем, как Тереза плетёт свою сочную испанскую речь. Едем. Едем. Едем. Когда коленкам становится совсем больно, я ставлю ноги на раму велосипеда и предоставляю ему немножко катиться самому. Ветер волнами ходит по лоснящимся полям. Солнце наливается красным соком и, тяжелея, тянется к горизонту.
Мы приезжаем на полтора часа раньше срока. Въезжая на набережную, неистово трезвоним звонками велосипедов, будто едем на свадьбу. Вокруг прогуливаются так равнодушно, что хочется останавливать каждого встречного и кричать, что мы сделали сто пятьдесят километров за последние сутки. На пристани уже серо и холодно, море стального, неспокойного цвета, ветер пробирается под каждую рёберную косточку. Дима достаёт из пакета пина-коладу. Тереза кутается в кофту, я смеюсь мелким нервным смехом и прижимаю к груди то одну, то другую коленку, как очень уставший фламинго. Едим оставшиеся сырые сосиски, пина-колада прожигает пустой желудок, на оставшиеся четыре процента зарядки делаем самое радостное фото за всю поездку. В скрипучем, полусумрачном тепле парома, закутанные в шарфы и куртки, как цыгане, мы сбиваемся в кучку на мягких сиденьях и, открыв карту, победно и жирно чертим наш путь чёрным маркером. Расписываемся на карте и дарим её Терезе.
В тусклом свете лампочки счастливо и ласково блестят тёмные испанские глаза.
Часть вторая. Дом
Люди, которые здесь живут
Приехав домой, мы с Пелагеей проводим ежегодный ритуал по встрече рассвета.
Закрывается кухонная дверь, с треском поднимаются шпингалеты рассохшихся оконных рам. Вечерний август тёпл и душист, как нагретое молоко. На Пег ночная рубашка в мелкий синий цветочек, на мне – тяжёлый махровый халат цвета фуксии. Халат пахнет пылью и тридцатилетней мамой и завязывается белым пояском. На мамины худые ключицы он ложился намного изящнее, чем на мои – загорелые и плотные, и я ловлю себя на том, что периодически тянусь носом к его плечу, как лошадь, и вдыхаю запах.
Парной ночной воздух льётся по подоконнику, растекается на паркет. Пелагея снует по кухне, ставит чайник, сильно тряся зажжённой спичкой, потуже закрывает краны, суетится, сверкая худыми лодыжками. Наконец успокаивается. Я сажусь в уголок между холодильником и стеной, Пег – напротив, лицом к окну. Глаза у неё влажно блестят, горят румянцем щёки. На столе – бардак; старая лампа из тусклой советской пластмассы, четыре пачки печенья, апельсин, два пустых стакана с побитой эмалью и несчётное число пакетиков с кофе. Кофе – для меня. Для Пег – что-то пряно пахнущее из заварочного чайника, накрытого клетчатым полотенцем. Свет от лампы играет на стенах разводами, как в бассейне, отделяет жёлтым полукругом нашу с Пег половину кухни от той, где стоит плита и валяется веник. Над лампой вьются мошки, мелкие и лёгкие, как пыль, но живые и слепо тянущиеся к теплу.
Где-то снаружи спят стрижи.
В тишине наступает момент, когда всё замирает: на полувдохе, в полупрыжке. Я прикрываю томик Маяка: восемьдесят седьмой год, толщиной в два больших пальца, плотностью в полтора ведра воздуха, отдаёт Брежневым и кислой старой бумагой. Между страниц, хлёсткий, плещется красный стяг, горит красный бант, слышно стукотание завода и видна чья-то агитирующая рука с мозолистым кулаком. Пег, сгорбившись, поджимает под себя босые ноги – стул скрипит пронзительно, старчески – и смотрит на огонь под чайником. Красноватый свет лампы пляшет на её щеках, руках: плотные пальцы, ногти – под корень, замусоленная фенечка на правом запястье. Загорелые, вымоченные в волжской воде, спокойные руки. Мой взгляд сбивается, теряется, скользит бессознательно, как во сне. Розетка, обмотанная изолентой. Мурашчатый краешек стола. Стопка тетрадей, старых, горько пахнущих, с обложками толстыми, как слоновья кожа, и выцветшими печатями "Восход".
Слышно, как восемью этажами ниже стрекочут сверчки.
Сидим молча, пока чайник не вскипит. Дождавшись пара, Пег подрывается, легонько, чтобы не разбудить спящих в соседней комнате, тренькает кружками. Пар взвивается от эмалевого ободка моей чашки и улетает в окно.
– Думаешь, она иногда о нас забывает? – спрашивает Пег.
Я поднимаю глаза к потолку, как будто так проще смотреть ей в лицо. Ей – нашей квартире.
– Думаю, случается иногда. – И, помолчав, добавляю: – Она же с ними живёт.
Пег звенит ложкой о стенки чашки.
– С ними живёт. А нас обнимает, – говорит она серьёзно и ревниво.
Я подавляю вздох. Она и правда нас обнимает, наша квартира. Слышно, как бьётся у неё сердце, как сглатывает она водой в полотенцесушителе, всхрапывает мотором холодильника, кряхтит под линолеумом и в полусне подаёт голос каплей из кухонного крана. Спит, держа нас в объятьях – меня и Пег, пока где-то через две комнаты от нас на широком промятом диване спят люди, которые здесь живут. Мы так и говорим – "люди, которые здесь живут", как бы подразумевая, что они просто живут, живут временно и скоро уйдут. Уговариваем себя. От сочетания «сдавать квартиру» Пег всегда морщится, добавляет «и отступать по старой Смоленской» и жмёт губы в ниточку. Я знаю, что, выходя отсюда утром, Пег приложится лбом к дверному косяку и ещё раз, сотый раз, попросит прощения. Это временно, скажет. Потерпи. Прости. Вернёмся.
Ночь тянется долго. Сталкиваются от ветра оконные рамы, остывает и снова нагревается чай, шелестят страницы, мигает старая лампа – где-то внутри у неё случается сбой или судорога. Воздух, согретый конфоркой и чайником, становится густым, пряным, медленно тяжелеет, наливается ночью. Изредка поднимаю глаза на Пег: она сидит на стуле напротив меня, согнув ногу в колене и держась пальцами за щиколотку. Глубоко впадают ключицы, остроносая голова наклонена набок. Перед ней – "Старик и море" издания восемьдесят второго года, пергаментно-жёлтые, толстые страницы, синий рисунок на белой обложке. Невыщипанная бровь, косая, широкая; крупные, как крошки ржаного хлеба, веснушки на крыльях носа. В стекле двери напротив отражается её фигура: вытянулась столбиком, напряжённо, как статуэтка, и вся подалась к окну. Окно дышит на неё ночью.
В какой-то момент кухня заливается вдруг стальным серым светом. Становится зябко, чай в стакане дышит холодком. Предметы проступают угловато и призрачно. Пег ловит мой взгляд, подходит к окну, опирается руками о подоконник и высовывается по самый пояс. Рубашка в синенький цветочек на ней пузырится от сырого ветра. За окном облака, как свалявшаяся вата, тяжелеют грозой; внизу густо, шершаво шелестят тополя, низко гнутся могучие ветви, кланяются рассвету. Солнце угадывается интуитивно, крепко замотанное облаками. Воздух, как пресная вода, сыроват и мутен. Где-то вдали стонет сигнализация. В сером мире машина шарит фарами по мокрому асфальту. Справа видно Волгу, и кажется, что рассвет поднимается от холодно-стальной, мертвенно спокойной волжской глади.
Гремит, холодает, свежеет. Я касаюсь плечом тёплого плеча Пег, слышу, как ровно дышит она, а где-то сзади наша престарелая квартира вздыхает сетью водопроводных труб.
– Вот и повидались, – говорит Пег не мне.
Единственную в году встречу с нашей квартирой мы отмечаем, встречая рассвет.
Москва-Димитровград
Каждый раз, перескакивая с платформы на подножку, хочется остановиться и ненадолго приложиться лбом и ладонями к железному боку, как к шкуре или чешуе вполне себе живого существа. Поезд – гладкое, длинное, тяжёлое, доброе, человечье. Тяжело стоит на рельсах его разгорячённая громада, касаясь их только кромками сложных, в мазуте вымазанных колёс. Внутри у него деятельно и живо кипит человечий дух, хлопает дверьми и откидными сиденьями, лезет в окна, прижимается к ним носами и пальцами, а когда поезд медленно перекатывается на первый оборот колёс, выдыхает нестройно, на разный лад: "Поехали!"
В вагоне душно и хлопотно, крепко дует через резиной обитые окна. По-поездному пахнет полотенцами, быстрой лапшой и пакетированным чаем. Звенят ложки, тихий говор шелестом катится от полки к полке; где-то надрывается ребёнок, и всё это сплетается в единую, устоявшуюся гармонию. Особенно хорошо сидеть внизу, обняв руками коленки в помятых ситцевых штанах, и, прислонившись лбом к старой деревянной раме окна, неотступно следить, как отматываются назад рельсы, залитые неровными чёрными пятнами пузатые вагоны с бензином и нефтью, невысокие дома с обтрёпанными балконами. Потом город остаётся позади, и как-то незаметно вдоль рельсов вытягиваются поля. Их бугристое светленькое полотно раскидывается, как скатерть, и так и ждёшь, что кто-то проведет сейчас по нему морщинистой рукой. Такое это поле широкое, такое простенько-чистое, что слепит своим простором глаза и душу, болезненно цепляет глубокой мучительной любовью, от которой хочется плакать. Небо над полем и кажется заплаканно-радостным, улыбающимся; высокое, с полем слитое и от него не отделимое. Особенно грустно и особенно красиво стоят в этом просторе по одиночке и группками пёстрые тонкие берёзки, совсем есенинские.
Не выйти на станции – всё равно, что пройти мимо старой знакомой и не поздороваться, не постоять немного гостем на чужой земле. Проводница в светло-серой рубашке с помятым воротничком размашисто, с грохотом открывает вагонную дверь. Маленькая станция распахивается вдруг сквозь прямоугольник дверного проёма, как будто картонная. Желтоватые, белые, розовые домики жмутся друг к другу и мягко светят своей скромной парадной чистотой. Кажется, коснёшься такого рукой – будет тепло, и на ладони останется на пыль похожий мягкий шершавый мел. За окошками, за полупрозрачными занавесками прячется жизнь. По асфальту разбегаются глубокие частые трещины, и в них осторожно гнездится пучками что-то желтовато-зелёное и чахлое от прямого солнца. По вечерам солнце уже косит через пробелы между домами, перебегает по стенам, с забора на забор, по выцветшей парадной табличке "Фаустово". Столько в этой табличке скромной торжественной гордости; она здесь и паспорт, и свидетельство о рождении, и всегда вымытое лицо.
По вечерам такой уездный город тих, мягок, необыкновенно пронзительно светел и чисто прибран, и всё богатство его в этой чистоте и в этом свете, в заботе, с который прикрывает калитку палисадника у вокзала женщина в белом платке. У неё усталое лицо, цветастый воротничок застиранного халата на кирпичной от загара шее и грубоватые, уверенные руки. И в этом жесте, в том, как пальцы её с земельной теменью, въевшейся в самую кожу, прикрывают рассохшуюся деревянную калитку, неприметная и как будто мимолётная забота и ворчливая любовь и к калитке, и к аккуратному палисаднику с жёлтыми махровыми головками бархоток, и к выбеленному фасаду станции. Можно подолгу стоять на перроне и смотреть, как пружинисто скачут маленькие бойкие птицы по свежеполитым и от закатного солнца как будто горящим садикам, как мельтешат беспокойные вокзальные собаки, осторожно тянущие нос к холодному железу рельсов. Стою немного у двери, даже когда поезд уже трогается и станция начинает медленно съезжать вправо. Внутри у поезда что-то размеренно принимается отбивать такт, проводница, улыбаясь усталыми, сощуренными глазами в сетке загорелых морщин, жалуется на жару, глотая окончания, и становится видно, как неотделима она от такой вот станции, от её глубокой, неброской, простой, а потому такой пронзительной красоты.
Ночью – пыльный запах колких шерстяных одеял, грубоватая шероховатость постели, полупрозрачная невесомость подушки комочками. Свет фонарей из окон толчками пробегает по тихому вагону, на мгновение выхватывая то чьи-то свесившиеся с полки пальцы, расслабленные во сне, то резной железный подстаканник с изогнутой ручкой. Духота наконец разродилась грозой, и молнии подсвечивают облака и силуэты деревьев торжественно и степенно, как будто само небо вскидывает голову. Если иметь достаточно воображения, можно оставить душный пенал верхней полки и представить, что летишь; поезд тогда становится видно сверху. Вширь распахивается пугающая своей широтой и вольной бескрайностью равнина, небо от неё неотделимо и неотличимо, и проводить между ними грань кажется кощунственно и дико, как резать скальпелем что-то живое и цельное. А под этой просторной, тёмной, торжественной высотой упорно тянется куда-то прямо и будто бы в ночную глубь настырная тонкая нить, холодные масляные рельсы. И по рельсам, отгородив от слепого грохочущего простора вокруг тихую спящую жизнь, несётся бережно и упрямо стальная гусеница поезда.
Стремительная. Маленькая. Живая.
Перед закатом приезжаем на старый вокзал.
Мысленно здороваюсь с ним. Вокзал новый ничем не отличается от любого другого вокзала; он задыхается выхлопами, гудит хлопотливой истерикой, пахнет горелыми шинами и пирожками, завёрнутыми в жирный целлофан. Вокзал старый молчит. Торговать, барыжить и кричать "Такси!" здесь, наверное, экономически невыгодно. Поэтому он свободно вздыхает редкими, размеренными гудками, растит траву между старых плит на перроне, пахнет побелкой и рассохшимся деревом моста. Если на мосту остановиться, то там, внизу, из-под твоих ног рельсы, перепутываясь и переплетаясь, как гибкие стальные провода, скользят за горизонт. Если успеть, можно проводить свой отправляющийся поезд сверху и, стоя прямо над гладко скользящей внизу чешуйчатой крышей, сходя с ума от восторга, впитывать кожей его тёмный жаркий пар и гулкий гудок.
Рельсы растворяются ровно на западе, и кажется, будто они расплавляются в солнце.
На мосту стоим долго. Я сижу, свесив ноги в надрельсье, Пег прилипает к перилам, цепляясь за них руками, приподнимается на носки и вытягивает вверх лицо. Чемодан наш, один на двоих, опрокинулся на спину чёрным клетчатым жуком и беспомощно смотрит в небо вытянутой ручкой.
С поезда сошло человек десять, и все они, второпях косясь на нас, уже промчались куда-то к дороге, стукоча колёсами.
Необыкновенное счастье города N состоит в том, что настроить высоток вместо старых домов не хватает то ли средств, то ли духу; слишком настойчиво волжское присутствие вокруг и в воздухе, и ломать дома – всё равно как ломать её игрушки: можно и на истерику нарваться. А потому центр раскидывается игрушечно-пряничный, исконный, и эта его исконность вроде как даже к чему-то обязывает. По крайней мере, расплывчатое желание приподнять руками юбки, перешагивая через трамвайные пути, периодически появляется изниоткуда и, пропадая, оставляет с лёгким тоскливым разочарованием, что вместо юбок у тебя какие-то джинсы. Пелагею из виду теряю почти сразу; сначала она ускоряет шаг, ещё оглядываясь на меня с чемоданом, а потом в последний раз мелькают загорелые лопатки, и она воробьём ныряет в толпу.
Улицы здесь как будто созданы для созерцательных прогулок: не широкие, не узкие, бесконечные, пересекают друг друга под прямыми углами, тянутся ровно, далеко, вглубь; только если смотреть на трамвайные пути, прострачивающие улицы вдоль, видно, как бугристо скачут они по холмистой земле и кажется, будто это волжские волны промяли её изнутри, слепили по себе, и весь город – гипсовый слепок с этих волн. Дома вдоль улиц строятся ровными рядами, словно по принципу "себя показать – на других посмотреть" и как бы переходят один в другой: музейное собрание зубцов и зубчиков, резных перил, скривившихся от времени скрипучих крылечек, распахнутых ставенок, цветная роспись которых совсем выцвела и угадывается исключительно интуитивно. Впрочем, цвет потерян не только у них; вся эта уездная гордость заметно схизнула, побледнела на два тона, и на фоне крикливых билбордов смотрится призрачно, как со старых фотографий: протяни руку – исчезнет. Желание обзавестись платьем с кринолином или сафьяновыми туфельками от этого, правда, не становится меньше.
Подойдя к одному такому крылечку, останавливаюсь и, отпустив ручку чемодана, с болезненной досадой провожу пальцами по истончившейся шелухе старой краски. Потрескались, накренились резные лебеди на полуприкрытых ставнях; пальцы шарят по перилам, как у слепой, а потом уже просто гладят старое дерево, будто плешивую голову старого пса, отслужившего своё. Нажаловаться кому-то хочется до жгучей обиды. В жалобу добавить битый асфальт, в разбежавшихся по всем улицам трещинах которого упрямо селится бледноватая зелень; обкромсанные тополя и липы, из года в год проигрывающие в борьбе с линиями электропередач; каменных и как будто пулями изрешечённых жар-птиц с строгими иконописными лицами, поддерживающих балкон где-то в районе улицы Толстого. Впрочем, жалоба эта едва ли дойдёт куда-то дальше почтового ящика отправителя, а потому всё, что остаётся – медленно идти вдоль трамвайных путей, блестящих на солнце весёлым отполированным железом, и всему вокруг мысленно признаваться в глубокой щенячьей любви.
Первое слово, которое приходит в голову при упоминании об N – уездный. Уездный не потому, что грязный или скучный, а потому что парадно-уютный, старый и добрый. Как будто от Волги накрывает город особенным, прохладно-пресным, неподвижным покрывалом, мягким полупрозрачным полотном, и полотно это охраняет его бережно, ласково и со строгой твёрдостью материнской руки. Волга – матушка. Волга – хозяйка. Волга – хранительница или, скорее, берегиня. Руки у неё прохладные и крепкие, руки эти город не просто держат, а ещё и сверху прикрывают длинными, худыми пальцами. Если поднять голову, можно с живостью представить себе тонкие белесые ногти, загорелые мокрые запястья. А потому кипение города в амплитуде ограничено и допускается только до этих ладоней, где непременно тушится об их влажный холодный свод. Под сводом ветер гуляет совершенно самостоятельный, привыкший к простору, а потому несказанно дикий и не поддающийся приручению хоть в каком-нибудь виде. Ветер носится лентами, ластится о воду, отталкивается от неё и пропитывает город, дома и клумбы, гранитные ступени обелиска и занавески маршруток, глаза и губы. Глаза приобретают глубокую речную полупрозрачность, губы – сухой пресный привкус, а голоса от этого ветра всегда как будто сквозная и лёгкая. Небо с Волгой настолько зеркально друг в друге отражаются, что можно поспорить ещё, что глубже; кажется, если их поменять местами, царственной реке там, наверху, будет ещё больше к лицу.
Пег безошибочно нахожу у обелиска. Если перешагнуть за ограждение, то оказываешься на самом углу и краю платформы. Тут и сидит она, крепенькая и гордая, как Стенька Разин на своём утёсе. Волга перед ней распахивается вширь, вглубь и даже как будто в высоту, и стать ближе – только сигануть в воду ласточкой с высоты. Позади – громада обелиска цвета слоновой кости отмечает её исключительное положение своей высокой царственной головой; удивительный пример созидательного одиночества на границе кипящего котла и холодной пресной бездны, совершенное место для наблюдателя. Эта роль написана для Пег. Посидеть здесь для неё – самоцель. Едва завидев меня, она поднимается, оправляет платье и, оглядываясь, летит дальше, к порту. Я не торопясь качу чемодан следом, слушая, как стрекочут по брусчатке колёса. В Речном порту – купить воды из местного источника и найти остановку с автобусами до пригорода.
Всё было бы хорошо, только номера у автобуса я уже не помню.
Вода в Волге тёплая, как парное молоко. Если резко окунуться, присесть, чтобы окатило до самой шеи, немым оцепенением в лёгких схватывает на какую-нибудь секунду, а потом тело само просится уже раскинуть руки, положить подбородок на воду, чтобы чуть захлёстывало губы солёным и сладким, и раздвигать ладонями пресную жёлтенькую водичку. Вода пахнет тиной, ракушками, влажным песком, в пальцы тычутся гибкие стебли, ещё по привычке растущие на дне: после укрепления берега вода подошла совсем близко к обрыву и горбатой, засыпанной мелким шифером дорожке наверх. Мы с Пег сидим на обрыве, в метре от края, там, где берег делает крутой поворот и утёсом вдаётся в воду. Трава здесь сухая, на солнце сгоревшая, пропитанная пресным духом; высокие стебельки с мохнатыми колосками покачиваются на уровне плеч, и кажется, что поплавком колеблешься в сплошном волнующемся море.
Пелагея сидит, по-турецки сложив ноги. Тёмные кудри колечками лезут в полуприкрытые глаза, плечи сгорбились, отяжелели, набок склонена остроносая голова. Пег совсем срастается с землёй, травой, небом, ветром, и если её сейчас окликнуть – не услышит. В такие моменты я всегда чувствую себя бессовестно лишней, но знаю: стоит мне шевельнуться в сторону дороги, она, не поворачиваясь, не открывая глаз, прижмёт мою руку к земле своей загорелой маленькой рукой: сиди.
Так что я просто сижу и, нарочито глубоко дыша, пытаюсь добиться от своего неуклюжего тела и неповоротливого мозга такого же слияния с природой, как у Пег. Справа массивно и жутко окружили, обложили обрыв серые, неправильные громады волнорезов, совсем чуждые этому простенькому, светленькому берегу. Хочется ковырнуть такого раскорячившегося на желтоватом песке трёхногого уродца и скинуть в Волгу, на самое глубокое тёмное дно, чтобы его тяжесть слилась с тяжестью воды и не давила на осыпающийся, пористый глиняный берег, на мягкую траву и какие-то длинные стебли с наивными светлыми головками. Головки сонно клюют носом, раскачиваются от ветра, как в трансе.
Насидевшись, снова спускаемся к воде. Пег летит вперёд, вскинув руки, приподняв острые плечи, мелко семенит загорелыми, крепко сбитыми босыми ногами по горбатой дорожке вниз, на песок. Платье стаскивает по-мужски, через голову, и смело шагает в воду в одной длинной майке на тонких бретельках. Бретельки ей чересчур длинны и завязаны узелочками на плечах.
Заглохла бухта, заросла, схизнула, ощетинилась камышами, и вода беспрестанно как будто изрыгает на песок кривые, пропитанные водой и жутковатой глубоководной теменью коряги, осклизлые камни, мелкий мокрый мусор, подмётки чьих-то сапог и недокуренные размокшие сигареты. Мокрый песок роют острыми носами обшарпанные лёгкие лодки; если присесть на край, лодка податливо накреняется вбок, скрипит обшивкой о песок, и чувствуется её пустое, полое тело, пропитанное пресной сыростью. Внутри у лодки запущено, мусорно, пыльно, но невероятно уютно, как будто физически ощущаешь саму её благородную миссию защиты человека от безразличной бездны снаружи. Хочется свернуться клубком на рассохшихся, треснутых досках дна, слушать, как гладит вода по корме. Присесть на краешек, утопив ноги в песке, впрочем, тоже удивительно славно. Видеть, как плавно скользят по воде тонкие руки Пег, как расходятся длинные волны, как осторожно приподнимает она подбородок, так, что становится видно округлые худые плечи с намокшими лямками майки. Прохладно; во всём теле приятная непривычная тяжесть от плавания, и холодеющий ветерок гладит по сгорбленным плечам, тычет влажные волосы в лицо и потрескавшиеся губы. Небо высокое, полупрозрачное, как стеклянное, и чистое-чистое, так, что кажется, что свет на земле не от солнца, а от этого самого неба. Границу, где небо сходится с Волгой, они, кажется, сами ещё определить не могут, а потому горизонт колышется то вверх, то вниз. Не покидает странное суеверное чувство, что Волга сильнее и выше неба; настолько спокойна и страшна её уверенная, пронзительная громада. Старое, своенравное, суровое существо, несомненно живое и несомненно с натугой и тяжко, медленно дышащее, как будто на груди у неё лежат все наши дома, дороги, телеграфные столбы, мы сами и эти волнорезы, которые от этой мысли ещё сильнее хочется скинуть на глубину.
Пег выходит из воды, и, поливая песок, выжимает ситцевый подол, а потом садится рядом со мной, положив на бок лодки голову, отяжелевшую от намокших кудрей.
– Знаешь, что у меня в крови? – спрашивает она, щурясь.
– Жёлтенькая водичка! – морща нос, Пег смеётся. Я смотрю на темнеющий густым полукружьем камышей неподвижный залив и мысленно соглашаюсь.
Пресная жёлтенькая водичка.
Запах сена
Стайка маленьких белых птиц взвивается из-под ног.
Они рассыпаются в небе и скоро становятся похожи на мелкую щебечущую пыль на туго натянутом, сатиновом небесном полотне. По косогору ноги сбегают сами, путаясь в крепко сплётшемся, упругом травяном покрове. Перед закатом всегда наступает час, когда конюшня замирает, останавливается на полувдохе, как будто в середине прыжка залитая в тягучий янтарь заходящего солнца. Тишина опускается густая, хоть ножом режь, но почти физически ощущается её медлительное подкожное кипение: звон жестяных вёдер, шелест льющейся воды, негромкие окрики и фырчание из денников. На покосившемся заборе калятся на солнце давно не стиранные стёганые вальтрапы с тёмными пятнами терпкого конского пота.
Стоит войти в ворота, как с ног сшибает влажно-пыльный запах мокрых отрубей; ему вторит тонкий, горьковатый аромат сухого сена: у дальних стен темнеют его сухие скатанные громады, тесно составленные, сыпящие на пол ломкими бледно-зелёными травинками. По бокам поблёскивают умные миндальные глаза; пудовые копыта требовательно ударяют в железные двери денников с звонким режущим гулом, и в ответ откуда-то из амуничника раздаётся ленивый беззлобный окрик. Густо роятся мухи, по выдолбленному, как оспой поражённому, бетонному полу змеятся перемотанные старыми тряпками шланги. В полумраке глаз выхватывает кем-то брошенные ногавки, лопату в куче отрубей, шланг, пульсирующий ледяной колодезной водой, ряды оцинкованных вёдер в тёмных лужах, мутно поблёскивающие зеркальной гладью, стёртые хлысты с кожаными кисточками на концах, подковы, щётки, мази, отстёгнутые подпруги… Среди них неторопливо, размеренно, с уверенной хозяйской ленцой ходят фигуры в стёртых крагах и мозолистыми, крепкими, привыкшими к суровым лентам поводьев руками нежно гладят лоснящиеся шеи, скупо, по-одному, цедят грубовато-ласковые слова.
Фырчание, шорох, хруст, переступ тяжёлых точёных ног по мягкому сену.
Заходишь в денник – вопросительно вскидывается большая умная голова, косит блестящий угольный глаз. Из маленького, обросшего паутиной и пылью окошка на красиво изогнутый круп выливается жидкий беленький свет, и с необыкновенной чёткостью видно, как спокойно и смирно вздымается покатый круглый бок. Обнимаешь рукой тугую шею, прижимаешься щекой между головой и гривой, вдыхаешь терпко пахнущее тёплое счастье, пока позволит, пока не потянется беспокойными любопытными губами к волосам или рукаву футболки. Седлаешь долго, основательно: тяжёлое, крепко обтянутое седло на тонкой стёганой подложке вальтрапа, крепкий ремень стремени, звонко щёлкающий, если дёрнуть вниз, глухой звон уздечки, неподатливые, загрубевшие пояски, крепежи, застёжки… всё пахнет выделанной кожей, сеном и потом. На длинном, прямом конском лбу – белая звезда и толстая, выцветшим голубым узором украшенная перевязь уздечки. Круто изгибается точёное полукружье щеки под тонким нащёчным ремнём.
Выводя, чувствуешь за спиной доверчивые мягкие шаги. Манеж раскидывается сплошным песочным полотном. Жарко печёт закатное солнце; низкое, рыже-медное, оно подсвечивает косыми лучами глубоко взрытый копытами песок, деревянные, рассохшиеся, кое-где сбитые пудовыми ногами громады барьеров. Лицо и руки вмиг становятся горячими. На манеже, роняя на песок чернильно-чёрную, как тушью нарисованную тень, замерла высокая, против солнца тёмная фигура. Тонконогий жеребец колесом гнёт гибкую лоснящуюся шею, вычищенная шкура до блеска отливает медью. Тонут в песке некованные копыта. Паутиной оплетает короткую голову чёрная упряжь. Седло мягко скрипит и греется на солнце. Вздуваются точёные ноздри цвета сажи. Всадница крепко сидит в седле, давя на стремя и расслабив поясницу; пшеничного цвета волосы лезут в загорелое лицо, щекочут облезающий нос. Затянутыми в перчатки пальцами она бессознательно крепко держит повод и смотрит куда-то мимо манежа, где сдавленно дышит глубокое волжское тело. Эта золотом залитая картина впечатывается в глаза, пронзает насквозь, и не сразу понимаешь, что и ты, в узких, стянувших икры старых крагах, растрёпанная, потная, с хлыстом в руке и возвышающимся рядом полутонным засёдланным зверем – её часть, её фрагмент. От этой мысли в рёбрах наливается плотный комок, как нагретое стальное яблоко, от счастья в гландах горячеет и душно накатывает на глаза.
Выезжая с манежа, чувствуешь, как каждая мышца налита ртутной тяжестью, кровь горячит тело, собирает в кончиках пальцев радостное брожение. В поле тихо; слышно, как высокая сухая трава с шелестом ложится под тяжёлое конское копыто, как сминаются длинные стебли под круглым животом, как трогают они стремя и щекочут щиколотку. Свесившись с седла и упершись в стремя ногой, проводишь до мозолей натёртой поводом ладонью по колышущейся траве, и мигают из густого поля пёстрые, мелкие, будто ситцевые цветочки. Ветер треплет тонкие мягкие лепестки, они застенчиво бледнеют нежной светлой изнанкой. Бросаешь поводья, и до самой конюшни едешь шагом, закрыв глаза.
Ветер доносит душистый запах сена.
Жёлтый пёс
Москвичонок терпеливо ждал нас у ворот.
Он был похож на маленького телёнка: приземистый, круглобокий, и только что ушами не двигал. Тупой нос, наклоненный вперёд, круглые выпуклые фары толстым стеклом косят на забор и на нас – идёте? Жёлтый, как в яичном желтке вымазанный, как солнце в самом зените. Подходишь, кладёшь руку на раскалённый шершавый бок, и он, кажется, охотно и робко подаётся всем своим тяжёлым, горящим от солнца стареньким телом, как пёс, чтобы потуже прижаться к твоей ладони.
От москвичонка тянет густым жаром, горячей пылью, калёными шинами. Боковые зеркальца умытыми личиками ловят обрывками твоё лицо, взгляд твоих рассеянных глаз. Улыбчиво приподнимаются дворники на лобовом стекле. Внутри – как в аквариуме: спёрто, пыльно, свет сквозь окна, мутные от толщины, тяжело и сухо пахнет раскалившаяся кожа сидений цвета мокрого речного песка. Физически чувствуешь, что ты – у него внутри, у него в нутре; он стесняется обветшалого, как в бабкином сундуке, кисловатого запаха и гостеприимно, со скрипом опускает стёкла. Наверху, в выржавевших желобах, где раньше был затянутый кожей потолок, завелась тонкая беспорядочная паутина. Ты посильнее прижимаешь к себе ноги, сворачиваешься эмбрионом, обнимаешь колени руками и смотришь на чёрные от загара дядины пальцы на большом руле с плетёной обмоткой. Москвичонок тарахтит старательно, с натугой, самоотдачей, и, если можно тарахтеть с любовью – то это оно.
Выбираясь наружу, дверь прихлопываешь бережно, чувствуешь, как запыхались внутри шестерёнки. Отойдя на несколько шагов, оборачиваешься попрощаться. Солнце прячется за облака, сердце прячется в пятках. Ты смотришь застыло в тупоносое, уставшее, радостное лицо и, как в палате безнадёжного больного, стараешься не показывать ни глазами, ни мыслями, что жёлтая краска над пыльными колёсами истончилась до шелухи и висит неприятными, сухими хлопьями, что он прихрамывает влево и сквозь сияющее тарахтение скользит какой-то неприятный скрип, как будто сердце у него задевает за что-то. Пластмассовый дворник, храбрясь, прячет у основания синюю изоленту.
Москвичонок, впрочем, тарахтит ровненько, усердно, хлопает дверьми и, готова поклясться, где-то в параллельной вселенной не перестаёт вилять хвостом, но за рёбрами уже замкнуло и не разомкнёт.
За рулём чьё-то знакомое, несомненно, лицо, но почему-то не дедушкино.
И ты вдруг поспешаешь, подхватываешь сумки, зачем-то чешешь нос, убираешь с лица волосы, которые не мешают, бестолково топчешься на месте, разворачиваешься и уходишь быстрым, торопливым шагом.
Москвичонок будет терпеливо ждать у ворот.
В старом ЗИЛе тяжело пахнет пылью.
Я с трудом тяну на себя облупившуюся ручку и открываю проржавевшую дверь. Сиденья без обивки голые, будто кожу с них содрали заживо, и теперь свалявшийся поролон пузырится рваными дырами, как губка, выброшенная на песок. Кое-где он прикрыт старыми тряпками, и к педалям вниз свешивается поеденный молью рукав. Пег сидит на пассажирском сиденье, согнувшись колесом, высоко задрав угловатые колени. Босые ноги её упираются в выеденную приборную панель, напоминающую обглоданную кость, лопатки жмутся к засаленной спинке сиденья, руки как-то ломко сложились на груди и кажутся чересчур длинными. Она похожа на сломанную куклу в тёмном ситцевом платье, которую кто-то бросил в машине и не собирается забирать. Я стою в нерешительности, держа открытой лёгкую, полую внутри, словно высохшую дверь, но наконец всё же поднимаюсь на подножку и осторожно сажусь рядом.
Дверь с протяжным скрежетом закрывается сама, будто, убрав руку, я лишила её последней опоры, и даже не находит в себе сил хлопнуть. С движением от сидений медленно, будто в полусне, дымом поднимается пыль. Не покидает чувство, что мы обе – в утробе давно умершего зверя. Прикрывая глаза, я отчётливо вижу покосившуюся на правый бок громаду ЗИЛа на заднем дворе; гигантские, мне по пояс, вздутые шины вросли в землю на четверть, и маленькая зелёная трава обнимает ребристую резину. Клочьями ржавой шерсти висит истончившаяся голубая краска, и, если провести по ней рукой, на ладони останется неприятный мелово-белый след. Дворники болезненно выгнуты – парализованные, подножка искрошилась и просела вниз тонкой ржавой пластиной. Капот приоткрыт – раззявленный рот. Паутина тянется к кузову от гулко пустого топливного бака, треплется на ветру, и от этого трепета ЗИЛ кажется ещё более неживым.
Внутри неестественно тепло, как в желудке, и от затхлого воздуха трудно дышать. Стекло заднего вида заплыло налётом – жирком, и уже ничего не отражает. На приборной панели чернеют – выбитые зубы – круглые дыры, и только спидометр выпукло смотрит – заспиртованным глазом. Под стеклом – хрусталиком, потерянные между делениями, на отметке "ноль" застыли пластмассовые стрелки. Ниже неровно, обломанные – кости – строятся рычажки, и на крайнем повис забытый брелок от ключей. Я подворачиваю под себя затёкшие ноги, осторожно, чтобы не коснуться застывшей Пег, и нечаянно задеваю его коленкой. Брелок неторопливо, будто в вязком киселе, делает два неловких движения и снова засыпает.
Я невольно смотрю туда, куда и Пег. Заляпанные стёкла искажают закатный свет. Рыже-синее небо раскатывается перед носом ЗИЛа, как хлопковая скатерть, и где-то за дворниками, у самой линии горизонта, пламенеет закатом дрожащий солнечный диск. Простор перечёркнут белой полосой пролетевшего самолёта, как будто взрезан скальпелем изнутри. Глядя на закат, всегда испытываешь смутное, беспокойно-тоскливое чувство, как будто кто-то крючком подхватил артерию у сердца и тянет прочь. Здесь, в заплывшей, скорбной тишине старого ЗИЛа, это чувство заливает глаза и уши, закладывает горло и рвёт по швам грудную клетку.
Я перевожу взгляд на Пег. Она вдруг несколько раз моргает как-то скомканно, торопливо, и говорит хриплым, не своим голосом:
– Он мёртв. Слышишь?
Голос грубо прорывает тишину, я молчу, знаю, что лучше ничего не говорить; на лице у Пег – тяжёлая печать какого-то осознания, какая-то страшная истина, проступающая в дрожащих ресницах и чёрном изломе губ. Она не глядя берёт меня холодными пальцами за запястье, и голос её вдруг срывается, ударяет, как птица, крыльями:
– Ты слышишь, теперь он мёртв!
Внутри у неё булькает, рвётся наружу, я прижимаю к груди остроносую кудрявую голову и долго, с режущей болью под левым нагрудным карманом слушаю, как она бесшумно плачет, и дрожь волнами ходит по её плечам. Трагедия её ничтожно мала в масштабе привычных трагедий и чудовищно велика в масштабе молодого доброго сердца. Я отчётливо представляю, как в страшной, могильной тишине машины слышит Пег весёлый, низкий рык молодого мотора, сочный хлопок двери, чувствует, как резво вибрирует сиденье, туго обтянутое новенькой пахучей кожей, видит солнечных зайчиков на капоте небесного цвета, бликующее ветровое стекло, молодые мозолистые руки на баранке руля и смеющееся загорелое лицо в зеркале заднего вида. Это лицо теперь, под шиферной крышей в паре десятков метров от нас, листает каналы – постаревшее, изрезанное морщинами, как земля без дождя. Лицо это улыбается устало и редко, носит очки, тяжело кашляет по ночам и не слышит на левое ухо. Лицо больше не сядет за этот руль. Из тех, кто сидел с ним на этих сиденьях, половины нет в живых, остальные – заложники возраста, астмы и обстоятельств. Им не смеяться больше в эти стёкла, покуда ЗИЛ качает на деревенских дорогах.
На заднем дворе покинутая большая машина уже никого не ждёт.
А мы с Пег стоим в начале дороги, и дорога уходит за горизонт; если протянуть руку назад, можно нащупать сухое дерево крылечка, но обернуться уже нельзя. Низенький домик смотрит на нас, раскрыв ставенки, сморит ласково, смотрит старчески, смотрит, смотрит, и чувствуется спиной его светлый благословляющий взгляд.
Часть третья. Двадцатилетие
Я помню Париж
Я вышла из поезда на Gare de Lyon и, наталкиваясь на встречавших, пошла, подавшись вперёд, прямо, как слепая, и вокруг меня кто-то бегал, и вёз чемоданы, и останавливался, и звонил по телефону, и что-то по-французски объявляли сверху, а я шла так ровно и прямо, будто знала, куда идти. Слёзы были какие-то крупные, и их было как-то много, и они заливали мне щёки и катились на шею, а я бессознательно стирала их ладонью, и ладонь становилась мокрой, и пальцы, и запястья тоже. Я всё время думала две вещи: что надо отписаться маме и что очень глупо реветь, сойдя с поезда в Париже, что так отчаянно мечтать о Париже можно только лет в тринадцать, или в пятнадцать, но в тринадцать и пятнадцать мне хотелось на Север, или в Дели, или на Камчатку, а теперь мне было двадцать один и я навзрыд плакала на Gare de Lyon, потому что мои подошвы коснулись парижского асфальта. Он был какой-то светлый, знаете; вообще шёл дождь и небо было совсем серое, но он был с в е т л ы й, Париж, он был очень светлый, и эти высокие вокзальные потолки, и белый глянцевый пол, и огромный циферблат со старинными стрелками, и то, какое всё было большое, или казалось мне большим. Я остановилась в середине вокзала и даже не пыталась понять, как выйти в метро, хотя мои часы уже начали обратный отсчёт: 33 часа 42 минуты.
Две тысячи двадцать две минуты в Париже.
Я помню каждую.
Сестра маяка
В метро крепко прижимала к себе сумку локтем. Долго стояла около карты, склонив набок голову; если вам когда-нибудь придётся объяснять вашим детям, что такое хаос, просто покажите им карту парижского метро. Да и само метро тоже покажите. Здесь жутковато. Это было первое, что я почувствовала: неуютное ощущение, будто разноликая сметливая толпа взяла тебя в кольцо и, роясь, молча, сужает его; будто все вокруг видят, что ты маленькая, глупая русская студентка, что ты едва говоришь по-французски, что ты голодна и спала в поезде, что все наличные деньги у тебя спрятаны в кармашке в подкладке пальто и что ты совершенно, совершенно не знаешь Парижа.
А Париж – вполне себе самостоятельное существо. Париж – норовистая, древняя, своевольная сущность. Наверное, так и должен выглядеть центр мира. Вавилон. Константинополь. Атлантида. Он как бы сразу сказал мне: поувереннее, несмышлёныш, пошевеливайся. В ответ я надеваю очки и теперь выгляжу ещё глупее, со своими дорожками из слёз, с раздутым рюкзаком и дурацкой тканевой сумкой, из которой торчат пижама и стеклянный бок дезодоранта. Потом разбираюсь-таки. Иду. На ходу несколько раз оборачиваюсь и иду спиной вперёд. Чернокожие бомжи палятся на меня. Одежда мгновенно пропитывается стойким запахом резины и общественного туалета. В метро с восторгом разглядываю ручку, которая открывает дверь старого вагона. Усевшись к окну, раскрываю блокнот, карту и старательно просчитываю свои две тысячи двадцать две. Вокруг меня кружатся станции, таблички, засаленные сиденья, рекламные объявления, все возможные цвета кожи, чей-то картавый голос, невнятно объявляющий prochain station, крики, просьбы, пение, шаги.
А потом слева, от окна, неожиданно вспыхивает свет, и за стеклом мимо поезда проплывает Эйфелева башня.
Её образ настолько знаком, что каждый с закрытыми глазами нарисует силуэт. Моя мама уверена, что «наша Останкинская и выше, и круче». Башня – едва ли не последнее, что мне хотелось увидеть в Париже. Но грохот поезда заглушает невнятный горловой звук, который я издаю. Как показывают в кино, знаете: я вижу силуэт в окне и застываю на месте, на полустрочке, и выглядит это будто в меня ударила молния или какое-нибудь божественное озарение.
Чтобы понять Башню, надо увидеть её вживую. В ней есть что-то вечное. Флегматичная, отстранённая гордость. Она стоит не в городе, она стоит над городом, над всеми нами, над всеми ними, она стоит и смотрит на Париж, и дальше, за границы Парижа, на взрытые поля, на взлётные полосы, на вспененные волны, на потонувшие корабли, на раскинувшиеся леса, на жемчужины, растущие в раковинах, на детей, рождающихся на рассветах, на людей, строящих свои дома.
А я смотрю на неё из окна этого старого парижского поезда.
Потом, конечно, я понимаю всё, о чем говорят: дюжие чернокожие парни, звенящие связками сувениров и предлагающие марихуану, заплёванные бордюры, какая-то окольцевавшая полрайона грязная стройка, две длиннющих очереди туристов, жующих чипсы и круассаны, рамки, полицейские, прейскуранты, бомжи, перепалки, возня, мелкий холодный дождь, цветные ларьки с громадными вывесками. Но всё это проходит мимо меня, как за стеклянной стенкой, приглушённо, будто мы со всем этим находимся в соседних мирах, а в моём есть только я, Сена и сплетённый из металла бесстрастный колосс. Я будто стояла рядом с сестрой того маяка на маленьком шведском острове, который стоит на самом краешке земли перед бездонной морской громадой и смотрит на неё, прямо перед собой, неотрывно, преданно, отрешённо.
Я не стала подниматься наверх; отчасти потому, что в моём бюджете это проделало бы невосполнимую дыру, но больше из-за того, что постоять рядом с ней мне казалось достойнее, чем карабкаться глупым смертным жуком в её вечное нутро. Постояла немного и пошла к Сене – уже прихрамывая, уже голодная, но чувствуя, что я пришла к Башне и я поняла её.
Она просто маяк, понимаете. Она наш земной маяк.
Выпей кофе, малыш
Мне кажется, успеваю только прикрыть глаза.
Веки горячие и крепко слиплись. Телефон светит так ярко, что я кладу руку на половину экрана. Я прижимаю ладонь к лицу, на счёт три выдыхаю в пальцы и сажусь на кровати. Кровать предупреждающе покачивается. Второй ярус, вспоминаю я. Внизу вижу чей-то развороченный рюкзак и большие ботинки. Мне что-то очень настойчиво снилось, по голове изнутри катается какой-то свинцовый шарик. Аккуратно, как могу, спускаюсь по отчаянно скрипящей лесенке на ледяной кафельный пол. Под пижаму лезет холод. На ощупь ищу ногами кроссовки, потом шарю по постели, нащупывая рюкзак. Это не так сложно: подушки у меня нет, а вместо одеяла вторая простынь; всё, что вы хотели знать о самом дешёвом хостеле в Париже.
Я на секунду останавливаюсь и, прижавшись к матрасу лбом, улыбаюсь темноте.
Я в Париже.
Испанец на ресепшене решает было, что я выезжаю, но я машу руками и с трудом объясняю ему на французском, что ещё вернусь. Он смотрит на меня с любопытством – на часах ещё нет шести утра – но ничего не спрашивает. Я понадёжнее прячу нос в шарф и толкаю дверь наружу. Ещё совсем темно. Прямо передо мной высится большая грязная эстакада с неровным рядком огоньков по перилам. Под ней темнеет заваленная мусором дорога с коротеньким переходом и красивый фонарь с чугунными узорами на плафоне. Фонарь уже не горит – а, может быть, не горит совсем. Ветер гоняет по мокрому асфальту рваные полиэтиленовые пакеты. Белый влажный туман в воздухе настолько густой, что я чувствую, как он оседает холодными дрожащими каплями на фонаре и перилах эстакады.
Я сверяюсь с картой и двигаюсь в направлении Монмартра.
Когда я отправляла Рыбушке адрес места, где собираюсь ночевать, он помолчал и сказал: ничего страшного, по крайней мере, это не Сен-Дени. Первым делом в Париже я узнала, что Сен-Дени – соседняя остановка метро. У входа в хостел стояли двое здоровых темнокожих парней, и мне пришлось коснуться их плечами, чтобы войти.
Войти и оказаться среди чёрных стен, отделанных красным – будто на живое мясо накинули чёрную драпировку. Впрочем, это всё равно было лучше, чем снаружи.
Китайский, африканский и арабский кварталы Парижа в одном месте.
О да, я умею путешествовать.
До Монмартра мне десять минут пешком. Десять минут пешком в темноте по узким, совершенно промокшим и мертвенно тихим улицам. Туман висит над битым асфальтом. Витрины заколочены и сплошь заросли граффити. Пару раз встречаются тощие бродячие псы. Я пытаюсь греть руки в карманах и иду так быстро, как только могу, чтобы не сорваться на бег. Мне не страшно. Почему-то я уверена, что в Париже со мной ничего не может случиться. Я слишком люблю его. Я только стараюсь вертеть головой так, чтобы туман не пробрался под шарф. В желудке и лёгких что-то дрожит – я почти не сплю уже вторую ночь, промёрзла в зябкой комнате хостела и больше всего на свете, страшно, дьявольски хочу горячего кофе, но раньше восьми здесь ничего не откроется, и даже попавшийся мне по пути Бургер Кинг апатично смотрит на меня закрытыми стеклянными дверьми.
Шаги мои слышно отчётливо. Шарк-шарк-шарк.
Пару раз навстречу мне попадается чья-то, укутанная по нос, как и я, фигура, и я перехожу на другую сторону дороги. Стены, ставни, входные двери подъездов – всё здесь исписано, перецарапано, всё носит на себе глубокий, как порез, отпечаток лапы этого перепутанного района. Узкая дорога идёт то вверх, то вниз, обводит меня вокруг резких прямых углов. Это очень долгая, очень тихая и очень важная дорога. Зелёная полоска на экране телефона заканчивается прямо у Сакре-Кёр.
Я иду на Монмартр встречать восход.
Дорога приводит меня к лестнице. Я поднимаю глаза и долго смотрю, как она утекает наверх, в темноту. Начинает накрапывать дождь, я натягиваю шарф на голову и начинаю подниматься. Шаг за шагом. Тихо, очень тихо, слышно дождь, слышно, как я дышу, как мои ноги ступают на ступени. Подъём идёт круто, но начинает светать, и небо принимает оттенок чернослива. Я пару раз останавливаюсь и оглядываюсь назад, в темноту внизу, где теперь уже не видно начала лестницы, и здесь, когда время замерло и зависло, как этот мокрый белый туман, я стою подолгу и дышу. В голове у меня сумбур, надоедливо давит на глаза от недосыпа и дрожит проклятое нутро. Я смотрю, как всё дальше протягиваются блестящие мокрые крыши, и иду дальше.
Когда я поднимаюсь к Сакре-Кёр, небо похоже на большой фиолетовый мазок.
Я очень хорошо себя помню тогда. Дождь всё шёл, но капли были такие лёгкие, весенние, что оседали на шарфе и пальто, как роса. В предрассветной темноте казалось, что всё вокруг схуднуло в качестве, мир тонул в сиреневом и сером и дышал на меня дождём, а надо всем этим, цвета лаванды, фантомная, лёгкая, высилась базилика Сакре-Кёр, будто сделавшая шаг из темноты. На площадке никого не было.
Я встала прямо перед ней и посмотрела на спящий Париж.
Я тогда всё ждала, что случится что-то особенное. Стоя на Монмартре в предрассветной темноте, глядя, как большие белокрылые чайки чертят острыми крыльями по небу цвета космоса, кажется, что сейчас непременно что-то случится. Придёт какое-то осознание. Сердце по-особенному ударит в рёбра. От клетки до клетки бросится новый, доселе невиданный импульс.
Я взобралась на высокий бетонный столб ограды, намочив коленки у джинс, и укуталась шарфом, как палантином. Это был последний шаг отчаяния; так молящийся забирается на самую высокую гору в надежде, что боги услышат его оттуда. Ну вот, я дошла. Видишь? Доехала. Дошла к тебе по этой липкой, мокрой темноте, шарахалась от прохожих. Спала полтора часа. Замёрзла. Намокла. Хочу горячего кофе. Что же ты смотришь на меня немо, нехотя? Что же молчишь? Что же не говоришь со мной? Что сыпешь на меня свой робкий летучий дождь? Хотелось поднять руки, или подпрыгнуть, чтобы меня заметили отсюда, из центра мира, под этим промокшим французским небом, но дождь просто капал, и лицо у меня всё было мокрое.
Птицы не спали и, раскинув крылья, мудрые, свободные, лёгкие, летели на горизонт.
Наверное, снизу на фоне Сакре-Кёр было видно мою фигуру.
Уже совсем посветлело, отовсюду проступали глянцевые от дождя зелёные кусты, дорожные знаки, шпили, окна, углы, но до восхода было ещё сорок минут. Я зачем-то снова спустилась вниз, и там, на одной из улиц, увидела горящие красным буквы. Paradis. Парадиз. Рай. В раю зазвенел колокольчик, как я вошла, у стойки двое французов в форме дорожных рабочих пили эспрессо из маленьких чашек и большой улыбчивый хозяин приветливо сказал мне «Bon matin, madame!». Я грела руки о чашку с латте, ела круассан и молчала. Возвращаясь к лестнице, оглянулась и не удивилась бы, если б волшебная вывеска испарилась в тумане. Было шесть пятнадцать утра.
Иногда вселенная просто говорит тебе: выпей кофе.
Выпей кофе, малыш.
Платье по цвету похоже на маковый лепесток.
Острожно глажу рукой мягкие алые волны. Оно висит на узеньких деревянных плечиках – такое царское, с таким достоинством, что я кажусь себе для него недостаточно худа, недостаточно высока и просто недостаточна. Я никогда в жизни не надевала красного платья. Я никогда в жизни не вставала на такой высокий каблук.
Я никогда в жизни не танцевала вальса.
На щиколотках у меня пластырь – мы репетировали долго. Я делала много лишних шагов, много торопилась и много смеялась, сжимая рукой плечо на десять сантиметров выше своего, и теперь завтрашнего дня жду, как Золушка.
Я снова поправляю платье, которое совсем в этом не нуждается, и бегу открывать дверь.
Мама всегда улыбается, когда заходит внутрь. Улыбка эта пробивается на лице, как маленький стебелёк, и чаще всего быстро вянет, как любой стебелёк завянет без солнца. Я знаю миллион разновидностей этой улыбки. Я по ней могу прочитать маму, как книгу – по улыбке и по тому, как она смотрит, как наклоняет голову, как откидывает ботинки, когда снимает их с ног.
Я всегда обнимаю её на пороге и мысленно стараюсь впитать в себя какую-нибудь часть той серой, безликой, въедливой устали, которая так давит на её худые плечи. От пальто пахнет метро и отдаёт холодком. Мама ставит сумку на пуфик и приветственно говорит мне «Э-эй!».
Она всегда придумывает что-нибудь особенное после этих слов. Если я болею – «Как тут мой лазарет?». Если мучаюсь с учёбой – «Как мой мученик?». Вне зависимости от действительности я всегда уговариваю себя ответить, что всё в порядке, но маму не обманешь, как не обманешь чуткий, бесконечно любящий рентген.
Мама снимает пальто и идёт мыть руки. Моет хозяйственным мылом, моет тщательно, дважды, будто врач. Я всегда стою возле неё, прислонившись виском к дверному косяку, и, балансируя на порожке, что-нибудь говорю. Мама слушает внимательно – знаю, что слушает, но с лица у неё ещё не сошёл отпечаток чисел и экселевских таблиц. У неё заметная ложбинка между бровей и взгляд рассеянный, будто она что-то забыла и всё никак не вспомнит, пока крепко вытирает лицо колким полотенцем. Хочется провести по лицу руками и стереть, стереть, всё стереть.
На кухне мама стоит босиком, режет зелень и оборачивается на меня, чтобы показать, что всё ещё слушает. Телевизор наверху рассказывает ей про Трампа и страны ОПЕК, я – что-то о том, что завтра перед балом у меня едва будет время переодеться. Пальцы у мамы тонкие, красивые – не по клавиатуре им бить, а держать бы им гриф или кисть. Сейчас на пальцах укроп и петрушка, и они бодро смахивают их в тарелку с разделочной доски.
Мама сидит на диване и, поджав под себя ногу, ломает хлеб кусочками прежде, чем отправить его в рот. На впалых ключицах – золотая цепочка с крестиком. Я знаю, что она совершенно точно оставит недоеденными кусочек хлеба размером со спичечный коробок и ложку супа объёмом в три столовых ложки, и что я буду ворчать, убирая со стола, и что это происходит каждый день и никогда не изменится.
Но пока она смотрит на меня и, улыбаясь, спрашивает:
Я не готова; я обнимаю руками коленки, и прячу в них подбородок, и кошусь на отражение платья в зеркале в коридоре. Платье будто спрашивает, уверена ли я, что достойна в нём провальсировать.
Мама, я не попадаю в музыку.
Мама, я наступаю ему на ноги.
Мама, я горблюсь.
Мама смотрит на меня, и в улыбке у неё что-то вечное; во всём этом – во мне и в трепете в моей груди, в красном платье на узеньких плечиках, в открытой балконной двери и вечернем выпуске новостей есть что-то вечное. Я мну руками хлебные крошки, мну, а потом без предупреждения лезу на диван – прижаться к маминому боку. Она отодвигает тарелку, и мы сидим немножко, и я, как всегда, стараюсь не прислоняться ухом к её груди, чтобы не слышать, как бьётся сердце.
Это слишком слабый, слишком тихонький звук, чтобы держать в себе всю её, мамину, жизнь.
– Подо что вы танцуете? – спрашивает мама.
– Под Штрауса, – отзываюсь я.
Она включает проигрыватель, пока я мою посуду, и я вхожу в зал, вытирая пену полотенцем с рук, чтобы увидеть её – в домашнем костюме цвета фуксии, босиком на стареньком ковре, с коробочкой от диска в руках. Штраус делает комнату в два раз шире и дёргает у меня внутри за какие-то ниточки.
Я знаю: у мамы тоже дёргает.
Я бросаю полотенце на диван и подбегаю к ней; мы долго смеёмся, выясняя, кто партнёрша, а кто партнёр, я успеваю отдавить ей большие пальцы прежде, чем мы делаем первый шаг, но я чувствую носом тоненький запах её духов и улыбаюсь широко, как только могу.
От мамы пахнет мамой.
От любой мамы пахнет мамой.
За четыре такта до начала она приобнимает меня немножко сильнее и говорит:
– Ты будешь очень красивая завтра.
Я поднимаю голову и смотрю на её лицо. Глаза цвета моря в штиль. Треугольничек волос на лбу. Морщинки у глаз. Мне говорят, что я на неё очень похожа.
– Я знаю, мам, – говорю я очень тихо. – Я знаю.
Говори, Даша, говори
Я проспала тринадцать часов.
В комнате светло. Спускаю ноги с кровати и долго сижу, склонив на грудь тяжёлую голову. Как всегда после долгого сна, трудно сходу определить число и день недели. Вспоминаю, как проснулась ночью и увидела у кровати маму: распущенные волосы, серое, осунувшееся лицо, наполовину освещённое светом из открытой двери. Я протянула руку и погладила её по щеке, а потом меня опять затянуло в сон. На полу у кровати вижу поставленный на зарядку ноутбук; мама снова до полуночи сидела без сна. Маме страшно. У мамы новая жизнь.
У меня тоже.
Мне всё время хочется заговорить с ней словами Сент-Экса; сказать, что, "кто бы ни перерождался, он – тоска о былом и могила". Я знаю, что она не поймёт. Знаю, потому что, находясь в сердцевине смерча, никогда не увидеть его целиком. И оттого, что я-то как раз, снаружи, вижу весь этот иссиня-чёрный смерч, в котором она задыхается, мне всё время кажется, что я мудрее мамы, но это, скорее всего, неправда.
Хотя впрочем, по-моему, она сама считает, что это так.
Мы с мамой видимся исключительно поздними вечерами; по телевизору слишком громко говорят о политике, захлёбываются, истерят, доходя до визжащих нот, а я так далека от всего этого, что даже забавно. Мы с мамой обнимаемся на пороге, потом ещё пару раз – в коридоре; я глажу её по волосам и чувствую, что выше уже сантиметра на два. Пока мама ходит из комнаты в комнату, раздевается, тщательно моет свои красивые аристократичные руки хозяйственным мылом, я что-то рассказываю – увлечённо, сбивчиво, и знаю, что она не слышит и не запомнит. И пока моё тело накладывает ей ужин, чем-то делится, что-то объясняет, где-то внутри него я будто молча стою, опустив вдоль тела руки, и смотрю на неё, и упрашиваю держаться. А её тело, рассеянно интересуясь моими преподавателями, подцепляет на вилку свеженарезанные огурцы, и внутри него она будто стоит с закрытыми глазами и повторяет: говори, Дашка.
Я осторожно встаю на ноги, переступаю широким шагом место, где скрипит паркет, и неуловимо прикрываю дверь её комнаты. Окно занавешено покрывалом с дивана, чтобы утренний свет не падал на её лицо. Даже во сне она выглядит сосредоточенной, ищущей, неуспокившейся и хмурит давно не щипанные брови.
Хочется разгладить пальцем морщинки на лбу, но я закрываю дверь и возвращаюсь к себе.
На столе у меня какие-то стопки, заметки, помятые листы, и в двух немытых кружках покрывается плёнкой когда-то недопитый чай.
Perpetuum mobile
Влажный воздух сладко пахнет липовым цветом. Лужи вздуваются пузырями, капли тяжёлые, тёплые, – это первый настоящий дождь в этом году. Из палаток у метро пахнет намокшими фруктами, на лотках пушистыми пучками лежит опрысканный дождём укроп, блестят глянцевые бока розовых помидоров.
Я иду под зонтом к метро встречать Кита. Кит стоит под козырьком, накинув на голову капюшон, и курит свой винстон, задумчиво щурясь и выдыхая вбок. Стёкла очков в каплях дождя. Я подбегаю к нему и радуюсь, как очень маленький дельфин. Кит глядит на меня сверху и радуется, что я радуюсь – это perpetuum mobile, и мы его, кажется, изобрели.
В груди у меня ещё плещется Балтийское. Я тогда подбежала к нему, наклонилась, протянула руки и всё манила к себе: ну, здравствуй, хорошее моё, ну, привет, привет, давно не виделись, о-ой, давно, ну иди сюда, иди, во-от. Вода ластится к пальцам, пальцы тут же краснеют от холода. Кит наклоняется, зачёрпывает ладонью воду и пьёт.
– Солёное, – констатирует он и улыбается.
Оно солёное. Это о н о.
Я – маленький человечек на пружинках, прыгаю, прыгаю, верещу, бегу и только что не падаю валяться в песке. Песок белый и очень меленький; солнце нагрело его по-весеннему осторожно, но если копнуть глубже, он влажный, холодный, тёмный. Пляж пуст; люди гуляют по набережной там, наверху, и они, кажется, отчаянно глупые. Лестница к пляжу покрылась мокрым зелёным мхом, нижних ступеней давно нет, и потому она как будто ведёт в небо; на пористых бетонных балках проступает навеки вросшая в них краска. Мы спускались к воде по каким-то огромным отсырелым валунам, протягивая друг другу руки. Перед закатом я успокаиваюсь, мы садимся на плед и молча пьём из термоса вино. Мне всё время кажется, что если повернуть голову, где-нибудь справа или слева декорация закончится и будет видно Москву и козырёк станции метро, но, как ни верти головой, ничего не заканчивается, и голова кружится и немножко сходит с ума. Моря, и неба, и песка цвета слоновой кости так много, что они не помещаются мне в грудь, внутри всё что-то жужжит, щёлкает, будто плёнку зажевало в магнитофоне, и я реву Киту в плечо. Пореви, говорит Кит. Кит всё понимает.
На волнах всё время качалась одинокая чайка: маленькая фарфоровая фигурка.
Руки у меня мокрые и липкие от дождевой воды. В Москве чернильные, набрякшие дождём тучи, душный воздух и где-то рядом всё время гудит дорога, но мне теперь всё равно. Я просвеченная балтийским закатом, как рентгеном – спасительная солёная радиация, и мне не страшны теперь ни смог, ни жара. Я знаю – оно там.
Я беру Кита под руку и вдыхаю запах его сигарет.
Девочка с бананами
Я – это я. Живое тело. Живая душа. Я боюсь китов, громких звуков и одиночества. Я иду по Москве; вечер прохладный и похож на тёмную воду. Я устала и остро чувствую себя отдельно созданной, усиленно существующей человеческой единицей. У единицы мёрзнут уши, красный кончик носа и из груди лезут цветы и копья.
В руках, обняв, как ребёнка, единица несёт крепкую, жёлтую связку бананов.
Я не взяла на кассе пакет, чтобы чувствовать пальцами холодную гладкую кожуру, живую мягкую тяжесть. Весёлая желтизна проглядывает сквозь московскую темень, как светлячок. Плавные, продолговатые линии. Почему никто не носит бананы вот так? Есть в этом что-то очень материнское: бережно держать их обеими руками.
Особенно, когда несёшь домой.
Бабушка любит бананы. Бабушка аккуратно отломит себе один, а остальные будет совать мне в сумку каждое утро. Проводники нежности – весёлые жёлтые фрукты.
Ловлю своё отражение в витрине. Знакомлюсь с собой в новой ипостаси маленькой юной женщины. Не то чтобы любуюсь – оцениваю степень фактурности. Оцениваю, достаточно ли всё неидеально, чтобы признать жизнеспособной эту новую ипостась. Клетчатое пальто, цветные носки, сумка с эмблемой Организации Объединённых Наций – и бананы.
Я сегодня девочка с бананами.
В темноте прохожу совсем близко к стройке. Мощные прожектора высвечивают снизу глубокие бетонные провалы строящихся тридцатиэтажных великанов. Великаны поднимаются из гигантского котлована, растёт по полмиллиметра моя новая идентичность. В небесной тьме, исчерченной прожекторами, исчезают три подъёмных крана. По каждому ребру у кранов протянуты толстые светящиеся кабели, и оттого они становятся ещё колоссальнее; огромные металлические деревья, горящие золотым в холодной темноте, высоко, там, где ветер ещё сильнее и резче хлещет их металлические тела. Я рядом с ними очень маленькая; такая тёплая клетчатая куколка с красным кончиком носа, которая остановилась и смотрит наверх, на их величавые, сверкающие головы.
И на бананы. Они тоже жёлтые.
Не кусай губы.
Не грызи ногти.
Смывай макияж перед сном —
пишу крупно на стикере и клею на монитор; впрочем, скорее для проформы. Трудно грызть ногти, когда рука лежит в чьей-то руке. Да и вообще, я сейчас такое созерцательное, едва ли не аморфное существо, что нахожусь будто несколько вдали от своего тела, а потому оставляю его в покое: свои расширенные поры, неровные брови и простуду на губе. Стою по утрам перед зеркалом, смотрю и на себя и будто объясняю кому-то с другой планеты: ну, вот это тело мне дали. Есть к чему стремиться, конечно, но в целом всё сносно. Я очень люблю это «сносно». Чертовски приятно быть не идеальной: сидеть в кафе, подвернув под себя ногу, забывать чистить зубы, шутить бесстыдные шутки, надевать под деловой костюм дурацкие цветные носки. Это моё тело. И дело тоже моё. Когда-то год назад на интервью генерального секретаря я в течение часа всё время крутила ножкой. Серьёзная мадам в открахмаленной рубашке – и ножка.
Привет, это я.
Тело радуется, что его перестали регулярно клясть, тело упрямо надевает весеннее пальто, хотя по утрам на дорогах ещё замерзает снежная каша, и периодически стаскивает шапку и стоит немножко, чувствуя, как краснеют уши и март вдувается в голову. Иногда удаётся погреться на солнышке, которое само, кажется, ещё пытается себя согреть после зимы, и мысли такие текучие, прозрачные, спокойные, как у старого мастифа с глубокими влажными глазами. Мастиф кладёт голову на лапы, я кладу подбородок на стол и доброжелательно жду свой капучино с кремовой молочной пенкой. Я стала пить кофе без сахара и очень этим горжусь: ну настоящий ценитель, вы посмотрите.
Жду. Не смотрю на официанта, не слежу за тем, как он рыбкой юркает между маленькими столиками. Смотрю в окно, не бегая глазами. Не пересчитываю снова и снова, сколько минут займёт перейти дорогу к метро, спуститься вниз и доехать до точки В, чтобы мимолётом нагрянуть туда строго на n минут и ринуться к С, в которой уже ждут. Я приду тогда, когда приду, и ни минутой позже. В конце концов. Чёрт побери, в конце концов. Мне двадцать два года, и я пью кофе. Я пью кофе, чёрт вас дери, и сдвинусь с места только тогда, когда спокойно его допью.
Как вы видите, я несколько оборзела и крайне этим довольна.
Когда поезд выезжает из тоннеля наверх, старый вагон пронзается солнцем. Поезд едет по ещё промёрзшей земле, колёса катятся по холодным металлическим рельсам, рельсы расчерчивают город на неровные геометрические фигуры, а над городом синее полотняное небо, будто кто-то покрыл его чисто выстиранной, отглаженной простынёй.
А в старых вагонах едут заляпанные жёлтым солнцем неидеальные люди.
Новый год наступает сейчас
Концерт уже начался.
Пробираюсь между креслами в темноте: худая, очкастая, длинноволосая. Сажусь рядом с мамой и касаюсь лбом её плеча, мол, привет. Долго вожусь с сумкой, близоруко щурясь на сцену, вытираю руки влажными салфетками. Во рту привкус малинового кофе, которого мне не хотелось. Так и вижу: полосатый праздничный стаканчик Старбакса летит в мусорное ведро касс Государственного кремлёвского дворца. Это совершенно вопиющая расточительность, но мне сейчас не хочется об этом думать. В этот момент я почему-то отчётливо вижу себя со стороны. Во-первых, я ужасно похудела. В широких полосатых штанах из тяжёлой, тёмно-серой ткани талия моя кажется совсем девичьей. Во-вторых, я подстриглась и теперь кажусь себе взрослее. Я бежала сюда, как всегда, опаздывая, как всегда, в расстёгнутом пальто и без шапки, потому что застёгивать пальто и надевать шапку – так долго и заставит замедлить шаг, и смотрела на себя. Вот маленькая юная магистрантка. Говорит по-английски и по-шведски, носит глупый псевдоним и постоянно хочет на Север. Говорит "позвольте" и "благодарю". Прежде, чем обратиться к мальчикам из Росгвардии на входе в Кремль, загорается улыбкой и любуется ими: высокие, статные, краснощёкие с мороза, в серой форме с погонами как гордые весёлые птицы. Не ходит, а бегает, так, что обувь и одежда сзади всегда заляпаны бурой зимней грязью. Поднимает телефон, снимает блокировку, смотрит на экран и выключает снова. Без конца пишет списки и составляет таблицы. Много хочет. Много думает о большом. Не может расправиться с прошлым: кажется, вот-вот, почти выбралась на берег, а потом снова – плюх – и окунается. Учит детей; объясняет грамматику со страстью, широкими жестами, так, что потом приходится делать шумный выдох и пить воду. Упрямо пытается избавиться от лишнего. По вечерам медитирует с открытым окном, сложив ладони чашечкой: чуть-чуть скосившаяся на левый бок фигура в белой футболке. Тратит деньги на кофе и таблетки; уже, признаться, ужасно устала быть всегда нездоровой, и от этого иногда гаснет и грустит. Всё время носит в голове норвежские фьорды, утренний Стамбул и ночной Париж. Всё время хочет куда-то поехать или забраться на какую-нибудь гору.
Всё время считает, что делает недостаточно, хотя на самом деле – слишком много.
В антракте спускаюсь по ковровым ступенькам вниз, в амфитеатр; ряд и место мне неизвестны, но я сразу вижу маленькую седую голову и кругленькие плечи в сером платке. Этот платок я ей подарила. Подходя к бабушке, чувствую, как на меня смотрят её соседки, и в глазах её, в том, как она улыбается и берёт меня за руки, вижу счастливую, радостную гордость. Сажусь рядом, целую её в макушку и, прикрыв глаза, позволяю себе отдаться чувству бесконечности момента.
Новый год для меня наступает сейчас.
Дожидаюсь, пока мама заплывёт далеко, и плюхаюсь в воду цвета светлой бирюзы.
Здесь, у понтона, знаю, точно не достану дна ногами, и пытаться нечего; сердце очень колотится, а вода из-за подводных источников тёплая, как в ванной. Держу голову над маленькими волнышками, как черепашка, делаю крохотный круг и, только пытаясь ухватиться руками за поручни, немножко захлёбываюсь. Краем глаза вижу, как метрах в пятидесяти мама увидела меня в воде и смотрит с ужасом.
Выбираюсь и, задыхаясь, показываю ей язык, а сердце колотится.
Орлята учатся летать.
К большому морю мы едем на лодке через озеро, а потом по реке. Плоскодонки цепочкой пробираются сквозь камыши. В большой крытой лодке пахнет рыбой, лимоном и варёными крабами. Крабов жалко: у них совсем голубые клешни и грустные, широко расставленные глаза. Вода здесь, в реке с красивым названием Дальян, гладкая, как шёлковое полотно: изумрудное, но матовое, с тусклинкой, не плывёт корабль, а стелется по нему. Всю дорогу туда мы с мамой сидим на носу, вытянув ноги. Сильный тугой ветер бьёт в лицо, волны кудрявятся из-под бока лодки совсем рядом, только руку протяни; если обернуться – видно широкое, сизое от загара лицо капитана. Надолго останавливаемся у ликийских гробниц. В лодке все встают в полный рост и, прижавшись к поручням, долго смотрят на вырезанные скалах акрополи. Они так гармонично, так мягко вписываются в эти горы, будто проступают из скал цвета мокрого песка, как из параллельного мира. Среди густой тёмной зелени вдруг – арки, колонны, пилястры, чудная лепнина. Говорят горы: мы всё это ещё до вас придумали.
Мы всё это придумали до вас.
Мы едем туда, где на узкой, пропалённой солнцем косе Дальян сливается с двумя морями: Эгейским и Средиземным. Коса оставляет нам усталость от солнца, сладкую немочь с привкусом соли на языке, гул громадной пенистой волны, в воде которой светится солнце и которая тут же окунает тебя в царство грохота, тишины, жгучей соли и собственного задыхающегося, отфыркивающегося смеха. Лицо горит от соли, нос, рот, горло – всё полыхает, будто волны эти сделаны из васаби, но ты всё равно разбегаешься на носочках по невидимому песчаному дну и бросаешься волне в объятия, а она тебя хватает за талию и подбрасывает вверх, так, что ты зависаешь над дном.
И ставит обратно.
Выйти на берег – трудно, волны не дают, балуются, тащат назад или вовсе сбивают с ног, катают по песку, как котёнка, куда, мол, побежала?
Песок мелок и обжигающе горяч. Ослепительная широта пляжа; позади – река цвета изумруда и заросшие зеленью горы, но впереди – только море, открытое, широкое, длинное, так, что концов пляжа не видно, как ни прикладывай козырьком руку ко лбу. И волны. Ветер гуляет вольно, и волны ему вторят, грохочут, взвизгивают, приподнимаются над песком и всей своей массой бросаются на него.
Я вдруг встаю на локти и, толчком подняв тело, вытягиваю ноги вверх. Равновесие – тоненькая ниточка, и я вытягиваюсь ровнёхонько вдоль неё, ровнёхонько в небо. Песок не на шутку жжёт мне кожу на лбу и руках, но это мгновение счастья и равновесия я полностью дарю себе.
В плечах и кистях у меня тянущее усталое чувство, будто долго держала что-то тяжёлое на руках, а в голове – тёплая, как в ванной, светлая вода, ощущение пустоты внизу.
И мой маленький победный круг, совсем черепаший.
Он улыбался
Этот город меня беспокоил.
Может быть, потому, что беспокойство теперь – часть меня, неотъемлемая и мятежная, а может просто пастельное небо его, распластанное, расстеленное, прямо в глаза мне лилось. Помню, как я зашла в номер и раздвинула шторы. В номере пахло затхлым воздухом и средствами для чистки обуви, а я раздвинула шторы и раскрыла окна. Сделалось сразу холодно, побежали мурашки по плечам и ниже, к животу, и я стояла в обуви на ковре. Город был похож на ёлочную игрушку: хрустальный и серебрился. Из окна было видно дорогу, метромост, какие-то дышащие паром трубы и небо. Розовое небо. Шесть утра.
Здравствуй, Нижний, сказала я.
Поэта я увидела в холле и сразу поняла, что сейчас куда-нибудь с ним уеду. Я ощущала снаружи присутствие города. Он ждал. Поэт не стал спрашивать лишнего – впрочем, я не ждала от него вопросов. Мы запутались в приложении Юбера и искали такси у входа в отель. Я была в расстёгнутой шубе, без шапки, волосы лезли в лицо и от холода немел лоб. По лицу таксиста ритмично ходили огни. Поэт что-то расспрашивал; я сползла вниз на переднем сиденье и стылым взглядом смотрела, как по холмам ходят трамваи. Аквариумы. Внутри у меня был ледоход. Льдины ходили ходуном, трескались и до крови резали грудь изнутри.
Канатная дорога шла вникуда. Сплошной туман и темнота. Молочное холодное нечто. Я протирала варежкой окно, залепленное мокрым снегом снаружи, считала вышки и пыталась ощутить высоту телом, закрывая глаза. Представляла, сколько метров до земли, если протянуть нить от моего сердца до волжского дна.
«Город Бор». Я сказала поэту, что в таком городе жила бы. В уличной библиотеке дверцы были скреплены проволокой. Достоевский, прочитал поэт, вынимая книги. Я забрала том и так и не вернула. На обратном пути кабинку качало, мы гадали на «Бесах» и пытались фотографировать. Я замёрзла и улыбалась – окостенело и настырно.
Посередине Волги мы зависли минут на десять, и я хорошо поняла её посыл. Мысленно поздоровалась. Кабинка тронулась с места.
Автобус битком. Я держала книги на коленях и смотрела, как поэт разговаривает по телефону. Мы везде опоздали, мы пропустили ужин, и это было неплохо. На Чкаловской лестнице я остановилась и протянула руки в туман. Так тянут дети, когда боятся сами сделать шаг.
Я верила Нижнему. Он светил. Он поймал бы.
В какой-то подворотне на Покровке – чуть правее записи про суку и театральный – я замерзшими руками написала цитату из Экзюпери – это всё, что я могла подарить.
Это должен сделать я. Больше некому любить людей.
Я любила. Очень отчаянно. Жалобно. Тогда, на Покровке, я много думала о том соловье, наколовшемся на шип. Соловей пел.
Соловей умирал и очень красиво пел.
На экскурсиях были мы вдвоём: я и Нижний. Я не снимала наушников и чувствовала себя стеклянной. Позволяла его солнцу играть на моих потресканных гранях.
В последнюю ночь я вышла поклониться Волге. Она дышала и была страшного чёрного цвета; ноги скользили по непротоптанному снегу на ступенях. К ней почти никто не ходил. Мы стояли и смотрели друг на друга. Я всё плакала и о чём-то её просила; Волга дышала и молчала, и вымораживала мне душу своей стынью, а я не застёгивала шубы, потому что заслуживала наказания за слабость. Она, кажется, была зла на меня, а я всё жмурила глаза и мысленно целовала ей руки.
Я ничего не добилась и ушла перебегать дорогу на красный свет.
Потом я всё стояла на сцене, прижимала руки в груди и светилась, как стоваттная лампочка, но в груди у меня сидела эта иссиня-чёрная волжская стынь, это её строгое, иконописное лицо, не подавшее мне надежды, и это небо, утреннее, пастельно-розовое, матовое.
Ночью моя соседка играла на гитаре, а я – на губной гармошке. Я закрыла глаза, голова кружилась с непривычки, окно было открыто, и мы знали, что нас слышно в коридоре, но всё равно играли.
Утром, выскальзывая из номера на вокзал, через оконное стекло я в последний раз глянула Нижнему в лицо.
Над купеческими домами солнце вставало горячей медной монеткой, клубился пышный белый пар, город был по-русски стар и по-русски добр.
Он прижал мою голову к груди.
Он улыбался.
Бермудский доллар
– Дашка, засыпаешь? Дать тебе погрызть кофейного зёрнышка?
Кофейное зернышко на вкус как кофейное зёрнышко, но я с нетрезвой послушностью жую его, потому что это «лучший кофе в Колумбии, и значит, лучший кофе в мире». До этого я ела байкальского омуля. Настоящего байкальского омуля, чтобы вы понимали; Сеал разворачивает промасленную бумагу и делит рыбу между мной и Сашкой красивыми загорелыми пальцами.
– Омуль – эндемик Байкала, так вот эту рыбину везли отсюда самолётом из Иркутска. Не поверил бы, если б сам не покупал.
В большой квартире на тридцать седьмом этаже просторно, наверное, потому, что через огромные окна видно всю Москву. Проходя мимо, поневоле останавливаешься и заглядываешься на чистый цвет зелёной листвы, туманный серый – многоэтажек, геометричный узор которых можно увидеть только отсюда, с высоты, кристальный голубой – августовского неба. На закате полоса между небом и землёй пылающе алая, рваная, будто с той стороны неба просочилась эта режущая глаз небесная краска.
Ночью часто выходим покурить. Точнее, курит только Лерка, остальные ставят бокалы на карниз, вдыхают воздух стопятидесятиметровой высоты и чувствуют, как шоколад тает на языке. Огни у Москвы горячие, иссиня-рыжие, в ней вечно что-то движется, полыхает, пульсирует, так, что даже программа распознавания звёздного неба путается, стесняется, мол, может, не здесь это всё, не на этом небе-то…
Москва. Я смотрю на огни и думаю об этом слове. Какое оно. Москва. Моск. Ва. Сколько в нём самобытности, сколько русскости, сколько багрового цвета. Как в Нов-го-ро-де, Из-бор-ске, По-лоц-ке. Стою на балконе, чувствую запах леркиных сигарет, разносящийся над горящим спящим городом, и осознаю влюблённость в город. Моск-ва.
У нас настоящий афганский ужин: едим руками плотное, душистое мясо, хумус и морковь, рвём руками тёплый податливый лаваш. Слежу за движениями Сеала и повторяю; слушаю его рассказы, всё время кося глазами в его сторону, будто так точно ни одного слова не пройдёт мимо.
Наверное, больше всего я благодарна вселенной за людей вокруг меня.
– Это настоящий персидский ковёр. Нам его оставили две иранки. Просто уехали и не забрали с собой.
Сашка, как настоящая хозяйка, незаметной, тихой тенью вспархивает со стула и убирает салфетки, тарелки, чашки, а мы смеёмся и кидаемся друг в друга какой-то едой. А позади Москва полыхает своим закатом в безразмерном окне.
Глубже ночью серьёзнеем и много говорим об ООН. Я пытаюсь стряхнуть сон и хмель и чувствую, как загораюсь в груди, как быстро, убеждённо, горячо начинаю говорить. Так, наверное, и узнаётся своя дорога.
Перед сном даю Сеалу сто шведских крон и получаю приднестровский рубль взамен.
– А это самая красивая валюта в мире – доллар Бермудских островов. Я выменял его у чувака, с которым стоял в пробке в Эквадоре.
Я улыбаюсь. На бережно разглаженной купюре красивая полногрудая птица с бархатной красной манишкой.
Розе и море
Мы, слушали, как грохочут в стены волны, пили вино и взахлёб обменивались Парижем.
Каждая – своим.
Розе такое прохладное, чуть меньше бокала, как раз столько, чтобы не спьяниться окончательно, но окунуть голову в эту веселую ватную мягкость хорошо. Она позволяет увидеть вдруг так точно и ярко, как красив и прост маленький букет ромашек на вашем столе, как отколот угол у мраморного стола столешницы. Какая красивая Сашка; как она стремительна, даже сидя на стуле, как без конца играют её худые пальцы, как она неосознанно трогает маленькие серебряные колечк на хрящике уха. В глазах у неё воспламенено, но давно, ещё, наверное, родилась она такая, с большими, прозрачными, голубыми пламенеющими глазами. В этих глазах твёрдость и не решимость даже, а простое, обыденное знание, что она всё сделает и всё завоюет так, так посчитает правильным в момент завоевания.
А потом – комната с морем, волны, с размаху, страшно, весело бьющие в двери, за которыми видно только свет и можно только догадываться, что там; свежий воздух, гуляющий между каменных стен, полумрак и лампа, маленькая старая лампа. Деревянные доски длинного стола, маленькие старые табуретки, на которые хочется сесть с ногами, обняв коленки, и слушать волны, и иногда пугаться, потому что с закрытыми глазами кажется иногда, что они сейчас и правда тебя накроют.
А снаружи жара, Москва, сигналит дорога и меняют цвета светофоры, но вы мысленно в Париже, и в ООН, и хватаетесь за трепещущие руки друг друга, чтобы почувствовать этот светлый ток, это радостное напряжение молодости, горения, брызг, исходящих от каждого взгляда возбужденных глаз.
Я повязываю на руку искусственную зелёную лозу, и она так органично и естественно смотрится на моём запястье рядом с сапфиром цвета моря ночью.
Потом мы попадаем под дождь; не то чтобы попадаем, просто совершаем осознанный выбор идти под дождём, потому что промокнуть сейчас, после этой комнаты с морем, после игристого вкуса розе на языке, после духоты нижнего зала – лучшее, что только можно придумать, и вселенная даёт нам это. И мы то идём, то прячемся где-то, и в метро заходим мокрыми и страшно радостными, будто заново пережили всё то, чем так хотелось поделиться друг с другом. Я сую Сашке конфету, которые парой часов раньше дала мне Анюта, ем сама и ещё одну кладу ей в сумку – на дорогу.
Анюта, если ты это читаешь – это человек, самый достойный твоих конфет.
В предрассветной тишине слышно, как гудит моя голова.
Этот гул можно нарисовать и, кажется, даже потрогать – чёрно-белый рой телевизора, потерявшего связь с космосом. Внутричерепная смута. Воздух в комнате серо-голубого цвета, чашка с подтёком какао на столе в нём приобретает характер арт-объекта, а я сижу на краю кровати, профиль на фоне располовиненного окна, и артикулирую губами "Шведскую музыку". В театре теней задействованы аквариум и листья драцены. Рыбы спят. Рыбы не знают волнений в голове.
"Когда снег заметает море, и скрип сосны
Оставляет в воздухе след глубже, чем санный полоз…"
Шевелятся только стрелка часов да моё четырёхкамерное сердце. Невпопад. У меня вспотела спина между лопаток и сильно смята подушка, а в неживых стёклах дома напротив вот-вот отразится солнце – оно сейчас встаёт ровнёхонько за моим затылком.
"До какой синевы могут дойти глаза?
До какой тишины может упасть безучастный голос?"
Я на солнце обижена, потому что его давно нет, а шум в моей голове как плесень, без солнца разползается и увеличивает громкость.
За что ты, Вселенная, наградила меня беспокойной головой?
"Так моллюск фосфорецирует на океанском дне,
Так молчанье в себя вбирает всю скорость звука…"
Светает настолько, что я вижу фаланги своих пальцев на синей простыне.
Кто-нибудь, вызовите антеннщика. У меня в голове белый шум.
Пустое белое поле. Туман. Прохладно. Колосья щекочут ноги. Земля мягкая, будто дождь прошёл вчера. Иногда чувствуется, как в тумане пролетают птицы, какие-то небольшие темнокрылые птицы, совсем рядом, крыльями у лица, будто тебя и нет вовсе. А тебя, наверное, и нет. Тебя ведут. Осторожно, не за руку, а как будто бы за невидимую уздечку, и ты не видишь в тумане, кто это, но доверяешь безоговорочно, с радостью, как окунаются в тёплую воду в реке, которую с детства знают. Ты ещё помнишь, что было; воспоминания иногда пролетают мимо тоже, что те птицы, проступают из тумана, ты протягиваешь руки, чтобы до них дотронуться, но они тают, и раздаётся смех. Как маленький колокольчик. Ласковый, сочувствующий смех. Мол, понимаю, я всё понимаю, погрусти немного, сейчас можно, пока тебя ещё ведут. Погрусти, пошевели пальцами в тумане там, где только что был образ, как настоящий. Славно было, правда? Помнишь? Помнишь, конечно. Сохрани и запомни. Сконцентрируй, заключи под замочек в самую свою глубь: безопасно и насовсем. Скажи «спасибо». Повторяй: спа, си… Вслух. Туман поглотит слова, и будет почти не слышно, но ты почувствуешь их на губах.
Спа-си-бо.
А потом просто иди и размышляй о том, как туман облаком висит над склонёнными цветочными головками. Чувствуй землю ногами. Потихонечку расслабляй в теле каждую мышцу и не вглядывайся вперёд лишний раз: всё равно не увидишь, пока не подойдёшь достаточно близко.
Время придёт. Туман рассеется. Отстегнётся невидимый повод. И будто рука чья-то проведёт по щеке на прощание.
Пришли. Беги.
Следующая станция – Кунцево
Переступая порог, расслабляешься, как цветок, внесённый с мороза в тепло. Греешься по очереди в десятке разных объятий, бросаешь сумку куда-нибудь наверх и напоследок, смакуя момент, суёшь в её дальний карман телефон. На обратном пути получаешь бокал в не успевшие отогреться пальцы, и время останавливается. Сначала в духовке ещё румянится мясо, ещё кружат вокруг стола, ещё считают тарелки, ещё остукивают у порога ноги, но потом все сбиваются рядом, и только обдаёт холодом, когда кто-то выходит на веранду курить.
Какие-то танцы, крики, смех, что-то неприличное, чьи-то одухотворённые тосты. Сначала сидеть в пледе, чинно, спокойно, ласково смотреть вокруг, чувствовать пальцами хрупкость округлого бока бокала с вином. Потом, позже, обнаружить себя где-то в другом месте, пить, жмурясь, то, что суют в руки. Виски, водка, клубничное варенье, солёные огурцы. Помню, как пела, распахнув руки в стороны, на веранде, в одной расстёгнутой шубе без шапки и шарфа, помню свой голос, в полную силу вибрирующий в горле. Помню, как, пропитанная хмельной нежностью, вытирала красные глаза, будто нежность эта выливалась слезами, и, обнимая Давида, тихонько говорила спасибо за тост.
Гордился бы ребёнок, которым вы были, взрослым, которым вы стали?
Проникаться созерцательной, глубокой любовью, и тут же, смеясь, посылать по всем известным адресам, швыряться конфетами, позволять себе быть пьяной, устраиваться на чьём-то плече, оказавшемся соседним, закрывать глаза и чувствовать, как по кругу едет голова, тянуться к банке за огурцом, ласково говорить фррр, подпевать под Газманова и ДДТ. Спорить о религии. Уходить спать и возвращаться.
А снаружи сосны стоят так же благосклонно и молчаливо, прямые и сильные. Когда предлагают выпить за дом, все соглашаются, что это самый правильный тост.
Утром – запах свежего дерева в светлой комнате второго этажа, маленькая зелень в горшках на аккуратном подоконнике, за окном всё мягко укутано белым и молчит. Спускаться в захолодевший разгром гостиной и по очереди нюхать содержимое бокалов в поисках чего-нибудь безалкогольного. Осторожно, тишась, искать сахар по кухонным шкафчикам, мешать растворимый кофе ложкой и, завернувшись в шарф, выходить в снег. Утренняя снежная белизна, слепящая сонные глаза, холодная веранда, по которой не ступишь босой ногой. Замёрзшие окурки в переполненной пепельнице.
Жарим с Алёнкой оладушки в четыре руки на двух сковородках, путаемся, смеёмся. От ароматной бежевой горки идёт душистый пар. Кто-то спешно убирает со стола, кто-то тянет к оладушкам пальцы и получает по рукам, кто-то просит чаю, кто-то возвращается из магазина с шуршащим белым пакетом и шумно раздевается в прихожей. Потом все собираются за столом, чинно едят оладушки, передают друг другу сметану и давят сгущёнку из пакетика. Горячая чашка греет пальцы. В голове мутновато и тихо.
Позже, к вечеру, в небе над электричкой проплывут высокие серые эстакады, и маленькая пожилая проводница с непомерным значком на груди спросит билет. За окном куда-то денутся сосны и вдруг вырастут серые и какие-то несуразные московские многоэтажки.
Следующая станция – Кунцево.
Дон разольётся не для меня
За ужином мама второй раз за неделю ставит на стол вино.
Пью не отнекиваясь, большими глотками, что на меня не похоже. Домашнее вино сладкое-пресладкое, слегка вяжет на языке, пахнет земляникой и виноградом. Оно не креплёное, но крепко; взгляд размягчается, вдох глубоко проходит через лёгкие, мама по старшинству разливает ещё. Бабушка с гордостью рассказывает, что такому вину научилась у дедушки, и смакует из бокала, я снова молча пью.
Хочется закурить прямо здесь. Можно всю жизнь с презрением относиться к курильщикам, пока не встретишься с той самой сигаретой, от которой тебе станет будто бы легче.
В последнее время я всё будто собираюсь в дальнюю дорогу. Снимаю со стен мандалы и картины, скатываю ковёр в жёсткую пыльную трубку, массово что-то выкидываю в больших целлофановых пакетах. Сегодня перекрасила из баллончика торшер. До него – колонки, органайзер для ручек, пару свеч, какие-то подставки. В прошлую пятницу переставила стол и диван местами. Мама пришла с работы в разгар перестановки и, стоя посреди будто бросившихся в пляс предметов мебели, сказала мне тихо, сдвинув брови домиком, и глаза у неё светились голубой болью:
«От себя не убежишь!..»
Я рассердилась и выгнала её, а потом плакала среди пыли и завалившихся за диван ватных палочек.
Я бегу. Бегу в библиотеку на Чистых; здороваюсь с портретом Фёдора Михайловича, выискиваю глазами место за столом, открываю ноутбук. Бегу из университета домой и из дома в университет. Бегу в супермаркет за новыми баллончиками с краской.
Я пью воду, ем овощи, делаю растяжку, медитирую, ложусь вовремя, не пропускаю пары, выключаю технику за час до сна и на час после, пью чай, принимаю витамины, учу слова, готовлюсь к экзаменам, соблюдаю режим, пью кефир (стакан перед сном), пью льняное масло (по ложке с утра) и делаю ещё очень много вещей, которыми мне стоило бы гордиться.
Но только мама снова ставит на стол домашнее вино, а я снова молча его пью, и потом тихо, уткнувшись лбом в ладони, тяну о том, что Дон разольётся не для меня.
Тяну и знаю: однажды я всё-таки увижу над ним рассвет.
Тула1 – Курская
Во мне живёт большая нежность. Нежность налита мне в рёбра и плещется там – тихо, ненавязчиво, ласково. Мы с нежностью живём в полной гармонии. Она мне по утрам растягивает губы в улыбку и подсвечивает глаза изнутри, так что они вроде блестят как-то по-особенному. От этого блеска мне краски, голоса и лица кажутся мягче. От этого блеска мне всегда печально и светло.
Мы с нежностью едем в Тулу. Электричка с зелёными креслами катится по гладким рельсам в зелёном лесном туннеле, и кажется, что она сейчас свернёт куда-нибудь между деревьев, и никто из пассажиров не будет против. За окном берёзки строятся, как перед танцем; того и гляди, начнут переговариваться и одёргивать друг другу платья. Утро в лесу пронзительно солнечное – пар и туман.
Солнце на травяной обивке моего подголовника отпечатывает горячее жёлтое пятно.
Над Царицыно мечутся маленькие острокрылые стрижи; я знаю их голоса, высокие, резкие, их сейчас не слышно за стуком колёс. Стрижи перегоняют электричку, несутся над её чешуйчатой крышей, между проводов, и, заскучав, делают крутые обратные круги. Над мостом – геометрия свай и опор – электричку качает, дробный звук сыпется в уши, Ока-река распахивается блестящей масляной лентой, укутанной в зелень. Река будто бы не движется и скатывается куда-то за горизонт; на горизонте стоят многоэтажные дома, отсюда маленькие, как спичечные коробки.
Мы уже в другом царстве и не увидимся до понедельника.
Чтобы родиться, нужно умереть окончательно. Я с лихорадочностью утопающего искала ногами дно – оттолкнуться, дно всё время будто сдвигалось вглубь, и за полгребка до отчаяния я оказалась вдруг на траве; светит солнце, и мир тут, оказывается, жил, пока я немо мычала в подводье. Ступням щекотно, я продрогла, вымокла и вода стекает по лицу, но этим утром я накрасила ногти красным.
Лес взбирается на холмы, и это напоминает мне Север; становится почти физически больно. Вы согласились бы смотреть на любимую картину, держась рукой за оголённые провода?
Я смотрю. Смотрю, не отрываясь.
В Турции государственный переворот, а у нас люди купаются в реках и по мостам над ними ходят зелёные электрички, и маковки у голубых церквей золотятся на июльском солнце. Какого счастья вам ещё надо?
Не смотри ты по сторонам, поёт мне Юля, а я смотрю и улыбаюсь.
Смотрите, смотрите по сторонам.
Особенно, если в сердце.
Муми-тролли не просыпаются среди зимы.
Зимой муми-тролли спят, наевшись еловой хвои, муми-тролли лежат в своих кроватях, укутавшись, положив под головы лапы, пока дом их заносит снегом, которого они никогда не увидят. Зима – не их время. Зимой им снятся сны о весне и лете, зимой в их гостиной не тикают остановившиеся часы.
Проснуться среди зимы для муми-тролля – дело страшное.
Дело страшное – ты вроде бы там и не там. Гостиная дышит твоим собственным запахом, но окна замело, и в сером свете кресла кажутся чужими. На камине всё так же стоят статуэтки, но сам он чернеет пустым провалом. Обои в сероте на два тона потемнели, стены сдвинулись ближе друг к другу, пол скрипит и скрип гулко раздаётся в тишине. Ведь это же мой дом, говоришь себе ты, но мысли тоже в тишине слышно, и ты как будто в гостях, и себя не уговорить. Ты садишься на холодный ковёр и, зажав пальцами ворс и закрыв глаза, представляешь, как ходил по нему раньше.
Это тот же самый ковёр, но как раньше уже не получается.
Зима. Ты на ощупь ищешь в сероте плед и накрываешь плечи, но плед давит на них, как саван. Ты поднимаешься и ищешь рукой выключатель. Свет, говоришь. Сейчас свет включу – от света всегда становится лучше, от света всегда становится теплее, от света все проснутся, и заговорят, и заскрипят половицы, и лица замелькают, и не будет так тихо. Выключатель щёлкает глухо, как пистолетный выстрел, под потолком вспыхивает лампа, свет бьёт в глаза, и ты прикрываешь их рукой. Свет режет глазные яблоки, сквозь пальцы ты видишь, как неприятно очерчивается острый угол стола. Щёлчок. Выстрел. Серота.
В маминой спальне пахнет пылью и её духами. Ты видишь под одеялом свернувшийся мамин силуэт, видишь, как по белесой подушке раскидались волосы, хочешь тронуть её за плечо и в последний момент отдёргиваешь руку. Вдруг мама тоже не та.
Если мама не та, то всё пропало.
Ты идёшь на кухню, привычно делая шире шаг там, где пол скрипит – в тишине скрип разрастается в треск и мечется между стенами. Волочится по полу плед. На кухне всё тоже плавает в сероте, и в окно ничего не видно. Ты трогаешь пальцами холодный бок чайника, ощупываешь крышку у сахарницы и проводишь ладонью по столу. На ладони остаются крошки. Чайник должен быть горячим, кипеть, ошпаривать, сахарница просто обязана позвякивать крышкой, когда её берёшь в руки, но сейчас всё молчит, будто законсервированное в тишине.
Ты стоишь посередине кухни и холодеешь. Промерзаешь, начиная с босых ступней. Дерёт горло и язык немеет во рту. Эй, говоришь ты мысленно. И жалобно добавляешь:
Но зима тебе никогда не ответит. Ты закрываешь глаза, туго сжимаешь веки, не замечая, как вместе с веками сжимаются кулаки, потом открываешь резко – ну? Серота плавает в воздухе, в сероте замерли занавески.
Ты расслабляешь побелевшие пальцы.
Потом много чего пробуешь. Включаешь музыку, но она только неприятно ударяет по стенам. Кричишь «Алло» в телефонную трубку, но голос отвечает чужой. Это же родной голос, думаешь ты, он же всегда был родной, только сердце твоё продолжает равнодушно толкаться в грудную клетку, и ты кладёшь трубку мимо телефонного аппарата, впервые задумываясь о том, что сердце – кусок мяса в крови.
Холодный кусок.
Ты сбрасываешь на пол альбомы и, дыша на руки, листаешь фотографии. С них на тебя смотрит собственное улыбающееся лицо. Это же я, изумляешься ты. Я там был, я там стоял, я сжимал вот эту руку, тёплую, родную, живот у меня от смеха болел в районе диафрагмы,
э-то-был-я!
Но «я» теперь двое. И последний из них сидит на холодном полу, молча уставившись в сероту.
Если положить ладонь на горящую конфорку, рука только промерзает сильнее. От запаха собственных духов начинает подташнивать. В кровати одеяло не греет, на экране какие-то смутно знакомые фигуры говорят что-то несмешное. В книгах зачем-то подчёркнуты совершенно поглупевшие буквы.
Ты часами сидишь на полу, закрыв глаза, потому что даже темнота лучше полузнакомой сероты.
Ты веришь, что это когда-нибудь закончится, что весна будет, и только потому ещё сидишь.
Муми-тролли не просыпаются среди зимы.
Проснуться среди зимы для муми-тролля – дело страшное.
Нарисованный лист
В середине прыжка не подводят итогов.
Прыжок длится долго, чувствуется, что тело потеряло точку опоры и мучительно тянется вперёд в поисках новой; её очертания уже видно отчётливо, но и старые плиты, на которых ты вот только стоял, ещё, вроде, не потеряли надёжный вид. Здесь, в воздухе, неуютно и в то же время пахнет какой-то надеждой; тело уже привыкло, что любая перемена несёт за собой сперва мучительное перерождение, и группируется в ожидании удара или какой ещё внезапной боли.
Но в конечном итоге всегда то самое «лучше, чем было раньше», и это – единственная оставшаяся истина из непреложных.
Тело ждёт приземления. Пока ждёт, тело сидит за новогодним столом, обняв колени, и смотрит, как мама танцует с котом возле ёлки. Кот совсем маленький, рыжий, лысый, смотрит вокруг растерянными, расширенными глазами цвета морской волны, оттопырив в разные стороны неумелые широкие лапы. Мама смеётся и в танце касается носом его носа.
В доме кот. Каждое утро я захожу в кухню и вижу, как рыжий засранец вылизывает голову спящей бабушке, а потом топает ко мне прямо по её лицу. Держу его левой рукой, как ребёнка, а правой ставлю на плиту чайник и достаю кофе. Кот вытягивает любопытную морду на лысой куриной шее и получает по носу за то, что суёт его в банку. Не обижается: усы ещё не доросли обижаться. Если смотреть на него прямо, видно, что лапы непропорционально длинные и колесом, оттого похож на морячка с рассеянным детским взглядом.
Потом мы с ним молча пьём кофе. Я сворачиваюсь в кресле, укрыв ноги полами халата, и смотрю на лес за окном. В комнате зябко, постель не убиралась больше месяца, на столе какие-то бумажки и из аромалампы тянет сладким запахом грейпфрута. На ощупь всё холодное и неживое, и потому маленький рыжий кот с кривыми лапами смотрится как жирный масляный мазок на белом листе.
Я слизываю кровь с тыльной стороны ладони, которую он обцарапал, и включаю ноутбук.
Кот воспитывается в спартанском духе. Я закрываю дверцы шкафа, как только там исчезает его не в меру любознательная задница, и ехидно слушаю растерянное мявканье; не даю ему залезать на колени, когда ем; шлёпаю по вымазанной в земле морде, если лезет в только что политые горшки; но местами, минутами, какими-то судорожными мгновениями я прижимаю его, тёплого, к груди так крепко, как только можно, чтобы не поломать, и тихо, быстро шепчу что-то бессвязное, горячее, искреннее, потому что тогда мне кажется, что этот рыжий котёнок для меня как тот нарисованный лист из рассказа О'Генри.
Кот замирает со мной на две десятых секунды, а потом осторожно щупает лапами мои щёки, и я понимаю, что он ничего не понял.
В зрачках у него отражается моя комната и уголочек неумытого лица.
Казань – слово синее
Ранее декабрьское утро пахнет горячим шерстяным шарфом, нагретым паром из твоего рта. Влажное, парное, оно пробирается к затылку между шапкой и воротником, в неплотно прилегающие рукава. Машины исходят испариной, тыкаются друг в друга в хлюпающей снежной каше, пролезают под рыжие рукава шлагбаумов. Небо будто затянуто невзрачной серой шерстью, и оттого кажется, что на всех вас сверху накинули одеяло.
Казань для меня – слово синее. Синее, как купола мечети Кул-Шариф.
Синими стёклами бликует сонное Домодедово. Эр-Рияд. Тбилиси. Петрозаводск. Аэропорт – тугой узелок, пульсирующая точка, в которой сходятся маршрутные нити, опутывающие земной шарик, как ёлочную игрушку. Перемигиваясь, самолёты опускаются в серый, тёплый московский пар; встают шасси на влажный чёрный асфальт взлётной полосы.
Снежинки падают на него и тут же тают.
В полупустом, захолодалом самолёте с серыми креслами заворачиваюсь в шаль и пью кофе из термоса. Кажется, ребята в зоне личного досмотра с пониманием отнеслись к тому, что ранним декабрьским утром мне захочется горячего. В холщовой сумке у меня жёлтые яблоки и пирожки в полиэтиленовой упаковке. Лучи пропитывают насквозь красный гранат на браслете, и становится видно, что внутри тёмный камень исходит цветом, как вишнёвым соком, и весь в крепких жилках.
Я закрываю глаза и, смакуя жжёный растворимый кофе на языке, надеюсь за три дня намёрзнуться, набегаться, надышаться Волгой и отдохнуть. Правда, на два дня впереди я, заплаканная, задохнувшаяся, уже несусь по заснеженному скверу вызывать такси до отеля и кусаю красные от холода пальцы. Усталость не вымоется Казанью; усталость – как ржавчина, она впитывается в кости, оставляет неприятные грязно-рыжие пятна и бесконечную, выматывающую досаду. Но я этого ещё не знаю. Я расстёгиваю ремень безопасности и клубком сворачиваюсь к кресле.
Долго пробираемся сквозь пышно взбитые облака, пока наконец не выныриваем под самое солнце. Фотографирую, как мама тянется лицом к иллюминатору; облака лежат сплошным бугристым полотном, похожим на белый войлок. Солнце ведь, оказывается, всё время есть, искренне удивляется мама. И добавляет:
просто иногда его не видно за облаками.
Авиабилет до Казани
Обивка красного кресла на ощупь похожа на плюш. В кафе тихо, пусто и очень приятный, мягкий свет, так что глаза сразу расслабляются и хочется положить голову на что-нибудь мягкое. Смотрю, как южный садится напротив и, ослабив галстук и закатав рукава, заказывает курицу карри. Волосы у него все в крупных каплях растаявшего снега. Снаружи – настоящая метель, и за стеклянными дверьми видно, как люди, полусогнувшись, пробираются навстречу ветру и будто кланяются пришедшей зиме. Первое декабря. Хочется затихнуть и смотреть. На пушкинской площади уже вовсю играется светом новогодняя иллюминация, входя в метро, приходится стряхивать шапкой снег с плеч и рук (своих и тех, что только что открывали тебе дверь), в Старбаксе появился имбирно-пряничный латте – как всегда, слишком сладкий, но такой, какой должен быть.
Беру себе чай по-парижски просто из-за названия. Решение приостановить занятия французским до магистратуры даётся непросто, со стоном, но я уже давно должна была привыкнуть к тому, что иногда расставлять по порядку приоритеты не проще, чем полутонные камни ставить в ряд. За моей спиной – 66 участников чата с ласковым названием «фиксики», и до двадцатого апреля будущего года они – первые во всех моих таблицах и списках.
Я уже много раз призналась себе: я никогда бы не сделала этого только из-за какой-то конференции.
Я перестраиваюсь. По утрам подолгу смотрю на своё отражение, задумчиво, исподлобья, как на незнакомца, надеваю серьги и снимаю серьги, заправляю свитер, чтобы потом снять его вообще, приподнимаюсь на цыпочки, смотрю, опускаюсь, смотрю, достаю из ящика тени, смотрю, кладу обратно, закрываю руками лицо. Стою. Дышу. Ощущение, как если бы внутри, под кожей, моё нутро ворочалось, хныкало, маялось, как в тугом и не по фигуре сшитом платье.
Я готова выучиться шипеть по-змеиному, только чтобы выяснить хорошенько, как это у них получается: сбросила и пошла дальше.
На станции «Охотный ряд» выскакиваю из поезда и обнимаю Аню. Аня приносит мне два плотных зелёных авокадо, брошку в форме дубовой веточки, маленького муми-тролля и пачку бельгийских вафель: «потому что я знаю, что ты всегда голодаешь». Затопляю нежностью грохочущий вестибюль и, убежав, возвращаюсь обратно, чтобы обнять Аню ещё сильнее.
Субботним утром открываю окно, и, проморозив в полном хаосе застывшую комнату, покупаю билеты до Казани. Моё собственное расписание меня четвертует, но послезавтра я просто сяду в самолёт и полечу в Казань. Может быть, там, где в людях течёт наполовину такая же кровь, как во мне, я найду себе новую кожу.
Сейчас ведь, кстати, самое начало новогодних распродаж.
Пора менять лошадей
Это очень холодная, просторная, свежая осень. Прошлым вечером я уснула на ковре возле мамы – не раздевшись, подтянув коленки под грудь и уткнувшись лбом в её пижаму, пока мама, потирая ребром пальца морщинку между бровей, разбирала белые листы с муравьиными цепочками цифр.
По утрам трава покрывается инеем, будто опрысканная белым, изо рта при дыхании идёт пар и небо похоже на переливающееся стекло.
В тетради пишу ручкой, купленной на краснодарском железнодорожном вокзале. Вспоминаю поздний южный вечер и запах Анькиных духов, её худую фигуру на заднем сиденье микроавтобуса и то, как, уходя, я вернулась и судорожно обняла её ещё раз в темноте.
Ближе к полудню коридоры в университете залиты бледно-лимонным, прохладным светом, и фигура южного в чёрной футболке тоже светится; красивое, уверенное спокойствие.
Время больших перемен. Вселенная толкает под лопатки. Пора менять лошадей.
Я привыкла жить по графику, вставать затемно и ложиться затемно, износила клетчатую юбку и не один форменный пиджак, научилась записывать, научилась списывать, научилась учить, складывать грамоты в папку, хранить документы отдельно, собирать с вечера сумку; я была никем, была ботаном, была двоечницей, была заводилой, была с косичками; не пропаду в Лондоне, с грехом пополам закажу себе кофе в Париже, а в Стокгольме и вовсе обсужу с местными что-нибудь посерьёзнее; в моём лексиконе воспитатели сменились учителями, а те незаметно переросли в преподавателей и профессоров; я свыклась с мыслью жить от сессии до сессии, от закрытия четверти до закрытия четверти – весело, трудно, порой совершенно бессмысленно, но совершенно привычно.
В какой-то момент все мы находим в шкафу свою школьную форму и удивляемся, какая она маленькая.
Мне, конечно, ещё учить и учить: subjonctif и conditionnel, устройство британского парламента, как готовить мясо в казане, контрольные цифры приёма и тридцать способов завоевать сердце свекрови, но большая пирамида приоритетов перевернулась на острый кончик правильного треугольника, и недовольный преподавательский взгляд вызывает у меня не стыд, но терпеливую, вежливую улыбку.
Время готовиться к жизни закончилось.
Пора менять лошадей.
Розмарин под водой
Если полностью задвинуть шторы цвета морской волны, кажется, что комната погружена под воду.
Я включаю звуки грозы, и вот оно, теперь полностью – вокруг меня вода, снизу, справа, слева и, самое главное, наверху – толща колышущейся, светлой воды цвета мяты и бирюзы. А здесь, внизу – персональное, безупречно тихое царство моей собственной, маленькой, подводной комнаты. Ливень шуршит совсем как настоящий и иногда раскатывается грозой. Прохладно и полусумрачно.
Я пью воду с лимоном и мятой, она кислит на языке, и ем большие солёные миндальные орехи. На столе много бумаги, блокноты, ручки и отключенный телефон. В голове у меня будто легонько встряхнули и ещё не встало на место; я сплю по два-три часа, не различая времени суток, с утра я, кажется, сдала экзамен с наивысшей оценкой, но сейчас я здесь – в моём тихом, личном подводном мире.
Я много пишу. Мусолю кончики голубых карандашей, загибаю у бумаги уголки, достаю акварель и глубоко окунаю кисть в зелёный. Делаю палеттку из бумаги и колдую с цветами. Бирюза. Молодая листва. Болотистый ил. В голове у меня совершенная, спокойная, доброжелательная пустота. Я медитировала почти час и у меня совсем отнялись ноги. Я знаю, что нужно просто подождать, и оно оправится и уйдёт, а потому пока рисую, слушаю дождь и сплю, завернувшись в синее одеяло, как эмбрион.
Я густо намазала волосы маслом, и теперь подушка моя пахнет розмарином.
На кухне мама тушит фасоль и цветную капусту.
Сегодня пятница.
Я мысленно говорю ей спасибо.
Апрельское утро. Свежо и зябко. Из такси выхожу, опираясь на знакомую руку. Помню яично-жёлтый цвет машины, синее небо и дверь подъезда. Весенний воздух как газированный. Меня накачали гелием. Я вишу над полом примерно в паре сантиметров, и при каждом повороте головы лестничная клетка делает плавный колышущийся круг. Неустойчивость заканчивается там, где начинается рука в моей руке, и я пожимаю её чуть-чуть, и чувствую, как в ответ мягко сжимаются пальцы.
Смешно. Смешно так, как если бы бабочки щекотали внутреннюю сторону локтя. Смешно, что никак не получается стащить в прихожей ботинки, смешно, что на колготках дорожка, смешно, что кто-то в подтяжках уехал в моём шарфе. Со смехом гелий вырывается изнутри пузырьками. Наверное, он тоже жёлтый – по крайней мере, в этот момент я в этом совершенно уверена.
Сижу на стуле очень прямо и хихикаю. Смотрю сначала на спину в рубашке небесного цвета – долго, потом на чай с лимонной долькой, потом на синий магнитик с жёлтым крестом. Округляю глаза, машу руками. Вокруг меня тоже смеются. Внимательно сощурясь, разглядываю краешек улыбки и дужку очков, смутно понимаю, что не слишком трезва, но это тоже почему-то очень забавная мысль.
Если закрыть глаза, можно живо представить, как под кожей распускаются почки. Они салатового цвета, маленькие, тугие и липкие.
Хочется дотронуться пальцами до плеча и изгиба подбородка. Чай горячий и кислый. Глаза скользят по незнакомой кухне, маленькая машинка катится по нарисованной на экране дорожке цвета шафрана, и я с наслаждением смакую мысль о том, что меня сейчас довезут домой, и мне совершенно, совершеннейше ничего не нужно для этого делать. Можно просто сидеть, греть руки о стеклянную чашку и бережно держать в груди свой жёлтый гелий.
Дома пахнет лаком для волос, по комнате разбросаны тональные кремы, тени и тушь для ресниц – комната залита утром; за окном между этажей недостроенной многоэтажки видно зелёные сосны и канареечное апрельское солнце.
Я тихонько прикрою дверь, сяду на разобранный диван и, закрыв лицо руками, буду долго улыбаться в ладони.
Гелий в крови и весна в рёбрах.
Сначала было очень тихо.
Собор тяжёл и невесом. Внутри бело и пахнет деревом от скамеек. Каждый шаг раздаётся в высоченном просторе, будто ты уведомляешь его о том, что пришёл, тем, что поставил на каменный пол подошву своего ботинка. Скамейка жёсткая, строгая, садишься с прямой спиной, складываешь руки на коленях, почтительно снимаешь шапку.
Они здесь. Взгляд периодически выхватывает из-за колонн блестящий эмалью деревянный бок, острую линию смычка, запястье, охваченное чёрной тканью рубашки. Кто-то стоит спиной и держит виолончель, будто за плечи.
Они здесь.
Их прихода ждёшь, как п р и б ы т и я, и они прибывают. Взрезают это чинное, мелом и деревом пахнущее пространство, взрезают, смеясь, звонкими лезвиями своих смычков. Пространство теряет свою вековую белую чопорность – и замолкает.
О, они теперь здесь – средоточие. Живая пульсирующая сердцевина.
Девушка с контрабасом. Строгое, аскетичное лицо. В массивное тело контрабаса она могла бы поместиться сама, коли захотела бы. Её вызвали, её п р и з в а л и, от неё ждут чего-то неведомого, как от духа – предсказания; она прижимает пальцами струны контрабаса и отсутствующе, почти снисходительно совершает свой ритуал. Не поднимая глаз на зал.
Дима размашистый. Широкий. Душа его расплёскивается. Он играет. Он не на скрипке играет, он играет в скрипку, в играет в музыку, играет в выступление в соборе Петра и Павла, играет самозабвенно и весело. Дима играет и улыбается, он знает, знает, что это х о р о ш о, и в этом осознании – лукавство и совсем маленькая, совсем крохотная искорка удовлетворения.
Нет никакой связи между инструментами и тем, что в зале играет музыка. Они не делают её, они её призывают, и Музыка пришла на зов, и теперь она здесь, с ними. Они не просто умеют играть на скрипке, прижимать к шее её округлый бок, на них всех – какая-то неведомая, невидимая печать, они Музыкой помазаны, они Музыкой избраны, она на их зов приходит, а такая музыка никогда не приходит просто так.
К ним пришла.
Живые тёмные фигуры, облечённые таинством. Озорные улыбки, издеваются, дразнят – ночная феерия, танец, до которого не дотронуться рукой. Ты не допущен. Ты просто вмерзай в анабиоз органа, ты просто сиди и смотри.
И до дна выдыхай, когда смычок насовсем отрывается от струны.
Сорок семь на сто шестьдесят четыре
Проблема в том, что в тебе слишком много всего.
Это как если бы ты сам для себя был тесен. Твоё тело такое маленькое, такое тонкое, такое непрочное – сплошные уголки и закоулки, и никуда его не раздвинуть, не распахнуть вширь. А внутри – много, ох, как много!.. Это как если взять все краски мира и смешать, лить из этих маленьких разноцветных баночек и смотреть, смотреть, как они переплетаются, вьются; это как если цветов нарвать миллион со всех континентов и кинуть в кучу – и незабудки, и орхидеи, и пионы, и чертополох, и те, что пахнут протухшим мясом; это как если все запахи засунуть в один флакон, так, чтобы от страшного давления трещало стекло.
Рёбра не стеклянные, но от натуги раскалываются совершенно отчётливо.
Это как собрать ветер из Сахары и из Техаса, с Камчатки, из Патагонии и с Финского залива и сплести из них витую ленту, и вверх швырнуть, чтобы получился смерч, и в смерче этом будет всё, что только может быть на земле; это как сыграть все твои любимые песни разом, прямо в уши твои сыграть, чтобы сердечная мышца твоя дала дрожащую длинную судорогу. Это как все дороги связать, чтобы шли одна за другой и можно было бы ехать по ним, не останавливаясь; это как все планеты швырнуть оземь, как ёлочные шары, и смотреть, как они катаются по траве. Это как уместить все твои родные лица на одной цветной фотографии размером с пятиэтажный дом; это как все книги переписать в одну книгу толщиной в литосферную плиту и читать тебе на ночь. Это как кровь всех людей слить в один тысячетонный чан, это как все птичьи голоса, и лесные шелесты, и счастливый задыхающийся смех, и рокот взлетающего самолёта, и бой океанских волн, и шорох обёрточной бумаги вылить тебе разом на голову.
И всё это в сосуде сорок семь на сто шестьдесят четыре.
Сосуд просыпается по утрам, и, вставая с кровати, покачиваясь, носит в себе шевелящийся жгучий клубок из нежности, восторга, бешенства, жалости, доверия, благодарности, томления, отчаяния и самой красной, самой сочащейся, самой невыносимой любви.
Любовь тяжелее всего вышеперечисленного и всего вышеперечисленного драгоценней.
Чего ты ждёшь от своей груди? Чего ты требуешь от неё? В трёхлитровом объёме твоих лёгких весь мир свернулся клубком, а как же ты его исторгнешь, коли на то даны тебе руки да рот? Терпи теперь же, терпи это давление в квадриллионы атмосфер, и хватай свою бедную грудь пальцами, и лежи на ковре, и пой, и пиши, и танцуй, потому что так мир выходит через тебя, чтобы не разорвать тебе рёбра.
Давит изнутри. Давит снаружи.
Страдай этим счастьем. В тебе слишком много всего.
Любой верблюд охотней предпочтёт пройти через десять сотен иголочных ушек, нежели один-единственный день побыть
человеком.
У меня есть шкура льва.
Она тяжёлая.
Особенно лапы.
На ощупь – совсем не то, что гладить настоящего льва,
но очень похоже.
Если провести против шерсти, то колет ладонь.
Шкуру можно накинуть на плечи.
В ней не то чтобы очень тепло -
а если говорить честно,
то не тепло совсем, -
но вид выходит довольно грозный.
Я зловеще блещу глазами, когда её надеваю, а ещё -
для пущего эффекта, конечно -
натягиваю голову льва себе на
Внутри шкура терпко пахнет старой кожей -
это примерно как дублёнку прижать к носу,
чтобы вам было понятнее -
и довольно душно.
У меня есть шкура льва.
Я всем говорю, что льва убила сама.
Я выставляю ногу вперёд,
прищуриваясь,
понижая голос,
рассказываю в красках,
как вонзала лезвие
в его мягкое брюхо.
Люди таращатся на меня,
иногда аплодируют,
иногда закрывают глаза руками,
иногда падают в обморок,
и тогда их откачивают
нашатырём.
В последнем случаю я брезгливо морщу нос.
Я не люблю
У меня есть шкура льва.
Я её совсем не снимаю.
Откровенно говоря,
едва ли кто-нибудь в принципе видел меня
Люди с опаской полядывают
на его разинутую мёртвую пасть
и не осмеливаются
протянуть руки.
Наиболее отважные решаются только
потереться щекой
о грубую шерсть,
но быстро отпрянывают,
зашевелиться
У меня есть шкура льва.
Двое в шкуре не помещаются.
Я придерживаю её пальцами,
где распорот живот,
и потому только мои пальцы и видно,
(на холоде они краснеют и мёрзнут,
что особенно неприятно).
укрывшись шкурой,
громко закричать в её душном нутре,
снаружи будет казаться, что ты рычишь,
люди будут хлопать в ладоши
и просить на бис.
У меня есть шкура льва.
Меня внутри шкуры почти не видно.
я знаю точно,
я совершенно уверена,
что в иные дни,
если особенно присмотреться,
можно разглядеть,
(или даже почувствовать
интуитивно,
ведь говорил же,
что "самого
и дальше по тексту),
что глаза блестят не от
излишней грозности,
как бывает,
если роговицу смочить
солёной водой.
Если у кого-то хватит
неожиданно приподнять шкуру,
можно найти там
лежащую под ней
Мир захлопывается.
Отключиться. Disconnect. Couper. Avkoppla. Это как падать под воду. Это как под воду уходить. Уходить долго, медленно, тягуче прорезать тугую толщу податливым телом. Вначале ещё взбрыкивать, делать взмахи руками, но чем глубже, тем тяжелее руки поднять, согнуть в локте, а значит – проще вовсе опустить, вытянуть вдоль тела.
Под водой – твой прозрачный пузырь, твоя слюдяная сфера прочнее любого бронированного стекла. Сфера искажает свет, сфера не пускает звуки, и оттого становится слышно, как ты дышишь. Слышно, как вздымается грудь, как под кожей и рёбрами короткими, сильными толчками бьётся твоя кровь с низким уровнем гемоглобина, и сердцебиение – не просто звук здесь, а длительный, долгий, невыразимо густой процесс.
Натяжение влажной мышцы. Ощущение толчка. Толчок. Глухой удар. Эхо.
Вязкая, алая – до кончиков пальцев докатывается волнами.
Под водой можно сидеть и слушать, как поют маятником часы. Можно смотреть, как за стенками сферы вода цвета аквамарина и бирюзы льётся движется струями, пластами, потоками. Проникаться тяжестью собственного тела. Можно почувствовать, как в первый раз, как прядь волос щекочет левую щёку и, подняв ладонь, убрать её – ощущая, как бицепс и трицепс поднимают и опускают тяжёлую живую руку. Больше ничего. Молчи и слушай, как дышишь. Лёгкие раздвигаются и впускают в бронхи кислород.
Если всё время разглядывать, слушать и трогать пальцами окружающие предметы, кто очистит от пыли внутренний мир? Кто придёт с лейкой на его засохшую землю?
Выбеленные ладони. Красная кровь. Коричневые глаза. Нервы хрусткие, будто выморожены в азоте. Запястья хрупкие и полупрозрачные, как засохшие стебельки. Покачнуться. Встать. Покачнуться. Кружится голова, невпопад волнуются нейроны, тело слишком лёгкое и неустойчивое, лишние волны колются изнутри.
Вскинуть вверх больничные листы и смотреть, как они ложатся на дно. Песочное дно.
Если душа много любит и много мучается, она становится прохладной и похожей на утренний туман.
Тогда говорят: душа устала.
Уехала в сосны.
Помятая клетчатая скатерть. Пол скрипит под ногами. Какие-то лица, бутылки, бокалы, за ноутбуком – небритая фигура с знакомым изгибом плеч. Газманов. Холод стелется по полу, ластится, прячем ноги под пледом, жмемся друг к другу. Холодные носы, мраморные пальцы. В чёрном стекле отражается лампа и чья-то улыбка. Сосны вокруг ощущаются физически. Их не видно в темноте, но они там, соединяют землю с небом, это чувствуется пронзительно и остро и оттого становится спокойно, как под водой. У леса за пазухой. Блестит глазами из-под скатерти лохматый пёс цвета пшеничного колоска. В голове Of Monsters And Men. Plants awoke and they slowly row beneath the skin. Под кожей и правда что-то растёт, возится, расправляется, дерево на боку совершенно явственно живёт.
Любое необратимое действие, особенно добровольное, приобретает характер символа и делит жизнь на до и после.
Расставляя бокалы, считаю по-шведски. Расшвыриваю ногами сухие иголки. Ночной воздух холоден, будто в лёгкие через горло сыпется мелкая ледяная крошка. Красивые руки бросают в самовар щепки. Матерятся. Смеются. Пьют. Ищу шишки на ощупь во влажных листьях. Обжигаю ноги у закопчённого камина, грею руками чашку. Читаю Цветаеву наизусть. Голова моя до прелести пуста, оттого что сердце слишком полно. Вокруг какой-то радостный сумбур, весёлая неясность, и в этой неясности как в газировке, – остаётся только облизывать потрескавшиеся губы и смаковать замёрзшим носом запах Лыхны.
Кто-то рассказывает мне, что в театр лучше ходить обкуренным; обещаю попробовать и обхватываю сосну руками. Кажется, что она почти тёплая. Старшая. Надёжная. Глубокая, высокая, живая. Могла бы – свернулась бы клубком на влажных иголках и смотрела бы на них, на их улыбки, движения плеч, шапки с помпонами и длинные полы пальто, и полнолуние бы на меня лилось сверху.
Я не грущу. Я любуюсь вами.
Споры о литературе с двумя не слишком трезвыми небритыми собеседниками – холод, шарф, пальто, камин – дорогого стоят, я вам скажу.
Особенно, когда вокруг сосны и почти ирландский пёс сидит возле хозяина с насквозь ирландской душой.
Ветрено на мосту
К чёрту всё.
Вы слышите? К чёрту. У меня браслет из чёрного агата и на боку вытатуировано дерево. Я хочу наступать в лужи, носить Fjällräven и писать хорошие тексты. Чтобы из текстов лился сок и пахло терпко, густо, как мокрые листья. Быть потерянной, полупрозрачной и тихой – не симфония моего оркестра. Или – симфония не моего.
На улице становится холодно, тепло инстинктивно аккумулируется внутри.
К чёрту всё. Я хочу слушать Florence & the Machine и говорить по-шведски, садиться, подгибая под себя ногу и любоваться новыми ботинками на толстой подошве. Я хочу есть на ходу пирожки со смородиной, учить смышлёную остороносую девочку разговорному английскому языку и материться не по-русски. Не подводите меня к дверям деканата; характеристики катятся по наклонной в системе приоритетов, если систему поставить на голову с ног.
К чёрту всё. Дерево растит себя, не покидая границ ствола – и не вытягивая дрожащих ветвей в поисках чьих-то уворачивающихся рук. Я жгу свечи по вечерам, ставлю рыжие клёны на заставку рабочего стола и резко останавливаюсь, задирая голову к небу. С неба падает дождь. Я ношу длинное рыжее пальто, хожу в лес и расшвыриваю там листья ногами, исправляю перманентным чёрным маркером ошибки в объявлениях управляющей компании и раскладываю на столе еловые шишки.
«Дни мои как маленькие волны, на которые смотрю с моста».
На мосту довольно ветрено, но в этом что-то есть.
К чёрту всё. Опасно становится, когда некоторое «былое» начинаешь перебирать, как разноцветные камешки, трепетно, не дыша, слушая, как они стукаются друг о друга боками. Я наливаю в термос крепкий кофе, рисую на веках тёмные стрелки и снова не появляюсь на лекции. Я часами сижу на каких-то мокрых лавках, читаю книгу о сумасшедшем доме и слушаю длинные голосовые сообщения с другого континента. Жизнь, оказывается, много весит. Когда она накапливается, то тяжело лежит на плечах.
Я прикладываю левую руку к боку. Под ладонью что-то живое расправляет ветви.
Сила, мало-помалу сливающаяся с небом – вот, что такое дерево.
Спасибо тебе, добрый лётчик.
По-хорошему, купить бы дом на холодном море, неплохо бы где-нибудь во фьордах; тереть занемевший нос, натягивать рукава на пальцы, убрать браслеты и кольца, ходить в супермаркет, есть цветную капусту и джем из красной брусники, отделать светлым деревом стены, завести собаку с голубыми глазами, толстый блокнот в простой плотной обложке и маленький термос на половину литра. Говорить потише, мерзнуть, греться, платить налоги, соблюдать законы, выбрасывать обертки в мусорное ведро, и сосновый лес на расстоянии протянутой руки.
Подолгу сидеть на пористых серых камнях и щурить глаза.
Мы привыкнем
Муми-троллли перебрались на маяк. Малышка Мю прилаживает лифт на гладкой белой стене, муми-мама варит в котелке утренний кофе. Над островом тучи, остров подобрался каждым своим круглым, вылизанным валуном и смотрит если не враждебно, то выжидающе. Вокруг только серое море, и остров их не ждал, но они приехали.
Запах кофе ползёт по галечному пляжу.
Над островом виснут мягкие сизые тучи, и неба не видно. В волнах не увидишь дельфинов; здесь слишком холодно для них. Ветер не шелестит в листве, потому что листва осталась в долине, в долине осталось горячее солнце и любимые берёзы муми-тролля, но весёлые зелёные сети качаются у берегов, и муми-папа прибивает к лестнице свежеструганные перила. Стук молотка разлетается над островом и позывным сигналом улетает в море.
Здесь рассветает в другое время – медленно, неохотно, здесь нужно надевать шарф, если выходишь к морю, и путь до кухни составляет сто тридцать две ступени винтовой лестницы, но к полудню тучи расступаются перед блёклым, перламутровым солнцем, и пар из термоса щекочет нос.
– Вообще-то звуки здесь довольно приятные, – говорит муми-мама, – но другие.
Муми-тролль пробирается по камням к обрыву и смотрит на море.
Где-то там, на маяке, папа зажёг свет.
– Ничего. Мы привыкнем.
Покажите мне Малую медведицу
Голоса справа предупреждают о шторме. Голоса от ветра выцветают и звучат как будто сверху. В полутемноте чайной запах улуна и кипятка сносит штормовой втер с моря. Море не справа и не слева, море совершенно отчётливо здесь, а здесь значит везде. Волны приобретают характер воздуха и заливают Сёрфприют, и за гладким деревянным столом, с трудом и грохотом передвигая тяжёлые деревянные стулья, режиссёры, актёры, продюсеры обнимают руками стаканы, цедят чай, и мягкий свет жёлто-красного цвета выхватывает рельефные, сильные, одухотворённые лица; лицам этим ничего не надо доказывать, ничего не надо говорить, они сами по себе – гений, интеллект, живая переливчатая душа.
На столах беспорядок, прихваченный из столовой шоколад и зефир, кто-то что-то рисует в блокноте, положенном вверх ногами, кто-то спорит, близко склонясь друг к другу лбами, кто-то кладёт подбородок на согнутые локти, кто-то с ногами на стуле тянет к морю лицо – моря не видно, но не чувствовать его тяжёлой прохладной громады не то чтобы невозможно, но просто не получается. Они для меня совсем чужие, и оттого ещё более интересные – инопланетяне, космические звери, живущие в мире съёмочных павильонов, камер, хлопушек и звукозаписывающей аппаратуры. Они непохожи один на другого, как редкие насекомые, и ни такие же яркие, блестящекрылые, глянцевые и матовые, красные, чёрные, зелёные, русые и тёмные, курящие и пьющие, прямолинейные, резкие, эпатажные, экстравагантные, интовертные, закрытые, громкие. Кто-то играет на гитаре и поёт хорошо поставленным голосом, тихо, вкрадчиво, слышно чти-то шаги по галечному пляжу, смех. А напротив меня девочка-режиссёр, укутанная в чёрную накидку с капюшоном, рассказывает о своём четырёхдневном романе в Ялте; живо, остро блестят из-под капюшона умные, проницательные глаза, и мне кажется, будто под этой накидкой у неё не девичье тело, а что-то цветное, космическое, вихрем закрученное, совершенно непостижимое, и оно на меня сейчас выливается через резкие жесты её худых красивых рук.
Мне непременно хочется оставить её такой в своей памяти, поджавшей под себя ноги на этом тяжёлом деревянном стуле, обнимающей стеклянную пиалу с остатками белого чая, порывистую, глубокую, бесконечную; мне не хочется видеть её потом при свете дня, не хочется знать, как сидит на ней форменная майка, как лежит на ключицах бейдж, и потому я сбегаю и печатаю, быстро, не попадая в кнопки, чтобы поскорее оставить её здесь, сейчас, такой: чёрная накидка и бескрайний космос под ней, космос такой же глубокий, как заставка её телефона.
И я представляю, что, если смотреть из космоса сейчас на Бакальскую косу, то видно нашу маленькую чайную, насквозь пронизанную ещё не начавшимся штормом, видно наши руки, и затылки, и согнутые колени, и ободки наших чашек, и маленькие – бескрайние! – космосы в наших головах. Море готовит шторм, море несёт его к берегу, море бросает шторм на галечный пляж, и брызги ещё не родившегося шторма вьются холодным, жидким ветром между горячими, живыми, пульсирующими фигурами талантливых людей. Если талантливая душа – светлячок, то Бакальская коса сейчас самая яркая полоса на планете, и я невыразимо счастлива добавить своего светлячка к этой плеяде.
На небе видно Млечный путь и Большую медведицу – я Малую, как всегда, найти глазами не могу и жду, пока мне кто-нибудь её покажет.
Покажите мне Малую медведицу.
А я полдня на пляже пролежала.
Пролежала, как есть, в майке, шортах и босоножках, и ноги у меня загорели полосами. Мне говорят, дура, встань, разденься, постели полотенце, намажься от загара кремом с защитным фактором не меньше пятидесяти, а я лежу, лежу, в майке, шортах и босоножках, и солнце на лице мне печёт улыбку от уха до уха. Я лежу ногами вдоль земных меридиан, руки распахиваю по параллелелям, и море мне вливается в одну половину сердца и выливается в другую, и в волосах у меня раку-ушки-и… Если представить Землю в разрезе, то я на ней лежу, как семечко, и в почву пряную крымскую прорастаю, прорастаю каждой счастливой влюблённой клеточкой. Между небом, моим животом и центром Земли можно протянуть ниточку. Я такое – растение не растение, дерево не дерево, но я хочу, чтобы меня просолило, прожарило, чтобы на руках и икрах у меня от гальки остались вдавленные красные пятна, чтобы эта галька по крови ходила мне. Внутри у меня большо-ое, горя-ячее, и я его с собой всё время ношу и потому постоянно прижимаю руки к груди.
Мне говорят: ты смеёшься, как ребёнок, а я отвечаю – посмотри на море, ему миллиард, а мне девятнадцать – кто ж я ещё?
Мне говорят: тебе сейчас пятьдесят три. Но почему-то всё ещё девятнадцать.
Все дело в любви, понимаешь.
Я иду по улице и люблю эту чёртову улицу так, что скулы сводит. Я люблю звук, с которым мои подошвы шаркают об асфальт. Я люблю, как по грязным лужам полосами гуляют фары. Я люблю, как на небе – цвета не то чтобы антрацита, но восхитительно чёрного – тупым углом мой дом рисует свою крышу.
Иду и люблю. Это почти как действие, такая любовь. Я люблю глубоко, старательно, размахиваю зонтом от любви; с зонта брызжут капли, холодят мне лодыжки, и это придаёт моей любви оттенок дрожи.
Понимаешь, всё дело в любви; всё дело в том, что, как бы зла я ни была на того трамвайного водителя, из-за которого опоздала сегодня на тренировку, в глубине души я его, матеря, люблю; люблю вместе с его неглаженой формой, небритым подбородком и нагловатым лицом. Это не значит, что у меня над головой золотой полукруг и что после первой щеки я побегу подставлять вторую, потому что люблю; если бы меня спросили, готова ли я вмазать тому водителю – вмазала бы, но ничего плохого пожелать бы не пожелала. Пусть он какое-нибудь дерьмо, но он должен быть счастлив. Пусть катится, тупой водитель, к себе домой на своём дурацком трамвае, и живёт там свою жизнь. И пусть у него тоже всё будет хорошо.
И его тоже люблю ведь, придурка.
У меня не то что проблемы или чёрные полосы – у меня всё катится в полнейшие, непроходимые, чернющие, дремучие тартарары, но я туда лечу, как куколка тряпичная, не одна, а с этой любовью, и от неё, чёрт подери, даже тартарары эти становятся не лишены какой-то дикой романтики.
В этой-то, понимаешь, любви всё и дело; в какой-то момент ты просто понимаешь, что лучший способ получить больше всех – это всё отдать. Всё, всё, всё, всё с себя снимай, стаскивай, стягивай, разбрасывай, расшвыривай ногами, протягивай прохожим, мёрзни в совершеннейшем своём неглиже и улыбайся – у-лы-бай-ся, чёрт тебя дери, как в последний раз, и вот тогда -
– тогда ты почувствуешь этот первобытно дикий восторг любви к всему, что движется.
Не спрашивай.
Просто отдавай.
И улыбайся.
Битлы были правы. Да и Иисус тоже не был дураком.

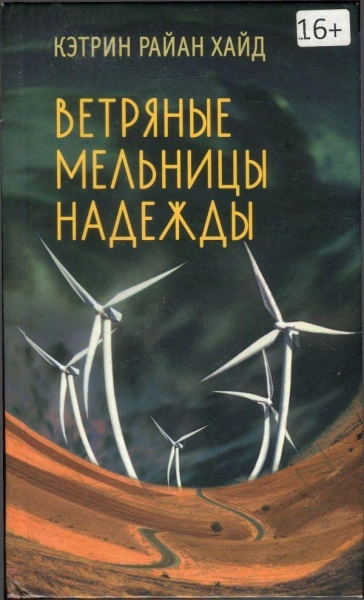




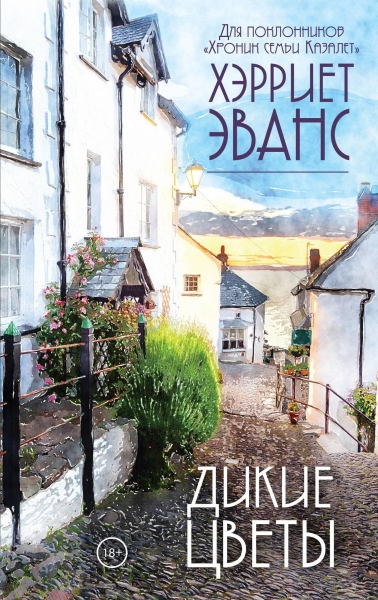


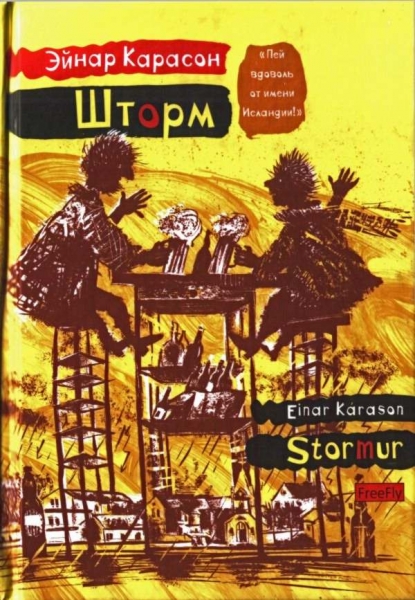
Комментарии к книге «Свет. Сборник миниатюр», Дарья Гаечкина
Всего 0 комментариев