Философские уроки счастья Евгений Крушельницкий
© Евгений Крушельницкий, 2019
ISBN 978-5-4496-2267-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Поскольку философия учит жизни и детский возраст так же нуждается в подобных уроках, как и все прочие возрасты, — почему бы не приобщить к ней и детей?
С Монтенем соглашаться не обязательно, потому что жизни не учит даже философия. Жизни учит только жизнь, а философия учит размышлять о ней и философски смотреть на её повороты, что, впрочем, полезно и детям. Эта книга — для детей, хотя и не только для них.
В одном шутливом «определителе современных наук» философию именуют предметом, который вызывает у всех аллергию. Чтобы избежать этой опасности, пытаясь на нескольких страницах объять необъятное, автор предпочел выбирать интересное для себя, делая это субъективно и произвольно. Возможно, эти заметки быстрее помогут читателю представить себе живших когда-то людей и некоторые занимавшие их вопросы, чем энциклопедическая справка или учёный труд. Конечно, такие этюды годятся только для первого знакомства, но о каждом, кого мы упоминаем в этой книжке, написано столько, что желающие всегда найдут, что почитать. Я лишь предлагаю сделать первый шаг вместе.
Философами были разные люди — учёные-домоседы и бродяги, императоры и рабы. Все они по-разному старались ответить на вечные вопросы: что придает жизни смысл — добродетель или любимое дело, противостояние страстям или, наоборот, наслаждения? Неизбежно ли то, что с нами происходит? Свободны ли мы в своих поступках или всё имеет свою естественную причину? Существует ли Бог и как складываются наши с ним отношения? Есть ли что-то выше закона, права, интересов отечества? Почему счастье конкретного человека далеко не всегда зависит от его добродетелей?
Ответы у каждого свои. Ведь все мы немного философы, со своими житейскими принципами — от расхожего «не живи, как хочется, а живи, как можется» до возвышенного «жить — значит мыслить», и потому среди нас живут скептики и стоики, циники и эпикурейцы, вольтерьянцы и марксисты. Из множества философских вопросов автор отдает предпочтение самому, на его взгляд, практичному — как человеку следует жить? Поэтому в книге заметное место отдано этическим воззрениям разных мыслителей. Многие их выводы, хоть и не окончательные, интересны и по сей день. Однако дело тут не столько в готовых ответах, сколько в умении задавать вопросы и самому отвечать на них. Это нужно хотя бы для того, чтобы узнавать о долге гражданина, правах человека или смысле собственной жизни не от философствующего чиновника или старшего по званию. В таких вопросах есть другие авторитеты, к чьим словам прислушиваются многие поколения.
«Я медленно учился жить. Ученье трудно мне давалось», — признавался поэт. Но ничего полегче тут придумать нельзя, если не хочешь жить «как можется».
Предисловие
Рассказывают, что Сократ однажды поинтересовался у знакомого афинянина, знает ли тот, что такое справедливость. Самоуверенный молодой человек не сомневался, что знает. Но, побеседовав с философом, вынужден был признать, что вопрос непростой: ведь порой даже кражу (причем у друга!) следует признать справедливой, если, например, украдено оружие ради того, чтобы удержать человека от необдуманного поступка.
Со справедливостью, как известно, и по сей день немало путаницы. Что же говорить о самой философии, которую называют царицей наук, предмете куда более спорном… Что это такое и зачем она нужна? Паскаль был уверен, что вся философия не стоит и часа труда, зато Кант утверждал противоположное: если существует наука, действительно нужная человеку, говорил он, то это та, которой я учу, и из которой можно научиться, каким надо быть, чтобы быть человеком. Платон оставлял философии только познание вечного и непреходящего, а Декарт понимал под ней вообще всю науку — целостную, единую.
Действительно, философия — наука особенная. В ней нет единодушия и общепризнанных результатов. Ни одно учение не может претендовать на звание единственно верного, и взгляды одного мыслителя могут ничего не значить для другого. Но в таком случае стоит ли она вообще внимания? Для тех, кто задумывается о жизни и смерти, кто хочет увидеть смысл в повседневной, будничной суете, — стоит.
Философских вопросов можно задавать много, но вот какой из них — главный? Тут тоже нет единомыслия. Энгельс считал таким вопросом отношение мышления к бытию, его интересовало, что первично, сознание или материя. Но далеко не все склонны называть этот вопрос основным. Француз Альбер Камю, например, полагал, что решить, стоит ли жизнь того, чтобы быть прожитой, значит ответить на основной вопрос философии. А вот Эпикура больше занимало другое. Для него вопрос был не в том, жить или нет, а как прожить счастливо. Западных философов больше интересовал принцип устройства мира, причина его развития. Стремление ответить на это без помощи магии и богов породило греческую философию.
Свои представления о мире и человеке издавна имелись и на Востоке, причем настолько своеобразные, что историки предпочитают делить философию на западную и восточную. Древнекитайские мудрецы Лао-цзы и Конфуций, подобно грекам Платону и Аристотелю, оказали такое влияние на умы потомков, которое чувствуется и по сей день. Но на Востоке, в отличие от Запада, пренебрегали прикладными науками, считая основной задачей человека нравственное самосовершенствование. В Китае, например, не было той пропасти между политиками и философами, преодолеть которую хотел Платон. Странствующие проповедники здесь нередко становились крупными чиновниками, а то и министрами, и потому мудрецов в первую очередь интересовали вопросы управления обществом, отношения между «верхами» и «низами», этикет, ритуал. Воспитать человека в те времена означало научить его как следует исполнять свое общественное дело. Тогда, полагал Конфуций, в человеке проявится человечность: он поможет другому достичь того, чего хотел бы сам, и не будет делать того, чего не желает себе.
Но вернемся на более близкий нам Запад. Некоторые предварительные замечания, относящиеся к истории царицы наук, надеемся, помогут несколько упорядочить многообразие философских воззрений.
Первым философом был Фалес из Милета, который жил на рубеже VII—VI вв. до Рождества Христова. Он хотел знать, почему бывают затмения Солнца, наводнения на Ниле, интересовался геометрией и другими науками. Возможно, он так бы и остался в истории одним из семи греческих мудрецов, если бы не задумался о сущности мира, его основе. Такая задача, невозможная без определенного уровня абстрактного мышления, и дала начало философии. В качестве первоматерии Фалес назвал воду, из которой, как он полагал, возникает всё остальное. «Вода есть наилучшее», — говорил философ.
Пифагор, родившийся почти полвека спустя, понимал мир иначе. Этот знаменитый мыслитель странным образом сочетал в себе ученого, философа и основателя религиозного ордена, толковавшего о переселении душ. Себя он, похоже, считал полубогом, потому что всех разумных существ делил на три вида: люди, боги и подобные Пифагору… Увлечение математикой отразилось и на его философии, утверждавшей, что «все вещи суть числа». Для него эти слова были полны глубокого смысла. Он очарован гармонией мира и первым из людей назвал его космосом в отличие от беспорядочного хаоса. Началом всего философ считал единицу. Двойка — это различие, противоположность. Из этих чисел происходят все остальные. Числа образуют точки, из точек появляются линии, потом плоские фигуры, затем объемные, которые, в свою очередь, создают чувственно воспринимаемые тела. Последние состоят из четырех основ — огня, воды, земли и воздуха — и порождают весь остальной мир, одушевленный и разумный.
Так математика стала источником веры в абсолютную истину. То, что математические заблуждения просто менее очевидны, поймут гораздо позже. А пока зарождалась рационалистическая религия, которая, в противоположность религии откровения, была плодом математики и ее методов. Такое сочетание религиозных воззрений с логическими рассуждениями было характерно для многих европейских философов. Не будь Пифагора, вряд ли христианам пришло бы в голову логически доказывать бытие Бога.
Даже тем, кто никогда не слышал о Гераклите, современнике Пифагора, наверняка известны его знаменитые слова о том, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Главный принцип его учения — «всё течет». Философ говорил о постоянном изменении и развитии, подчеркивая, что одно и то же бывает живым и мертвым, бодрствующим и спящим, молодым и старым. А где же вечное? В огне. Мир, считал он, был, есть и будет «живым Огнем».
Гераклит был человеком образованным. Но утверждал, что всему научился только от себя, исследуя себя сам. Род людской презирал и, рассуждая о благе, полагал, что лучше всего вести к нему силой: ведь «всякое животное направляется к корму бичом». Зоологом он, видно, был неважным, но провозглашенный им принцип оказался удивительно созвучен настроениям революционных практиков, норовивших «железной рукой загнать человечество к счастью». Однако Гераклит говорил и другое: «Не лучше было бы людям, если бы исполнялось всё, что они желают». И в этом, безусловно, не ошибся.
Его современник — Парменид — не считал, что всё течет, и утверждал противоположное: ничто в мире не меняется. При этом глазам доверять не советовал, отделяя чувственное познание от рационального. Первое, на его взгляд, вело к мнениям, второе — к истине. Умозрительное «Это» (так Парменид именовал неизменяемое и неразрушимое вещество, лежащее в основе всего) позднее назвали субстанцией. Оно открыло дорогу материализму: ведь именно из него, по мнению материалистов, и сделаны все вещи… Но кто же из этих философов оказался прав? Оба, хоть и каждый по-своему. Их точки зрения потомки впоследствии соединили: взяли у Парменида неизменяемые элементарные частицы, а у Гераклита — представление о непрерывном движении. Такой вот диалектический синтез противоположностей.
Вершиной древнегреческого материализма стал Демокрит. Он учил, что мир состоит из движущихся атомов и пустоты. Если миры возникают и исчезают, то атомы остаются неизменными, принимая бесконечное число форм. Говорил, что миров бесконечное множество, и наш отличается лишь тем, что «пребывает в расцвете». Конечно, он был атеистом: «Разумом выдумали люди божественные дела». Однако, объясняя мир, избегал вопроса «зачем» и отвечал только «почему».
Демокрит искал первооснову как вне человека, так и в нем самом. Главным моральным правилом считал достижение «доброй мысли», а целью жизни — бодрость. Но борьба между материалистами и идеалистами разгорелась не на шутку, и благонамеренность философа не уберегла его от гнева Платона, поклонника «божественных идей», который всерьез собрался сжечь все сочинения Демокрита, какие только мог собрать.
Если до Демокрита философов интересовало познание мира, то потом их внимание всё больше стал занимать человек. Софисты уже успели усомниться в способности людей познавать истину. «Есть много препятствий для знаний — неясность дела и краткость человеческой жизни», — писал известнейший софист Протагор. Ему же принадлежит и знаменитое «Человек — мера всех вещей». Речь здесь о том, что не только свойства вещи, но и само её существование зависит от суждений разумного человека. Чувства обманчивы, и люди воспринимают мир по-разному. Значит, объективной истины не бывает, каждый прав по-своему. И всё же более прав тот, кто побеждает в спорах. Вот этому практическому делу и учили софисты богачей: умению выигрывать судебные иски. В ход шла игра словами, использование многозначности понятий, неточности определений и тому подобные приемы. Мастера словесных кружев, умевшие с одинаковым успехом отстаивать любые мнения, утверждали, к примеру, что ничего не существует. А если и существует, то оно непознаваемо. Если же что-то и можно познать, то объяснить другому уже совершенно невозможно…
Говорят, Протагор брал плату со своих учеников только в том случае, если они выигрывали свой первый судебный процесс. Правда, этот процесс он сам же и возбуждал.
Нельзя сказать, чтобы в наше время истина ценилась больше победы, и потому по-прежнему в ходу разнообразные логические и психологические уловки. Идеи софистов живут, а нередко и побеждают.
Сократ, в отличие от софистов, понял, что знание — это нечто большее, чем мнение, и любил извлекать это знание из умов своих собеседников. Он хотел, чтобы люди познали и усвоили нравственность: если я знаю, что именно я есть, рассуждал философ, то я знаю и то, чем должен быть. Однако о Сократе, и не только о нём, у нас будет возможность поговорить подробнее.
У Сократа учился Платон, которого называют самым влиятельным из западных мыслителей. Он надеялся, что государства избавятся от зол, когда владыки почувствуют вкус к философии. Но его рискованные попытки приохотить тиранов к мудрости окончились ничем. С тех пор люди так и не придумали более надежного способа находить мудрых вождей, кроме демократических выборов, известных и Платону. Конечно, этот способ не безошибочен, но ведь и сама проблема — как несовершенному обществу обзавестись совершенными правителями — решения не имеет. Если у руля и появляются мудрецы (Сократу, кстати, тоже довелось немного поруководить), то участь их печальна.
Первое в мире утопическое государство, придуманное Платоном, сильно смахивало на соседнюю Спарту, чей правитель Ликург, между прочим, приказал своим гражданам под взаимным доглядом есть одинаковую пищу. Аристотелю платоновский коммунизм не нравился, он предпочитал монархию и частную собственность. Суть его государственной модели — в совместном достижении общего блага. Но собственность-то частная? Да, потому что без неё невозможны такие добродетели, как благотворительность и щедрость. Их-то и следует воспитывать у людей, чтобы сообща использовать эту собственность. И хоть идеального государства мир так и не увидел, аристотелевы добродетели вечны.
Между тем походы Александра Македонского положили конец свободным городам-государствам. Греческие философы на время оставили рассуждения о наилучшем политическом устройстве и сосредоточились на индивидуальных, практических вопросах: как совместить стремление к добродетели и счастью с суровыми реалиями мира? Появились новые философские школы, а вместе с ними — киники, стоики, скептики, эпикурейцы…
Киники учили обходиться без привычных удобств, удовлетворяться самой простой пищей, не горевать из-за утраты близких и уж, конечно, не переживать по поводу судьбы своей родины. Знаменитый Диоген увидел путь к внутренней свободе в освобождении от желаний: ведь безразличие к благам избавляет и от страха их потерять.
Скептики нашли свой способ выживания, предпочитая воздерживаться от любых суждений. Такая позиция, по их мнению, обеспечивала невозмутимый покой, в котором и заключалось их скептическое счастье. Это понравилось и нефилософам: все кругом спорят на заумные темы, а истина по-прежнему далеко. И если любопытный надеется что-то узнать, а учёный, узнав, сомневается в результатах, то скептик может свысока смотреть на обоих, потому что уверен: «этого никто не знает и никогда не узнает». Такие рассуждения оказались удобны для ленивых умов, создавая иллюзию стирания граней между умными и глупыми.
Грек Зенон стал основателем стоической философии и провозгласил, что тому, кто стремится к добродетели, следует жить согласно с природой, то есть разумно. В таком случае добродетель полностью зависит от человека, и потому мудрец, чьи действия разумны, — истинный хозяин своей судьбы. Он терпим, сдержан и видит счастье в том, что не желает никакого счастья. Стоическая мораль учит: главная и единственная опора человека — в нём самом. Недаром и греческий раб Эпиктет, и римский император Марк Аврелий, которых жизнь не баловала, предпочитали именно эту философию.
Эпикурейцы — полная противоположность стоикам, для них благо — в наслаждениях. Материалист Эпикур хоть и верил в богов, но гнева их не боялся, утверждая, что им не до нас. Он вообще ничего не боялся — ни боли, ни самой смерти, — что и другим советовал. А свою философию считал самой лучшей для достижения счастья. Это учение было популярно не только в его знаменитом саду, но и в искушенном Риме, причем в сложные времена — последние годы республики, начало императорского правления… Суровая жизнь требует не выдумок, а практичных советов. В эпикурействе многие находили утешение вплоть до IV века новой эры, когда христианство, став господствующей религией, взялось отучать современников от удовольствий и уже долго не позволяло забывать о страхе.
В IV веке Римская империя распалась на Восточную и Западную. Это было только начало. Пройдет несколько лет — и рабы откроют готам ворота Рима, а потом вместе с победителями будут целую неделю грабить вечный город, мстя своим недавним господам. Церковный писатель Иероним в смятении заметил: «Мой голос пресекся, когда я услыхал, что покорен город, которому покорялась вся земля». Зато его современник Августин Блаженный воспринял события спокойно: он не сомневался, что все языческие государства, источник зла и насилия, обречены. Прочна только христианская церковь…
Христиане искали не те истины, что Сократ, и разуму отводили второстепенную роль: главным стало божественное откровение. Одни религиозные философы полностью отвергали древнюю мудрость, другие старались приспособить её к толкованию церковных догматов. Это было вполне возможно, ведь ещё античные идеалисты пытались сблизить философию с религией и мистикой, пренебрегая рациональными доказательствами.
В результате церковной монополии примерно с 400-го года и на тысячелетие вперед философская мысль становится скованной, односторонней. Сосуществование духа и плоти, описанное ещё Платоном, у Августина превратится в царство Божие и царство мира сего. Град Божий на земле — это, конечно, церковь, и её представители увлеченно обсуждают, почему добрый, справедливый Бог создал мир зла. Августин тоже много рассуждал о добре и зле и выводы сделал не в пользу человека. Богослов уверял, что именно от людей исходит всякое зло, добро же — продукт Божьей милости, и потому мы в ответе только за зло. Инакомыслия не терпел и ревностно с ним боролся. Монах Пелагий, например, богохульно утверждал, что никакого первородного греха не существует, и о своем блаженстве человек должен заботиться сам, без помощи церкви. Но в те времена без церкви уже ничего не могло происходить, и Августин не оставил противнику никаких шансов. Ересь Пелагея вскоре была официально осуждена на эфесском соборе.
После великих потрясений Западная Европа нуждалась в единстве, а для этого, как известно, нужна единая идеология. Если отцы церкви создали догматическую систему на основе Священного писания, то схоластам, которые появились на исходе первого христианского тысячелетия с их религиозно-идеалистической философией, требовалось сделать её доступной для необразованных людей. Они пересмотрели прежние авторитеты. Место Платона, утратившего былую популярность, занял Аристотель. Снова возродились диспуты, но вместе с ними появилось и безразличие к фактам, уверенность, что всё решает удачный аргумент в споре. Схоластика стала подручной теологии, доказывая то, что провозглашено верой, и потому с философией имеет лишь внешнее сходство. Схоласты уверяли, что подлинная религия и есть подлинная философия, а между откровением и разумом противоречий нет. Фоме Аквинскому, который старательно увязывает Аристотеля с католицизмом, уже не нужно сократовское свободомыслие, у него другие цели.
Последним крупным схоластом был англичанин Уильям Оккам. Он повздорил с Папой Иоанном ХХII по идеологическим вопросам, и его отлучили от церкви. Философ бежал в Германию под защиту императора Людвига. Говорят, что при встрече с ним Оккам сказал: «Защищай меня мечом, а я буду защищать тебя пером». Следуя данному обещанию, он написал немало трактатов. Один из них, например, был посвящен вопросу, вправе ли император жениться на своей кузине. Вопрос, конечно, был решен положительно. Сейчас эти трактаты забылись, зато помнится афористичный принцип, который называют «бритвой Оккама»: «Сущности не следует умножать без необходимости». Иначе говоря, если наука может объяснить нечто без допущения новой гипотетической сущности, то незачем её и допускать. Соображение, безусловно, полезно, но всегда ли? Там, где у науки нет ответов и требуются свежие идеи, иные ученые, пленники старых сущностей, охотно вспоминают эти слова, сказанные более шести столетий назад, и авторитетно объясняют непонятное глупостью очевидцев, обманом или же невиданными доселе явлениями природы…
Оккам достиг вершин в схоластике, но пошёл дальше, дав толчок научному исследованию. Подчеркивая, что познание возможно и без теологии, он провел грань между истиной философской и богословской. То, что истинно для теолога, может быть ложным для философа; разум не позволяет ни познать Бога, ни доказать его бытие, и потому в творца нужно просто верить. Оккам утверждает, что наука и вера, философия и теология развиваются по своим собственным законам. Он всё ещё защищает веру, но уже видит изъяны в схоластике.
Наступившее Возрождение разрушило окостенелую схоластическую систему. Человек потеснил Бога и постепенно стал занимать его место. Не презрение к земному миру, а признание человеческого разума и его стремления к счастью — вот что становится главным. Старые догмы пересматриваются, и авторитеты, за неуважение к которым строго карали, перестают считаться непогрешимыми. Растёт популярность идей борьбы с несправедливостью, всеобщего равенства. Однако некоторые тогдашние фантазии на эту тему нам могут показаться странными. Вспомним хотя бы английского философа Томаса Мора, презиравшего схоластику. Он стремился к реформе церкви, но не умел ладить с королями, и на шестом десятке лет лишился головы. Не в пример нравам, царившим при дворе Генриха VIII, порядки его знаменитой «Утопии» отличаются веротерпимостью и мягкими законами. Но тот, кто помнит будни советской утопии, замечает и другие детали… Гуманному и благочестивому светлое будущее представляется, конечно, без частной собственности. Чтобы окончательно победить неравнодушие к ней, утопийцы каждые десять лет меняют дома. Все одеваются одинаково, только одежда женатых и неженатых отличается, так что тех и других видно издалека. Спать все ложатся в восемь вечера, подъем — в четыре. В эти предрассветные часы, по мнению утописта, хочется… послушать лекцию. На неё приводят тех, кто «отобран для науки», хотя автор и утверждает, что многие приходят добровольно. В этом государстве имеется ещё много столь же прогрессивных придумок, потому что возможности утопий неисчерпаемы. Трудно представить, от каких же суровых реалий улетала мысль Мора в эту идеальную страну свободных людей.
Новые времена требуют практичности, веры в прогресс. Бэкон отвергает идолов, мешающих познанию, и предпочитает опыт. Декарт заново строит философское здание, провозгласив главным принципом сомнение. Оно помогает ему покончить с предрассудками и искать достоверное. Науки, зависящие от наблюдения, — физика, астрономия, медицина — имеют для него сомнительную ценность, он предпочитает арифметику и геометрию. Идея перспективная: вот уже и Спиноза под влиянием точного мышления излагает свои этические рассуждения подобно геометрическим теоремам. Спиноза рационалист. Гораздо выше голоса чувств для него истина, постигнутая разумом.
От теоретических попыток познать мир наука всё больше склоняется к его преобразованию. Техника создает ощущение власти над природой, и в результате рождается новая философия, для которой весь мир, а порой и сам человек — всего лишь материал для удивительных свершений. Недаром такое направление умов сами философы назовут формой безумия. А русский мыслитель Иван Ильин заметит, что самое главное и драгоценное в человеческой жизни открывается именно сердцу…
Но это будет позже, а пока в философию вместе с Декартом проникает индивидуализм. В средневековье истину определяла коллективная мысль церковных соборов, а тут… помните? «Я мыслю, следовательно, я существую». Английский философ Джон Локк пошел в этом направлении ещё дальше. Он не был догматиком и мог терпеливо обсуждать любой вопрос, а потому верил не в революции, а в реформы. Склонность предписывать, по его мнению, несовместима с любовью к истине. Кроме того, Локк был доброжелательным человеком и считал единственно достойным мотивом наших поступков — стремление к счастью или хотя бы к удовольствию. «Что двигает желанием? Я отвечу — счастье и только оно», — так формулирует философ. Его философия просвещенного эгоизма строилась на здравом смысле: ведь эгоистические и общественные интересы совпадают — правда, только в конечном счёте. Но люди не всегда поступают разумно, потому-то часто за ближайшими интересами не видят конечных. Значит, главная добродетель — это благоразумие. К тому же именно благоразумные становятся богатыми, напоминает Локк.
Был ли он прав насчет движущей силы счастья — вопрос спорный. Многие желания, хоть и сулят удовольствия, почему-то часто приводят к несчастьям. Может, не хватает благоразумия? Или желание движет не счастье, а страсти, как у романтически настроенных философов, которые, подобно Руссо, стремились к бурям и потрясениям? Романтики презирают удовольствия, ценят героизм и в заботах об улучшении мира легко оправдывают жестокость ради всеобщего блага. Если любители тихого индивидуального счастья считали войну безумием, то противники комфорта и покоя восхищались ею. Деньги недостойны их возвышенных душ, а сдержанность и благоразумие противны. Они любили пиратов и привидения, презирали рабов и трусов. Заботясь о свободе человека, который-де «везде в оковах», Руссо в своем «Общественном договоре» предлагал каждому гражданину безоговорочно подчиняться непогрешимой верховной власти. И убедительно доказывал, что в данном случае это «означает лишь то, что его силой заставляют быть свободным». Недаром этот «Договор» в свое время так пришелся по душе Робеспьеру, вождю французской революции. Тому самому, кто теоретически обосновал преимущества кровавой «революционной диктатуры» и сам кончил жизнь под ножом гильотины.
А позднее уже другой герой — Наполеон — вдохновлял Фихте и Ницше. Фихте славил действие, звал к преобразованию природы и общества, а его соотечественник уважал силу, войну и породу. Простых людей Ницше называет недоделанными и презирает Сократа за низкое происхождение. Победитель для него биологически лучше побежденного. Конечно, Ницше вовсе не так прост, но и в нём чувствуется возвышенная и ранимая душа Руссо: он не гонится за наслаждениями, а лишь избегает горя…
Так сторонники реформ и революций разделились на последователей Локка и Руссо. И те и другие стремились к всеобщему благу. Одни, по замечанию Б. Рассела, пришли к Рузвельту, другие — к Гитлеру.
Об истока добра и зла, о назначении человека думал и русский философ Николай Бердяев. Он писал о своём, писал о себе. Его философия непроста и порой противоречива, но многие мысли по-прежнему современны. Для Бердяева главное отличие человека от животных — не разум, а неповторимость личности, её уникальность. Верховная ценность для него не коллектив и даже не народ, не государство, а свободная личность. Однако настолько свободная, что, в отличие от кантовской, отвергает и нравственный долг, требующий не делать другому того, чего не желаешь себе. Что же получается, личность совсем без тормозов? Нет, есть один, главный — совесть. Общество искажает, насилует её, а экономическая зависимость и вовсе уродует. Но сама она свободна и не зависит от социального положения человека, его симпатий, принадлежности к партиям и т. п. Она формируется в глубинах его духа, там, где слышится голос Бога. А отношение к обществу зависит уже от того, что родилось в этих никому не подвластных глубинах.
Может, Бердяев фанатик совести? Нет, он её поклонник, и потому против всякого фанатизма. Философ убежден, что фанатик может быть и идейным, и бескорыстным, и аскетичным, может быть одержим идеей свободы, но не способен быть свободным. Он не в состоянии вместить больше одной мысли, он прямолинеен и видит не человека, а идею — равенства, веры, патриотизма или чего-нибудь ещё. А ведь во всех идеях — и еретических, и официально одобренных — была доля истины, но её отстаивали с такой яростью, сметая всё вокруг, что от самой истины уже ничего не оставалось.
Нельзя допускать фанатизма ни в чём, предупреждает Н. Бердяев. Стремись к свободе, но никогда не забывай об истине, о любви, о справедливости, иначе свобода станет пустой идеей. Стремись к истине, любви и справедливости, но не забывай о свободе, чтобы не прокладывать путь добру насилием. Стремись к полноте жизни, призывает философ. Он уверен, что не слепому рассудку, а лишь полно живущему человеку со всеми его чувствами и желаниями, опытом и заботами, открывается истина.
Философ, изгнанный из страны большевиками, писал об истине, а тем временем насилие на его родине становилось всё злей и ненасытней. Конца ему не видно, но зоркому сердцу ясна обреченность зла. Вспомним ещё одного выдающегося русского мыслителя — Питирима Сорокина, который тоже не по своей воле навсегда покинул родину. Прощаясь с ней в 1922 году, он записал в своем дневнике, что извлек для себя три главных урока: «Жизнь, даже если она трудна, самое прекрасное, чудесное и восхитительное сокровище мира. Следовать долгу столь же прекрасно, ибо жизнь становится счастливой, душа же обретает непоколебимую силу отстаивать идеалы, — вот мой второй урок. А третий — насилие, ненависть и несправедливость никогда не смогут сотворить ни умственного, ни нравственного и ни даже материального царствия на земле».
Жизнь, совесть, добро — вот боги, которым поклоняется мудрый. Если бы это вовремя поняли те, кто отправлял 33-летнего философа в изгнание, то история была бы другой. Но так устроен человеческий мир: кому не впрок чужие уроки, тому не миновать своих. И если их плохо усвоят отцы, то они повторятся для детей. Таинственный Принцип, который руководит миром, непреложен и никогда не перестанет преподавать своим разумным созданиям полезные истины.
Некоторые из этих истин имеющие отношение к теме нашего разговора, мы выделили в конце каждого очерка как своеобразные уроки. Вслед за уроками идут небольшие отрывки из философских произведений, потому что никакой пересказ не заменит голоса самого мудреца.
Конфуций (552 — 479 до Р.Х.)
Он ничего не выдумывал и учил только тому, что было завещано предками. Его советы практичны и приземлены, в них воплощен китайский народный характер. Даже в обрядах он искал прежде всего здравый смысл. Когда его спросили, чувствуют ли предки почтение потомков, мудрец ответил: «Если я скажу да, то живые будут чересчур поглощены служению усопшим в ущерб себе, скажу нет — о предках забудут. Лучше, не рассуждая, чтить их память».
Но даже такие простые советы народ постигал с трудом. Может, полезнее упростить учение? Нет, Конфуций не согласен: моё учение неизменно, как небо, говорил он. Мое дело — посеять добрые семена и заботиться о всходах, а приблизить сбор урожая — не в моей власти. И вот результат: в семьдесят лет старик горестно воскликнул: «Всё кончено! Никто в целом мире так и не понял меня…»
Если бы в этом Конфуций оказался прав — кто бы помнил его сегодня? Он был прав в другом, говоря, что добродетель никогда не останется в одиночестве, она обязательно соберет вокруг себя людей. Так и вышло. Уже после его смерти ученики записали высказывания учителя. Собранные там вопросы, ответы и изречения мудреца пришлись по душе многим поколениям. Спустя четыре века после смерти философа конфуцианство стало государственным учением. Прошло еще полтора тысячелетия — и его причислили к лику святых.
Его рождения очень ждали. Отважный воин Шулян Хэ был отмечен государем за верную службу, но наследником не обзавёлся, а посему считал, что главного своего дела так и не выполнил. Девять дочерей родила ему жена, прежде чем он решил попытать счастья с другой. Вторая жена родила мальчика, но калеку, а традиция запрещала такому обращаться с молитвой к предкам. Старому воину было уже семьдесят, когда он женился в третий раз. Возможно, лишь бедность заставила шестнадцатилетнюю Чженцзай породниться с потомком знатного рода.
Этот брак называли «диким»: ведь жизнь мужчины подчиняется числу восемь, и если в восемь месяцев у мальчика появляются молочные зубы, то в шестьдесят четыре года (8 х 8) мужская сила оставляет его… Но жена дала обет духу горы Ницю щедро отблагодарить, если он принесет сына. Вот тут-то и начались чудеса. Однажды дух явился во сне и сообщил, что родился необыкновенный ребенок.
Мальчик появился на свет в день осеннего равноденствия. Легенда гласит, что в этот день с небес лилась красивая музыка, и чей-то голос произнес: «Небо, вняв твоим молитвам, дарует тебе мудрейшего из сынов человеческих». Нынешняя наука не принимает всерьез подобные истории, хотя и допускает, что природа всё еще загадочна для нас. Поэтому мы не очень ошибемся, если будем считать то событие неким аномальным явлением.
Малыша назвали Цю, в память о той горе. Он, конечно, пока не мог обратить на себя внимание мудростью, зато все сразу заметили, что ребенок на редкость некрасив — массивный лоб, выпученные глаза, длинные уши… Современники находили в нём сходство с маской божества, отгонявшего злых духов. Однако вскоре мальчик обнаружил качества, которые для мужчины куда важнее приятной внешности, — трудолюбие, терпение и огромное желание учиться.
В детстве Цю, как и все его сверстники, изучал традиционные искусства: письмо, счет, ритуалы, музыку, учился стрельбе из лука и езде на боевой колеснице. Не всегда он был одинаково прилежен. Во всяком случае, боевыми искусствами не увлекался. А в пятнадцать лет всерьез занялся тем, что его интересовало больше всего. «Учиться и всякое время прикладывать выученное к делу — разве это не удовольствие?» — говорил он.
Но о каком деле тут речь? Ведь известно, что к практическим делам Кун Цю всегда относился довольно прохладно. Когда уже пришло признание, сосед взялся подшучивать над ним — мол, учитель знает много, но нет занятия, в котором он стал бы известен. И услышал ироничный ответ: «И правда, в каком бы деле мне прославиться? Может, в управлении колесницей? Или в стрельбе из лука? Да, да! Займусь-ка я ездой на колеснице…» Однако пренебрежение к конкретным делам не помешало ему к двадцати годам иметь репутацию не только ученого человека, но и добросовестного служащего. О своей первой работе — учетчика при хлебных амбарах — он говорит сдержанно: «Я только следил за тем, чтобы записи велись правильно, вот и всё». Его усердие оценили, и он стал управляющим пастбищ одного богатого семейства. Там он тоже «лишь следил за тем, чтобы скот рос здоровым и жирным». А в будущем ему придется занимать и более серьезные государственные посты. На какие же науки, в таком случае, налегал молодой человек?
Что знаешь, то считай, что знаешь…
Первым делом Учитель Кун учился и учил скромности: «Что знаешь, то считай, что знаешь, незнание считай незнанием. Это и есть знание». Банально? Но если вдуматься, отчего с нами происходят всякие неприятности — от неудач в личной жизни до вооруженных междоусобиц, — то обнаружим заблуждения, неверные прогнозы, путаницу желаемого с действительным… иными словами, неумение определять границу собственных знаний. Поэтому великий китаец всегда помнил о своих скромных познаниях и не стеснялся спрашивать, резонно полагая, что если задавший вопрос рискует показаться глупцом на пять минут, то промолчавший останется им на всю жизнь.
У кого и чему учился философ? У всех и всему: «Слышу многое, выбираю из него хорошее и следую ему», — говорил он. Где слышать и от кого — неважно, гораздо важнее уметь воспринимать полезное и совершенствоваться, начиная с простых, повседневных дел. Кун Цю был уверен, что если человек почитает родителей и старших, честен и добр, то главное он уже знает. Это философ считал основой добропорядочности и называл ритуалом. Для нас ритуал связан прежде всего с обрядом и церемониями, но в те времена он значил гораздо больше: спрашивать, когда не знаешь, найти свой путь и идти по нему, говорить правду правителям; постоянно учиться поступать правильно, по совести.
Но что значит — правильно? С чьей точки зрения? Разве неправильно поступил небезызвестный пионер-герой Павлик Морозов, который, говоря словами Максима Горького, «понял, что родные по крови могут быть врагами по духу»? Разобраться с этим противоречием пытались задолго до нашей эры. Вот что сказал Учителю Куну правитель Шэгун: «Есть в общине у нас человек прямой: его отец украл барана, а сын выступил против отца свидетелем». Учитель ответил: «У нас в общине прямые люди отличаются от ваших. Отцы тут покрывают сыновей, а сыновья — отцов. В этом и заключается прямота!»
Выходит, мудрец поощрял воровство? Нет, конечно. Но выше барана он ставил интересы страны: чтобы страна процветала, «правитель должен быть правителем, подданный — подданным, отец — отцом, а сын — сыном». В этом он и видел секрет мудрого правления. Значит, у каждого должно быть право на собственную правду. А сыну-доносчику правду диктуют власти.
К тридцати годам философ имел, как он говорит, «прочную опору»: дом, семью, детей, десять лет состоял на службе. У него уже были ученики, и называли его теперь не Кун Цю, а Кун Фу-цзы, или Почтенный Учитель Кун. Конфуцием его стали звать европейцы на свой лад.
О пользе ритуала
Но вернемся к ритуалу. В нем Учитель видел путь к справедливым и искренним отношениям, потому что только исправление нравов способно исправить общество. Следуя ритуалу, он был разным в зависимости от обстоятельств: в своей деревне простодушен, в беседе с высшими сановниками твёрд, с государями почтителен. Зачем всё это? А вот зачем: «Учитель говорит ко времени — и люди не устают от его слов; смеется, когда весело, — и людям не докучает его смех; приобретает, если справедливо, — и людям не надоедает его приобретательство», — объясняет ученик. То есть, культура — или, по Конфуцию, ритуал — учит гармонии отношений, и «муж, обладающий широкими познаниями и сдерживающий себя ритуалами, крайне редко выходит за границы разумного». Малый же человек, в противоположность благородному мужу, «в речах непременно искренен, в делах непременно исполнителен, мелок и тверд». Но разве искренность и исполнительность не были достоинствами в те времена? Смотря в чём. Доносчик может быть искренен, палач — твёрд, а исполнитель преступного приказа — верен присяге. Мудрец одобряет другое: когда человек в своих повседневных делах помнит и о высших целях. Тогда он не скажет, что-де «время было такое» или «нас так учили», потому что порядочный человек всегда поступает так, как считает нужным.
Его школа была необычной. Классом служила тень абрикосового дерева. Уроков на определенную тему не было, как не было и домашних заданий. Учитель отвечал на вопросы, делился мыслями, — просто жил на глазах учеников. «Когда сгорела конюшня, Учитель, вернувшись из дворца, спросил: „Никто не пострадал?“ О лошадях не спросил» — такой, к примеру, эпизод запомнили ученики. Чисто восточная привычка учиться на мелочах, извлекая из них глубокий смысл. Впоследствии воспитанники так определили предметы, которые преподавал им мудрец: словесность, благонравное поведение, преданность и доверие.
Учитель никому не обещал ни выгодной службы, ни богатства, ни даже того, что учёба пойдет впрок. Он лишь помогал слушавшим его раскрыть свои лучшие качества. Но, принимая всех, не тратил время на тех, кто не мог «узнав об одном, понять ещё три» и не стеснялся говорить ученикам правду: «Из гнилого дерева ничего не вырежешь, из сухого навоза не построишь стены. Какой смысл бранить Юя?» — сказал однажды о нерадивом. Бывал и крут, и непредсказуем. Когда один из учеников, нарушая приличия, расселся, широко раскинув ноги, философ попросту огрел его палкой, добавив при этом: «Быть нескромным и грубым в молодости, не создать ничего достойного в зрелом возрасте и бояться смерти в старости — вот что я называю ничтожеством!» Но к лицу ли знающему ритуал так поступать? Не будем судить. Живи мудрец в наши дни, он, возможно, поступил бы иначе. Важно то, что из этого эпизода до сих пор извлекают нравственный урок. И, наверное, правы китайцы, когда в таких случаях дипломатично говорят: «Велик Учитель Кун!»
Мудрец учил не тому, как проникать в секреты природы и «покорять» её, а тому, как с достоинством принять свою судьбу и стать лучше. Говорил о том, что может и должен делать человек, учил искусству жить вместе: «Тот, кто учтив, избегнет оскорблений. Тот, кто великодушен, привлечет к себе людей. Тот, кто честен, будет пользоваться доверием. Прилежный добьется успеха. А тот, кто добр, сможет управлять другими». Это он называл человечностью. Но однажды печально заметил, что ещё не встречал человека, у которого хватило сил хотя бы день посвятить этому искусству.
Он учил принимать жизнь такой, какая она есть, и радоваться ей. Да только всякая ли жизнь может радовать? Этот вопрос возник у Учителя, когда ему встретился старик, распевавший веселые песни. То, что старость — не радость, было ясно и тогда, однако старик оказался философом и объяснил, что вообще-то есть много причин радоваться. Но у него главные — три: «Я человек, я мужчина, и я живу».
Благородный муж всегда безмятежен и умиротворен, потому что источник его благополучия — в нём самом. Такого человека не мучает разлад между желаниями и возможностями, и он не склонен к революциям и смутам. Он выполняет свой долг даже тогда, когда поражение очевидно. И как ювелир создает произведение искусства, так и человек должен сделать из себя достойного мужа, потому что тот, кто понимает смысл собственной жизни, знает, что нужно делать.
Учёба, по Конфуцию, — это поиск ответов на вопросы. Вопросы же возникают, когда есть сомнения. «Низший люд» потому и не учится, что не сомневается. Тут Учитель иллюзий не питал: народ можно принудить к послушанию, но нельзя принудить к знанию.
Следуя зову сердца
Учитель Кун многое знал, но многого не умел. Не умел угождать, раболепствовать, интриговать, а его прямодушные суждения далеко не всегда нравились покровителям. Но чего стоит мудрость, если её не приложить к делу! Он чувствовал, что за три года, за какую-то тысячу дней может преобразить страну. Для этого правитель всего лишь должен отбирать на службу честных людей и сам быть добродетельным. Ведь пороки низов — это отражение пороков верхушки. «Управлять — значит исправлять. Если вы сами явите образец исправления, кто посмеет не быть прямым?» Наивный старик… Лишь со временем он понял, что правители меньше всего озабочены чужим счастьем, им важно лишь собственное процветание. Император не принял от него даже вполне безобидного совета: мол, мудрость государя заключается в бережливости. Мало ли на свете приятных вещей, которые требуют расходов?.. Нет, сомнительная философия у этого Куна.
Его попытались купить, предложив владение уделом. Да только благородный муж стыдится получать награды, не имея заслуг. Ему даже предлагали титул придворного советника, но тут уж насторожились вельможи: их налаженная жизнь не нуждалась ни в каких переменах, а с таким советчиком можно потерять всё. Многие знатные особы перестали его принимать, ходили упорные слухи о скором покушении… Яркая личность рождает проблемы, нет человека — нет и проблем, скажут тысячелетия спустя и по другому поводу. Философу пришлось спешно отправиться восвояси, не успев поесть. Впрочем, Учитель и тут усмотрел нечто поучительное: если на чужбину нужно ехать не торопясь, то возвращаться на родину следует даже не перекусив. Трусостью он считал не бегство, а сокрытие правды.
Он побывал в разных царствах, был и придворным судьей и городским правителем, но нигде не задержался. Тогдашним политикам и хозяйственникам не приглянулась его идея исправления нравов. А там, где нет праведного пути, не стоит оставаться. И Учитель вернулся на родину. Он понимал, что стремится к недостижимому. Но если нельзя построить царство благородных мужей, то отчего же не стремиться к благородству?
Подводя итоги, он говорил:
«В пятнадцать лет я обратил помыслы к учению.
В тридцать лет я имел прочную основу.
В сорок лет у меня не осталось сомнений.
В пятьдесят лет я знал веление Небес.
В шестьдесят лет я настроил свой слух.
А теперь в свои семьдесят лет я следую зову сердца, не нарушая правил…»
Ну, а всё-таки: был ли счастлив сам Учитель? И чего он достиг? «Если ты такой умный, то почему не богатый?» — вопрошают современные остроумцы. «Если бы богатство было целью моей жизни, — отвечает философ, — я сделал бы всё для того, чтобы добыть его, даже если бы мне пришлось быть сторожем, что стоит у ворот рынка с кнутом в руке. Но я этого не хочу и буду жить по своей воле».
Его мечта осуществить свои планы на посту государственного мужа не сбылась. Ученики далеки от совершенства, хватает и недоброжелателей. Умирает сын, потом — лучший ученик… И старик, забыв о ритуале, горько рыдает. А где же невозмутимость благородного мужа? Что ж, он и сам не всегда мог следовать своим же поучениям, потому что был только человеком. Зато идти его путем захотели многие. Так на что жаловаться тому, кого помнят потомки? Благородный муж страшится лишь забвения, говорил Учитель.
Его заветы, может, и не изменили общество, но, по крайней мере, умножили добро в мире. Мудрец из Цюйфу первым в Китае провозгласил человеческие ценности и всю жизнь только им и поклонялся. О нём спорят по сей день. Учителя Куна то вдруг объявляют реакционером, ответственным за отсталость страны, то восточным Козьмой Прутковым, то китайским Марксом. Но говорят и о другом: о новом типе цивилизации — конфуцианской, где вместо героя западного образца — борца и преобразователя, поставившего мир на грань гибели, историю творит другой человек, нравственный, без которого любые научно-технические чудеса лишь упрощают самоубийство.
…В городе Цюйфу находится одна из самых старых на земле могил. На плите надпись: «Могила явившего великое свершение высочайшего мудреца, властителя просвещений». Здесь похоронен Учитель Кун.
Некий человек хотел стать мудрецом, но в погоне за мудростью пренебрег обычными житейскими обязанностями: ничего не успел сделать для родителей, единственный сын покинул его, а правителю не понадобилась его мудрость. Тогда этот человек решил расстаться с жизнью. Его спасли, и Конфуций сказал неудачнику:
— Как бы ни были велики твои ошибки, они ничто по сравнению с малодушием. Всякая ошибка — дело поправимое, но самоубийство — преступление. Ты с самого начала пошёл ложным путем. Сначала надо было сделаться человеком. А стать мудрецом можно лишь точно исполняя человеческие обязанности, налагаемые самой природой. Первая твоя обязанность — любить родителей, но ты ее не исполнил, и в этом причина всех несчастий. Но не думай, что всё погибло; покуда человек жив, он не должен отчаиваться, потому что за горем может следовать радость. Мужайся и снова примись за труды, будто сегодня снова начал жить. Ты еще можешь стать мудрым.
В этой притче заключены пять великих конфуцианских добродетелей, основы разумного порядка в человеческой жизни: мудрость, гуманность, верность, почитание старших, мужество. А идеи о гармоничном обществе, населенном благородными мужами, и составили конфуцианское учение. При этом каждый должен знать в этом обществе свое место: «правитель должен быть правителем, подданный — подданным, отец — отцом, а сын — сыном».
Учитель сказал:
Благородный муж живет в согласии со всеми. Низкий человек ищет себе подобных.
Благородный муж беспристрастен и не терпит групповщины. Низкий человек любит сталкивать людей и сколачивать клики.
Благородный муж стойко переносит беды. Низкий человек в беде распускается.
Благородный муж помогает людям увидеть доброе в себе и не учит людей видеть в себе дурное. А низкий человек поступает наоборот.
То, что ищет благородный муж, находится в нём самом. То, что ищет низкий человек, находится в других.
Если наставлять приказами и насаждать порядок наказаниями, то люди будут стараться обойти запреты и потеряют чувство стыда. Если наставлять добродетелью и поддерживать порядок посредством ритуала, люди будут знать, что такое стыд, и вести себя пристойно.
Почтительность без знания ритуала превращается в самоистязание. Осторожность без знания ритуала превращается в трусость. Храбрость без знания ритуала превращается в безрассудство. Прямодушие без знания ритуала превращается в грубость.
Увидев мудрого, стремитесь с ним сравняться, увидев недостойного, вникайте внутрь себя!
Напрасно обучение без мысли, опасна мысль без обучения.
Младшего по возрасту стоит уважать. Откуда можно знать, что не сравнится он в будущем со старшими? Но уважать того не стоит, кому уже сорок или пятьдесят, а славы не обрел.
Что ненавидят все, то требует проверки. Что любят все, то требует проверки.
Высший — тот, кто знает от рождения; следующий — тот, кто познаёт в учении; следующий далее — учится, когда испытывает крайность; те же, кто и в крайности не учится, — люди низшие.
Цзыгун спросил: «Найдется ли одно такое слово, которому можно было бы следовать всю жизнь?» Учитель ответил: «Это слово — взаимность. Чего себе не пожелаешь, того не делай и другим».
Цзыгун спросил: «Что если кого-то любят все односельчане?» Учитель ответил: «Это плохо». «Что если кого-то ненавидят все односельчане?» — снова спросил Цыгун. Учитель сказал: «Это тоже плохо. Будет лучше, если его полюбят хорошие односельчане и возненавидят злые».
Сократ (469—399 до Р.Х.)
По словам современников, Сократ не был похож ни на кого, его не с кем было сравнивать. Даже внешне. Мягко говоря, красотой он не отличался. Когда физиономист Зопир, глядя на Сократа, нашел в нём признаки едва ли не всех пороков, то его высмеяли, потому что знали умеренность философа. Сам же Сократ объяснял это несоответствие тем, что победил свои вожделения с помощью разума. Молодым он советовал чаще смотреться в зеркало: красивым — чтобы не срамить своей красоты, а остальным — чтобы воспитанием скрыть изъяны.
Всю жизнь Сократ насмешничал и никаких ученых трудов не оставил, хотя философом был прирожденным. Только жизнь его и осталась в памяти.
Не верьте богам на слово
Жена называла Сократа болтуном, бездельником и нередко устраивала мужу шумные сцены: могла выплеснуть на своего философа помои, выгнать из дому вместе с друзьями… Собственно, Сократ и не любил сидеть дома. Целые дни он проводил на рынке и окрестных улицах, беседуя со всяким, кто был не прочь поговорить. Глядя на рыночное изобилие, замечал: «Сколько же есть вещей, без которых можно жить!» Он был уверен, что чем меньше человеку нужно, тем ближе он к богам. Может, поэтому и обошла его стороной чума, охватившая Афины. Во всяком случае биографы объяснили этот факт именно здоровым образом жизни философа. Но аскетизм не приносит денег. Заботы о пропитании семьи, в том числе троих малолетних детей, доставались Ксантиппе. Естественно, это повлияло на её характер, и жена Сократа вошла в историю как пример скандальной супруги.
В отличие от Ксантиппы, другая женщина однажды высказала совсем иное мнение об уличном философе. Один из сократовских приятелей, будучи как-то в Дельфах, заглянул в храм Аполлона и спросил тамошнюю пророчицу: «Есть ли кто на свете мудрее Сократа?» Пифия, чьими устами вещал сам бог, ответила кратко и категорично: «Нет никого мудрее».
Когда эти слова стали известны Сократу, то озадачили его. Он действительно не считал себя мудрым и знаменитые слова — «я знаю, что ничего не знаю» — сказал вовсе не из желания порисоваться. Согласиться теперь с Аполлоном — значит признать, что всю жизнь смеялся над людьми, прикидываясь наивным и незнающим. Но допустить, что бог ошибся, а то и кривил душой, было вовсе немыслимо. Оставалось только проверить его правоту. И Сократ отправился к одному из государственных мужей, слывшему весьма мудрым. Философ решил побеседовать с ним на некоторые отвлеченные темы, которые не могли не занимать государственного человека, — например, что такое справедливость, закон, власть и тому подобные вещи. Беседа разочаровала философа. По сравнению с чиновником он даже почувствовал некоторое превосходство: «Мы с ним, пожалуй, оба ничего хорошего и дельного не знаем, но он, не зная, воображает, будто что-то знает, а я если уж не знаю, то и не воображаю».
Потом он беседовал со многими, тоже вроде бы мудрыми и знающими, — от поэтов до ремесленников. Действительно, все они были неплохими специалистами, но когда брались судить обо всём на свете, то тут же обнаруживали свою ограниченность. В конце концов Сократ пришел к компромиссному выводу, что мудрым его назвали всего лишь для примера: мол, мудр тот, кто подобно Сократу знает ничтожную цену своей мудрости. По-настоящему мудр только бог, а человеку дано лишь быть любителем мудрости — философом.
Советы с небес
Похоже, Сократу покровительствовала некая высшая сила. Так, он рассказывал, что слышит «божественный голос», или демона, который удерживает его от неверных поступков. В связи с этим Плутарх приводит такой случай. Однажды Сократ шёл с друзьями по улице. Вдруг он остановился, углубился в себя, а потом, сославшись на предостережение демона, предложил спутникам вернуться и пойти другим путем. Его послушали не все, и некоторые двинулись напрямик. Скоро любителям прямых дорог встретилось стадо грязных свиней. Посторониться было некуда, и животные одних сбили с ног, других запачкали.
«Началось это у меня с детства, — рассказывал Сократ. — Возникает какой-то голос, который всякий раз отклоняет меня от того, что я собираюсь делать». Этот же голос не рекомендовал ему заниматься политикой, где человеку трудно оставаться честным. Но философ, видимо, слушался не всегда и оказался-таки в афинском совете пятисот — высшем органе власти. Однажды его даже выбрали эпистатом — то есть, по сути, президентом республики, но только с полномочиями на один день. И в тот же день Сократ, поклявшись соблюдать законы, пошёл против воли народа. Дело даже не в том, что два стратега, которых захотели приговорить к смерти, были не виноваты: нарушался законный порядок судопроизводства, а с этим Сократ смириться не мог.
Народ был недоволен своим избранником, ему угрожали влиятельные лица. Но если философ ставил справедливость выше воли народа, что ему угрозы? Он предпочитал жить своим умом. Когда обязанности гражданина противоречили его убеждениям, то он, не колеблясь, выбирал последнее.
Пелопонесская война, принеся победу Спарте, покончила с афинской демократией, к власти пришла комиссия из тридцати тиранов. Начались казни. Когда Сократу приказали арестовать одного из противников режима, он, несмотря на смертельную опасность, отказался подчиниться. Если нарушались законы, то для философа не было разницы между демократами и тиранами. Нетрудно представить, чем бы кончилось дело, займись он политикой всерьёз. Впрочем, политического процесса со смертным приговором он так и не избежал.
Вечные вопросы
Его поведением суд займется позже, а пока Сократ, по рассказам современников, часами простаивал на том месте, где его заставали мысли. О чём же он размышлял?
«Познай самого себя» — эти слова эти слова украшали фронтон Дельфийского храма. Самопознание и было единственным серьезным вопросом для Сократа. Но зачем? Разве не полезнее овладеть надежным ремеслом, гарантией куска хлеба?
Нет. Философ уверен: только знание позволяет человеку действовать разумно. Того кто знает, что такое хорошо, ничто не заставит поступать плохо. То есть зло существует лишь из-за незнания добра. А поскольку все хотят счастья и в природе человека стремиться к добру, то кто же сознательно выберет зло? Поэтому есть только одно благо — знание, и только одно зло — невежество.
Неужто Сократ был так наивен и прекраснодушен, что не замечал очевидного? Кроме разума, как известно, существуют чувства, и достаточно спуститься с философских высот на землю, чтобы увидеть: между знанием и действием лежит пропасть… Однако Сократ был убежден, что знание добра включает в себя и стремление к нему. Любой поступок правилен настолько, насколько полезен и целесообразен. Тех, кто поступал неправильно, философ не считал умными.
Почему же, вопреки очевидной выгоде, люди поступают плохо? Неужто все глупцы? Нет. Но они считают полезным то, что помогает достичь желаемого, хотя на самом деле полезнее разобраться с желаниями. Иначе человек становится рабом собственных страстей и часто выбирает худшее. Чтобы не ошибиться, философ оценивает поступки с точки зрения истины, добра и счастья, которые несовместимы со злом. Поэтому и не считает счастливым македонского тирана Архелая, погрязшего в преступлениях, роскоши и удовольствиях.
Мудрость для Сократа есть высшее благо, так как это не только знание, но и выбор добра. Именно она — источник всех благ: «не от денег рождается добродетель, а от добродетели бывают у людей и деньги, и все прочие блага». Поэтому Сократа и привлекает философия, отвечающая на простые человеческие вопросы: что хорошо, а что плохо, что прекрасно, а что безобразно, справедливо или не справедливо. Исследование природы он находит бесполезным: ведь знание её законов не позволяет влиять на ход небесных светил или времена года. Он, конечно, не отрицал полезность наук и природы, но гораздо выше ставил изучение человека. Только зная, где добро, а где зло, где истина, а где заблуждение, можно правильно действовать.
Постигать философские истины он предпочитал в беседах и спорах, считая это гораздо удобнее сочинительства. Книги сравнивал с картинами: «стоят как живые, а спроси их — они величаво и гордо молчат». Без настоящего диалога, по его мнению, нет настоящей мудрости, зато есть возможность перебиваться за счет известного понаслышке. Кстати, и до сих пор для выяснения чужих познаний не придумано ничего лучше живой беседы.
Есть, как известно, три основных вида словесных баталий: спор, полемика, дискуссия. Каждому из них дано немало разных определений, поэтому назовем наиболее существенные. В споре важно победить противника, независимо от того, прав он или нет. Этим отличались софисты, которые стремились к победе любой ценой, с одинаковым успехом доказывая противоположное. Здесь годятся любые уловки — от ссылок на авторитеты и попыток принизить оппонента до многозначительной недосказанности. Полемика — попытка доказать противнику свою правоту, убедить его, однако полемисту заранее, как ему кажется, ведома истина. Иное дело — дискуссия, когда оба собеседника озабочены поиском истины, но при этом по-своему смотрят на вещи. Сократ же предпочитал умелый, непредвзятый диалог-рассуждение, и искусство вести его называл диалектикой. Она заключалась в умении задавать вопросы и отвечать на них.
А вопросы возникали сложные. Чтобы принимать законы, демократам приходилось задумываться о справедливости и её критериях. Софисты решали проблему просто: что каждому городу представляется справедливым, то и справедливо. Отсюда неизбежно следовал вывод о праве сильного господствовать над слабым. Но Сократ был убежден, что если существует много разных справедливостей, то можно, поднявшись над частностями, говорить о справедливости вообще, единой для всех. То же самое относится и к таким понятиям, как истина, добродетель, мужество. Философ впервые попытался найти общие этические определения, пусть даже такие попытки нередко не давали результата. Кстати, именно по этому поводу была сказана фраза насчет собственного незнания. Это не итог размышлений, а начало: «Я знаю, что я ничего не знаю… О том, что такое добродетель, я ничего не знаю… И всё-таки хочу вместе с тобой поразмыслить и понять, что она такое».
Но где же тут истина? Скорее, демонстрация бессилия разума. Да и собеседники Сократа тоже быстро убеждались, что знают ничуть не больше его. Однако философские диалоги не закончены. Обнажив незнание, мудрец подтолкнул к поиску, который продолжается до сих пор.
В свое время молодежные газеты с азартом спорили о том, нужна ли физику лирика и как связаны знания с нравственностью. В качестве примера обычно приводили какого-нибудь бессердечного ученого и, наоборот, высокоморального «простого» человека. Споры, надо сказать, пустые. Если невежа нуждается в воспитании, то невежда — в образовании. И бесполезно выяснять, кто из них лучше. Причем подлинное знание и подлинная нравственность не противоречат друг другу, а дополняют. Их единство означает, что человек знает и понимает себя и мир, в котором живёт. Не о том ли толковал и Сократ? Пусть даже не каждому хватает жизни, чтобы подняться хоть на ступеньку бесконечного пути к подлинному.
В общем-то Сократ, как и Конфуций, учил умению жить. Науку свою никому не навязывал. «Я никогда не был ничьим учителем. Если кто хотел слушать, что я говорю, и видеть, что я делаю, молодой ли, пожилой ли, я никому никогда не отказывал», — говорил он. Как и Конфуций, ничего не писал; о его беседах мы знаем благодаря Платону и Ксенофонту.
Вопросы, мучившие философа, могут показаться прагматику безделицей, игрой досужего ума. А на самом деле оказались вечными.
За язык — к высшей мере
Как пишет Диоген Лаэртский, Сократ первым стал рассуждать об образе жизни и первым из философов был казнён по суду. В спорах он был непревзойдён и ему нередко доставалось от неудачников. Бывало, и за волосы таскали, и поколачивали. Получая пинки, философ терпел: «Если бы меня лягнул осел, разве стал бы я подавать на него в суд?» — пояснил он однажды. Но в суд подали на него самого. Хозяин кожевенных мастерских Анит давно ненавидел язвительного умника, который насмешничал по поводу его порочных услад с Алкивиадом, будущей афинской знаменитостью. В конце концов кожевенник нанял некого стихотворца, чтобы он свидетельствовал против Сократа. Для надежности в компанию взяли и оратора. Истцы обвинили философа в неуважении богов и развращении молодежи, потребовав за это смерти. Сократа не переспорить, зато вполне можно убить.
Действительно, молодые почитатели философа частенько ставили в трудное положение уважаемых афинян своими вопросами. Припомнили Сократу и советы «божественного голоса»: слушать надо богов, а не демонов. И все же дело было, что называется, шито белыми нитками. Заботами о собственной защите Сократ пренебрег: «Я за всю жизнь не сделал ничего предосудительного. Это я считаю лучшей подготовкой к защите», — сказал он.
Надо заметить, враги не столько добивались его смерти, сколько жаждали моральной победы. Их вполне бы устроило, если бы Сократ, к примеру, сбежал из Афин. Но ответчик явился на суд и вел себя так, будто забыл предупреждение друзей: здесь судьи часто осуждают на смерть невиновных, раздраженные их речами. Как, впрочем, и оправдывают виновных, если только те своим поведением ублажат судейское самолюбие. А речь Сократа скорее напоминала обвинение, а не оправдание. Он даже не использовал законный шанс смягчить себе наказание. Дело в том, что обвиняемый мог сам предложить себе меру наказания, справедливую с его точки зрения, и суд присяжных нередко с ней соглашался. Сократ, словно в насмешку, сказал, что его, человека заслуженного, но бедного, вполне устроил бы обед за общественный счет в знак признания особых заслуг перед государством. Суд усмотрел в этом издевку и большинством голосов вынес смертный приговор. И философ предпочел смерть унижению: «Я ухожу отсюда, приговоренный вами к смерти, а мои обвинители уходят, уличенные правдою в злодействе и несправедливости».
Друзья навещают философа в тюрьме и за день до казни настойчиво уговаривают убежать. Только чего стоила бы сократовская мораль, если бы он ей не следовал… Он отвечает, что несправедливый поступок всегда есть зло и позор для совершающего его. А что если несправедлив закон? Сократ возражает: будучи гражданином Афин, он обязался соблюдать здешние законы. Если же они несправедливы, то за семьдесят лет у него было время уйти из города или добиваться их исправления. В конце концов можно было и на суде потребовать изгнания, теперь же побег лишь подтвердит обвинения. Почему бы беглецу не быть и развратителем юношества? И к лицу ли Сократу, всю жизнь твердившему о справедливости и добродетели, бежать в страхе перед смертью? Он достойно прожил жизнь. Впереди лишь старость, болезни, и покинуть этот мир сейчас, не доставив хлопот друзьям, — право же, неплохая участь. Потому он и сказал своим судьям на прощание: «Пора идти отсюда, мне — чтобы умереть, вам — чтобы жить. А что из этого лучше — никому неведомо, кроме бога».
До самого конца он был удивительно спокоен. Может, помогала убежденность, что с хорошим человеком не случится ничего плохого ни при жизни, ни после смерти?
Чтобы не обременять близких омовением тела, Сократ принимает последнюю ванну и, не дожидаясь заката, просит дать ему яду. Затем пьет чашу цикуты (болиголова) до дна — согласно Платону, спокойно и легко.
Он учил, что человек во всех ситуациях волен в выборе между добром и злом. Что лучше терпеть несправедливость, чем её творить. Что нет ничего на свете выше мудрости. Ему же предложили жизнь в обмен на отказ от философии. А зачем философу такая жизнь?
Пройдут годы, и Платон назовет своего учителя самым счастливым человеком.
Сократ оставил нам не какую-то доктрину, а способ, которым искал истину. Он искал ее не в традициях и авторитетах, а в самом разуме.
Надеялся, что своими вопросами может привести собеседника к ней, верил, что она уже есть внутри нас, ещё с предыдущей жизни, но мы об этом не знаем и лишь вспоминаем забытое. Как и его мать, он хотел быть акушеркой при рождении истины. Ведь знать, как отличать добро от зла — самое важное в жизни, в том числе и посмертной, потому что душа наша живёт и после телесной смерти. Добрые люди после смерти живут в обществе богов, а злые — несчастны и скитаются около могил как духи, призраки, и в конце концов начинают новую земную жизнь, но уже на более низкой ступени.
Философ считал, что невозможно делать злое, зная, что это зло. Был прекраснодушен? Мы же часто поступаем под влиянием эмоций, страстей: любви, ненависти, зависти, стремления к власти, и при этом хорошо знаем, что есть добро, а что зло. Недаром апостол Павел сетовал: мол, не делаю благо, которого хочу, а делаю зло, которого не хочу. Может, наш слабый разум не всегда умеет отличать добро от зла? Но это бы лишь означало, что мы не отвечаем за свои поступки…
Однажды Антифонт, желая отвлечь от Сократа его собеседников, подошел к нему и в присутствии их сказал так: Сократ! Я думал, что люди, занимающиеся философией, должны становиться счастливее от этого; а ты, мне кажется, вкушаешь плоды от нее противоположные. Живешь ты, например, так, что даже ни один раб при таком образе жизни не остался бы у своего господина: еда у тебя и питье самые скверные; гиматий ты носишь не только скверный, но один и тот же летом и зимой; ходишь ты всегда босой и без хитона. Денег ты не берешь, а они доставляют радость, когда их приобретаешь, а когда владеешь ими, дают возможность жить и приличнее, и приятнее. В других областях знания учителя внушают ученикам желание подражать им. Если и ты хочешь внушить своим собеседникам такую мысль, то смотри на себя как на учителя злополучия.
Сократ на этот ответил: Как мне кажется, Антифонт, ты представляешь себе мою жизнь настолько печальной, что предпочел бы, я уверен, скорее умереть, чем жить как я. Тогда давай посмотрим: что тяжёлого ты нашел в моей жизни? Не то ли, что я, не беря денег, не обязан говорить, с кем не хочу, тогда как берущим деньги поневоле приходится исполнять работу, за которую они получили плату? Или ты хулишь мой образ жизни, думая, что я употребляю пищу менее здоровую, чем ты, и дающую меньше силы? Или ты думаешь, что продукты, которыми я питаюсь, труднее достать, чем твои, потому что они более редки и дороги? Или думаешь, что кушанья, которые ты готовишь, тебе кажутся вкуснее, чем мне мои? Разве ты не знаешь, что кому есть хочется, тому очень мало надобности в лакомых блюдах, и кому пить хочется, тот чувствует очень мало потребности в напитке, которого нет у него? Что касается гиматиев, как тебе известно, их меняют по случаю холода и жара, обувь надевают, чтобы не было препятствий при ходьбе. Так видел ли ты когда, чтобы я из-за холода сидел дома больше, чем кто другой, или по случаю жара ссорился с кем-нибудь из-за тени, или от боли в ногах не шел, куда хочу? <…> Если я — не раб чрева, сна, сладострастия, то существует ли для этого, по-твоему, какая-нибудь другая. Более важная причина, чем та, что у меня есть другие, более интересные удовольствия, которые доставляют отраду не только в момент пользования, но и тем, что подают надежду на постоянную пользу от них в будущем? Но, конечно, тебе известно, что люди, не видящие никакой удачи в своих делах, не радуются; а которые считают, что у них идет всё хорошо — сельское хозяйство, судоходство или какая другая профессия, — те радуются, видя в этом для себя счастье. Так вот, от всего этого, как ты думаешь, получается ли столько удовольствия, сколько от сознания того, что и сам совершенствуешься в нравственном отношении и друзей делаешь нравственно лучшими? Я вот всегда держусь этого мнения. <…> Похоже, Антифонт, что ты видишь счастье в роскошной, дорогостоящей жизни; а по моему мнению, не иметь никаких потребностей есть свойство божества, а иметь потребности минимальные — это быть очень близким к божеству; но божество совершенно, а быть очень близким к божеству — быть очень близким к совершенству.
Платон (427 — 347 до Р.Х.)
Если верить молве, Платон был сыном бога Аполлона и, значит, внуком самого Зевса. Аргументы в пользу этого следующие. Древнегреческий писатель Диоген Лаэртский приводит такой рассказ: когда Аристон безуспешно попытался овладеть юной Потоной, то вдруг увидел образ Аполлона. После этого «он сохранил жену в чистоте, пока та не разрешилась младенцем». Маленький Аристокл (имя Платон — «широкий» — дал ему учитель гимнастики за мощное телосложение) родился 27 мая, в день рождения Аполлона.
О том, что от браков богов и земных женщин рождаются незаурядные дети, говорят многие легенды. Прекрасная Елена была дочерью Зевса, от него же Даная родила Персея. Юная Олимпиада, после визита бога Амона разрешилась Александром, впоследствии названным Македонским… Почему бы и Платону не быть в родстве с Аполлоном?
Но если даже история с Аполлоном — чистейшая выдумка, то всё равно род философа восходит к знаменитому афинянскому законодателю Солону, одному из семи греческих мудрецов. На фоне такой родословной скромно выглядит и сам учитель Платона Сократ, сын каменотеса и повитухи.
Кстати, рассказывают, что накануне встречи с Платоном, тогда лишь юным поэтом, Сократ увидел во сне на коленях у себя молодого лебедя, который взлетел с дивным криком. А лебедь — птица, чей образ некогда принимал Аполлон. Считается, что это и предзнаменовало ученичество Платона и их дружбу.
Встреча с Сократом перевернула жизнь юноши. Он боялся упустить хоть слово учителя и тщательно всё записывал. Правда, сам Сократ удивился, послушав кое-что из платоновских сочинений: «Сколько же навыдумывал на меня этот юнец!» — воскликнул он.
Каково учить тиранов
После смерти учителя Платон, как и подобает философу, отправился по свету осваивать науки и чужеземные нравы. В Вавилоне изучал астрономию, у ассирийцев познавал магию. Бывал в Египте, где когда-то его знаменитый предок набирался мудрости у жрецов. Десятилетнее путешествие закончилось на Сицилии, в Сиракузах. Этот город занял особое место в судьбе Платона. Там он поставил уникальный эксперимент, трижды пытаясь обратить правителей к добру.
Поездив по свету, Платон убедился, что владыки плохо справляются со своими обязанностями. Из такого положения дел он видел два выхода: или философы должны стать правителями, или правители философами.
В Сиракузах в те времена правил Дионисий Старший. Жизнь его была обычной для тирана. Войны чередовались с придворными интригами, интриги разнообразились казнями и развлечениями. Важную роль при дворе играл некий Дион, двойной родич тирана. Он жаждал просветить правителя и соблазнил такой возможностью Платона. Дионисий тоже был не прочь побеседовать с философом, и встреча состоялась.
Однако философские беседы не доставили Дионисию удовольствия. Он услышал, что тираны — самые трусливые люди, потому что боятся собственного цирюльника, когда у того в руках бритва. И счастьем они обделены, поскольку его достойны лишь справедливые. На вопрос Дионисия, в чем состоит цель властителя, Платон ответил: «Делать из своих подданных хороших людей».
Правитель считал себя справедливым судьей и поинтересовался мнением философа о значении суда. Платон ответил, что даже справедливые судьи похожи на портных, зашивающих порванное платье, тогда как надо не дыры латать, а иначе управлять. Узнал и другие малоприятные вещи: что если тиран не добродетелен, то не всё то к лучшему, что ему на пользу. Наконец, Дионисий возмутился: «Ты болтаешь как старик», — сказал он. — «А ты как тиран», — ответил Платон.
Придворные, конечно, слушали такие смелые речи, затаив дыхание, но дело кончилось плохо. От казни Платона спасло лишь заступничество друзей и некоторые заботы правителя о собственной репутации. Философу пришлось спешно отбыть в родные края на корабле спартанского посла Поллида.
Но от тиранов так просто не уходят. Вероломный Дионисий приказал послу убить Платона или, по крайней мере, продать в рабство. При этом издевательски заметил, что, будучи человеком справедливым, Платон будет счастлив и в рабстве.
Поллид убить философа не решился, но на острове Эгине вывел его на невольничий рынок. Спасла Платона только его слава. Некий Анникерид узнал известного философа и, купив, тут же отпустил на свободу. Чем и обессмертил своё имя.
Дионисий такого исхода не ожидал и через приближенных попросил Платона не говорить о нем дурного. На это философ ответил, что ему недосуг даже помнить о Дионисии.
Между тем, у сиракузского руководителя подрос сын, Дионисий Младший. Когда он принял бразды правления, Дион решил повторить просветительский эксперимент. Он рассказывал главе государства столько лестного о философе, что тому в конце концов нестерпимо захотелось увидеть Платона, словно ребенку — иметь дорогую игрушку. А Платон за эти годы столько передумал об идеальном устройстве государства, столько написал… И снова согласился.
Его встретили как самого дорогого гостя. Молодой государь даже оказался восприимчив к прогрессивным идеям. Под влиянием Платона он для начала расстался с личной охраной. Поговаривали, что готов расстаться и с конницей, променяв ее на занятия геометрией. Но в итоге хрен, хоть и молодой, оказался ничуть не слаще уже знакомой редьки. Оклеветанного Диона выставили из страны, а его протеже оказался в крепости в странной роли: почётного гостя и одновременно пленника. Немилость правителя сменялась временными приступами пылкой дружбы… Ещё не скоро будут сказаны известные слова — «минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь», — а Платон уже прочувствовал на себе их справедливость. К счастью для него, началась очередная война, владыке стало не до философа и тот благополучно вернулся восвояси.
Говорят, мудрец учится на чужих ошибках, а глупец на своих. А что же Платон?
Через пять лет, на исходе шестого десятка старика уговорили в третий раз отправиться в Сиракузы. Тщеславный Дионисий понял-таки, кого он лишился, и во что бы то ни стало захотел вернуть философа. И добился своего, поставив приезд Платона условием возвращения Диона на родину. Сценарий повторился: пышный прием, возвышенные беседы, после чего охлаждение. Скоро из тихих придворных покоев Платона переселили поближе к солдатским казармам, где его еще помнили как виновника эксперимента с охраной взбалмошного правителя. Только слава Платона помогла ему добраться до дому целым и на этот раз.
А Диона вероломный тиран на родину так и не пустил. Тогда тот собрал кое-какие силы и начал войну с Дионисием. И даже победил. После чего, естественно, начал претворять в жизнь то, чему набрался в Афинах, — платоновские задумки о демократии, где рядом с царской процветала бы и народная власть. Но оказалось, что в Сиракузах далеко не всех устраивало такое правление, и смелого реформатора вскоре убили.
Итак, из платоновских замыслов о просвещенном правлении ничего не вышло. Невежество просвещаться не желало. Но если сила без разума рождает тиранов, то разум, оторванный от жизни, рождает утопии. Надо-де только найти добродетельных и мудрых старцев, которые придумают справедливые законы, обязательные для всех, в том числе и для верховной власти, и настанет царство всеобщего благоденствия.
На эту тему жизнь дала философу еще один урок. Жители города Мегалополя обратились к нему за советом насчет будущего законодательства. Тут же и выяснилось, что всеобщее равенство перед законом никого не устраивает. Платон был поражен. «Истина прекрасна и незыблема, однако думается, что внушить её нелегко», —напишет он потом в «Законах», своём предсмертном произведении.
Идеи хорошие, да люди плохие
После первого неудачного путешествия в Сиракузы Платон купил на окраине Афин дом с садом и основал там свою философскую школу. Рядом была та самая роща, в которой покоился среди олив афинский герой Академ. Согласно преданию, он указал сыновьям Зевса — Кастору и Полидевку, — где укрыта похищенная Тесеем их сестра Елена. С тех пор платоновскую усадьбу афиняне стали именовать Академией, как и место, где находилась философская школа.
Здесь занимались не только философией, но и математикой, астрономией, изучали естественные науки. Двадцать лет в Академии учился Аристотель. А его учитель размышлял под оливами над устройством идеального государства.
Пифагорейцы научили его четкости, логике, умению классифицировать, и философ часто думал над «разделением предметов». Так, государственную власть он делил на пять родов — демократическая (правит большинство), аристократическая (правят лучшие), олигархическая (правят немногие, в зависимости от достатка). Бывает еще царская власть, причем двух разновидностей: по происхождению (цари избираются из одного рода) и по закону (власть можно купить на торгах за деньги). Наконец, тирания (такую власть правитель захватывает хитростью или силой). Демократию Платон не одобрял: если олигархи лишь пытались зажать рот Сократу, то демократы его убили. Да и смешно ожидать от народа, дикого и необразованного, чего-нибудь путного.
Лучшая форма правления для него — это, конечно, собственный проект идеального государства. Состоит оно не из обыкновенных граждан, а исключительно добродетельных, которых для этого специально воспитывают. Все добродетели у философа учтены и пронумерованы. Основных — четыре: мудрость, мужество, благоразумие и — главное — справедливость. У каждой части души своя добродетель. Познавательная часть — разум — должна стремиться к истине, добру и красоте, этим трем основаниям блага. Мужественная часть — дух — должна помогать разуму, не останавливаясь ни перед чем. Её добродетель — знать, чего нужно бояться, а чего нет. Добродетелями чувственной части души — страстей — должны быть умеренность и самообладание, то есть знание того, чем можно пользоваться, а чем нет. Если каждая из этих частей будет исполнять свой долг как следует, то к их добродетелям прибавится еще одна — справедливость.
А поскольку добродетели разные, то и их обладатели занимают разное положение в обществе. Крестьяне и ремесленники входят в сословие низшей добродетели. Их удел — благоразумие, то есть самообладание и покорность. У воинов и чиновников, стоящих на страже государственных устоев, — свое сословие, их добродетель — мужество. Правят же государством те, кто обладает высшими добродетелями — мудрые и справедливые.
Крестьяне и мастеровые всех кормят и обеспечивают, и за это им дано право иметь собственность. Остальных же за пристрастие к собственности беспощадно карают. Бытовые вопросы решает государство. К примеру, воспитывает детей с малых лет, и те считают его своим общим родителем. Заботы опекунов направлены на развитие ума и укрепление тела; поэтому всё, что, на государственный взгляд, мешает этому — сентиментальные мелодии, грустные песни и тому подобные вещи, — запрещено. Для счастья, полагал автор проекта, вполне достаточно быть добродетельным.
В счастье философ усмотрел пять разновидностей. Вот они: разумные желания, здравые чувства и тело, удача в делах, добрая слава и достаток. Платон даже объяснил, как этого достичь. Желания становятся разумными в результате воспитания и опыта, здравые чувства определяются телесным здоровьем, удача приходит, когда человек действует правильно и старательно. Добрая слава у того, о ком говорят хорошее. Кто всего этого достиг, тот и счастлив.
Что ж, всё это довольно банально. Зато непривычно насчет достатка. У Платона это значит иметь достаточно средств, чтобы помогать друзьям и выполнять требования государства. Да, всего лишь, потому что речь идет, напомним, о разумных желаниях. Философ был убежден, что существует некая абсолютная истина, и задача лишь в том, чтобы объяснить человеку, как надо жить — и он тут же выберет лучшее. Как и планировал Сократ.
Не менее решительно, чем со счастьем, философ разобрался и с любовью. Низшая ступень «лестницы любви» — любовь физическая. Затем идет очарованность не телом, а душой. И, наконец, высшая ступень — влечение к Прекрасному, возвышающее человека а богам. Это духовное слияние двух натур в стремлении к истине называют платонической любовью. Ее восторги заключаются в сознании общего стремления к божественной цели.
Ну, а как быть с нашими низменными «хочу — не хочу»? Никак. Люди для Платона — это всего лишь куклы, которых дергает за ниточки божественная рука. Поэтому дело каждого — отбросить все помехи и думать об общем благе. Тогда и наступит всеобщее процветание. Идея, как видим, старая, но очень живучая. О подобном «земном рае» некоторые мечтают до сих пор. Неужели к такой жизни склонял философ сиракузских тиранов? Вряд ли его интересовало, что думают об этом сами сиракузцы.
Платон, наверное, смог бы неплохо жить в своем утопическом государстве. Держался он скромно, чувства привык обуздывать. Опасался любых привычек. Однажды стал укорять игрока в кости за пагубное пристрастие. «Это же мелочь», — возразил игрок. «Но привычка — не мелочь», — ответил философ. Поэтому никогда не разрешал себе долго спать, зато в работе удержу не знал и сторонился людей, если те мешали. А уж беседовать с первым встречным, подобно Сократу, и вовсе не имел охоты. «Ах, Платон, Платон, ведь только ты и знаешь, что угрюмиться и брови гнуть, улитке наподобие», — обращался к нему один из современников в своей комедии.
Похоже, Платона разочаровали люди, не понимающие, что для них хорошо. В своих незавершенных «Законах» он пытается до мелочей регламентировать жизнь обитателей этой райской страны, которая не мыслится без рабов и жестоких наказаний. Тут уж любая критика запрещена, и вольнодумец Сократ в таком государстве не отделался бы только цикутой. Впрочем, в «Законах» нет Сократа, непременного участника всех диалогов. Да он и не вписался бы в это общество единомыслия, управляемое беспощадными стариками. Вместо царства справедливости получилось обыкновенное место лишения свободы — правда, показательное, где под административным доглядом не только трудятся, но и поют, и пляшут.
Словом, сплошные неудачи с этими утопиями.
От мнений — к знаниям
В преобразовании материального мира философу, как видим, не повезло. Но он поднялся над материей. Платона интересовала не материя, а те законы, которыми она управляется, — то есть, по его терминологии, мир идей. Самая высшая идея — это благо или абсолютная красота, начало всех начал. Материальный мир — лишь искаженное отражение божественных идей, его-то мы и видим. Но первооснову каждой вещи мы можем постичь умственным зрением, воспринимая небесные идеи и следуя им. Поэтому во главе его идеального государства стоят философы, которые этим и занимаются. Им по силам понять даже высшую идею — что такое благо.
Платон утверждал, что чувственное восприятие дает лишь мнения, знания же рождаются с помощью сверхчувственных идей. Если пифагорейцы обнаружили, что число вещи — вовсе не то же самое, что сама вещь, то Платон открыл, что идея вещи — это тоже не вещь, а ее смысл и отражение.
Мир идей, существующий в космосе и отраженный на земле, восхищал Платона. Ведь на основе идей можно изучать материальный мир, наполненный такими многоликими и ускользающими от точных определений вещами. Идея вещи — это обобщение множества ее частностей. Вода, к примеру, бывает разной — в луже, кране, море, атмосфере, — но вода вообще — это и есть платоновская «идея воды». А наука может оперировать только обобщенными предметами и понятиями. Нет обобщений — нет и науки, есть хаос и череда случайностей.
Диоген иронизировал над платоновскими идеями: «А я вот, Платон, стол и чашу вижу, а стольности и чашности не вижу». Тот ответил: «И понятно: чтобы видеть стол и чашу, у тебя есть глаза, а чтобы видеть стольность и чашность, у тебя нет разума».
Платоновские идеи оказались настолько важны для понимания мира, что над ними думали многие поколения философов. Со временем менялось и само понятие. Если для Платона идеи были реальны и существовали независимо от сознания — почему его и называют объективным идеалистом, — то потом идею понимали как нечто совершенное, чего не было на практике. В конце концов материалисты увязали идею с экономическими отношениями, а провозглашение идей — по Платону, вечных и неизменных, — свели к идеологической надстройке над действительностью…
В отличие от Сократа, Платон не каждого допускал в свой философский храм, а потому о доступности изложения не заботился, желая уберечь свое учение от невежд. Например, его диалог «О душе» только Аристотель смог дослушать до конца, остальные потихоньку разбрелись. Однако учёный вовсе не стремился к зауми. Наоборот, от принятой манеры изложения философских взглядов в виде поучений он перешел к диалогам, которые часто ведутся за пиршественным столом. Застольный разговор в те времена был главным развлекательным и интеллектуальным блюдом. В форме диалога построен, например, платоновский «Пир», где Сократ и его друзья ведут философскую беседу. А где пир, там и спиртное — разбавленное водой вино, и потому такие беседы назывались «симпосия» — то есть, совместное питье. На современных симпозиумах нередко обходятся без выпивки, но название осталось.
Умер философ, как и родился, в день рождения, свой и Аполлона. Ученики похоронили Платона в его Академии.
Платон ценил всё рациональное и разумное, что, впрочем, не помешало ему стать первым в Европе идеалистом. С помощью своих идей он хотел создать теорию вечных закономерностей природы и общества.
Философ считал, что только деятельная, руководимая идеями жизнь ведет к осуществлению важнейшей идеи — добродетели, что для него означало порядок и гармонию души. Платон неустанно проповедовал свой идеал — всеобщую гармонию, ради торжества которой допускал насилие, убивающее любой идеал. Он верил, что можно придумать математически точную науку о правильной жизни, объяснить её всем, и тогда наступит земной рай. Его мораль и его утопия построены по прямолинейным и суровым идеалам, имеющим очень мало общего с живой жизнью (которую он, кстати, очень любил и не уставал любоваться красотой неба и моря, цветов и здорового человеческого тела). В своей эстетике на первое место ставил любовь, потому что любящему взгляду всегда открывается в предмете своей любви гораздо больше, чем равнодушному. Только любящий может быть творцом, только ему приходят новые идеи.
— Разве, по-твоему, художник становится хуже, если в качестве образца он рисует, как выглядел бы самый красивый человек, и это достаточно выражено на картине, хотя художник и не в состоянии доказать, что такой человек может существовать на самом деле?
— Клянусь Зевсом по-моему, он не становится от этого хуже.
— Так что же? Разве, скажем так, и мы не дали — на словах — образца совершенного государства?
— Конечно, дали.
— Так не теряет ли, по-твоему, наше изложение хоть что-нибудь из-за того только, что мы не в состоянии доказать возможности устроения такого государства, как было сказано?
— Конечно же нет.
— Вот это верно. Если же, в угоду тебе, надо сделать попытку показать, каким преимущественно способом и при каких условиях это было бы более всего возможно, то для такого доказательства ты одари меня тем же…
— Может ли что-нибудь быть исполнено так, как сказано? Или уже по самой природе дело меньше, чем слово, причастно истине, хотя бы иному это и не казалось? Согласен ты или нет?
— Согласен.
— Так не заставляй же меня доказывать, что и на самом деле всё должно полностью осуществиться так, как мы это разобрали словесно. Если мы окажемся в состоянии изыскать, как построить государство, наиболее близкое к описанному, согласись, мы можем сказать, что уже выполнили твое требование, то есть показали, как это можно осуществить.
Или ты этим не удовольствуешься? Я лично был бы доволен.
— Да и я тоже.
— После этого мы, очевидно, постараемся найти и показать, что именно плохо в современных государствах: из-за чего они и устроены иначе; между тем в результате совсем небольшого изменения государство могло бы прийти к указанному роду устройства, особенно если такое изменение было бы одно или же их было бы два, а то и несколько, но тогда их должно быть как можно меньше и им надо быть незначительными.
— Конечно.
— Стоит, однако, произойти одной единственной перемене, и, мне кажется, мы будем в состоянии показать, что тогда преобразится всё государство; правда, перемена эта не малая и не легкая, но всё же она возможна.
— В чем же она состоит?
— Пока в государствах не будут царствовать философы, либо так называемые нынешние цари и владыки не станут благородно и основательно философствовать и это не сольется воедино — государственная власть и философия, и пока не будут в обязательном порядке отстранены те люди — а их много, — которые ныне стремятся порознь либо к власти, либо к философии, до тех пор, дорогой Главкон, государствам не избавиться от зол, да и не станет возможным для рода человеческого и не увидит солнечного света то государственное устройство, которое мы только что описали словесно.
Аристотель (384 — 322 до Р.Х.)
Ломоносова называют первым русским университетом, а Аристотеля — выдающимся энциклопедистом античности. Сравнение с университетом было бы для него слишком слабым, потому что диапазон научных интересов философа трудно себе представить. О чем он только не пишет — о поэтах и приметах, о физике и этике, медицине и биологии… Описывает более четырехсот видов животных, характеризует около двух сотен различных законодательств, причем делает это так, будто только этим и занимался всю жизнь. Он перечисляет спортивные игры Эллады, собирает эпитафии на могилах героев, сочиняет стихи. При этом философ во всем хочет докопаться до сути и потому не делит науку на серьезную и несерьезную. Его интересует, почему белье плохо стирается в морской воде, почему белое вино опьяняет больше красного, почему от стыда краснеют, а от страх бледнеют. Эти «детские вопросы» не смущают Аристотеля, а заставляют размышлять.
Удивляет не только энциклопедический диапазон интересов, но и работоспособность целого научного института. Да только нет таких институтов, чьи труды были бы столь же разнообразны и долговечны.
Невзирая на личности
Врачом, как его отец, он не стал, и в семнадцать лет пришел в платоновскую Академию. Злые языки утверждали, что к тому времени он успел промотать отцовское наследство, побыть воином, потом торговцем лекарствами, после чего и занялся философией.
Отношения с Платоном складывались неровно. Учитель не одобрял поведения строптивого и своенравного ученика, склонного порисоваться. Говорят, Аристотель в молодости был невзрачен — худощав, глазки маленькие, да еще шепелявил, — зато любил хорошо одеться, украсить себя перстнями. Еще в годы ученичества он дерзко нападал на Платона и тот говорил: «Аристотель меня брыкает, как сосунок-жеребёнок свою мать». Однажды этот «жеребёнок» вместе со своими приятелями подошел к восьмидесятилетнему старцу и стал задавать дерзкие вопросы, желая поставить учителя в тупик. После этого Платон уже не выходил на прогулку за пределы сада, и теперь там прохаживался Аристотель со своей командой. В конце концов любимый ученик Платона Ксенократ восстановил справедливость и прогнал наглеца оттуда. Впрочем, всё это не мешало им философствовать. Платон вполне допускал разномыслие в своей школе, помня, что истинным философам чужда нетерпимость.
Как ученый, Аристотель не принимал платоновских соображений об идеях. Он считал, что в них нет ничего божественного, и их место не на небесах, а в самой вещи. Аристотель писал: «Учение об идеях было выставлено близкими мне людьми. Но лучше для спасения истины оставить без внимания личности, в особенности же следует держаться этого правила философам; и хотя Платон и истина мне дороги, однако священный долг велит отдать предпочтение истине». Отсюда и пошло крылатое выражение «Платон мне друг, но истина дороже».
В Академии он провел двадцать лет. После смерти учителя Аристотель вместе с друзьями отправился в город Ассос на побережье Малой Азии. Там философы проводили время в беседах с правителем Гермием. Можно сказать, что это был философский кружок с регулярными занятиями. Гермий настолько проникся симпатией к Аристотелю, что отдал ему в жёны свою племянницу.
Между тем, философу уже сорок, он известен, и македонский царь Филипп пригласил его воспитывать наследника престола Александра, который впоследствии станет не просто Александром, а Македонским, и даже Великим.
Аристотель уехал, а судьба Гермия сложилась печально. Персы захватили город и под пыткой допрашивали его о сговоре с Филиппом. Ничего не добились, но всё равно распяли на кресте. Используя последнюю милость победителей, Гермий попросил передать своим друзьям, что не совершил ничего недостойного философии. Это так потрясло Аристотеля, что он написал гимн, который потом и высекли на гробнице правителя. Тот гимн ему потом припомнили, к чему мы еще вернемся.
Союз царя и мудреца
Он верил в то, что Эллада способна управлять миром. Для этого нужно только объединить разрозненные города-республики, пусть и под македонским владычеством. И философ занялся воспитанием тринадцатилетнего царского отпрыска, которому предстояло это осуществить. Сам Филипп тоже интересовался науками, искусствами и не доверял воспитание сына обычным учителям. Потому и пригласил Аристотеля. Причем не только создал философу все условия для воспитания сына, но и предоставил средства для собственных исследований.
Как некогда Платон давал тиранам советы, так и Аристотель делал теперь то же самое. Он полагал, что правильно изложенные начала наук ведут к совершенству. Но если рассуждения Платона о правящих философах и философствующих правителях не оправдались, то его ученик смотрел на вещи реально. Он считал, что царю достаточно слушать советы мудреца. Так, разгневанному Александру он писал: «Раздражение и гнев должны быть обращены не против низших, а против высших. Равных же тебе нет». Или: «Старайся же быть скор на добрые дела и медлителен на гнев: первое царственно и милостиво, второе отвратительно и свойственно варварам». При этом философ дает шанс царственной особе «сохранить лицо»: «Впрочем, делай, что считаешь правильным, не презирая полезных мнений», — замечает он напоследок.
Порой наставлял и отца. Филиппу он писал: «Надо, чтобы у разумных правителей не владениями дивились, а владетелем дивились, и после перемены судьбы они были бы достойны той же похвалы». Слова поистине на все времена.
Поначалу учение шло впрок, и Александр иной раз говорил: «Сегодня я не царствовал, ведь я никому не делал добра». Аристотель даже написал для своего ученика книгу о том, как надо царствовать. «Мир не хочет, чтобы им управляли плохо!» — говорил учитель. В отличие от Платона, он не населяет идеальное государство идеальными людьми. Правитель не может дожидаться осуществления идеалов, а должен в обычных условиях управлять обыкновенными гражданами. И делать это наилучшим образом, в чем, собственно, и состоит его мудрость. Счастливейшим он называл государство, где управляет добродетель. Что касается формы правления, то философ приветствовал и монархию, и аристократию, и республику, но предостерегал против тирании, олигархии и охлократии (власти черни). В демократию он не верил и говорил, что хотя афиняне открыли две полезные вещи — пшеницу и свободу, но пользовались только первой, а второй лишь недолго и то злоупотребляли.
Однако времени на учебу у Александра было немного. В семнадцать лет он уже иногда заменял отца в государственных делах, а через три года, когда Филиппа убил один из его обиженных телохранителей, Александру и вовсе стало не до уроков. Аристотель вернулся в Афины.
Как же отразилось философское образование на делах Александра Великого?
Царь пытался осуществлять идеи Аристотеля. На покоренных территориях он основал семьдесят городов, которые жили по греческим законам, уничтожившим дикость и произвол. Кое в чем пошел даже дальше учителя. Дело в том, что Аристотель никогда не был интернационалистом и потому всех негреков считал существами, лишенными разума, — вроде животных, а то и растений. Александр же стремился объединить всех — и греков, и варваров — в единое человеческое сообщество, где соединятся разные события и языки.
Но слава опьяняла, и Александр всё реже прислушивался к афинскому наставнику. Постоянные войны и победы делали своё дело. Высокомерный, мстительный, жестокий — таким запомнили Александра современники. Когда его друг Клит стал возражать против деспотических обычаев при дворе, Александр в гневе вонзил в него копье, забыв о философии. А после того, как услышал от жреца, что египетский бог Амон считает его своим сыном, то потребовал для себя божественных почестей. Похоже, учитель не ошибался, когда думал о воспитаннике как о ленивом и своевольном юноше, который никогда не мог ничего понять в философии. Во всяком случае, философия не помешала ему пьянствовать, особенно в последние годы, и проводить досуг в гаданиях. И умер он после нескольких пьяных ночей, слабея день ото дня.
Некоторые историки обвиняют Аристотеля в том, что он отравил Александра, разочаровавшись в ученике. Было ли такое на самом деле? Ведь философ действительно недурно разбирался в ядах. Теперь уж вряд ли кто узнает истину; заметим только, что когда прилежный воспитанник превратился в деспота, то отношение к нему учителя резко изменилось. Он видел изнутри придворные интриги и мог в полной мере оценить местные нравы. А нравы в четвертом веке до Рождества Христова были суровые, как бы там ни рассуждали философы. Иллюзии исчезли вместе с военными походами. Греческие города Александр не щадил, как и все прочие, давая волю страстям и необузданности. Его окружение роптало, начались заговоры. Среди жертв одного из них оказался и племянник Аристотеля Каллисфен, которого философ послал в поход в качестве придворного летописца. Он поплатился за то, что не вписывался в хор придворных льстецов. Как сообщает античный историк, его долго возили в железной клетке в назидание народу, после чего бросили на растерзание льву. Так что слухи об отравлении не так уж и фантастичны. Ведь Аристотель был человеком не только слова, но и дела.
Недолговечны союзы царей с мудрецами.
О вкусе научных плодов
В Афинах, возле храма Аполлона Ликейского, Аристотель провел немало дней со своими учениками. Здесь, в Лике, — так называлось место для верховой езды — находился гимнасий, где и преподавал философ. При гимнасии имелся сад для прогулок — перипат, — и учеников Аристотеля, которые учились во время прогулок с наставником, стали называть перипатетиками.
В отличие от платоновской Академии, Ликей был более практичен. Здесь окончательно сложилась философия Аристотеля, гимн разуму и разумной жизни. Здесь он размышлял о том, как сделать жизнь достойной человека, существа разумного и свободного. Если до Сократа философы объясняли природу, то Сократ изучал человека. Платон ушел от практики в теорию, а Аристотель хотел использовать плоды раздумий в жизни. Высшее благо для него — это счастье, которое заключается в деятельности. Но деятельны и растения, и животные, поэтому речь тут о разумной деятельности. Сократ приравнивал добродетель к мудрости, которую можно выучить. Аристотель считает, что добродетель мало понять, она требует навыков и упражнений, требует воли. Если воля направлена ко злу, то никакое просвещение не поможет, потому что добродетель состоит в сдерживании страстей с помощью разума. Добродетель — это основанный на умеренности навык к общежитию, умение соблюдать золотую середину, и потому основное правило Аристотеля — ничего сверх меры.
Согласно философу, из всех добродетельных занятий самое приятное — созерцание истины, поэтому только мудрецы способны вполне наслаждаться жизнью. Об учении Аристотель говорит знакомые нам слова: «Корни его горьки, а плоды сладки». И стремиться надо к высшему благу, потому что как конь рождён для бега, а бык для пахоты, так и человек рожден для умопостижения и действия.
Аристотель впервые задумывается о посмертном существовании сознания. Он утверждал, что в человеке бессмертен только разум, который после смерти сливается с вселенским разумом, главным божеством, управляющим Космосом. Нормальное состояние души — жизнь вне тела, а жизнь тела — это смерть души. Поэтому жизнь философа должна быть постоянным приготовлением к смерти и освобождению. Здесь, однако, чувствуется влияние Платона, который говорил, что людское знание — лишь воспоминание о прежней жизни.
Что это? Дань невежеству? Нет, научный вывод: ведь если существуют разные проявления души, то должна существовать и сама душа. Отсюда у Аристотеля следует, что в таком случае она не должна содержать в себе никаких признаков и свойств и потому остается неизменной. Значит, она вечна и бессмертна.
Он считал знание прекрасным, а истинную красоту находил в философии, которой советовал отдаваться терпеливо и целиком. Аристотель видел два источника внутреннего знания божественного — некую демоническую силу в душе и созерцание небесных звезд. В свое время к тому же придет и Кант, с той лишь разницей, что демоническую силу у него заменит внутренний закон. И в этом, выходит, не ошибся ликейский мыслитель: «Не однажды и не дважды, но бесконечно возвращаются к нам одни и те же мнения»…
На вопрос, какая разница между человеком образованным и необразованным, философ однажды ответил: «Как между живым и мертвым». И всё же никакие знания неспособны сделать человека совершенным. Такое под силу не образованию, а переживанию, «определенной расположенности души». Тут речь не столько о разуме, сколько о чувствах, которые нуждаются в воспитании. Перспективы на этот счет у каждого свои, потому что, как считал Аристотель, люди от природы неравны. Тот, кто не в состоянии отвечать за свои поступки, не способен управлять собой, воспитать в себе, к примеру, умеренность, справедливость, самоограничение, — тот раб и может лишь выполнять чужую волю. Впрочем, практических добродетелей, которые доставляют человеку истинное наслаждение и счастье, достичь нелегко, потому что они подчинены не только рассудку. В таком случае, лучше во всем держаться золотой середины, избегая крайностей. Но поистине достоин похвалы тот, кто станет господином самому себе. Воспитание философ называл в счастье украшением, а в несчастье прибежищем. И ещё — лучшим припасом к старости.
Учителей, которым дети обязаны воспитанием, он ставил выше родителей: одна дарят нам только жизнь, а другие — добрую жизнь.
Эх, афиняне…
Он любил жизнь, но любовь эта не всегда была взаимной. После смерти Александра философ уехал на остров Эвбею. Вернее, ему пришлось бежать из Афин, потому что там решили повторить сценарий с Сократом и завели на Аристотеля дело, обвинив в святотатстве. За тот самый гимн, который он сочинил в честь Гермия:
Ну и что ж здесь такого? Оказывается, по мнению обвинителей, гимн был составлен в стиле, которым принято обращаться лишь к богам… На самом деле противники философа искали предлог разделаться с другом македонских владык. Как мы знаем, афиняне не были щепетильны в вопросах права, и найти подходящую статью было нетрудно. Хоть гимн написан за двадцать лет до суда, дело обещало быть нешуточным. Но Аристотель — не Платон, он учился на чужом опыте и не стал испытывать судьбу. Поэтому старик покинул Афины, не желая, чтобы сограждане вторично совершили преступление перед философией.
Он был убежден, что злу всегда противостоит прекрасное и разумное высшее благо. Это умение видеть сквозь нагромождение случайностей, жестокостей и бессмыслицы, борьбы и разочарований некий высший смысл помогла философу достойно пройти все житейские испытания. Однако жизнь зашла в тупик. С македонцами он рассорился, соотечественники грозят судом… Что же остается — философствование? Но философия Аристотеля — это философия действия. И он принимает яд, в отличие от Сократа — добровольно.
Кто мог знать, что таким печальным смыслом наполнится его ответ на вопрос, какую он получил пользу от философии: «Стал делать добровольно то, что другие делают в страхе перед законом»…
Аристотель соединил платоновский мир идей, оторванный от вещей, с самими вещами. Он старался всё привести в систему, во всем найти смысл, в том числе и в человеческой жизни. Жизнь — это трагедия, где есть и зло, и неудачи, и смерть, но все эти несовершенства лишь выявляют их высшую основу. По мнению философа, идея жизни оправдывает несовершенство самой жизни. Совершая красивые поступки, мы приоткрываем тот идеал, ради которого не жаль и умереть.
Аристотель не убеждает человека в его греховности, не собирается переделывать его, не ставит недостижимых задач, зато учит жить по-человечески, то есть достойно. Главная сила для философа — любовь к совершенству. Он видит корень добродетели не в рассудке, а в естественных склонностях, которые направляются общему благу. Добродетель для него — в сдерживании страстей, избегании крайностей. Мудрец призывает человека разобраться в себе и разумно управлять собой. Он завещает любить самого себя и не отказывать в том, что на благо душе и телу.
Юноши по своему нраву склонны к желаниям, а также склонны исполнять то, чего пожелают, и из желаний плотских они всего более склонны следовать желанию любовных наслаждений и не воздержаны относительно его. По отношению к страстям они переменчивы и легко пресыщаются ими, они сильно желают и скоро перестают; их желания пылки, но не сильны, как жажда и голод у больных. Они страстны, вспыльчивы и склонны следовать гневу. Они слабее гнева, ибо по своему честолюбию не переносят пренебрежения и негодуют, когда считают себя обиженными. Они любят почет, но еще более любят победу, потому что юность жаждет превосходства, а победа есть некоторого рода превосходство. Обоими этими качествами они обладают в большей степени, чем корыстолюбием: они совсем не корыстолюбивы, потому что еще не испытали нужды… Они не злы, а добродушны, потому что ещё не видели многих низостей. Они легковерны, потому что ещё не во многом были обмануты. Они исполнены надежд, потому что юноши так разгорячены природой, как люди, упившиеся вином; вместе с тем, потому что ещё не во многом потерпели неудачу. Они преимущественно живут надеждой, потому что надежда касается будущего, а воспоминание — прошедшего; у юношей же будущее продолжительно, прошедшее же кратко: в первый день не о чем помнить, надеяться же можно на всё. Их легко обмануть вследствие сказанного: они легко поддаются надежде. Они чрезвычайно смелы, потому что пылки и исполнены надежд; первое из этих качеств заставляет их не бояться, а второе быть уверенными. Никто, будучи под влиянием гнева, не испытывает страха, а надеяться на что-нибудь хорошее значит быть смелым. Молодые люди стыдливы; они воспитаны исключительно в духе закона и не имеют понятия о других благах. Они великодушны, потому что жизнь еще не унизила их и они не испытали нужды; считать себя достойными великих благ означает великодушие, и это свойственно человеку, исполненному надежд. В своих занятиях они предпочитают прекрасное полезному, потому что живут более сердцем, чем расчетом; расчет касается полезного, а добродетель прекрасного. Юноши более, чем люди в других возрастах, любят друзей, семью, товарищей, потому что находят удовольствие в совместной жизни и ни о чём не судят с точки зрения пользы. Они во всем грешат крайностью и излишеством; они всё делают через меру, чересчур любят и чересчур ненавидят и во всём остальном также. Они считают себя всеведущими и утверждают это, вот причина, почему они всё делают через меру. И несправедливости они совершают по своему высокомерию, а не по злобе. Они легко доступны состраданию, потому что считают всех честными и слишком хорошими: они мерят своих ближних своей собственной неиспорченностью, полагая, что те терпят незаслуженно. Они любят посмеяться и сказать острое словцо, так как остроумие есть отшлифованное высокомерие.
Диоген Синопский (412 — 323 до Р.Х.)
Платон, мягко говоря, недолюбливал своего коллегу. И было за что. Когда он определил человека как «животное о двух ногах, лишенное перьев», то Диоген, этот мошенник из Синопа, тут же принес ощипанного петуха и заявил, что это и есть платоновский человек. После чего формулировку пришлось уточнить, добавив: «и с широкими ногтями», отчего ее афористичность заметно потускнела. Но собакой Платон назвал его не за это, а за то, что Диоген, проповедуя аскетизм, довел его до крайних, довольно неэстетичных пределов. Отказался от кружки, потому что можно пить из ладони. Выбросил миску, когда обнаружил, что похлебка не выливается из хлебной корки. Пробовал есть сырое мясо, но говорят, что желудок этому воспротивился. Ночевал в глиняной бочке, из тех, в которых хоронили покойников. Ну чем не собачья жизнь? А «собачий» по-гречески — киник. В Риме это слово звучало как циник, оттуда оно и пришло в Россию. В дореволюционном Словаре Гранат так и написано: Диоген Циник. Диоген на прозвище не обижался и даже поддакивал: да, я виляю хвостом тому, кто бросит кусок, кто не бросит — облаиваю, а злых — кусаю.
Он не был, конечно, праведником, а за старые грехи даже заслуживал тюрьмы, но всё равно циником, в нынешнем значении слова, не был…
Переоценка ценностей
Однажды в молодости он сильно ошибся. Отец его был жуликоватым менялой и научил сына наживаться на уменьшении веса монет. Диоген решил посоветоваться по этому поводу с дельфийским оракулом, и тот порекомендовал «сделать переоценку ценностей». Но по-гречески одно и то же слово означает и «монету» и «общественное установление». Сын менялы решил, что речь о деньгах, и работа закипела. Вскоре папаша сел в тюрьму, где и кончил свои дни, а сын едва унес ноги из родного Синопа.
Так он оказался в Афинах, где решил поучиться мудрости у Антисфена, одного из сократовских учеников. Антисфен вел свои беседы в гимнасии Киносарг, то есть «зоркий пёс», себя же именовал «истинным псом». Ну, а учеников звали просто киниками. Так что у Диогена был двойной повод именоваться именно так.
Философ учил добродетели, которую понимал как возврат к природе. Он полагал, что жить надо как можно проще, чтобы меньше зависеть от других. Тот, кто сумеет побороть тягу к роскоши и наслаждению, тот будет спокоен и радостен, а именно в этом и состоит мудрость. Если довольствоваться немногим, то можно жить, никого не боясь и ничего не стыдясь. Когда же на душе тяжесть, то никакое богатство не принесет тяжести.
Здесь Диоген и набирался разума.
Киники тоже не были циничны и горячо стремились к добродетели. Они видели её в справедливости, приносящей душевный покой, а в нём-то, по их представлениям, и состоит счастье. Их учение держалось на трех китах: аскетизме, бедности и независимости. Аскетизм состоял в укреплении души и тела, ограничении элементарных потребностей и вел к наиболее здоровому образу жизни — первобытному. Босой, бездомный, в грубом плаще, надетом на голое тело, — так выглядел киник. Он напоминал современного хиппи, предпочитающего благам цивилизации свободу.
По мнению киников, в свое время боги дали людям всё необходимое для жизни, но те из-за своих неумеренных потребностей сделали себя вечно озабоченными и несчастными. И совершенно напрасно Прометей подарил людям огонь, положив начало изнеженности и испорченности. Между тем, внешние блага непрочны, они дары судьбы, и только добродетель и довольство, достигнутые смирением, имеют цену для мудреца.
В духе этих идей Диоген и решил пересмотреть привычные ценности. Человек, полагал он, больше всего страдает оттого, что не получает желаемого. Значит, чтобы быть счастливым, нужно меньше хотеть. Поэтому Диоген отказался от постоянного жилья и ночевал, где придется. Обувь носить перестал: мол, ноги не должны быть нежнее лица, которое мы не закрываем. Свои деньги раздал нищим. Но такая жизнь не понравилась даже его рабу и тот убежал. Хозяин воспринял это философски: «Смешно, если Манет может жить без Диогена, а Диоген не сможет жить без Манета». И продолжал доказывать, что бедность лучше богатства.
Наслаждения киники презирали, хотя и делали это с наслаждением, теша своё тщеславие. В театр Диоген шёл тогда, когда оттуда все выходили, поясняя, что именно так он старается поступать всю жизнь. Однажды философ демонстративно стоял голым под дождем, и прохожие жалели его. Платон посоветовал: «Если хотите пожалеть, отойдите в сторону»…
Философ предпочитал сверять высокоумные мудрствования с грубой практикой. В ответ на утверждение, что движения не существует, он просто встал и начал ходить; рассуждавшего о небесных явлениях, спросил, давно ли тот спустился с небес. Да и вообще к современникам относился прохладно. Он презирал не только образованных людей, но и простых, потому что ни те, ни другие не дотягивали до высоких философских стандартов: простонародье соревнуется, сталкивая друг друга в канаву, но никому не приходит в голову соревноваться в доброте; музыканты настраивают струны, но неспособны отрегулировать свой нрав; звездочеты следят за небесами, но не видят, что у них под ногами. Поэтому настоящий киник выкладывал согражданам всё, что о них думал. Вернувшись с Олимпийских игр, на вопрос, много ли там было людей, ответил: «Народу много, а людей немного». Однажды на площади начал кричать: «Эй, люди!» Сбежалась толпа, а философ, если верить историку, напустился на зевак с палкой, пояснив, что звал людей, а не мерзавцев. Похоже, никто не соответствовал его киническим требованиям. Но тогда какого же человека искал он, разгуливая по городу средь бела дня с фонарем?
Он искал того, кто, подобно ему, презирал бы богатство, славу, удовольствия и жизнь, предпочитая им бедность, безвестность, труд и смерть.
Однако, где бедность — там и невежество, и бескультурье. Что ж, для киников это тоже благо, поскольку знания не делают людей лучше. Научившись писать, читать и даже играть в шашки, люди так и не научились главному — отличать правду от лжи.
Проповеди в обмен на подаяние
Диогена называли тунеядцем, но тот полагал, что обличение людских заблуждений вполне оправдывает его хлеб. Философ предпочитал не проповеди, а наглядные дела, которые, заметим, далеко не всегда вызывали одобрение. Однажды он поинтересовался, что говорят о нем земляки. «Говорят, что ты притворяешься дураком», — услышал в ответ. «Скажи им, когда увидишь, что они притворяются умными», — попросил Диоген собеседника.
Если Антисфен, по словам современников, привораживал своими речами, то речи Диогена мало кому нравились. Не церемонился он и с царями. Говорят, молодой Александр специально пришел к философу и сказал: «Проси у меня чего хочешь». Тут-то Диоген и произнес исторические слова: «Не заслоняй мне солнца». Тогда владыка предложил ему хотя бы свою дружбу, но услышал, что царь не может быть другом и не может иметь друзей. После чего исторические слова произнес уже Александр: «Если бы я не был Александром, то хотел бы быть Диогеном».
Диоген и вправду не завидовал роскошной жизни придворных чиновников: «Вот уж несчастен тот, кто завтракает и обедает, когда это угодно Александру!» А когда же ел он сам и на какие, кстати, доходы?
Попрошайничал, и потому ел, когда было что. Подавали не очень охотно, и на вопрос, почему нищим подают, а философам нет, Диоген однажды ответил: «Люди знают, что может быть станут хромыми и слепыми, а вот мудрыми — никогда».
Он был готов к отказам. Аскет должен иметь закаленную душу, и Диоген укреплял её тем, что просил подаяние у статуи. Попрошайничать старался с достоинством. Когда при нем похвалили человека, подавшего милостыню, философ поинтересовался: «А меня вы не похвалите за то, что я её заслужил?» Он уважал нищих и уговаривал их полюбить нищенство: ведь бедность помощница мудрости. Она прокладывает путь к философии: то, в чём мудрецы пытаются убедить, бедность вынуждает осуществлять.
Так же независимо держались и его последователи: «Ты даёшь щедро, а я принимаю мужественно, не пресмыкаясь, не роняя достоинства и не ворча», — объяснял богачу свою точку зрения на благотворительность один из них. То есть киники отказывались не от благ, а лишь от каких-то встречных обязательств, хотя бы обыкновенной благодарности.
Ещё при жизни о Диогене ходило множество анекдотов. Не все они достоверны, зато любопытны. Например, однажды по дороге на остров Эгину он попал в руки пиратов и очутился на Крите, где его вывели на продажу. На вопрос, что он умеет делать, ответил: «Властвовать людьми». И попросил глашатая объявить, не хочет ли кто купить себе хозяина. Его купил коринфянин Ксениад. Невольник тут же заявил хозяину: «Смотри, делай теперь то, что я прикажу». Тот только и смог воскликнуть: «Вспять потекли реки!» На это Диоген возразил: «Если бы ты был болен и купил себе врача, ты ведь слушался бы его, а не говорил бы, что вспять потекли реки?»
Ксениад сделал его наставником своих детей. Афинские друзья хотели выкупить философа, но тот ответил, что его учитель Антисфен уже освободил его из вечного рабства, и потому деньги лучше раздать нищим.
Философ любил повторять, что для достойной жизни надо запастись или разумом, или веревкой на шее. Судьбе он противопоставлял отвагу, закону — природу, а страстям — разум.
Философия свободы
От раздумий, как построить хорошее государство, философы перешли к вопросу, можно ли хорошо прожить в существующем. Киники решили, что сделать это можно, надо только стать независимым от враждебного внешнего мира. (Напомним, что по Греции в те времена разгуливали воины Александра). А как жить в обществе и быть от него свободным? Очень просто: ни в чём не нуждаться.
Вся философия киников служит свободе, их высшему божеству. Платон, увидев, как Диоген моет себе овощи, заметил: «Если бы ты служил Дионисию, не пришлось бы тебе мыть овощи», но тот ответил вполне в духе своей философии: «А если бы ты умел мыть себе овощи, не пришлось бы тебе служить Дионисию». Будьте безразличны к благам — и вы освободитесь от страха их потерять.
Киники ненавидели тиранию, но не жаловали и демократию: ведь голосованием можно из невежественного человека сделать важного чиновника. Богов не отрицали, но ни с какими просьбами к ним не обращались, чтобы не терять независимости. Они презирали весь мир, предпочитая рабству цивилизации свободу бродячих собак. И если нельзя переделать мир, то вполне можно изменить отношение к нему. Разве не то же рекомендуют против житейских стрессов нынешние психологи?
Такая философия была привлекательна для утомлённых, разочарованных, а то и просто ленивых, и учение киников стало модным. Может, это обыкновенные неудачники, а вся их философия — лишь попытка оправдать свою неспособность устроить жизнь? Но сколько сил и труда они тратили на то, чтобы жить в соответствии со своими принципами… Если бы тот же Диоген употребил свою энергию на стяжание богатства, то, право же, мог бы стать не меньшим мошенником, чем его отец. Во всяком случае, молвой он по-прежнему пренебрегал и подводил такую философскую базу: «Когда задумаешь какое-нибудь дело, то рассудить надо, разумно оно или нет, и не обличит ли совесть тебя за такой поступок. А о том, что другие люди скажут, думать не надо, потому что людская молва переменчива, и если к ней примеряться, никому не угодишь». Правда, здесь упоминается совесть, и это слова уже не фальшивомонетчика, а философа. Поэтому когда Диогена попрекали уголовным прошлым, он возражал: «То было время, когда я был таким, каков ты сейчас; зато таким, каков я сейчас, тебе никогда не стать».
Он мог быть счастливым при любой власти, потому что жил по своим законам и ни от кого не зависел. Даже от семьи, которую, кстати, отрицал, мотивируя это довольно своеобразно: мол, жениться молодым еще рано, а старым уже поздно. Любовь же считал делом бездельников, и о влюбленных говорил, что они мыкают горе себе на радость
Он стремился к простоте и проповедовал её. Но простота, как известно, бывает разная, в том числе и та, что хуже воровства. Многие его ученики переняли от философа лишь грубость и неряшливость. Со временем слово «цинизм» приобрело современное значение: наглое, бесстыдное поведение, пренебрежение нормами морали. Но киников не помнили бы до сих пор, если бы это были только грязные и нечёсаные чудики. Они оставили немало трезвых мыслей. Например, утверждали, что труд — благо; что государства погибают тогда, когда перестают отличать хороших людей от плохих; что лучше сражаться вместе с немногими достойными против множества дурных, чем действовать наоборот.
Гражданин мира
И всё же, несмотря на известные достоинства, граждане из киников были никудышные. Отчасти это можно объяснить тем, что они не были местными уроженцами: их ряды пополняли пришельцы, странники, а то и изгнанники. Ясно, что среди такой публики искать патриотов трудновато. Что касается Диогена, то он единственным истинным государством считал весь мир, а себя числил гражданином мира — космополитом. Гражданство, полагал он, определяется не рождением, потому что все рождаются свободными, независимыми и равными, имея лишь одну обязанность — сочувствие к себе подобным. Членом общества человек делается лишь тогда, когда требует от него каких-то выгод или становится под его защиту. Но если следовать неким конкретным нормам, рассуждал философ, то часто выясняется: то, что в одном обществе считается добродетелью, в другом — зло, и если в одном государстве человеку могут поставить памятник, то в другом его же могут проклясть. Только гражданин мира способен одинаково справедливо относиться ко всем, а ради этого стоит отказаться от любых общественных благ. Поэтому Диоген не испытывал к родине никаких симпатий и не видел в этом смысле разницы между Синопом и Коринфом. Надо же ему было где-то родиться? А то, что этим местом оказался Синоп, — чистая случайность. И когда кто-то пожаловался, что умрет на чужбине, Диоген заметил: «Не печалься, глупец, дорога в Аид отовсюду одна и та же».
Ну, а как же долг перед родиной, которая воспитала, дала образование и всё такое прочее? Никаких долгов, возражал Диоген. Воспитал его Антисфен, который и сам жил в Афинах впроголодь, а главным учителем стал собственный опыт.
Ученики усваивали и развивали диогеновские идеи. Когда одного из них спросили, хочет ли он освобождения отечества от македонцев, тот ответил: «Зачем? Чтобы его захватил кто-то другой? Моя бедность и презрение к славе — вот мое единственное отечество и богатство, которое никто не отнимет».
Сократ хоть и не одобрял кинических замашек Антисфена, но после смерти имя патриарха, как водится, обросло легендами, и он стал для киников большим авторитетом, вторым после самого Геракла. Киники умудрились довести до крайности сократовскую неприхотливость и его стремление испытать здравым смыслом привычные вещи. Недаром Платон называл Диогена безумствующим Сократом. Но Сократ хоть и слыл оригиналом, общепринятых норм не отрицал, бедностью не кичился и был добросовестным гражданином. Он не раз участвовал в военных походах, где проявил себя отважным воином. И уж, конечно, не стал бы никого оскорблять, что для Диогена было обычным делом. Однажды этот киник пришел в роскошное жилище богача, где, естественно, не полагалось плевать на пол. Тогда философ, откашлявшись, сплюнул в бороду своему спутнику, заявив, что не нашел места хуже… Видно, авторитет его был высок и подобные выходки сходили с рук, иначе не дожил бы он до глубокой старости. Афиняне даже любили его, и когда однажды мальчишка разбил бочку философа, то негодника высекли. В конце концов, и на Руси любили блаженных подвижников благочестия. То же и киники: заботясь о собственном счастье, они стремились к добродетели, пусть и понимали её по-своему.
В философии Диоген видел поддержку на крутых поворотах судьбы. Человеку, сказавшему, что ему нет дела до этой науки, он возразил: «Зачем же ты живёшь, если не заботишься, чтобы хорошо жить?»
Своей судьбой философ был доволен и хотел только, чтобы ему не мешали жить по-своему, как и он не мешает жить остальным. Смерти не боялся. Как можно бояться того, чего никто из живых не испытал и, значит, нельзя судить, хорошо это или плохо.
Дожил почти до девяноста лет. Его пышно похоронили в Коринфе и поставили памятник: высокий столб, а на нём каменная собака. Сограждане увековечили его в медных изображениях, написав такие слова:
Путь, который указал Диоген, действительно, нетруден, особенно для любителей «жить проще». Если мир плох, то надо быть независимым от него. Цену имеют не дары судьбы, случайные и непрочные, а результат наших собственных усилий — довольство, достигнутое путём смирения. Диоген был противников излишеств и свел потребности к минимуму. Идеалом ему виделась полная апатия — безразличие к миру и его ценностям. Ясно при таких взглядах конфликтов с общепринятой моралью избежать не удалось.
Для широкого употребления это учение явно не годится, потому что даже живя в бочке и питаясь подаянием, не обойтись без людей, которые сделают эту бочку и подадут кинику на хлеб. И всё же диогеновские идеи живут: ведь и не очень сытое общество может позволить себе содержать некоторое количество оригиналов. К тому же, последовательных учеников Диогена никогда не было слишком много. Гораздо чаще встречаются желающие сполна удовлетворять свои растущие потребности, давая взамен как можно меньше. Но Диоген тут уже ни при чем.
Ко всем он относился с язвительным презрением. Он говорил, что у Евклида не ученики, а желчевики; что Платон отличается не красноречием, а пусторечием; что состязания на празднике Дионисий — это чудеса для дураков, и что демагоги — это прислужники черни. Ещё он говорил, что когда видит правителей, врачей или философов, то ему кажется, будто человек — самое разумное из живых существ, но когда встречает снотолкователей, прорицателей или людей, которые им верят, а также тех, кто чванится славой или богатством, то ему кажется, будто ничего не может быть глупее человека. Он постоянно говорил: «Для того, чтобы жить как следует, надо иметь или разум, или петлю».
Однажды, заметив, что Платон на роскошном пиру ест оливки, он спросил: «Как же так, мудрец, ради таких вот пиров ты ездил в Сицилию, а тут не берёшь даже того, что стоит перед тобою?» — «Клянусь богами, Диоген, — ответил тот, — я и в Сицилии всё больше ел оливки и прочую подобную снедь». А Диоген: «Зачем же тебе понадобилось ехать в Сиракузы? Или в Аттике тогда был неурожай на оливки?» В другой раз он повстречал Платона, когда ел сушеные фиги, и сказал ему: «Прими и ты участие!» Тот взял и съел, а Диоген: «Я сказал: прими участие, но не говорил: поешь». Однажды, когда Платон позвал к себе друзей, приехавших на Дионисия, Диоген стал топтать его ковер со словами: «Попираю Платонову суетность!» — на что Платон заметил: «Какую же ты обнаруживаешь спесь, Диоген, притворяясь таким смиренным!» Другие передают, будто Диоген сказал: «Попираю Платонову спесь», — а Платон ответил: «Попираешь собственной спесью». Диогену случалось просить у него то вина, то сушеных фиг; однажды Платон послал ему целый бочонок, а он на это: «Когда тебя спрашивают, сколько будет два и два, разве ты отвечаешь: двадцать? Этак ты и даешь не то, что просят, и отвечаешь не о том, о чём спрашивают». Так он посмеялся над многоречивостью Платона.
На вопрос, где он видел в Греции хороших людей, Диоген ответил: «Хороших людей — нигде, хороших детей — в Лакедемоне». Однажды он рассуждал о важных предметах, но никто его не слушал; тогда он принялся верещать по-птичьему; собрались люди, и он пристыдил их за то, что ради пустяков они сбегаются, а ради важных вещей не пошевелятся.
…Он говорил, что для людей с добрым именем он пёс, но никто из этих людей почему-то не решается выйти с ним на охоту. Человеку, сказавшему: «На Пифийских играх я победил многих мужей», он ответил: «Нет, многих рабов, а мужей побеждать — это мое дело».
Эпикур (341 — 270 до Р.Х.)
Самой практичной наукой для него была философия, призванная путем рассуждений привести к счастливой жизни. Те науки, которым это не под силу, не нужны. На особом положении лишь логика и физика: первая позволяет отличить истину от заблуждений, а вторая избавляет от суеверных страхов и даёт верное понимание природы вещей. Его взгляды вполне современны и для нашего века: мир он считал материальным и познаваемым, в бессмертную душу и всякие сверхъестественные чудеса не верил. Потомки ему этого не простили. Через полторы тысячи лет флорентиец Данте написал «Божественную комедию», где не забыл и эпикурейцев, которых было немало в его родном городе. Их он поместил в огненные могилы ада:
Но зачем Эпикуру понадобились эти проблемы на стыке науки и мистики, которые и по сей день не решены? В конце концов, эпикурейцы вошли в историю как люди, предпочитающие комфорт и плотские удовольствия, а вовсе не пропагандисты материалистических идей. «Я призываю к непрерывным удовольствиям, а не пустым и тщетным добродетелям, лишенным твердой надежды на плоды», — говорил их первоучитель. И даже: «Я плюю на прекрасное и на тех, кто суетно им восхищается, если оно не доставляет никакого удовольствия».
Живи и не бойся
Ни почести, ни богатство, по мнению Эпикура, не дают счастья, потому что рождают тревогу и страх. А человек должен жить спокойно, независимо от мира, безмятежно предаваясь наслаждениям, потому что «наслаждение есть начало и конец счастливой жизни». Ради этого он и замахнулся на богов и на бессмертную душу. Философ видел два главных источника страха — религию и смерть. Вмешательство высших сил в земные дела превращает человека в игрушку в руках судьбы, а загробная жизнь убивает надежду избавиться от страданий. Поэтому Эпикур пересмотрел привычное отношение к тому и другому. В богов он верил, но считал, что их не интересуют наши земные дела: зачем им это, если они могут наслаждаться, не отвлекаясь на суетные заботы. Богам не до нас, и поэтому мы не можем прогневить их и оказаться в аду. Если гомеровские обитатели Олимпа сражались, боролись за власть, любили, судили, то у Эпикура они приятно коротали пустые дни. Их не нужно чтить и жить по их законам, потому что философ разделил богов и людей, предоставив человеку самому заботиться о себе.
Пересмотрел и отношение к смерти: пока мы есть — смерти нет, а когда она наступит — нет уже нас. Если усвоить эту истину, то исчезает величайшее из зол. Жить надо сегодняшним днем, здесь и сейчас.
Теоретически это звучит неплохо, но холодный душ практики поджидает любого мечтателя. Однако Эпикур не был мечтателем, и судьба давала ему суровые уроки. Отец его работал в школе учителем словесности и с трудом мог прокормить четверых сыновей. Мать ходила по лачугам, за деньги читала очистительные заклинания. Мальчик в меру сил помогал родителям, но подводило здоровье: с детства и до последних дней его мучила тяжелая болезнь, и он учился жить в паузах между приступами.
С четырнадцати лет увлекся философией, много читал, но основательного философского образования не получил. Что, впрочем, не мешало ему пренебрегать всякими мнениями и авторитетами, и недоброжелатели звали его недоучкой. В отличие от мыслителей вроде Платона, не знавших забот о хлебе насущном, что позволяло воспарять над житейской суетой и философствовать, Эпикур выкраивал на это время, оставшееся от повседневных забот.
Многие годы он зарабатывал себе на хлеб учительским трудом, а труд этот никогда не приносил больших доходов. Эпикур бедствовал и мечтал о своей философской школе, где учил бы сограждан достойно жить в самых неподходящих условиях. В тридцать четыре года он свою мечту осуществил: купил в Афинах сад и основал там одну из самых знаменитых школ древнего мира — Сад Эпикура. К тому времени он уже знал, как быть счастливым.
«Ликую от радости телесной»
Входящего в сад встречали слова, начертанные на воротах: «Гость, тебе будет здесь хорошо; здесь удовольствие — высшее благо». Гостей ждала свежая вода и блюдо ячменной крупы. Это была не публичная школа, а товарищество единомышленников, тесный союз, община. От учеников не требовалось никакой подготовки, кроме обыкновенной грамотности. Сюда приходили не только ученики, но и друзья, их дети, гетеры, рабы. Несмотря на многообещающий лозунг насчет удовольствий, здешняя жизнь была проста и скромна. Да и вряд ли она могла быть другой, если зависела от пожертвований. «Пришли мне горшечного сыра, чтобы мне можно было пороскошествовать, когда захочу», — писал Эпикур другу.
В склонности к удовольствиям, кстати сказать, не было ничего нового. Философ Аристипп, умерший примерно за полтора десятилетия до рождения Эпикура, тоже знал в них толк и искусство жить понимал как умение ловить минуты наслаждения, дорожа настоящим и не заботясь о будущем. Когда наслаждений не было, но не было и неприятностей, то такое состояние Аристипп называл безразличным. Не таков Эпикур, которого болезнь заставляла ценить недолгие передышки. Для него отсутствие страданий — уже удовольствие. Однако погоня за мимолетным наслаждением нарушает покой души, что нехорошо, полагает Эпикур. Кроме того, такие наслаждения временны и преходящи. Значит, нужно сосредоточиться на более или менее устойчивых удовольствиях — то есть жить согласно природе, отказаться от суеты. И пересмотреть потребности, решив, без каких можно обойтись, а без каких — нельзя. Голос природы требует всего лишь пищи, воды и тепла. Слушайся этого голоса — никогда не будешь беден, погонишься за призрачным — никогда не будешь богат. Неестественные потребности дороги и опасны для душевного спокойствия, они ненасытны, от них все несчастья. А счастье требует здоровья и спокойствия души. Поэтому нужно довольствоваться необходимым, и в первую очередь заботиться о желудке, потому что «начало и корень всякого блага — удовольствие чрева. Даже мудрость и прочая культура имеет отношение к нему». Без всего остального можно обойтись, если только цена жертв, измеренная в количестве страданий, не слишком велика. Приятнее всех наслаждается роскошью тот, кто меньше в ней нуждается.
В отличие от киников, эпикурейцы не пренебрегали радостями жизни, а учились обходиться без слишком дорогих, способных смутить душевный покой. «Если хочешь сделать Пифокла богатым, не прибавляй ему денег, а убавляй страсть к деньгам», — писал Эпикур своему другу, которому доверил воспитание юноши. Счастье не в богатстве, а в разуме, полагал философ. Не унывал и без роскоши: «Я ликую от радости телесной, питаясь хлебом с водою, я плюю на дорогие удовольствия, — не за них самих, но за неприятные последствия их». Мудрец безмятежен, он на хлебе и воде может блаженствовать не хуже богов, потому что источник зол не в теле и его потребностях, не в условиях жизни, а в ложных мнениях и страстях. Духовные удовольствия он ставил выше телесных: если последние действуют только в настоящем, то прошлые и будущие духовные радости могут утешить и в нынешних невзгодах.
Философ высоко ценил дружбу, считая, что для счастливой жизни нет ничего выше и приятнее. Однако к любви у него прохладное отношение: «Мудрец не должен быть влюблен», — считал он. Любовь философ сводил лишь к усладам и писал одному из учеников: «Я узнал о тебе, что у тебя довольно сильное вожделение плоти к любовным наслаждениям. Когда ты не нарушаешь законов, не колеблешь добрых обычаев, не огорчаешь никого из близких людей, не вредишь плоти, не расточаешь необходимого, удовлетворяй свои желания как хочешь. Однако невозможно не вступить в столкновение с каким-нибудь из указанных условий: ведь любовные наслаждения никогда не приносят пользы, довольно того, если они не повредят». Вместо этого он призывал «любить простор полей» и считал прогулки на природе первым удовольствием для мудреца.
Семейную жизнь он находил помехой для серьезных дел и заменял её дружеским союзом. Но детей любил, и в завещании не забыл упомянуть сирот своего рано умершего ученика.
Свободен в несвободной стране
Философы толковали о гармонии мира, о посмертных странствиях души, а Греция тем временем хирела. Фивы разрушены Александром, шесть тысяч человек убито, впятеро больше продано в рабство. От Афин уже требуют выдать вождей демократии. Разве такая философия нужна — размышления о космосе и сущности бытия? Люди из поколения в поколение становятся образованнее и умнее (впрочем, не все и не всегда), но не делаются ни лучше, ни счастливее. Не потому ли ученый зачастую вызывает насмешку и презрение? Да разве только ученый… Господа презирают рабов, рабы господ, кругом царят зависть и злоба, а в воздухе пахнет войной всех против всех, о чем предупреждал еще Платон. Каждый предпочитает жить сам по себе и держаться подальше от политики. Судьба благоволит недостойным, которые живут в роскоши. Как там говорил Еврипид? «В мятежное и смутное время возвыситься могут и злейшие люди»…
Как в стране рабов и господ не превратиться ни в раба, ни в прихлебателя, ни в бродячего пса?
Эпикур был убежден, что человек может быть счастлив в любой обстановке, если только сумеет стать независимым от неё. Для этого первым делом надо определить достойную цель жизни. Свою цель философ видел в высшей свободе — жить так, как хочется, ни с кем не конфликтуя. «Я никогда не стремился нравиться толпе, что им нравилось — тому я не научился; а что знал я, то далеко от их чувства». Лучший выход — держаться подальше от общества и его забот.
Если в прежние, благополучные времена считали счастьем служить родине, исполнять гражданский долг, иметь хороших детей и почтенную старость, то теперь не было ни сильного отечества, ни дома, и судьба детей была не ясна. Эпикур учил в этих условиях сохранять свободу духа и радоваться жизни, легко переносить игру случая, потому что случай редко мешает мудрецу: «самые большие и самые важные дела устроил разум».
Из глубины веков мудрец спорит с убогим определением свободы как «осознанной необходимости», до которой додумаются потомки: «Необходимость есть бедствие, но нет никакой необходимости жить с необходимостью». Скрывайся, живи в тиши и безвестности — вот золотое правило Эпикура. У тех, кто на виду, всегда хватает завистников и недоброжелателей. Мудрый старается прожить незаметно, чтобы не иметь врагов, оставаться независимым духом, внутренне свободным и при этом не попасть в жернова смутного времени. Много раз в истории бывали такие времена, и многие, никогда не слыхавшие об Эпикуре, следовали его принципу. Поневоле вспоминается тютчевское: «Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои»… Кстати, любимое стихотворение А. И. Солженицына. Уже его-то никому не придет в голову назвать эпикурейцем. Но, раскрыв «Архипелаг ГУЛАГ», находим знакомые мысли: «Самое главное в жизни, все загадки ее — хотите, я высыплю вам сейчас? Не гонитесь за призрачным — за имуществом, за званием: это наживается нервами десятилетий, а конфискуется в одну ночь. Живите с ровным превосходством над жизнью — не пугайтесь беды, и не томитесь по счастью, всё равно ведь — и горького не довеку, и сладкого не дополна. Довольно с вас, если вы не замерзаете, и если жажда и голод не рвут вам когтями внутренностей. Если у вас не перешиблен хребет, ходят обе ноги, сгибаются обе руки, видят оба глаза и слышат оба уха — кому вам еще завидовать? зачем? Зависть к другим больше всего съедает нас же. Протрите глаза, омойте сердца — и выше всего оцените тех, кто любит вас и кто к вам расположен».
Эпикур жил в тревожном, обреченном мире, но хотел жить по-человечески. Правда, он мало кого убедил, за исключением завсегдатаев своего сада. И в самом деле, многое в его философии кажется надуманным. За навязчивыми разговорами об удовольствиях проглядывает больной человек, озабоченный лишь уменьшением страданий: ешьте мало, чтобы не болел живот; пейте мало, чтобы не мучиться с похмелья; сторонитесь всего, связанного с сильными страстями. Страдания и удовольствия, и снова удовольствия вопреки страданиям… Он стремился к тихим радостям и, похоже, предпочитал находиться в состоянии только что поевшего человека, беседующего с друзьями.
Но зато он учил жить, радуясь каждому дню, потому что «не будучи властен над завтрашним днем, ты откладываешь радость, а жизнь гибнет в откладывании». Богатства, однако, не обещал: свободная жизнь не дает много денег, которые требуют раболепства перед толпой или правителями. Вместо богатства он обещал счастье.
Эпикуреец не будет напоказ нищенствовать и презирать дружбу, как киник. Он не раболепствует перед судьбой, как стоик и имеет, в отличие от скептика, прочные убеждения. Ему даже мало быть счастливым — ему хочется быть блаженным. Но для этого надо обладать высшей добродетелью мудреца — благоразумием, которое обеспечивает невозмутимость души. И его заповеди вполне благоразумны:
«Всегда работай. Всегда люби. Люби жену и детей больше самого себя. Не жди от людей благодарности и не огорчайся, если тебя не благодарят. Наставление вместо ненависти, улыбка вместо презрения. Из крапивы извлекай нитки, из полыни — лекарство. Нагибайся только затем, чтобы поднять павших. Имей всегда больше ума, чем самолюбия. Спрашивай себя каждый вечер: что ты сделал хорошего. Имей всегда в своей библиотеке новую книгу, в погребе полную бутылку, в саду — свежий цветок».
У эпикурейцев мало врагов, зато много друзей. Его сад был санаторием души, убежищем во время политических бурь и духовной смуты. На их мудрости лежит печать утомления, это философия покоя, без страха, но и без веры. Что, однако, не помешало ей еще много веков находить последователей. А кое-какие идеи живы, как видим, и сегодня, потому что во все времена, когда мир враждебен человеку, растёт спрос на такие слова, которые помогают жить.
Проверено судьбой
Эпикур утверждал, что страдание не властно над философом и даже под пыткой можно быть счастливым. Цицерон потом это едко высмеял. Красноречивый римлянин смеялся напрасно, потому что все свои советы Эпикур проверил на себе. Он научился справляться с мучившими его недугами и нашел силы написать: «Всякое телесное страдание достойно презрения».
В последние дни судьба словно решила испытать искренность философа. Полмесяца мучила рвота, из почек шли камни… Но сильные страдания либо проходят, либо приводят к смерти. Если длятся — значит, преодолимы, мы живём. Если живём — значит, есть другие радости, которые перевешивают боль. Эта мысль придавала философу мужества и спокойствия духа. «Совсем ничтожен тот, у кого есть много основательных причин для ухода из жизни», — писал он.
Но всему бывает предел. Вот его предсмертное письмо другу: «Писал я это тебе в блаженный мой и последний мой день. Боли мои <…> уже так велики, что больше стать не могут; но всем им противостоит душевная моя радость при воспоминании о беседах, которые были между нами».
Отпущенного срока, полагал он, достаточно, чтобы пройти весь круг доступных наслаждений. А когда придет смерть, то мы, насытившись, должны встать из-за стола жизни, чтобы уступить место другим. Измученный болями, Эпикур лег в медную ванну с горячей водой. Затем попросил неразбавленного вина, выпил, пожелал друзьям не забывать его наставлений и скончался.
…На стене старинного портика выгравировано знаменитое «Эпикурово послание»:
Из Сада Эпикура исходили здравые и полезные идеи: мир познаваем и в нём можно стать вполне счастливым, избавившись от страданий и беспокойства. Чтобы сделать это, человеку никто, кроме него самого, не нужен — ни богатство, ни государство, ни боги. Эпикур бросал вызов судьбе, утверждая, что истинное счастье — это сама жизнь, и потому оно зависит от нас. Для счастья необходимо то немногое, что у нас есть.
В отличие от Диогена Эпикур не призывал к аскетизму и сограждан не презирал, хотя к обществу относился сдержанно и предпочитал уединение. Он был материалистом, но не бескорыстно: ему надо было избавить людей от страха, а для этого надо победить два источника страха — религию и смерть. Главное в земной жизни для Эпикура — стать хозяином самому себе, и тогда не страшны никакие житейские повороты.
Существо блаженное и бессмертное ни само забот не имеет, ни другим не доставляет, а потому не подвержено ни гневу, ни благоволению: всё подобное свойственно слабым.
Смерть для нас ничто: что разложилось, то нечувствительно, а что нечувствительно, то для нас ничто.
Предел величины наслаждений есть устранение всякой боли. Где есть наслаждение и пока оно есть, там нет ни боли, ни страдания.
Непрерывная боль для плоти недолговременна. В наивысшей степени она длится кратчайшее время; в степени, лишь превышающей телесное наслаждение, — немногие дни; а затяжные немощи доставляют плоти больше наслаждения, чем боли.
Нельзя жить сладко, не живя разумно, хорошо и праведно; и нельзя жить разумно, хорошо и праведно, не живя сладко.
Никакое наслаждение само по себе не есть зло; но средства достижения иных наслаждений доставляют куда больше хлопот, чем наслаждений.
Если бы нас не смущали подозрения, не имеют ли к нам какого отношения небесные явления или смерть, <…> то нам незачем было бы даже изучать природу.
Безопасность от людей до некоторой степени достигается с помощью богатства и силы, на которую можно опереться, вполне же — только с помощью покоя и удаления от толпы.
Богатство, требуемое природой, ограниченно и легко достижимо; а богатство, требуемое праздными мнениями, простирается до бесконечности.
Кто праведен, в том меньше всего тревоги, кто неправеден, тот полон самой великой тревоги.
Все желания, неудовлетворение которых не ведет к боли, не являются необходимыми: побуждение к ним легко рассеять, представив предмет желания трудно достижимым или вредоносным.
Из всего, что дает мудрость для счастья всей жизни, величайшее — это обретение дружбы.
В целом справедливость для всех одна и та же, поскольку она есть польза во взаимном общении людей; но в применении к особенностям места и обстоятельств справедливость не бывает для всех одна и та же.
Где без всякой перемены обстоятельств оказывается, что законы, считающиеся справедливыми, влекут следствия, не соответствующие нашему представлению о справедливости, там они и не были справедливы.
Кто лучше всего умеет устроиться против страха внешних обстоятельств, тот сделает, что можно, близким себе, а чего нельзя, то по крайней мере не враждебным, а где и это невозможно, там держится в стороне и отдаляется настолько, насколько это выгодно.
Луций Анней Сенека (Ок. 4 до Р.Х. — 65 после Р.Х.)
Зрители порой не видят разницы между актером и его ролью, думая, что он играет всего лишь самого себя. Хоть философ и не актер, люди придирчиво сверяют его поступки с его учением. Чем громче лозунги, тем строже суд. Сенека знал это. «Всё, что говорят краснобаи перед толпой — это заёмное. И есть только один способ доказать истинность своих слов — поступать как говоришь», — писал он своему другу Луцилию.
Однако философа и по сей день упрекают за то, что он «видел лучшее, а следовал худшему». На словах презирал богатство, но это не помешало ему нажить огромное состояние — больше десятка миллионов долларов, если по нынешним меркам. Презирал жизнь, продолжая жить в роскоши; презирал болезни, но заботился о здоровье… Выходит, двойная мораль: для себя — одна, для прочих — другая?
Он ответил на это так: «Все философы говорят не о том, как они сами живут, но как надо жить. Я говорю о добродетели, а не о себе и веду борьбу с пороками, в том числе и со своими собственными: когда смогу, буду жить как должно. Ведь если бы жил вполне согласно моему учению, кто был бы счастливее меня, но теперь нет основания презирать меня за хорошую речь и за сердце, полное чистыми помыслами».
На свете счастья нет…
Сенеку звали точно так же, как и отца — Луций Анней. Старший был известным преподавателем красноречия и принадлежал к богатому сословию всадников. Младший вошел в историю как философ, писатель, политик.
История не забыла и его братьев. Галлион, проконсул одной из имперских провинций, отказался судить апостола Павла и даже упоминается в Библии. Другой брат, Мела, жил тихо и уединенно, но богато, что в нероновские времена было небезопасно. И всё же ему пришлось добровольно умереть. Завещав часть состояния императору и его приближенным, Мела рассчитывал спасти остальное. Сенека писал о братьях: «Один с большим умом отдался административной деятельности, другой с не меньшим благоразумием отказался от неё».
К двадцати годам Сенека получил хорошее образование, потом слушал лекции лучших тогдашних философов. Среди его воспитателей были пифагореец, стоик, киник… Речи стоика Аттала, видно, пришлись молодому человеку по душе больше других. Во всяком случае, всю жизнь он исповедовал именно стоицизм. Поэтому скажем несколько слов и об основателе этого учения.
Родоначальником стоицизма считают философа Зенона. Он преподавал в афинской галерее с колоннами — портике, по-древнегречески — стоа. Верховным авторитетом для стоиков был Сократ. Они тоже строили свою этику на знании, но искали добродетель не ради счастья, а ради покоя и безмятежности. Их этический идеал — бесстрастие, а настроение — пессимистическое, созвучное пушкинским строкам: «На свете счастья нет, а есть покой и воля».
Стоики смотрели свысока на добро и зло и учились равнодушно принимать то, на что нельзя повлиять: жизнь и смерть, красоту и безобразие и т. п. Добрая воля согласна с природой, а злая повинуется верховным законам, подобно собаке, которую тянут на поводке. И если для нас добродетель хороша постольку, поскольку ведет к чему-то хорошему, то стоик, отметил Бертран Рассел, добродетелен не для того, чтобы делать добро, но делает добро, чтобы быть добродетельным. Главное — научиться сохранять самообладание в трудных ситуациях. «В этой бурной, как море, жизни есть одна пристань: презирать будущие превратности, стоять надежно и открыто, грудью встречать удары судьбы, не прячась и не виляя», — писал Сенека.
Подтекст стоицизма примерно такой: мы не можем быть счастливы, зато можем быть хорошими. Поэтому давайте считать, что добродетель заменяет счастье. В конце концов, жить в согласии с природой — это прекрасно. В подобных рассуждениях есть опора для жизни в нашем несовершенном мире, но есть, конечно, и самообман. Именно стоики по-рабски поняли свободу как осознанную необходимость, считая, что от нас зависят не обстоятельства, а лишь отношение к ним.
Эта философия, к которой тяготел Сенека, считалась неблагонадежной, и отец уговорил его заняться адвокатурой. Если медицина, как считалось, вела к богатству, то профессия адвоката — к почестям.
Начало карьеры было блистательным, и по этой причине едва не стало её же концом. Когда Сенека появился при дворе Калигулы, то сам император приходил слушать его речи. Однако августейший считал себя первоклассным оратором и успехи адвоката воспринял как личное оскорбление. Услышав однажды его превосходную речь в сенате, он приказал убить конкурента. Спасла златоуста некая придворная дама, которая объяснила императору, что убивать Сенеку нет нужды, потому что тот болеет и скоро умрет сам. Впрочем, на четвертом году правления убили самого Калигулу, а Сенека забросил адвокатуру и занялся философией.
При дворе Клавдия он попал в ряды оппозиции во главе с Юлией, племянницей императора. Жена Клавдия Мессалина быстро избавилась от обоих: их обвинили в любовной связи и изгнали из Рима.
На Корсике философу пришлось несладко: не тот климат, не то общество. И стоическая выдержка его подвела: он написал покаянное письмо своему знакомому, приближенному императора, ища заступничества. Послание осталось без ответа, зато философ вскоре примирился с судьбой: «Я лишился не богатства, но хлопот, сопряженных с ним. Потребности мои невелики: иметь кров от холода и пищу от голода и жажды. Всё, что кроме этого, — требует порок, а не нужда».
Всё тот же эксперимент
Тем временем Мессалина по приказу Клавдия была казнена за участие в заговоре, а сам Клавдий вступил в кровосмесительный брак с другой племянницей, Агриппиной, которая вскоре его же и отравила. Она-то и вернула из восьмилетней ссылки Сенеку, чтобы тот воспитывал его сына Нерона.
Нерону в то время было двенадцать лет, и философу пришлось повторить неудачную попытку Платона и Аристотеля воспитать мудрого правителя.
Природные наклонности мальчика, по отзывам современников, были «самого низкого рода». Рассказывали, будто его отец, узнав о рождении сына, сказал, что от такого брака могло родиться только чудовище. Наставник быстро разгадал воспитанника. Он говорил, что это хищный лев, которому стоит дать попробовать крови, чтобы он обнаружил всю ярость своего характера. Предчувствуя в Нероне кровожадность, Сенека заботился о развитии в нем милосердия. Преуспел настолько, что молодой император, подписывая свой первый смертный приговор, воскликнул: «О, если бы я не умел писать!» Но — лиха беда начало…
В риторике Нерон не блистал, и впоследствии его упрекали за то, что он был первым из римских императоров, кому сочиняли речи. Занимался этим, конечно, Сенека.
Когда место «божественного Клавдия» занял шестнадцатилетний Нерон, то Сенека из профессора риторики превратился в полновластного министра. Сам император не мог ещё управлять, и его делами руководил философ. И хоть сделать Нерона милосерднее ему не удалось, но первые годы правления были так хороши, что в Риме заговорили о возвращении к золотым временам республики.
Сенека достиг высших почестей, стал консулом, его богатства выросли благодаря щедрым подаркам Нерона. Философ пускал деньги в оборот, а в своих обширных поместьях развел виноградники. Он не был аскетом и ценил удовольствия. Какой смысл избегать наслаждений, когда их требует природа? Ведь это означает приближать смерть, которая всё отнимет. Зачем же вместо того, чтобы жить, всего лишь смотреть, как это делают другие? «Весёлая жизнь предпочтительнее хорошего мнения мрачных мудрецов», — полагал философ. Жил он хоть и роскошно, но особого значения богатству не придавал: «Мудрые владеют богатством, невежда же сам во власти его». Ел на серебряной посуде с таким равнодушием, будто она глиняная, а шумным пирам с обжорством предпочитал занятия философией и беседы с друзьями.
Между тем воспитанник становился всё более неуправляемым. Куда большим влиянием на императора, чем Сенека, пользовалась его мать, которая сама хотела царствовать именем сына. Но у сына были свои планы, и он решил её убить. Корабль, на котором плыла Агриппина, должен был развалиться в море. Корабль действительно развалился, но мать спаслась. Нерон ожидал, что она поднимет войска и не на шутку перепугался. Дело повернулось так, что Сенеке и тут пришлось выступить в роли советника. Через несколько часов Агриппина была убита.
Разочаровавшись в подопечном, Сенека понемногу удаляется от двора. Его влияние на императора, которого окружили уже другие люди, совсем ослабло. Нерон больше доверял своей новой пассии — Поппее Сабине, и философ не мог с ней конкурировать. А тем временем подняли голову враги. Философа обвинили, что он богатеет, ищет популярности, хочет превзойти самого императора великолепием вилл. Сенека хотел отказаться от той части богатства, которое возбуждало зависть и удалиться на покой. Однако Нерон возражал и даже лицемерно обнял и поцеловал учителя, скрывая ненависть. В поведении стоика он видел скрытый протест. При этом цезарь во многом был обязан наставнику, что заставляло желать его смерти.
Если учитель искал покоя, то его воспитанник — развлечений. По приказу Нерона Рим подожгли. Он горел неделю, а император наслаждался зрелищем с Меценатовой башни. Сенека пожертвовал часть состояния пострадавшим и просил Нерона разрешить ему уехать в отдаленное поместье, но снова получил отказ. Тогда философ, сославшись на нервную болезнь, перестал выходить из дома и никого не принимал. Это вызвало подозрения цезаря и он приказал отравить бывшего наставника. Но затея не удалась. Отшельник питался только овощами и пил ключевую воду…
Учитесь жить и умирать
Теперь он жил уединённо, в обществе жены и немногих друзей. Обострились болезни, мучила астма, которую Сенека называл предвестием смерти. Всё время посвящал философии и за четыре года написал очень много. Самое крупное произведение тех лет — «Нравственные письма к Луцилию». Сенека любил Луцилия, римского всадника, назначенного прокуратором Сицилии. Тон писем к нему наставнический, хотя они были почти ровесниками. 124 письма составили целый курс науки о жизни. Сенека писал о пользе чтения и самосовершенствования, о богатстве и бедности, о дружбе и одиночестве, о славе и смерти. «Насколько можешь, ищи убежища в философии, — советует он другу, — она скроет тебя в своих объятиях… исправляй с её помощью свои пороки, но не уличай чужих».
Сенека невысоко ставил знания, считая, что они делают человека не лучше, а только ученее. А чтобы выжить в этом мире, нужна мудрость, которую дает философия, исследующая добро и зло. Он признавался, что эта наука дала ему внутренний лад, научила быть другом самому себе. Она помогла понять, что каждый несчастен настолько, насколько считает себя несчастным.
В жизни философа хватало поводов поразмышлять о жизни и смерти. В юности его мучила хроническая болезнь органов дыхания. Он даже подумывал о самоубийстве, и лишь мысль о старом отце удержала его от этого. В старости поддерживала и берегла любовь к жене Паулине: «Хотя условия таковы, что умереть было бы приятнее, надо стараться жить ради своих близких. Ведь доблестный муж должен жить не пока ему приятно, но до тех пор, пока это нужно». А когда придет пора, нечего отлынивать и плакать, потому что смерть — одна из наших жизненных обязанностей: «Какая толпа умерших шла впереди тебя, какая толпа пойдет следом!» Да только каждый стремится прожить подольше, и это вполне согласно природе. Как спорить с такой очевидной истиной?
Дело не в годах, возражает философ. Жизнь — как пьеса. Не то важно, длинна ли она, а то, хорошо ли сыграна. Поэтому надо заботиться не о том, чтобы долго жить, но чтобы жить достойно. Он высмеивает стоика Зенона, который пытался избавить от страха смерти хитроумным рассуждением: «Зло не может быть славным, смерть бывает славной; значит смерть не есть зло». Этим словесным кружевам Сенека противопоставляет мужественные слова спартанского царя Леонида, который с небольшим отрядом прикрывал отступающий греческий флот от натиска персов при Фермопилах: «Давайте-ка завтракать, соратники: ведь ужинать мы будем в преисподней!»
Не только возраст и болезни были причинами его мрачных мыслей. Нерон помнил о своем бывшем наставнике. Уже убита мать деспота, отравлен сводный брат, собственноручно уничтожена некогда любимая Поппея, утоплен малолетний пасынок… Близился черед Сенеки.
Завещание стоика
Воспитанник добрался-таки до учителя. Семидесятилетнего старика обвинили в заговоре против императора. Обвинение было надуманным, но это не заботило тирана, ему нужен был повод. По иронии судьбы, с известием о смерти к философу отправили настоящего заговорщика, трибуна Гавия Сильвана, вынужденного теперь верной службой спасать свою жизнь. Ему не хватило духу посмотреть Сенеке в глаза, и тот узнал о приговоре от одного из центурионов.
Сенека встретил известие мужественно, попросил принести завещание. Но ему в этом отказали. Тогда он, обернувшись к друзьям, воскликнул, что раз его лишили возможности отблагодарить их подобающим образом, он завещает им единственное, но зато самое драгоценное достояние: свой образ жизни.
Безуспешно пытается утешить жену: Паулина, которая моложе мужа не четверть века, не хочет жить без него. Супруги одновременно вскрыли себе вены на руках. Старческая кровь текла вяло, и философ порезал себе еще и ноги. Чтобы зрелище мучительной смерти не сломило жену, он просит её удалиться, а сам диктует секретарям предсмертные слова. Согласно Тациту, красноречие не покидало его до последней минуты.
Старик ждал смерти, которая почему-то медлила. Он попросил друга дать ему яд, но холодеющее тело уже не реагировало и на это. Тогда его положили в бассейн с теплой водой, а потом перенесли в жаркую баню. Там жизнь и покинула его.
Личный пример Сенека считал важнее учения. Пусть не всегда ему удавалось следовать своим идеалам, однако, презирая смерть, он был искренен. Тело римлянина сожгли без торжественных обрядов, как он и распорядился в своем завещании ещё тогда, когда был богат и всемогущ.
А вот Паулине Нерон не дал умереть вместе с мужем. Он не хотел усугублять всеобщее возмущение еще и её смертью. Женщина была уже без сознания, когда по настоянию императора кровотечение остановили. Но она не надолго пережила супруга.
Высшей добродетелью Сенека считал верность самому себе, призывая идти не за вожаками стада, а туда, куда велит долг. Его не привлекает внешний успех: «Чем выше кто взошел, тем ближе он к падению. Очень бедна и весьма кратка жизнь того человека, который с великими усилиями приобретает то, что ещё с большими усилиями должен он удерживать». Смысл жизни — в душевном спокойствии. Лучше искать укрытия в тихой пристани, чем всю жизнь болтаться среди высоких волн.
Жизнь счастлива, когда она согласуется со своей природой. Если у человека здравый ум и мужественный дух, если он умеет пользоваться дарами судьбы, не делаясь их рабом, то его ждут спокойствие, свобода и радость. Сенека индивидуалист, собственная жизнь ему важнее общего блага, но в отношениях между людьми он проповедует братство и любовь: общество потому и не падает, что каждый поддерживает друг друга. Нравственная строгость хороша для себя, а между собой полезнее разумная снисходительность.
Сенека приветствует Луцилия!
И то, что ты мне писал, и то, что я слышал, внушает мне на твой счёт немалую надежду. Ты не странствуешь, не тревожишь себя переменою мест. Ведь такие метания — признак больной души. Я думаю, первое доказательство спокойствия духа — способность жить оседло и оставаться с самим собою. Но взгляни: разве чтение множества писателей и разнообразнейших книг не сродни бродяжничеству и непоследовательности? Нужно долго оставаться с тем или другим из великих умов, питая ими душу, если хочешь извлечь нечто такое, что в ней бы осталось. Кто везде — тот нигде. Кто проводит жизнь в странствиях, у тех в итоге гостеприимцев множество, а друзей нет. То же самое непременно будет и тем, кто ни с одним из великих умов не освоится, а пробегает всё второпях и наспех. Не приносит пользы и ничего не дает телу пища, если её извергают, едва проглотивши. Ничто так не вредит здоровью, как частая смена лекарств. Не зарубцуется рана, если пробовать на ней разные снадобья. Не окрепнет растение, если часто его пересаживать. Даже самое полезное не приносит пользы на лету. Во множестве книги лишь рассеивают нас. Поэтому, если не можешь прочесть всё, что имеешь, имей столько, сколько прочтешь, — и довольно. «Но, — скажешь ты, — иногда мне хочется развернуть эту книгу, иногда другую». — Отведывать от множества блюд — признак пресыщенности, чрезмерное же разнообразие яств не питает, но портит желудок. Поэтому читай всегда признанных писателей, а если вздумается порой отвлечься на другое, возвращайся к оставленному. Каждый день запасай что-нибудь против бедности, против смерти, против всякой другой напасти и, пробежав многое, выбери одно, что можешь переварить сегодня. Я и сам так желаю: из многого прочитанного что-нибудь одно запоминаю. Сегодня вот на что натолкнулся я у Эпикура (ведь я частенько перехожу в чужой стан, не как перебежчик, а как лазутчик): «Весёлая бедность, — говорит он, — вещь честная». Но какая же это бедность, если она весёлая? Беден не тот, у кого мало что есть, а тот, кто хочет иметь больше. Разве ему важно, сколько у него в ларях и в закромах, сколько он пасёт и сколько получает на сотню, если он зарится на чужое и считает не приобретённое, а то, что надобно приобрести? Ты спросишь, какой предел богатства? Низший — иметь необходимое, высший — иметь столько, сколько с тебя довольно. Будь здоров.
Аврелий Августин (354 — 430)
Прежние философы видели в природе материальные начала: Фалес — в воде, Анаксимен — в воздухе, стоики — в огне, эпикурейцы — в атомах. Платон воспарил над землей в мир идей. Аврелий Августин пошел еще дальше, увидев начало всего сущего в Боге, и в центр своей философии поставил отношения вечного небесного отца с людьми. Отношения эти непросты и строятся на эмоциях — любви, ненависти, надежде, прощении… люди заведомо виноваты перед Богом, потому что их прародители когда-то нарушили его запрет и отведали плодов с древа познания добра и зла.
Любовь к мудрости Августин связал с любовью к Богу и поэтому полагал, что счастья можно достичь только в постижении этой высшей силы мироздания. Углубляясь в себя, человек находит некие вечные истины, источник которых — опять-таки Он.
История по Августину — это не круговорот, как было у древних («что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем», — писал библейский Екклесиаст). Не топтание на месте, а прогресс, вершина которого — страшный суд, где грешники будут отделены от праведников.
Так Августин заложил основы религиозной философии, после чего «царица наук» надолго пришла в упадок. Почему же он, так стремившийся к счастью, нашёл его не в жизни, а в надежде на посмертное блаженство?
Извилистый путь к благочестию
Его отец был язычником, а мать — христианкой. Пока христианство шло к признанию его государственной религией, Августин, вдохновляемый матерью, продолжал свои духовные искания. Но прежде нужно было получить образование. В античные времена образованный молодой человек — это прежде всего оратор. И юноша поехал в Карфаген изучать латинских классиков, учиться красиво говорить. Он ехал туда, пройдя школьный курс наук. Но не о науках вспоминал он потом…
В школе, где процветали телесные наказания, подростку пришлось нелегко. Не встречая у взрослых сочувствия, Аврелий молил Бога, чтобы тот спас его от бесконечных побоев, часто несправедливых. Дома мальчик рос в атмосфере любви и нежности, был одарён, чувствителен и потому остро воспринимал страдания. А измученному телу так хотелось удовольствий… В шестнадцать Аврелия стали обуревать, по его словам, пагубные страсти: «Я искал, что бы мне полюбить… Я ринулся в любовь, я жаждал ей отдаться». Счастье и блаженство казались пределом желаний. Утехи чувственной любви наполняли его жизнь, поначалу далеко не благочестивую. Много лет он жил с любовницей, родился сын. Потом стал подумывать о женитьбе, но не на матери своего сына, а на другой, помоложе. Его юной возлюбленной было всего десять лет, и тогдашние законы требовали отложить брак на два года, до совершеннолетия невесты. Прежняя подруга уехала, оставив ему сына и дав обет никогда больше не выходить замуж. Свадьба откладывалась, а он тут же завел себе временную замену возлюбленной. Правда, голос совести несколько омрачал жизнь, и Аврелий молился: «Даруй мне, Господи, чистоту сердца и непорочность воздержания, но не спеши». Когда подошел срок женитьбы, его молитва была наконец услышана, и он остался холостяком.
Но это будет гораздо позже, а пока юноша задумался о смысле жизни. Философия его не удовлетворяла, потому что в ней не было Христа. Примкнул к манихеям, последователям перса Мани, создавшего учение о борьбе добра и зла. Манихеи считали сотворение мира делом злого начала и полагали, что жизнь лишь замутняет чистоту бытия, а путь к праведности видели во множестве ограничений. Однако, как убедился Августин, они не исполняли суровых требований своего пророка и вдобавок удручали невежеством.
В поисках истины Аврелий увлекся астрологией. Но вскоре разочаровался в ней, потому что из гороскопов следовало, что по указанию самого неба человек должен грешить. К тому же он чувствовал, что наука никак не приближает к Богу.
Усталость и разочарование породили скептическое отношение к жизни. С таким настроением он и отправился в Рим преподавать риторику и изучать философию. Резиденция императора находилась тогда в Медиолане (Милане), и Августин подал прошение на должность придворного ритора. Там и познакомился с епископом Амвросием. Проповеди святого отца помогли молодому человеку увидеть истину в христианстве. Оно давало силу духа, когда рушились земные надежды.
Августин не сразу решился принять учение Христа: «Мирское бремя нежно давило на меня, словно во сне», — вспоминает он. А тщеславие требовало жертв. Аврелий чувствовал, что стремление к успеху сопряжено с борьбой, опасениями, напрасными надеждами. Душа разменивается на мелочи, а жизнь уходит на погоню за призраками.
Однажды он готовил речь, собираясь выступить перед императором. Нужно было подтвердить репутацию ритора и при этом понравиться вельможам. Искушенные придворные настойчиво советовали сдобрить речь лестью. Но такой вариант не годился для чувствительного и совестливого оратора, и потому предстоящее выступление крайне беспокоило Аврелия. В эти-то дни он и повстречал в переулке пьяного нищего и от души ему позавидовал: «Чего достиг он при помощи нескольких брошенных грошей, то есть радости временного счастья, к тому я только шёл утомительными обходами и кружными путями». Молодой человек был убежден, что истина дороже всех земных сокровищ, а от него ждали лести…
Помог случай. Пребывая в благочестивом настроении после очередной душеспасительной беседы, он вдруг услышал из соседнего дома детский голос, повторявший нараспев: «Возьми, читай!» Августин истолковал эти слова как повеление самого Бога. Он взял Новый завет, открыл наугад и прочитал: «Не в пирах и пьянстве, не в спальнях и не в распутстве, не в ссорах и зависти: облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение плоти не превращайте в похоти». Эти слова апостола Павла перевернули его жизнь. На пасху 387 года Августин принял крещение от руки Амвросия.
Вскоре он вернулся домой, продал родительское имение, а деньги раздал бедным. Себе оставил только маленький домик, где жил с друзьями монашеской жизнью. Молва о его благочестии ширится и через несколько лет его посвящают в пресвитеры. В 41 год он уже епископ североафриканского Гиппона.
Такова внешняя сторона жизни Аврелия. Жизнелюб превратился в аскета, страстного проповедника христианства, которое ненавидело земную жизнь. Чтобы понять, почему это случилось, напомним тогдашнюю обстановку в империи.
Крушение богов
Великая империя рушилась, и теперь уже никакие гуси не могли спасти Рим. Жизнь обывателя, полная опасностей и лишений, обесценивалась, и от непрочного материального мира взоры обратились к духовному, потустороннему.
Античное просвещение померкло во тьме наступающего средневековья. Прежний идеал мудреца уступил место аскету. Теперь философы ищут не просто истину, а лишь спасительную, ту, что в Писании. Но вместо того, чтобы думать о спасении цивилизации, мыслители рассуждают о первородном грехе и достоинствах девственности. Ясно, что с таким теоретическим багажом христиан ещё не скоро ждал свет в конце мрачного туннеля.
В 401 году вестготы захватили Рим. Тысячелетний город пал. На берегах Северной Африки, в том числе и Гиппоне, появились беженцы. В империи громили языческие храмы, низвергали прежних богов. Напрашивалось подозрение: не в христианах ли причина всех бед? Ведь это они толковали о ненависти к империи, о любви к врагам и всепрощенчестве. Ответить на это Августин решил капитальным трудом «О граде Божьем», где дал христианскую схему истории.
Он задает вечный вопрос: в чём наивысшее благо, что делает человека блаженным? Уже в те времена существовало около трехсот учений о том, как стать счастливым среди «несчастий сего мира». Однако добродетели древних философов — умеренность, благоразумие, справедливость — непрочны, так как лишены надежды. Горе лишает удовольствия и покоя, болезнь уничтожает красоту и силу, годы отнимают разум. Христиане же блаженны среди мирских невзгод в надежде… на будущее блаженство.
Августин красноречиво описывает земные страдания: «Кто не пришел бы в ужас и не предпочел бы смерть, если бы ему было предложено на выбор или умереть, или ещё раз пережить детство?» Неприятности преследуют человека всю жизнь, о чём писал некий римский пессимист:
В общем, на земле ничего хорошего ждать не приходится. Другое дело — царство Божие, где у человека тело лишь духовное. Это — идеал Августина. Для него высшее благо заключено в вечной жизни, высшее зло — в вечной смерти. Благодать дается человеку независимо от заслуг и в справедливость этого выбора можно только верить: «Будем же верить, если не можем уразуметь».
Излишняя любовь к жизни, по Августину, есть зло, которое оскорбляет Бога. Он осуждает больных, которые, чтобы ненадолго продлить жизнь, обращаются к врачам. Что можно ожидать от земного царства греха, построенного на братоубийстве (согласно легенде — Ромул, основатель Рима, убил своего брата)? И вовсе не христиане повинны в падении Рима, а это закономерный итог его дьявольской истории. Поэтому империя рушится, а церковь крепнет. И в потустороннем мире варвары всё равно будут наказаны. Но почему же не в этом, земном? Если бы всякий грех карался на земле, то зачем тогда последний суд… Зато, несмотря на мирские невзгоды, именно христианам дана духовная опора — надежда на вечные радости града Божьего.
Частью этого небесного града может стать и греховное государство, подчинившись церкви во всех религиозных вопросах. Что касается подчинения, то тут благодаря немощи средневековых правителей мечта Августина сбылась.
Любовь с розгой в руке
Осуждая излишнюю любовь к жизни, Августин не был человеконенавистником. Он даже находил, что чем сильнее у человека жажда жизни, тем ближе он к вечному блаженству: ведь тот, кто жадно стремится к бытию, не удовлетворяется мгновениями земных радостей, а желает блаженства непреходящего. Эта жажда бытия и наслаждений — основная идея всей его философии.
Августин уверял друзей, что Эпикур был бы прав насчет земных радостей, если бы не существовало смерти и земного воздаяния. Но удовольствия плоти не могут насытить души человека, потому что слишком мимолетны. Более того: наслаждение, не разделенное с друзьями, утрачивало для Аврелия привлекательность. Предаваясь в свое время утехам, он любил поговорить на эротические темы. Целомудренному Алипию, который удивлял всех христианским воздержанием, например, ярко описывал удовольствия брачной жизни, подвергая нешуточному испытанию его добродетели.
Эта черта — стремление к единомыслию — осталась у Августина на всю жизнь. Поглощенный новой идеей, он отстаивал её, спорил, увлекая за собой. «Первоначально моей мыслью было, что никого не стоит принуждать к общению с Христом, надо действовать словом, бороться доводом, побуждать вразумлением», — вспоминает он. Но вскоре отступает от своих высоких принципов во имя спасения грешных душ от вечного огня. Ересь он объявляет физической болезнью, которую нужно изгонять насильственными средствами. Ведь если кто увидит пьяного, бегущего к пропасти, то не следует ли его остановить силой? «Лучше раны, нанесенные другом, чем поцелуи недруга», — поучает философ. Это не образная речь, а скорее руководство к действию, потому что церковь не только приглашает к добру, но и принуждает к нему. Для этого уже имеется широкий набор средств: растяжение тела на станке, вырывание крючьями мяса, обжигание пламенем… Августин, как истинный христианин, милосерден, и одобряет лишь того истязателя, который добивается нужного только розгами. Жалость — помеха в стремлении к истине, главное тут — любовь: «Люби — и делай что хочешь». Эта суровая любовь еще обернется кострами для еретиков.
Если в молодости он был далек от добродетели, то в зрелые годы его одолевало чувство греховности — как собственной, так и всего человечества. Будучи епископом, он пишет знаменитую «Исповедь», историю своих прегрешений. Августин хочет не оправдаться, а покаяться. В то время публичное покаяние поощрялось (впрочем, этот обычай жив и по сей день) и считалось проявлением благочестия. Однако даже его совестливость какая-то нечеловеческая. К примеру, в детстве он вместе с приятелями обтряс соседскую грушу. Всё съесть мальчишки, конечно, не смогли и готовы были отдать добычу свиньям. Делалось это не от нужды, потому что у родителей Аврелия был собственный сад. И вот теперь святой отец долго и со вкусом занимается самобичеванием: «Пусть скажет Тебе сейчас сердце моё, зачем оно искало быть злым безо всякой цели», — обращается он к Богу, моля простить его. Примечательно, что праведник кается не в том, что испортил жизнь любимой женщине и оставил сына без матери, а переживает о давней детской глупости… Своеобразно любил людей блаженный Августин.
Закат философии
Современник Августина, император Феодосий, разгромил язычество законами, а философ сокрушил предрассудки в теологических сочинениях. Основа духовной жизни, по Августину, — не пассивный разум, а активная воля, потому что сущность каждой вещи проявляется в активности. Счастье — в познании Бога, но познать его под силу лишь вере, которая выше знания: «Вера вопрошает, разум обнаруживает». От рационализма философия переходит к волюнтаризму, на смену Платону и Аристотелю пришло Писание.
Философ проповедует бегство от мира, отречение от собственности, от богатства. Всякие излишки — не твои: «Чужим добром ты владеешь, когда лишним владеешь!» Господь сотворил богатого, чтобы помочь бедному, а бедного — чтобы испытать богатого. Поэтому милостыня — лишь возвращение того, что богатый сам получил от Бога.
Брак? Неплохо, конечно, поскольку обеспечивает продолжение рода, но еще лучше обойтись без него: ведь всегда найдутся люди, которые об этом позаботятся. А если вдруг все захотят воздержаться от брака? «О, если бы захотели! Тогда гораздо скорее свершилось бы Божие царство и ускорилось бы наступление конца века!»
Родители? «В отрешении от всего, что имеешь, заключается и ненависть ко всей родне своей и к самому себе»…
В его проповедях мы узнаём знакомое стремление принудительно осчастливить мир, поделить чужие богатства, предать близких ради идеологических «отцов»… Призывы епископа со временем, конечно, поблекли и монахи превратили аскетизм в ремесло, но отзвуки его идей ещё живы.
Августин написал свыше сорока толстых томов и долго удивлял потомков широтой интересов. Более всего его интересует человек, душа, психология ошибок и заблуждений, способы божественного откровения. Он исследует виды познания и памяти. Пишет о сновидениях. Пытается постичь секрет ясновидения. Но нет конца вопросам: «Великая бездна сам человек… волосы его легче счесть, чем его чувства и движения сердца», — поражается философ.
Летом 430 года вандалы, которые уже перебрались через Гибралтар, достигли Гиппона. Епископ скончался в осажденном городе. Останки Августина не раз перевозили с места на место, и в позапрошлом веке похоронили в Алжире, подле воздвигнутого ему памятника на развалинах древнего города.
Проповеди Аврелия предназначались для римских беженцев, но их услышали и потомки. Речистый фанатик увлек за собой многие поколения. Его идеи оказались созвучны средневековому сознанию и потому жили ещё долго. Тысячу лет спустя флорентиец Петрарка будет беседовать с ним в своих философских трактатах. И не сдержит восхищения: «С Августином, конечно, сравниться не может, по-моему, ни один человек; ведь если в его изобильный и талантливый век ему не было равных, кто сравнится с ним теперь? Слишком велик был во всех отношениях этот человек, слишком неподражаем».
Им владело мрачное чувство всеобщей виновности перед Богом. Только божья благодать дает возможность потомкам Адама идти путем добродетели. Все, лишенные благодати, то есть некрещеные, без вариантов попадут в ад, даже младенцы. Судьба же остальных зависит не от личных добродетелей, а от того, как решит Бог. В любом случае он прав: проклятие доказывает его справедливость, а спасение — его милосердие. Моральная свобода для философа заключается в следовании добру, смысл которого разъясняют божественные заповеди.
Августин обращается не к силе разума, как древние, а к вере. Он обосновал первенство веры над разумом, а церковь провозгласил единственным и непогрешимым источником всякой истины. Главную опасность для верующего философ видел в эгоизме, в стремлении жить не «по Богу», а по собственному разумению.
В чем, однако, была причина, что я ненавидел греческий, которым меня пичкали с раннего детства? Это и теперь мне не вполне понятно. Латынь я очень любил, только не то, чему учат в начальных школах, а уроки так называемых грамматиков. Первоначальное обучение чтению, письму и счету казалось мне таким же тягостным и мучительным, как весь греческий. Откуда это, как не от греха и житейской суетности, ибо «я был плотью и дыханием, скитающимся и не возвращающимся». Это первоначальное обучение, давшее мне в конце концов возможность и читать написанное и самому писать, что вздумается, было, конечно, лучше и надежнее тех уроков, на которых меня заставляли заучивать блуждания какого-то Эния, забывая о своих собственных; плакать над умершей Дидоной, покончившей с собой от любви, — и это в то время, когда я не проливал, несчастный, слез над собою самим, умирая среди этих занятий для Тебя, Господи, Жизнь моя.
<…> Почему же ненавидел я греческую литературу, которая полна таких рассказов? Гомер ведь умеет искусно сплетать такие басни: в своей суетности он так сладостен, и тем не менее мне, мальчику, он был горек. Я думал, что таким же для греческих мальчиков оказывается и Вергилий, если их заставляют изучать его так же, как меня Гомера. Трудности, очевидно обычные трудности при изучении чужого языка, окропили, словно жёлчью, всю прелесть греческих баснословий. Я не знал ведь ещё ни одного слова по-гречески, а на меня налегали, чтобы я выучил его, не давая ни отдыха, ни сроку и пугая жестокими наказаниями. Было время, когда я, малюткой, не знал ни одного слова по-латыни, но я выучился ей на слух, безо всякого страха и мучений, от кормилиц, шутивших и игравших со мной, среди ласковой речи, веселья и смеха. Я выучился ей без тягостного и мучительного принуждения, ибо сердце моё принуждало рожать зачатое, а родить было невозможно, не выучи я, не за уроками, а в разговоре, тех слов, которыми я передавал слуху других то, что думал. Отсюда явствует, что для изучения языка гораздо важнее свободная любознательность, чем грозная необходимость. Течению первой ставит плотину вторая — по законам Твоим, Господи, по законам Твоим, управляющим и учительской линейкой и искушениями праведников, — по законам, которыми властно определено литься спасительной горечи, призывающей нас обратно к Тебе от ядовитой сладости, заставившей отойти от Тебя.
Фома Аквинский (1225 — 1274)
Его род был славен. Знаменитый Фридрих I Барбаросса (Рыжебородый), император священной Римской империи, приходился ему двоюродным дедом. Отец, граф Аквинский, состоял в родстве с французским королевским домом. Современники отмечали, что в нём воплотились лучшие черты знатного рода: учтивость и терпение. За мягкость характера его даже прозвали «ангельским доктором». Родился Фома близ Неаполя, но в нём смешалась кровь немцев, французов и итальянцев. Словом, он был европейцем.
Однако этот образованный и учтивый человек был решительным врагом всякой свободной мысли. На словах почитая разум, он в то же время сразу даёт понять, что у церкви есть кому размышлять над религиозными вопросами, а дело всех прочих — слушать и усваивать: «Если кто-нибудь, кичась своей мнимой (?) мудростью, хочет бросить вызов тому, что нами написано, пусть говорит не в углу и не перед детьми, которым не разобраться в столь сложном деле. Пусть он ответит открыто, если посмеет (ох, не лишнее предупреждение… — Авт.). Вот я, дабы ответить ему, и не только я, недостойный, но и другие искатели истины, мы сразимся с его заблуждением или исцелим его невежество».
Заблуждение или невежество — других вариантов у Фомы не существует. Причем упорствовать не рекомендуется: «Извращать религию, от которой зависит жизнь вечная, гораздо более тяжелое преступление, чем подделывать монету, которая служит для удовлетворения потребностей временной жизни. Следовательно, если фальшивомонетчиков, как и других злодеев, светские государи справедливо наказывают смертью, ещё справедливее казнить еретиков, коль скоро они уличены в ереси».
Итак, с еретиками проблем нет, равно как и с их умствованиями. Последователи Фомы еще внесут в «Индекс запрещенных книг» произведения Коперника, Спинозы, Бэкона, Гоббса и многих других мыслителей.
Псы Господни
За десять лет до рождения Фомы испанский монах Доменико де Гусман основал в Тулузе нищенствующий орден. Вступавшие в него давали обет бедности, воздержания и послушания. Эмблемой ордена выбрали собаку с зажжённым факелом в зубах: так доминиканцы переосмыслили свое название — домини канес, то есть псы Господни. Они с самого начала отличались непримиримостью к еретикам, и в 1232 году руководство католической церкви поручило им руководить инквизицией; они же будут в свое время активно участвовать и в покорении американского континента. Именно доминиканцы приглянулись восемнадцатилетнему Фоме.
Родители были не против, чтобы он стал монахом — хотя бы бенедиктинского монастыря, где не требовалось бедствовать и молодому человеку уже было обеспечено место аббата. Тем более, что в таком монастыре он и воспитывался с пяти лет. Однако Фома заявил, что хочет быть нищим не на карнавале, а в нищенствующем ордене. И постригся в монахи.
Через несколько месяцев генерал ордена посылает его учиться в Парижский университет, центр католической мысли. Но многочисленная родня Фомы не думала сдаваться. По дороге в Париж его схватили собственные браться и на всякий случай заперли в одной из башен отцовского замка. Потом началась обработка. Чтобы совратить благочестивого юношу, к нему привели красивую куртизанку. Обычно сдержанный Фома разбушевался, выхватил из камина горящую головню и выгнал девицу, заодно пригрозив поджечь замок. В конце концов домашние махнули на него рукой, и Фома благополучно бежал из заточения, спустившись из окна на верёвке.
Учился в Париже, а через три года вместе с Альбертом Великим, немецким философом и знатоком Аристотеля, поехал в Кёльн организовывать доминиканский университет. Там Фома изучал теологию. Активности в диспутах не проявлял, во время споров отмалчивался, и товарищи считали его тупым. Фома отличался высоким ростом, был толст и неповоротлив, за что получил прозвище Немого Вола. Но при этом был кроток, трудолюбив и вызывал сочувствие. Некий сердобольный студент однажды предложил помочь в основах логики. Тупой вежливо поблагодарил. Сердобольный начал объяснять, пока не дошёл до места, где и сам не очень понимал предмет. Тогда смущенный тупой всё ему растолковал. И хоть Фома по-прежнему ничем не выделялся, Альберт Великий разглядел в молодом человеке незаурядный талант. «Вы зовете его тупым волом, — сказал он студентам. — Говорю вам, вол взревет так громко, что рёв его оглушит мир».
Потом Фома снова учился в Париже, а окончив университет, успешно преподавал в нем теологию. Ему было 33, когда папа Урбан IV вызвал его в Рим. Папа надеялся, что именно этот ученый монах сумеет подновить обветшавшую со времен Августина религиозную философию.
Волу настала пора взреветь.
Церковная перестройка
Августин, который по-прежнему оставался для католиков большим авторитетом, опирался на платоновские традиции и был противником естественных наук. «Люди восхищаются горами, огромными морскими волнами, широкими водопадами рек, просторами океана и звёздными путями, а о самих себе забывают», — говорит философ. Для счастья не нужно знать ни строения вселенной, ни даже законов природы. «Хочу понять Бога и душу. И ничего более? Совершенно ничего», — в этом весь Августин.
Однако времена менялись, оживилась торговля, на смену феодалам готовилась прийти буржуазия, полная сил и честолюбивых планов. Без науки, полагаясь лишь на созерцание божьей мудрости, предприимчивым людям надеяться было не на что. Значит, требовалась и новая философия. То, чему учил когда-то Аристотель, оказалось очень созвучно новым настроениям. Его сторонники доказывают, что высшая ступень познания — философия, которая пользуется логическими средствами и полагается на разум. Низшая — это теология, которая лишь комментирует догматы веры и откровения. Аристотель становился еретиком.
Фома ещё не родился, когда французские епископы наложили запрет на изучение трудов языческого философа. Его нельзя было ни читать, ни обсуждать. Через несколько лет Аристотеля запретили изучать в Парижском университете. Но, как известно, административные запреты на мысль не дают желаемых результатов, и если нельзя остановить марширующий оркестр, остается его возглавить. Учение Аристотеля было решено очистить от материализма и с помощью его же логики доказать, что наука и вера ничуть не противоречат друг другу. Григорий IX создал для этой цели специальную папскую комиссию, которая работала семь лет, но так ничем и не порадовала папу. Тогда взоры обратились к интеллектуалам из доминиканского ордена.
В итоге Аристотеля приспособили-таки к нуждам церковной доктрины. Его объявили не еретиком, а мыслителем, учение которого не только не противоречит теологии, но и составляет её основу. Если Аристотель считал наивысшим благом счастье человека, то после обработки получилось, что под счастьем надо понимать посмертное спасение. Ведь если что-то очень надо доказать, то рано или поздно это удаётся. Фоме пришлось потратить большую часть своей жизни, зато он сумел убедить коллег, что систему Аристотеля следует предпочесть платоновской в качестве основы христианской философии.
Как некогда Аристотель, Фома приземлил чересчур воспарившую над миром философию. Заодно он примирил Аристотеля с Христом, а веру с разумом. Ничто, обнаруженное в природе, не может противоречить вере, которая истинна. Ничто, основанное на вере, не может противоречить науке. Иначе говоря, он не допускал никаких аномальных явлений и никаких неожиданных мыслей. Философ подвел фундамент и под естественные науки, так как полагал, что человека надо изучать целиком — тело и душу. Ведь труп — не человек, но и привидение — тоже не человек. Против таких аргументов и у самого папы не нашлось возражений.
Бог всегда прав
Главное произведение Фомы — «Сумма теологии». Это своего рода энциклопедия, где он дал ответы едва ли не на все религиозные и научные вопросы. Подлинная мудрость заключается для него в стремлении познать Бога, а знание — лишь служанка теологии. Так, философия, опираясь на физику, должна доказывать существование Бога, палеонтология нужна для подтверждения Книги Бытия, история должна показывать божественное руководство человеческими судьбами. «Размышляю о теле, чтобы размышлять о душе, а о ней размышляю, чтобы размышлять над отдельной субстанцией, над ней же размышляю, чтобы думать о Боге», — подытоживает философ. Он признает два источника познания — откровение и разум. Откровению следует верить, даже не понимая. Разум — низший источник познания, с его помощью можно доказать лишь некоторые части вероучения, но отнюдь не все. То, что можно доказать, можно постичь и с помощью веры. Но если доказательства нужны ученым, то остальным нужна вера.
Истина, полученная разными путями, не противоречит одна другой, однако откровение превосходит любые разумные доказательства, потому что «божественная истина есть мера всякой истины». Значит, наука нужна в той мере, в какой она соответствует книгам откровений, всё остальное — лженаука. Так философия, срастаясь с богословием, превращалась в схоластику, основанную на христианских догмах. Для нее характерно безразличие к фактам, вера в силу аргумента там, где последнее слово за практикой.
Схоластическое мышление оказалось очень живучим и универсальным. Замените одни догмы на другие — и с прежним успехом сможете опровергать всё, что угодно, объявляя «лженаучным». Это с успехом доказали не только церковники, но и атеисты.
В «Сумме теологии» Фома пятью разными способами доказывает, что Бог существует. Приведём для примера лишь два. Поскольку мы обнаруживаем в мире различные степени совершенства, то должен быть и сам источник совершенства, причем абсолютно совершенный, — то есть Бог. И еще: неодушевлённые вещи служат некой цели. Значит, должно быть некое существо, которое устанавливает эту цель, — «и его мы именуем Богом».
Фома основательно занялся традиционной проблемой теодицеи — оправдания Всевышнего. Если Бог — творец всего и он добр, то откуда берется зло? В своё время на эту тему размышлял еще Эпикур, который рассуждал так: существует четыре варианта поведения Бога. Или он хочет избавить мир от зла, но не может; или может, но не хочет; или не может и не хочет. Наконец, может и хочет. Но поскольку зло всё-таки существует, то последний вариант отпадает. Что касается первых трех, то они противоречат представлениям о Боге как о всемогущем и добром.
Значит, выходит, что Бог или не очень всемогущ, или не слишком добр? У Фомы имеется такой аргумент в пользу Творца. Во-первых, зло, в отличие от добра, существует не само по себе, а означает лишь отсутствие, нехватку добра. Доказательства? Пожалуйста: если бытие — это добро, рассуждает философ, то его уничтожение автоматически ведет за собой уничтожение зла. Во-вторых, любое зло имеет свои причины. Но само зло, будучи небытием, не может быть причиной. Значит, причина — добро. Если же высшее добро — Бог, то и всё зло от него? Нет, это неверно, потому что не согласуется с природой Творца (вот она, наука по Фоме!). Всё зло происходит от несовершенства человека. И Бог тут ни при чем, потому что Он — абсолютное совершенство. Причина зла — сам человек, его злая воля.
Но как тогда объяснить зло, существующее в природе, которая не имеет собственной воли и создана по божественному замыслу? Почему существуют штормы и кораблекрушения, молнии и пожары, засуха и голод? Почему пчёлы дают мед, но и жалят; осёл работает, но упрям? Для чего нужны в мире крысы, тараканы и прочая нечисть? Оказывается, так всё и задумано: чтобы в мире была гармония, нужны различные степени добра, вещи различного совершенства. Красота заметнее на фоне уродства, а добро — в сравнении со злом. Поэтому несовершенные предметы служат для осуществления всеобщей гармонии. По той же причине существует и неравенство людей в обществе. Для гармонии нужны богатые и бедные, грешники и праведники.
Нет для Фомы трудных вопросов. Он знает, что человек всего лишь совершенное животное. С животным миром его роднит то, что он живёт и чувствует, а отличают разумная душа и свободная воля. Ведь чтобы могли существовать грех и добродетель, наказание и награда, должна быть свобода выбора между добром и злом, иначе нельзя говорить ни о какой морали. Такой выбор зависит от самого человека, но… с учетом божьей помощи: «Бог есть первая причина, приводящая в движение как естественные причины, так и причины доброй воли», — учит Фома. Выходит, на деле свободной воли нет, так как она существует лишь тогда, когда её поддерживает Бог. И если даже человек совершает плохой поступок, то он совершает его с божьей помощью. Кто же тогда в первую очередь заслуживает осуждения?..
Но не стоит задавать такие вопросы и полагаться на логику, потому что Фому не собьёшь с толку вопросами. У него своя логика, которая неизменно приводит к нужному ответу.
Добрая воля есть, настаивает он, потому что иначе напрасны были бы советы и запреты, кары и похвалы. Именно свободная воля ведёт к таким добродетелям, как мужество, благоразумие, справедливость. И человеческое счастье состоит не в наслаждениях и почестях, славе и богатстве. И даже не в добрых делах, которые всего лишь средство достичь наивысшего счастья — познать Бога. В настоящей жизни нам этого не дано, зато вполне возможно в мире ином.
Единственно верное учение
Не прошло и полувека после смерти философа, как церковь причислила его, как и Августина, к лику святых. Учение Фомы, признанного величайшим схоластом, преподают во всех католических учебных заведениях как единственно верное. В этом, пожалуй, есть некая странная закономерность: почему-то именно оторванные от жизни энергичные доброхоты, полные благих намерений, нередко увлекали за собой «к счастью» миллионы людей. И всегда заводили в тупик. Какие же соображения завещал нам философ, скажем, по поводу наилучшего государственного устройства, о котором размышляли многие его предшественники?
Фома — не демократ. Эту форму правления он считает всего лишь разновидностью тирании: «Если несправедливое правление осуществляется многими лицами, то это называют демократией; господство народа имеет место именно тогда, когда широкие массы, благодаря своей силе и численному превосходству, подавляют богатых. Тогда весь народ выступает как один единый тиран». Лучше всего, когда правит добродетельный монарх, а при нём — не менее добродетельные вельможи. Народ, впрочем, тоже может сказать своё слово, восстав против плохого монарха, который несправедлив или идёт против церкви.
Богослов не обошел вниманием даже такие проблемы, довольно далекие от христианских, как торговая политика. Торговлю он недолюбливал, считая, что в ней есть что-то непристойное. Ведь торговать — это значит «продавать дороже, чем надо». А как надо? Вот как: в каждом конкретном месте для товара должна быть одна справедливая цена, и поэтому допускать её колебания в зависимости от спроса и предложения нельзя. Нравственный долг покупателя и продавца держаться поближе к справедливой цене. Более того: купец обязан предупреждать покупателя об изъянах товара. А вообще торговля законна лишь тогда, когда прибыль идёт на содержание семьи купца или на благотворительность. Что касается кредитов, то получать проценты — несправедливо, так как при этом продаётся то, чего нет…
Как видим, Фома плохо понимал суть грядущего капитализма, и его рассуждения интересны как иллюстрация полного бессилия схоластики. Такая философия неплохо справлялась с обоснованием заранее известных выводов, но делать с её помощью прогнозы рискованно. Философа заботят не доводы разума, как Сократа, а благонамеренность выводов. Какие, вы думаете, у него соображения против кровосмесительной любви брата и сестры? Оказывается, если с любовью мужа и жены соединится любовь брата и сестры, то взаимное тяготение будет слишком сильным…
Когда Фому однажды спросили, за что он больше всего благодарен Богу, он ответил: «Я понял каждую страницу, которую читал». Возможно, это чувство и побуждало его смело бросать вызов «мнимым мудрецам» и «невеждам». Завершив земную жизнь, он стал высшим духовным авторитетом католиков.
Умер он по дороге из Неаполя в Лион, куда ехал на собор, созванный папой Григорием Х. Обстоятельства смерти 49-летнего мужчины туманны. Официальная версия — тяжелая болезнь. Однако, например, Данте, современник Фомы, утверждает, что философ был отравлен по приказанию короля Карла Анжуйского.
Его привезли в ближайший монастырь бернардинцев в Фоссануове. Перед смертью он попросил читать ему библейскую «Песнь песней». «Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина…» Слушая эти слова, Фома расставался с миром. Как положено, исповедался и причастился. Священник, который оставался с умирающим, был потрясен: этот человек исповедался как пятилетний ребенок. Бог ему судья.
Согласно преданию, у распятия в храме св. Доминика в Неаполе Христос сказал Фоме, что тот всё написал правильно и предложил за это всё, чего он захочет. «Тебя. Только Тебя», — был ответ.
К четырем античным добродетелям (по Платону — мудрость, мужество, благоразумие, справедливость) Фома добавил три христианские: веру, надежду, любовь. Он провозгласил, что счастье человека — не в славе и богатстве, не в плотских утехах и даже не в добрых делах. Это — всего лишь средство, ведущее к главной цели — познанию Бога. Но в земной жизни для большинства его познание недостижимо. Для этого недостаточно ни разума, ни даже веры. Значит, в этой жизни наивысшего счастья нам не видать, зато в грядущей такое вполне возможно.
В отличие от Августина, Фома считает свободу воли необходимой для нравственного поведения. Разум возвышается над волей и может ею управлять. С его помощью можно доказать даже бытие Божие, что Фома и делает. А земной Бог — это монах. Он стоит во главе государства, которое существует для того, чтобы заботиться об общем благе.
Для спасения человеческого было необходимо, чтобы сверх философских дисциплин, которые основываются на человеческом разуме, существовала некоторая наука, основанная на божественном откровении; это было необходимо прежде всего потому, что человек соотнесён с Богом как с некоторой своей целью. Между тем цель эта не поддается постижению разумом; в соответствии со словами Исайи: «Око не зрело, Боже, помимо Тебя, что уготовал Ты любящим Тебя». Между тем должно, чтобы цель была заранее известна людям, дабы они соотносили с ней свои усилия и действия. Отсюда следует, что человеку необходимо для своего спасения знать нечто такое, что ускользает от его разума, через божественное откровение.
Притом даже и то знание о Боге, которое может быть добыто человеческим разумом, по необходимости должно было быть преподано человеку через божественное откровение, ибо истина о Боге, отысканная человеческим разумом, была бы доступна немногим, притом не сразу, притом с примесью многочисленных заблуждений, между тем как от обладания этой истиной целиком зависит спасение человека, каковое обретается в Боге. Итак, для того, чтобы люди достигли спасения и с большим успехом, и с большей уверенностью, необходимо было, чтобы относящиеся к Богу истины Богом же и были преподаны в откровении.
Итак, было необходимо, чтобы философские дисциплины, которые получают свое знание от разума, были дополнены наукой, священной и основанной на откровении.
Хотя человек не обязан испытывать разумом то, что превышает возможности человеческого познания, однако же то, что преподано Богом в откровении, следует принять на веру.
Различие в способах, при помощи которых может быть познан предмет, создает многообразие наук. Одно и то же заключение, как то, что земля кругла, может быть сделано и астрологом, и физиком, но астролог придет к нему через посредство математического умозрения, отвлекаясь от материи, физик же через посредство рассуждений, имеющих в виду материю. По этой причине нет никаких препятствий, чтобы те же самые предметы, которые подлежат исследованию философскими дисциплинами в меру того, что можно познать при свете естественного разума, исследовала наряду с этим и другая наука в меру того, что можно познать при свете божественного откровения. Отсюда следует, что теология, которая принадлежит к священному учению, отлична по своей природе от той теологии, которая полагает себя составной частью философии.
Священное учение есть такая наука, которая <…> зиждется на основоположениях, выясненных иной, высшей наукой; последняя есть то знание, которым обладает Бог, а также те, кто удостоен блаженства. Итак, подобно тому как теория музыки принимает на веру основоположения, переданные ей арифметикой, совершенно так же священное учение принимает на веру основоположения, преподанные ей Богом.
Никколо Макиавелли (1469 — 1527)
Когда Никколо Макиавелли был с политической миссией на Капри, то получил письмо от своего друга с предупреждением об опасном воздухе острова, насыщенном атмосферой лжи и притворства. На это дипломат шутливо ответил, что, будучи «доктором науки лжи и обмана», он уже давно не говорит того, что думает, и не думает того, что говорит, а если иногда и случается сказать правду, то окутывает ее таким количеством лжи, что и обнаружить её трудно.
Зря он так шутил. Впоследствии папский двор объявил философа проповедником лжи и хулителем морали, а его книги запретил.
Но что делать, если читать нельзя, а очень хочется? Не прошло и десяти лет после запрета, как римская курия разрешила сыновьям философа напечатать некоторые произведения отца, но под псевдонимом. В течение двух столетий вместо имени автора издатели ставили загадочные слова — «флорентийский секретарь», будто флорентийская республика знала только одного секретаря. Имени нет, а труды есть… Что ж, это лучше, чем наоборот. И сдержанная похвала такого придирчивого ценителя, как Наполеон — «Макиавелли — единственный писатель, которого стоит читать», — многого стоит.
Вредный гвоздь
На фамильном гербе Макиавелли изображен голубой (символ красоты и величия) крест на серебряном поле (чистота и невинность). На концах креста вбито четыре гвоздя. Макиавелли по-итальянски означает «вредный гвоздь», «заноза», и гвозди намекали на умение постоять за себя. Но вся эта геральдическая символика не очень соответствует облику основателя политической философии. Во всяком случае, что касается величия и невинности. Никколо был общителен, любил хорошо одеться и не жалел на это денег. А ещё он был хорошим семьянином, но одновременно и душой вечеринок, склонным иногда расслабиться. Он писал стихотворения, комедии, сатиры. Красота слога принесла ему славу первого прозаика Италии, хотя тогдашняя жизнь не слишком радовала красотой. В 9 лет Никколо видел заговорщиков, повешенных в окнах дворца Медичи, в 23 стал свидетелем бегства Медичи из Флоренции, в 29 в его родном городе кончил жизнь на виселице доминиканский монах Савонарола, пытавшийся бороться с распутным папой Александром VI… Но трагедии не интересовали молодого человека. И всё же этот жизнерадостный и остроумный наблюдатель — худой, скуластый, с тонкими язвительными губами — нравился далеко не всем. Ему стоило немалых трудов избавиться от своей саркастической улыбки, которая была под стать фамилии.
Никколо родился в патрицианской семье среднего достатка. Родители предпочли жить в нужде, но дать мальчику хорошее образование. В результате в молодом человеке соединились природная проницательность и учёность, которую он направил на изучение людей. Его страсть — управлять людьми, понимая их сокровенные желания. Он политик по призванию, и карьеру начал неплохо: стал заметным чиновником, влиявшим на политику республики. Потом занял должность госсекретаря, то есть был первым человеком при главе правительства и ездил с дипломатическими поручениями, проявляя при этом большую ловкость и сообразительность.
Но фортуна порой отворачивалась и от Никколо. Менялись враждебные друг другу власти, и заслуги перед прежними правителями становились виной при последующих. Макиавелли не избежит ссылки, будет заподозрен в заговоре, сядет в тюрьму, попробует плетей… В смутное время никакие таланты и добродетели не спасают. Добро слабее зла, и потому одним добром не обойтись. «Все вооруженные пророки победили, а невооруженные погибли», — констатирует философ. Лучше всего полагаться на себя, потому что если ты сам себе поможешь, тебе станут помогать все. Есть люди, которые умеют это делать лучше других. В этом смысле многих превзошел герцог Валентино, больше известный как Чезаре Борджа. Он был жесток, хитер и коварен, и вдобавок ни в грош не ставил такие понятия, как мораль, долг, справедливость и тому подобные вещи, мешающие в делах. А делами он занимался серьезными. Во-первых, надо было избавиться от конкурента — для этого пришлось убить брата. Потом надо было прибрать к рукам солидные территории, чтобы они не отошли государству после смерти отца. (Отцом его был, кстати, тот же папа Александр VI, не стыдившийся кровосмесительной связи с собственной дочерью Лукрецией).
Макиавелли искренне восхищался искусством, с которым Чезаре всё это осуществлял. Философа интересовали не цели политического пройдохи, а умение их добиваться. Он не ломает голову над тем, насколько благородны средства. Если вас интересуют цели, то средства должны быть соответствующие. Рассуждать о добре и зле можно будет со священником перед казнью в случае поражения, а победителей не судят. Цель — вот что надо иметь в виду.
В 1502 году Макиавелли пишет свою первую политическую работу: «О способах обращения с мятежным населением Валь-ди-Кьяны». По его мнению, с восставшими нужно поступать или хорошо, или уничтожать. Середина опасна: в политике она вовсе не из золота. Однако главная работа философа впереди.
Учитель тиранов
Так стали называть Макиавелли после того, как появилось его самое знаменитое произведение — «Государь», ставшее настольной книгой многих политиков. Свою работу философ посвятил правителю — Лоренцо Медичи Великолепному. Автор небескорыстен: решив таким способом засвидетельствовать преданность, он рассчитывал, что могущественный читатель обратит внимание на невзгоды, который терпит высланный из Флоренции ученый. Дело в том, что в городе случился очередной переворот, Макиавелли лишился должности и впереди его ждала долгая опала. Но надежды не оправдались: Лоренцо рукопись игнорировал и советами пренебрёг.
Между тем, советы были совсем не пусты, хотя на первый взгляд довольно сомнительны. Флорентиец много читал древних авторов и пришел к выводу, что время не меняет главного — человеческую натуру, которая, надо заметить, скверная: «О людях в целом можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обманам, что их отпугивает опасность и влечет нажива», — такой вывод сделал философ. А поскольку природа человека неизменна, то и книгу он писал вечную.
В ней автор рассуждает о том, как управлять завоеванными государствами и за что хвалят или порицают правителей, нужно ли государю держать слово и как противостоять судьбе, как избавиться от льстецов и избегать ненависти… Для правителя, к примеру, излишне заботиться о том, чтобы обеспечить себе любовь и верность подданных. Страх надежней любви, поэтому население должно бояться государя и вести себя мирно, обеспечивая деньгами и солдатами. Вызывать ненависть, наоборот, опасно, и этого надо избегать, верно рассчитывая наносимую обиду: если за малое зло могут отомстить, то за большое — нет, поэтому надо быть либо благодетелем, либо палачом. Во имя всеобщего блага и справедливости вполне годятся жестокость и коварство, ибо это лучше, чем допускать беспорядки. Другое дело, что действовать нужно с умом: необходимые жестокости растягивать не стоит, чтобы их перенесли с меньшим раздражением; благодеяния же должно совершать помалу, чтобы подданные «имели побольше времени для их благодарной оценки». Нравится ли народу такая жизнь — об этом философ не задумывается.
Когда речь о политике, Макиавелли никогда не вспоминает христианских заповедей. Бывают времена, когда успех сопутствует негодяям (а именно в такое время он и жил). Значит, с негодяями нужно разговаривать на их языке: «Государь осмотрительный и дурной лучше доброго, но неосторожного, ибо добрый не будет управлять, а будет управляемым, главным образом наихудшими людьми, осторожный же и мудрый государь, хотя он и повредит (быть может) благочестивым, всё же будет сдерживать и злых, а это особенно важно в мире сём, который есть скопище злых».
Если Сенека писал о том, как нужно жить, то Макиавелли обратился к грубой практике. Его волнует не то, что красиво, а то, что практично. Философ восторгается даже злодеями, если они талантливы и изобретательны.
Давно забыты уже и Борджа, и другие ловкие авантюристы, вдохновляющие автора «Государя». Но философ был прав, когда говорил, что находить новые порядки и способы действия не менее опасно, чем искать неизведанные земли и моря. Именно он стал символом беспринципного, лицемерного политика, для которого все средства, ведущие к цели, хороши.
А как же мораль?
Политики против моралистов
Макиавелли обвиняли в том, что он указывает не просто самый действенный, но часто и самый грязный путь к успеху. Однако флорентиец ничего не изобрел, а лишь объяснил, как действует существующий политический механизм. Роберт Кох ведь не виноват, что его именем названа открытая им туберкулезная палочка. «Мне показалось правильным следовать настоящей, а не воображаемой правде вещей», — писал Макиавелли. Он всего лишь устроил читателю экскурсию на политическую кухню, где издавна варят зелье, причем отнюдь не по рецептам философа. Просто политика и мораль живут в разных измерениях. Иначе воинов не награждали бы за убийство, а правителей, посылающих войска в чужие земли, судили.
Макиавелли, конечно, не был образцом нравственности, однако был не хуже других, говорящих высокоморальные вещи. Его герой — хитрый и ловкий государь, мастер политической интриги, реалист и прагматик: «Не отклоняться от добра, если это возможно, но уметь вступить на путь зла, если это необходимо», — напутствует его философ. Однако добро и зло в жизни так связаны друг с другом, что «невозможно пользоваться одним, не прикасаясь к другому». Макиавелли впервые прямо и откровенно сказал об этих малопривлекательных реалиях, отделив политику от лжи: «Ни разу не пожелал прикрыть неблаговидный поступок благовидным предлогом или очернить похвальное дело из-за того, что оно предпринято ради противной цели».
Понимали его по-разному. Дидро писал, что Макиавелли как будто говорит в своем произведении: «Читайте хорошенько мою книгу; и если вы получите государя, то он будет именно таким. Берегитесь». По словам Руссо, делая вид, что дает уроки государям, Макиавелли на самом деле преподносит великие уроки народам. Но диктаторы всегда улавливали суть с полуслова.
Бенито Муссолини, главарь итальянских фашистов, в докладе на соискание доктора права в университете Болоньи в 1924 году утверждал, что спустя четыреста лет после Макиавелли люди стали не лучше, а хуже: «Времена изменились, но если бы мне было позволено судить моих ближних и современников, то я не смог бы никоим образом смягчить суждения Макиавелли. Возможно, я должен был бы усилить их».
И вправду: разве мало в нашем веке прилежных учеников философа? Троцкий, к примеру, полагал, что великие задачи, поставленные марксистскими мыслителями, оправдывают жестокости в духе Макиавелли, и двадцатый век вернулся к морали Возрождения. А ленинская мораль, подчиненная интересам «классовой борьбы пролетариата»? Что для этой борьбы полезно, то и хорошо. Но о том же толкует и Макиавелли (только у него вместо пролетариата — государь): годится всё, что ведет к успеху. Или, как подмечает грубоватая пословица, всё полезно, что внутрь пролезло.
Обличать беспринципность легко, но бесполезно; зато поднести зеркало к физиономии монарха и дать полюбоваться отражением — это помнится столетиями. Макиавелли напоминает нам, что не следует обольщаться насчет моральных качеств вождей: их цели всегда оправдывают средства. Что же это за цели?
Для самого Макиавелли высшая цель — интересы государства. Вот как средневековый философ рекомендует удерживать власть: для этого нужно «сохранять состояние нерешительности и неизвестности, держать людей постоянно в ожидании, чем закончатся очередные начинания». Как всё похоже…
Когда на весах спасение родины, пишет он, его не перевесят никакие соображения справедливости и несправедливости, похвального или позорного. Предпочесть следует то, что спасет родину и сохранит свободу. Творимое зло он оправдывает высшим, с его точки зрения, добром — государством, принося ему в жертву отдельную личность. Для него она не более чем деталь государственной машины.
Однако идеи всеобщего блага, за которыми уже не разглядеть человека, опасны, и это не раз доказывали почитатели великого флорентийца. Они и по сей день твердят, что, мол, политика — грязное дело. Но в такое дело можно превратить не только политику, но и, к примеру, литературу, науку или бытовое обслуживание, потому что всё можно делать грязно. И пока политические приемы, о которых писал Макиавелли, по-прежнему в ходу, говорить, что времена изменились к лучшему, рано.
«Не хотим философов!»
В 1527 году Рим разграбили испанские католики и лютеранские ландскнехты. Режим Медичи пал, была восстановлена республика. Папа Климент VII опять призывает некогда опального философа. 58-летний Макиавелли хочет служить республике и предлагает свою кандидатуру на пост канцлера. Но ему не простили сотрудничества с Медичи, а чиновничья верхушка опасалась его смелого мышления. «Не хотим философов!» — восклицал в Большом совете один из отцов города. Некий знатный оратор даже привел такой аргумент: «Он учёный. Отечество нуждается в людях благонадёжных, а не в учёных». Да и насмешливый нрав Никколо мало кому нравился. «Вредные гвозди» государству не нужны.
Через полтора месяца он умер, причем многие говорили об отравлении. Его похоронили во Флоренции, в церкви Санта Крочи, где теперь пантеон великих людей города. Здесь лежат Микеланджело, Галилей, Россини. В 1727 году потомки поставили памятник и написали: «Имя его выше всяких похвал».
…Римляне полагали, что подлинная сила всякого характера проявляется в момент смерти. Макиавелли незадолго до кончины, мучаясь от сильной боли (он умер, скорее всего, от аппендицита), балагурил. А за несколько часов до смерти рассказал свой сон:
— Я видел редкое скопление бедных, оборванных, изможденных людей. Мне объяснили, что это были души рая. Потом они исчезли и явилось множество лиц, благородной внешности в королевских одеяниях, которые степенно беседовали о государстве. Среди них я узнал Платона, Плутарха, Тацита… На мой вопрос, кто эти пришельцы, мне ответили, что это грешники ада. Потом исчезли и они, и меня спросили, с кем бы я хотел быть. Я ответил, что скорее пойду в ад толковать о государстве с благородными, чем быть в раю с нищими духом.
Эти слова папа Павел IV ему потом припомнил, и книги флорентийца запретили. Опытные политиканы обвинили философа в том, что он изобрел описанный им мир. Российским монархам тоже претила такая откровенность. В 1737 году князя Голицына судили за чтение опасного философа, и вельможа едва не поплатился за это жизнью. Зато век спустя Пушкин назвал Макиавелли великим знатоком природы человеческой.
Со временем и политики стали откровеннее: Ленин считал одиозного итальянца «умным писателем по государственным вопросам», а при Сталине его даже переиздали. Ученики пошли дальше учителя. В результате десятилетия спустя бывший заместитель Генерального секретаря ООН Аркадий Шевченко, порвавший с СССР в 1978 году, написал в своих воспоминаниях, что если бы Макиавелли жил среди советской элиты, то он был бы студентом, а не профессором.
Макиавелли ничего не придумывал, а лишь описывал то, что видел, и потому в нашем веке автора «Государя» считают основателем политической науки, который от теории обратился к практике. В одной из работ ученый так сформулировал главную цель своих трудов: «Долг каждого честного человека — учить других тому доброму, которое из-за тяжелых времен и коварства судьбы ему не удалось осуществить в жизни».
Философ отделял политику от религии, утверждая, что её определяют не Бог и не мораль, а естественные законы жизни и человеческая психология. Он понял, что политиками движут реальные земные интересы, подчас самые низменные. Если хочешь добиться успеха — нужно смотреть в глаза фактам и действовать так, как требует обстановка. На божественное провидение полагаться не приходится, в борьбе с судьбой следует рассчитывать только на собственные силы. Макиавелли не такой уж и циник, как может показаться, что и доказывают современные политические реалии. Стал ли мир политики более нравственным со времен флорентийского философа — вопрос спорный.
Теперь остается рассмотреть, как государь должен вести себя по отношению к подданным и союзникам. Зная, что об этом писали многие, я опасаюсь, как бы меня не сочли самонадеянным за то, что, избрав тот же предмет, в толковании его я более всего расхожусь с другими. Но, имея намерение написать нечто полезное для людей понимающих, я предпочел следовать правде не воображаемой, а действительной — в отличие от тех многих, кто изобразил республики и государства, каких в действительности никто не знавал и не видывал. Ибо расстояние между тем, как люди живут и как должны бы жить, столь велико, что тот, кто отвергает действительное ради должного, действует скорее во вред себе, нежели на благо, так как, желая исповедовать добро во всех случаях жизни, он неминуемо погибнет, сталкиваясь с множеством людей, чуждых добру. Из чего следует, что государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением смотря по надобности.
Если же говорить не о вымышленных, а об истинных свойствах государей, то надо сказать, что во всех людях, а особенно в государях, стоящих выше прочих людей, замечают те или иные качества, заслуживающие похвалы или порицания. А именно: говорят, что один щедр, другой скуп; <…> один расточителен, другой алчен; один жесток, другой сострадателен; один честен, другой вероломен; один изнежен и малодушен, другой тверд духом и смел; этот снисходителен, тот надменен; этот распутен, тот целомудрен; этот лукав, тот прямодушен; этот упрям, тот покладист; этот легкомыслен, тот степенен; этот набожен, тот нечестив и так далее. Что может быть похвальнее для государя, нежели соединять в себе всё лучшее из перечисленных качеств? Но раз в силу своей природы человек не может ни иметь одни добродетели, ни неуклонно им следовать, то благоразумному государю следует избегать тех пороков, которые могут лишить его государства, от остальных же — воздерживаться по мере сил, но не более. И даже пусть государи не боятся навлечь на себя обвинения в тех пороках, без которых трудно удержаться от власти, ибо, вдумавшись, мы найдем немало такого, что на первый взгляд кажется добродетелью, а в действительности пагубно для государя, и наоборот: выглядит как порок, а на деле доставляет государю благополучие и безопасность.
Мишель Монтень (1533 — 1592)
Что может вырасти из ребенка, который огражден от всех житейских неприятностей? Просыпается он в своем родовом замке под звуки тихой музыки, а домашние скрывают от него всё печальное и неприятное. Даже став взрослым, молодой человек не знает, сколько и чего можно купить на золотой франк. Зато мертвая латынь, далекая от повседневных забот его современников, — для Мишеля второй родной язык, потому что отец пригласил лучших преподавателей латыни, и даже слуги, прежде чем обратиться к ребенку, предварительно выучивали нужную фразу.
Если Блаженный Августин с ужасом вспоминал своё детство, то этому барчуку жаловаться было не на что. Если первый до конца дней прославлял Бога и стал авторитетом Средневековья, то второй сделал культ совсем из другой личности — собственной, которой и поклонялся всю жизнь. Мишель Монтень стал авторитетом другой эпохи — Возрождения. Он высоко ценил спокойствие, комфорт и старательно заботился о том, чтобы ничто не нарушало его душевного спокойствия. Но при этом он не был бездельником и оставил потомкам свои «Опыты» — мысли и наблюдения о себе, о людях и жизни.
Монтень, как и все люди, стремился к счастью и потому пристально всматривался в себя, стараясь понять собственную суть. Он искал свой путь в жизни. Гёте и Ницше, Мериме и Байрон видели в нем духовного предка.
Свободная душа: pro et contra
Его жизнь напоминает приятный сон. Путешествия по Европе, безмятежные дни в замке. Прогулки, книги, беседы с друзьями… Всё это без нужды, без цели — если, конечно, не считать целью удовольствие от самого процесса. «Я ищу умных, честных людей… О чём бы мы ни беседовали, нам будет в сущности всё равно», — такова позиция этого французского дворянина. Его занятия несерьезны: книги просматривает беспорядочно, незаметно переходя к мечтаниям, потом диктует, что придет в голову. Он готов забросить и книги, если только те начнут вредить здоровью или хорошему настроению — «драгоценнейшим благам» хозяина замка. «Я очень празден и ленив по природе и убеждениям, — признавался он. — У меня душа свободна и никому не подчиненная, привыкшая следовать собственной воле… Это изнежило меня и, лишая возможности приносить пользу другим, заставило жить только для самого себя».
Ясно, что такие качества только мешают чиновнику, и Монтень всегда тяготился своей службой в парламенте города Бордо. Он был юристом, но не мог выносить преступникам смертные приговоры, потому что более всех преступлений и пороков ненавидел жестокость, как бы она ни была справедлива. Впрочем, он много чего не мог. Не мог одобрить религиозный фанатизм (а вторая половина XVI века вместила в себя восемь кровопролитных религиозных войн); терпеть не мог крайностей, потому что, по его убеждению, человек не в состоянии познать абсолютную истину, ибо все истины относительны. Он не мог даже следить за своими доходами, считать и пересчитывать деньги, находя это занятие презренным, порождающим скупость. Бедности, однако, не терпел и требовал, чтобы стакан, из которого пьет, был не из металла, а из прозрачного стекла, имел красивую форму и был подан собственным лакеем. Больше всего на свете он любил самого себя и даже отдав собственной жене всё — имя, состояние, уважение, — не отдал сердце. Правда, и женился-то только чтобы «соблюсти нравы страны, где живешь». Его истинные кумиры — спокойствие, независимость и возможность заниматься любимым делом. Он призывал беречь свободу души, полагая, что величайшая вещь в мире — уметь принадлежать только самому себе.
Ну, а что он мог?
Он мог позволить себе жить так, как ему нравится, — слышать о короле не чаще раза в год и ненамного чаще чувствовать тяжесть его правления. «Если бы законы, которым я подчиняюсь, самым ничтожным образом стесняли меня, я тотчас бы отправился в другую страну искать другие законы». Как видим, патриотом его назвать трудно.
Мог гордиться воспитанием, какое вряд ли имел кто-нибудь из европейских монархов. Оно дало этому дворянину чувство собственного достоинства, которое внушало уважение даже тем, кто видел его впервые. Именно это чувство удерживало философа от крайностей и позволило сказать фанатичным современникам: «Надо слишком высоко ставить свои предположения, чтобы из-за них предавать сожжению других людей». Упорство и страстность он считал вернейшими признаками глупости: ну что может быть более уверенно, убежденно, презрительно, задумчиво, важно, серьезно, чем осёл?
В 37 лет оставил службу, уединился в замке и занялся литературой. Когда вышли его первые книги, отправился путешествовать. Развалины древнего Рима так полюбились Монтеню, что он захотел стать гражданином вечного города, и римский сенат помог ему в этом.
И сам Монтень, и мысли его далеки от Бордо. Между тем, бордосцы избрали его своим мэром. Философ поначалу хотел отказаться, потому что это отвлекало от литературы и угрожало нравственной независимости. Однако король уже прислал поздравление, отказ мог вызвать неудовольствие, и Монтень согласился.
Строго говоря, философ совсем не годился в мэры, потому что не умел жертвовать личным ради общественного. Он даже ставил себе в заслугу, что ни в дружбе, ни в любви, ни в общественной деятельности никогда не поступался собственной личностью. Но зато бордосцы не ошиблись в главном: «тот, кто чувствует человеческое достоинство, поймет свои обязанности к другим людям и обществу», — так считал их избранник. К тому же он был осторожен, терпим и гуманен. После первого двухлетнего срока горожане выбрали своего мэра на второй, впервые в истории Бордо. Выбрали бы, наверное, и на третий, но тут случилась моровая язва, которая унесла половину населения, и Монтень счел за благо отказаться от дальнейшей службы. Он поспешил к себе в замок, чтобы снова засесть за «Опыты», которые его прославят.
Автопортрет без прикрас
О чем он мог писать? Конечно же, о себе. Монтень полагал, что любой человек отражает всё человечество и в качестве такого представителя человеческого рода выбрал себя. Первоначальный замысел «Опытов» — заметки на полях сочинений Сенеки, Плутарха, Тацита, Цицерона. Но постепенно на первый план вышли собственные комментарии и размышления.
Монтень одним из первых очнулся от средневекового морока. Его книгу называют пиком развития свободной мысли Франции в эпоху Возрождения. Главное достоинство «Опытов» — искренность и честность, пусть даже в ущерб собственной репутации: «Если хотят говорить обо мне, то пусть говорят одну правду».
В главной книге философа напрасно искать философскую систему. По сути, это сборник довольно случайных заметок — о праздности и лжецах, об именах и искусстве беседы, о воспитании детей и боевых конях, — плюс обязательный психологический самоанализ — это и есть философия Монтеня. Он дилетант в том, о чём пишет и судит, и многие его заметки поверхностны. И всё же их автор считает, что следует больше верить суждениям разума о самом себе, чем об остальных вещах, и потому недоверчив к учёным, рассуждающим о мире: «Поскольку этим людям так и не удалось постигнуть самих себя и познать своё естество, неизменно пребывающее у них на глазах и заключенное в них самих, могу ли я верить их мнениям о причинах приливов и отливов на реке Нил».
Монтень — скептик. Но откуда взяться скептику в той теплице, где философ предпочитал скрываться от жизни? Дело в том, что если смотреть на земную суету из заоблачных высот, то мир выглядит огромным и загадочным, а человек на этом фоне смотрится весьма бледно. Наши вопросы состоят из пустых слов и ответы на них такие же, полагает Монтень. И неудивительно, потому что наукой занимаются самые заурядные люди, больше озабоченные своей выгодой, чем поиском истины: «Говоря откровенно, люди науки лишены даже простого здравого смысла. Крестьянин и сапожник простодушно и наивно беседуют о том, что они действительно знают, тогда как ученые, желая показать глубину своих познаний, на самом деле легковесных и поверхностных, постоянно путаются и на каждом шагу попадают в непроходимые дебри». В результате наука утратила своё высокое назначение познавать человеческую природу и смысл жизни, указывать пути к совершенству.
Будучи добропорядочным католиком, философ тем не менее уверен, что земная жизнь — это единственное, что есть у человека. Бог для него — абстрактная сущность, о которой нельзя сказать ничего конкретного. Да и человек — не венец творения: он, как и все, подчиняется естественным законам. Неудивительно, что свободный дух «Опытов» долго не давал покоя догматикам. Спустя почти век после смерти философа Ватикан занес его книгу в список запрещенных. Суровые духовные пастыри всерьез полагали, что могут управлять мыслями своей паствы. Они не знали, что это такая же несбыточная мечта, как и построение земного рая. Тем более, что Монтень ясно сказал: его мысли не принадлежат государству.
«Опыты» были в числе любимых книг Шекспира, Вольтера, Руссо, Пушкина. В 1762 году эта книга появилась и в России. В те времена россияне предпочитали именовать Стокгольм — Стекольной, а Мариенбург — Марьиным городком, потому и книга в русском переводе называлась «Опыты Михаила Монтаниева». Лев Толстой часто перечитывал размышления великого философа. Уйдя из Ясной Поляны, он просил прислать ему «Опыты».
Живу только для себя
Главной силой, движущей человеком, Монтень считал эгоизм. Он даже видел в нем необходимое условие счастья. Какое может быть счастье, какой покой, рассуждал он, если чужие интересы принимать так же близко к сердцу, как и свои собственные…
Но в чем заключается счастье? Для Монтеня — в наслаждениях. «Ловите наслаждения, вашим будет столько, сколько успеете пожить», — ему были близки эти древние латинские строки. Пользой и наслаждением он мерил и саму добродетель. Что же касается нравственных оценок — хорошо или плохо, благородно или подло, — то на эти вещи он смотрел философски, замечая, что такие оценки противоречивы не только у разных народов, но даже у одного и того же человека в разное время. И всё же Монтень ценил добродетели и высоко их ставил, но с оговоркой: если только они не мешают быть счастливым. Всякое насилие над собой во имя высоких целей решительно отвергал: «Я живу со дня на день и, говоря по совести, живу только для себя». Впоследствии классики марксизма решительно высказались против такого понимания нравственности: «Занимаясь самим собой, человек только в очень редких случаях и отнюдь не с пользой для себя и для других удовлетворяет своё стремление к счастью». Искать в этом выводе глубокие научные основания, конечно, бесполезно, и потому нельзя сказать определенно, был ли Монтень, согласно Ф. Энгельсу, несчастен или ему повезло, и он попал в число редких исключений. Но, как известно, классики в разное время говорили разное. В другом месте и по другому поводу Энгельс пишет уже иначе: «Если мы хотим чем-то помочь какому-нибудь делу, то оно должно сперва стать нашим собственным, эгоистическим делом». Тут уж и сам Монтень не стал бы спорить. Он даже считал, что личное счастье каждого полезно и обществу: ведь лучше, когда оно состоит из счастливых.
Но хорошо было Монтеню рассуждать о счастье, сидя в своем замке в окружении слуг. Абсолютное большинство человечества проводит свои дни гораздо прозаичнее. Философ это прекрасно понимал и писал о вещах общечеловеческих. О том, что за обязанностями человека по отношению к самому себе следуют обязанности по отношению к другим. Эти отношения должны основываться на справедливости. По отношению к жене справедливость состоит в том, чтобы относиться к ней если не с любовью, то с уважением, хотя и не нужно отдавать ей себя вполне; к детям — чтобы заботиться об их здоровье и воспитании; к друзьям — отвечать дружбой на дружбу.
С государством отношения сложнее. Как образованный человек и опытный чиновник, Монтень хорошо видел несправедливость жизни, несовершенство государственного устройства. Если охотничью собаку ценят за быстроту, а не ошейник, то почему человека ценят за его доходы, роскошный дворец, а не личные качества? А что говорить о законах! Эти неподвижные нормы не в состоянии предусмотреть всё многообразие ситуаций, и потому всегда остаётся нечто, не предусмотренное законом. Значит, остаётся и судейский произвол. Кроме того, законы сочиняют если и не откровенные дураки, то всегда люди, суетные и невежественные. Поэтому самая тяжкая и глубокая несправедливость — та, что заключается в законе. Но, несмотря на это, важнейший долг человека по отношению к человечеству — уважение существующего порядка: ведь нет никаких гарантий, что новое правительство сделает нас счастливее. Рассуждать так — значит лечить болезнь смертью, потому что любые новшества нарушают спокойное течение жизни и мешают наслаждаться ею.
Ну, а если жизнь не располагает к наслаждениям? Однако тут философ готов с нами поспорить: он считает, что обстоятельства не властны над человеком, если только он сам не позволит им себя победить. К объективным несчастьям (например, физическое уродство, смерть близких) следует относиться с покорностью, стараться свыкнуться с ними. Что же касается субъективных (оскорбленное самолюбие, жажда славы и т.п.), то на них надо смотреть философски, смягчая их остроту. Главный признак мудрости — это неизменно радостное восприятие жизни, нарушить которое не под силу никому. Даже тирания возможна лишь в той мере, в какой люди готовы продать свою свободу за зрелища и прочие приманки массового сознания, которыми прельщают литераторы. Учиться жить надо не на речах правителей, а следуя совету древних: «Делай своё дело и познай самого себя». То и другое неразделимы, потому что успешно делать дело можно лишь изучив свой характер и способности, оценив силы. Нужно воспитывать себя для счастья, вырабатывая такое состояние духа, при котором счастье чувствуется сильнее, а несчастье — слабее.
…Когда-то перед юным Гераклом предстали две богини судьбы. Одна сулила ему удовольствие и блаженство, другая — добродетельные подвиги. Геракл выбрал второе. Но тяжелая борьба за истину, добро и красоту нередко непосильна для обыкновенных людей. Они не видят, какую дорогую цену платили великие мужи за свою славу и власть. Лишенные величия души гонятся за привилегиями, должностями и прочей мишурой, платя за это лицемерием и угодничеством. «Я на это не зарюсь, ибо слишком себя люблю», — пишет Монтень. Любить себя — значит беречь собственную душу, стараясь на пути к счастью избегать ловушек для слабых и неразумных.
Однако свободомыслие во все времена частенько сокращало жизнь вольнодумцам. Что ж, такова цена, которую приходится платить за свободу: «Размышление о смерти есть размышление о свободе; кто научился умирать, тот разучился быть рабом… Мысль о смерти и спокойное отношение к ней избавляют нас от всякого подчинения», — так разрешил для себя это противоречие великий француз.
О пользе здравого ума
Нас учат жить, когда жизнь уже прошла, сетует Монтень. И посвящает отдельную главу воспитанию детей. Все хотят, чтобы школа выпускала молодых людей с ясной головой, но оттуда зачастую выходят лишь напичканные информацией. Не перевелись ещё те анекдотические схоласты, всерьез спорившие, есть ли у крота глаза. Когда садовник предложил им взять крота и посмотреть, те обвинили его в невежестве: мол, речь шла не о каком-то там конкретном кроте, а о кроте вообще. И по сей день потомки тех схоластов действуют с прежним увлечением… Вы знаете, что такое гаструла? Ну как же, это ведь следующая, после бластулы, стадия развития оплодотворенного яйца ланцетника. А следующая стадия будет уже нейрула, и это тоже полезно знать с точки зрения авторов учебника биологии для десятиклассников.
До чего же далеки заботы нынешних просветителей от того, о чём думал Монтень! Он считал величайшим недомыслием учить детей науке о движении небесных сфер, не научив понимать движения собственной души. Задачу наставника он видел не в том, чтобы научить ребенка конкретным премудростям химии, биологии или физики, а в том, чтобы воспитать умного и волевого человека, который умел бы наслаждаться жизнью и стойко переносить несчастья. И самое главное — имел бы здравый ум, без которого трудно быть счастливым. Можно всё знать про ланцетника и казаться энциклопедистом по сравнению с Монтенем, но при этом страдать такими «болезнями ума», как легкомыслие, нелогичность, блуждая всю жизнь среди бэконовских идолов. Оправдывать выгодное для себя, осуждать вредное. Страдать мнимым всезнайством и упрямо навязывать своё мнение другим. Почему бы нам не вспомнить, предлагает философ, «сколь многое ещё вчера было для нас нерушимыми догматами, а сегодня воспринимается как басни!» Предупреждать «болезни ума» он рекомендует с помощью философии, которой есть что сказать и юноше, и старику. Кто пренебрегает ею, тот лишь показывает, что пора счастливой жизни для него либо ещё не настала, либо уже прошла, полагает Монтень.
Нелегкая это наука — здраво судить о собственной жизни. Не так уж много природа отвела на учение, и надо спешить научить воспитанника добродетели, призывает философ. Научить его жить и быть счастливым, невзирая на переменчивые обстоятельства. До последней минуты исполнять требования жизни и достойно умереть: «Я хочу, чтобы смерть застала меня на огороде, когда я сажаю капусту, и притом так, чтобы я очень мало заботился о кончине, и ещё меньше о деле, которое мне приходится покинуть».
Для Монтеня, великого гуманиста эпохи Возрождения, самая большая ценность — это человек, личность независимая и самостоятельная. Он не может быть средством достижения каких-то целей, пусть и возвышенных, и потому философ не одобряет лозунга «жить для других». Монтень критикует мораль цивилизованного общества, полагая, что примитивная мораль дикарей, основанная на здравом смысле, порой выглядит куда человечнее. Добродетель, которую он предлагает, — мужественная, непримиримая к злобе и унижениям, исходит из познания естественных условий жизни. Что же касается привычных традиций и предрассудков, то зачастую они не стоят того, чтобы спорить с ними и подвергать себя опасности.
Монтень и его последователи отвергали академическую философию, предпочитая самостоятельность суждений. Благодаря Монтеню в литературе распространился жанр эссе. Так называют небольшое прозаическое произведение, передающее индивидуальные впечатления и соображения автора на выбранную тему.
Я не знаю, на основании чего устанавливаем мы продолжительность нашей жизни. Я вижу, что, по сравнению с общим мнением на этот счет, мудрецы сильно сокращают её срок. «Как, — сказал Катон Младший тем, кто хотел помешать ему покончить с собой, — неужели, по-вашему, я настолько молод ещё, что заслуживаю упрека в желании слишком рано уйти из жизни?» А ему было всего сорок восемь лет. Сообразуясь с тем, что лишь немногие люди достигают этого возраста, он считал его весьма зрелым и преклонным.
Я же считаю, что к двадцати годам душа человека вполне созревает, как и должно быть, и что она раскрывает уже все свои возможности. Если до этого возраста душа человеческая не выказала с полной очевидностью своих сил, то она уже никогда этого не сделает. Именно к этому сроку наши природные качества и добродетели должны проявить себя с полной силой и красотой или же они никогда не проявят себя:
Раз шип не острый с первых дней,
Потом не станет он острей, —
говорят в Дофине.
Из всех известных мне прекрасных деяний человеческих, каковы бы они ни были, гораздо больше, насколько мне кажется, совершалось до тридцатилетнего возраста, чем позднее. Так было в древности, так и в наше время, и часто в жизни одного и того же человека: ведь это с полной уверенностью можно сказать о Ганнибале и о его великом противнике Сципионе. Добрая половина их жизни была прожита за счёт славы, которую они стяжали в молодости: позже они тоже были великими людьми, но лишь по сравнению с другими, а не с самим собой. Что до меня, то я с полной уверенностью могу сказать, что с этого возраста мой дух и моё тело больше утратили, чем приобрели, больше двигались назад, чем вперед…
Иногда первым уступает старости тело, иногда душа. Я видел достаточно примеров, когда мозг ослабевал раньше, чем желудок или ноги. И это зло тем опаснее, что оно менее заметно для страдающего и проявляется не так открыто. Вот почему я и сетую не на то, что законы слишком долго не освобождают нас от дел и обязанностей, а на то, что они слишком поздно допускают нас к ним. Мне кажется, что, принимая во внимание бренность нашей жизни и все те естественные и обычные подводные камни, которые она встречает на своем пути, не следовало бы придавать такое большое значение происхождению и уделять столько внимания обучению праздности.
Фрэнсис Бэкон (1561 — 1626)
Философ изобретения, отец экспериментальной философии, родоначальник материализма — это всё о нём. А последние триста лет даже именуют «бэконовской революцией», преобразовавшей жизнь.
Что же касается нравственных качеств, то тут оценки куда менее лестные. О Бэконе говорили, что только в своей библиотеке он правдив и бесхитростен. Правда, немецкий химик Либих полагал, что и в науке он был столь же недобросовестен, как и в государственных делах. Личный врач Бэкона Уильям Гарвей, основатель нынешней физиологии, говорил, что тот пишет философию как лорд-канцлер. Однако всё это не помешало философу прославиться своими моральными размышлениями.
Но более всего он писал о науке, не будучи специалистом ни в одной конкретной области: «Я всего лишь трубач и не участвую в битве», — пояснял он. Его труба звала людей к борьбе не с врагами, а с природой, что по нынешним временам звучит довольно странно. Бэкон хотел, чтобы люди штурмом захватили ее неприступные крепости, раздвинув границы человеческого могущества.
От «маленького канцлера» — к большому
О его успехах в познании заговорили гораздо раньше, чем о неджентльменских манерах. На восьмом году его занимали законы звука. Он ходил слушать эхо и пытался понять, в чём тут дело. Потом раздумывал над тем, как фокусник отгадывает задуманную карту, и даже нашел психологический закон, объяснивший эту загадку. Сама английская королева Елизавета заметила вундеркинда и часто называла его маленьким канцлером. Кстати, отец Фрэнсиса, крупный придворный сановник, был настоящим канцлером. От него-то сын и унаследовал практический взгляд на жизнь. Бэкон-старший умел приноравливаться к обстановке. Фрэнсис еще не родился, когда Англией правила Мария I Тюдор, известная под двумя прозвищами — Католичка и Кровавая. Канцлер счел за благо пренебречь своей протестантской верой и прикинуться католиком. Сын же его с детства был убежден, что мораль годится лишь для частной жизни, а жизнь общественная — это война, где всё позволено.
В двенадцать лет Фрэнсис поступил в Кембриджский университет. Там всё ещё царила схоластика, и после трех лет учебы мальчик вынес оттуда презрение к бесплодной науке, не получив никакой учёной степени. Зато он поставил перед собой великие цели: принести пользу человечеству, отыскать истину и служить своему народу.
К двадцати годам успел побывать в Европе и написать небольшое сочинение о её состоянии. Но тут умер отец, Фрэнсис был вынужден вернуться на родину и подумать о житейской прозе. Отец ему наследства не оставил, и молодой человек избрал юридическое поприще. Не потому, что любил это дело, а потому, что надо было кормиться.
Карьера шла вяло. Бэкон относился к юриспруденции свысока, и коллеги платили ему тем же. Талант хвалили, но относились к умнику прохладно. Будь он посредственностью, его признали бы за своего и тащили чуть ли не за уши. Елизавета, заметив, что молодой человек умён и образован, сделала его своим советником, но дальше он не двигался. Между тем, королевский двор притягивал к себе честолюбивого юношу. Молодой граф Эссекс, который отличался рыцарскими манерами, сумел оценить достоинства Бэкона и предложил ему помощь, подарив своему подопечному неплохое имение.
И тут вышла скверная история. Горячий граф в минуту негодования выступил против правительства. Этим воспользовались недруги, был суд. Среди девятнадцати судебных обвинителей Бэкон был самым красноречивым. Графа казнили. Осужденный, кстати, ни в чём не упрекнул своего бывшего любимца. Но тот не успокоился на достигнутом и после казни выпустил памфлет, где с присущим ему талантом доказывал справедливость приговора. Это вызвало у современников обратную реакцию, и нравственные качества юриста еще долго вызывали сомнения. Бэкон оправдывался: «Я писал то, что мне было приказано королевой». Но и Елизавета отвернулась от него. Только при её преемнике, любителе наук Якове I, законник, наконец, пошел в гору. Выступал в палате общин с яркими речами, стал хранителем Большой печати. Небезуспешно плел интриги против врагов. И вот уже Бэкон — лорд-канцлер, первый судья в государстве, потом — барон Веруламский. Подниматься выше уже некуда, зато легко можно потерять всё.
Ни один философ не занимал таких высоких должностей. Платоновская мечта о правителе-философе осуществилась, но снова оказалась бесплодной. Если в древности философия и жизнь были неразрывно связаны, то не таков XVII век. Чтобы достичь положения, а потом сохранить его, одних высоких идеалов мало. В мыслях барон парил над облаками, а на земле дрожал от страха потерять приобретенное. К тому же он был расточителен, а жена и вовсе отличалась мотовством. Слуги брали взятки с просителей, покупали себе поместья. Барону советовали обратить на это внимание, но философ заявлял, что-де «устремляет свой взор выше».
У него не хватало мужества следовать собственному принципу: «Невежественный человек не может, а трусливый не смеет быть хорошим судьей». Лорд брал взятки, а незаконные сделки скреплял печатью. (Любопытно, что чиновника, не принимающего дары, Бэкон, автор «Новой Атлантиды», поместил в Утопию, как нечто отсутствующее в реальности). В итоге вельможа дождался, что в палате общин заговорили о злоупотреблениях в английском судопроизводстве, и дело кончилось плохо. Парламентская комиссия пришла к выводу, что в судах нет правды, судьи продажны, а покровительствует этим беззакониям сам лорд-канцлер. И вот мягкий, общительный сановник, талантливый мыслитель оказался на скамье подсудимых. Набралось более двадцати пунктов обвинения.
Бэкон слег, никого к себе не пускал и хотел, чтобы о нём поскорее забыли. Но не тут-то было, и вину пришлось признать. Правда, в душе считал себя несчастным и говорил, что совесть его чиста, потому что другие поступали не лучше (хорошее оправдание для философа!..) В конце концов верховный судья английского королевства был признан лихоимцем и лишен права занимать какие-либо государственные должности. Кроме того, надлежало уплатить большой штраф. Милостью короля Бэкон был избавлен от приговора и ему даже вернули кое-какие привилегии, но лорд уже не решился заседать в парламенте рядом со своими бывшими судьями. Он оставался дома, отдавшись науке.
Лорд старался жить с прежней роскошью, но это уже не получалось. Порой даже сидел без своего любимо пива. Во время уединённой жизни написал труд «О всеобщей справедливости и источниках права». В нём до последних дней уживались вельможа и философ, который продолжал давать советы королю, хотя в них никто не нуждался.
Счастье по Бэкону
Из сказанного, впрочем, не следует, что с такой биографией Бэкону нечего было сказать полезного на моральную тему. Государственная служба мало способствовала проявлению лучших качеств философа, и он отводит душу в своих знаменитых «Опытах и наставлениях моральных и политических», которые ещё при жизни автора выдержали несколько изданий. «Они принадлежат к лучшим плодам, которые Божией милостью могло принести моё перо», — писал он незадолго до смерти. В «Опытах» Бэкон проповедует трезвый взгляд на вещи и советует исходить из опыта, наблюдать жизнь и руководствоваться этим, чтобы научить людей добру, а не навязывать им надуманные принципы. Вместо отвлечённых вопросов, что такое добро и в чём заключается счастье, философ предлагает подумать, как направить наши заботы к добру и построить своё счастье.
Но что такое добро? «То, что полезно человеку и человечеству в одно и то же время… Общеполезная деятельность есть высочайшая из человеческих обязанностей». Философ утверждал, что общественное благо выше индивидуального, и деятельная жизнь лучше созерцательной. Разве может сравниться наслаждение от исполнения желанного дела с удовольствием от еды, сна и развлечений? Если первое сохраняет постоянную новизну и разнообразие, даёт цель в жизни, смягчает удары судьбы, то второе лишь растрачивает время и силы. Античная безмятежность, аскетизм или стремление к наслаждениям несостоятельны с точки зрения «человека общественного». У Бэкона другая мерка счастья, чем у Сократа или Эпикура.
Он был очень практичен буквально во всём, включая любовь. В «Опытах» моралист писал, что-де великие умы не допускают развития этой страсти, свойственной слабым. Любовь хороша лишь на сцене, а в жизни приносит много несчастий, и потому правильно поступает тот, кто не допускает её в серьезные дела. Свои же дела философ хотел поправить с помощью выгодной женитьбы на собственной кузине. Однако та, не менее практичная, предпочла богатого старика. Но богатую невесту он всё-таки нашел и женился, преодолев все препятствия.
Личные недостатки не мешали Бэкону быть тонким психологом. Уж не о себе ли писал моралист в эссе «О высокой должности»? Он размышляет, как её достичь и удержаться на ней. При этом хорошо понимает, что высокая должность делает человека слугой трех господ: государя, людской молвы и своего дела. Она порой требует унижения, и «честь достаётся бесчестьем». На высоком месте нелегко усидеть, но у людей не хватает сил отказаться от этого сладкого бремени…
Доброта для философа — величайшее из достоинств. Природа её божественна, и без неё человек — лишь «суетное, вредоносное и жалкое создание». Бэкон полагает, что склонность к добру заложена в самой человеческой природе. Злые и завистливые люди «являются ошибками природы, но вместе с тем и наилучшим материалом для создания великих политиков». Уж он-то знал политике цену… Кстати, тут он следует заветам Макиавелли и формулирует нестареющие мысли. «Поистине мудро то правительство, которое умеет убаюкивать людей надеждами, когда не может удовлетворить их нужды», — полагает он. Но, будучи благоразумным сановником, предпочитает о политике не распространяться.
Бэкон сожалеет, что в его суетное время мало кто заботится о воспитании души и следовании определённым принципам. Высоко ставит справедливость: ведь только благодаря ей человек человеку бог, а не волк. Справедливость же состоит в том, чтобы не делать другому того, чего не желаешь себе.
Шекспир с интересом читал моральные соображения философа. Знатоки даже называли язык «Опытов» образцовым, а Бэкона — лучшим учителем красноречия.
Долой идолов!
Бэкон считал себя просветителем мира, посланным свыше. Причем не только в морали: он мечтал о преобразовании науки и философии и посвятил этому сочинение «Новый органон». «Органон» — значит инструмент познания, а новый потому, что у Аристотеля уже был свой «Органон».
Важнейшую задачу человечества философ видел в покорении природы на основе её познания. Однако основные источники познания — ум и чувства — ненадёжны: чувства обманчивы, а ум подвержен предрассудкам. Поэтому первым делом нужно освободиться от призраков, или идолов, мешающих познавать мир. «Знакомьтесь с вещами не на словах, а в действительности, не так, как они являются в ходячих представлениях, а так, как они есть в природе, то есть исследуй сам, воспринимай!» — призывает философ.
По его классификации, существует четыре вида идолов: идолы рода, связанные с природой человека (привычка ожидать в природе больший порядок, чем есть на самом деле), пещеры (личные заблуждения), площади, или рынка (неточность слов) и театра (связаны с привычными системами мышления).
Идолы рода — от страстей: разум трудно отделить от воли и чувств, а это искажает истину. Еще в V веке до Р.Х. афинянин Протагор сказал, что человек есть мера всех вещей. Говоря о человеке, он имел в виду чувства. Но поскольку и люди, и чувства разные, то, значит, и объективной истины быть не может. Бэкон объявил это утверждение ложным и противопоставил идолам рода опыт. Несовершенным чувствам помогут приборы, несовершенному разуму — объединение научных усилий и индуктивный метод.
Идолы пещеры коренятся в индивидуальных особенностях человека. У каждого исследователя своя пещера заблуждения. Козьма Прутков не ошибался, когда утверждал, что специалист подобен флюсу и «полнота его одностороння». Заблуждениями такого рода полна история науки. Когда появилось радио, то вскоре зарегистрировали «позывные с Марса». Когда запустили первый искусственный спутник, астрофизики выдвинули гипотезу, будто спутники Марса — Фобос и Деймос — тоже искусственные. А когда заговорили о неопознанных объектах в небе, то физики-оптики всё объяснили иллюзиями. Пещерные идолы стояли в своё время на пути кибернетики, и не только её. Но вместо рухнувших каждое поколение воздвигает своих идолов. Идолы рынка возникают из-за неточности слов, значения которых, по мнению Бэкона, определяют не ученые, а толпа. Да и ученые не всегда оказываются на высоте. Так, под влажностью некогда понимали то, что «легко распространяется вокруг данного тела». Поэтому Бэкон призывает к умению определять и разделять понятия, проверяя их с помощью опыта.
Наконец, идолы театра, или теорий. Это привычка доверять авторитетам, а не своему разуму. «Сколько существует философских систем, столько поставлено и сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры», — замечает философ. Многие заблуждения держатся не на аргументах, а на уважаемых фамилиях: «Доколе, наконец, мы будем видеть в лице немногих избранных писателей что-то вроде геркулесовых столпов, дальше которых мы якобы не имеем права продвинуться в науке?!»
Итак, очевидное впечатление, будто Солнце движется вокруг Земли, — это идол рода. Привычные выражения «Солнце всходит, заходит» — уже идолы рынка. Птолемей своим геоцентрическим учением породил идол театра. А уж кто какого из этих идолов предпочтет, зависит от оставшегося идола — пещеры. Избавиться от этих помех восприятия, двигаясь от частных фактов к законам природы, чтобы господствовать над ней, — к этому зовет философ.
Знание — сила
Чем же всё-таки славен Бэкон? Он ничего особенного не открыл и не изобрёл. Зато понял задачи науки как никто до него. Подвел итог сделанному и указал новые цели. Д’Аламбер говорил о его трудах: «Это огромный перечень того, что остаётся сделать».
В отличие от древних философов, которые искали истину в точных определениях, Бэкон хочет устранить разрыв между опытом и разумом. Ученых, стремящихся объяснить природу, обходясь без опыта и наблюдений, он сравнивает с пауками, вытягивающими из себя нить. Нужно уметь задавать вопросы природе. Такой вопрос — это эксперимент, научный опыт. Познание, добытое опытным путем, — это открытие. Применение законов природы ведет к изобретениям. Бэкон мечтает дать человеку такое орудие, которое помогало бы ему, независимо от способностей, делать новые открытия и изобретения, подобно тому, как при помощи циркуля и линейки человек может чертить правильные линии и круги. Наука должна служить человеку и дать ему власть над природой. Властвует сильный, а силу дают знания. Знание — сила. Впервые это сказал Бэкон.
Умение пользоваться законами природы философ называл натуральной магией. Он хотел, чтобы человек был сильнее природы, однако сила всегда обгоняла познание. Наш предок соорудил каменный топор гораздо раньше, чем понял, что такое камень и что такое дерево. В итоге борьба с природой принесла не только победы, но и Красную книгу, озоновую дыру, Чернобыль, стрессы и тому подобные плоды прогресса. Однако Бэкон говорил и другое: человек — слуга и истолкователь природы, и побеждает её только подчинением ей. Он расчищал место для новой науки, отделяя её от религии, потому что из «безрассудного смешения божественного и человеческого выводится не только фантастическая философия, но и еретическая религия».
Бэкон пишет о разных вещах: жизни и смерти, звуке, плотности тел. Все эти рассуждения довольно приблизительны и давно устарели. Но философ закладывает фундамент будущего изучения природы. Призывает к созданию истории промышленности (история техники?), которой не находит среди наук. Настаивает на необходимости истории естественных уродливостей (аномалий? феноменов?). Говорит, что нужна история литературы и чувств и даже составил план той и другой. Много лет спустя это высоко оценили специалисты. Он советует излагать историю объективно, не поддерживая какую-либо доктрину, и даже сам написал историю правления Генриха VII. Действительность со временем превзошла ожидания философа, и его мысли стали расхожими истинами.
Бэкон умер после очередного научного эксперимента. Однажды ему пришла мысль набить снегом только что убитую курицу и испытать, долго ли она сохранится, не разлагаясь. Во время это процедуры сильно промёрз, заболел и через несколько дней умер. Перед смертью написал одному из друзей, что «опыт с птицей удался превосходно».
В своём завещании он отдавал большую сумму на учреждение двух кафедр философии в Оксфорде и Кембридже. Есть там и такие слова: «Я завещаю своё имя и свою память суду милосердных людей, чужим народам и грядущим векам». Тут и вина, и гордость, и сознание заслуг.
Бэкона скромно похоронили в церкви, где покоилась его мать. Друг философа поставил памятник, на котором написал, что-де этот светоч науки и красноречия, открыв тайны природы и человеческой мудрости, умер, повинуясь естественному закону.
Об этой философии Гегель отозвался так: «Философией Бэкона в общем называется философствование, которое основывается на наблюдениях внешней природы и духовной жизни человека в его склонностях, устремлениях, в его рациональных и правовых определениях». Разделавшись с «идолами», мешавшими познанию природы, Бэкон расчищал путь её покорителям. Источник познания для него — опыт, метод — индукция, то есть продвижение от частностей к общим закономерностям. Оттуда — снова к опыту, к изобретениям, уже во имя власти над природой.
Что касается морализаторства, то Бэкон в Англии делал то же, что и Монтень во Франции, стараясь вывести этику не из религии, а из человеческой психологии и его житейских интересов. У него нет монтеневских широты взгляда, раскованности и юмора, зато много трезвых и практичных рассуждений о том, как себя вести, чтобы преуспевать. Если Монтеню нетрудно спуститься с вершины, то Бэкон очень боится упасть с неё. Однако вседозволенности не проповедовал и в людской погоне за счастьем видел надёжное сдерживающее начало — благочестие. Роли религии не отрицал, усматривая в ней нравственную основу общества.
Нельзя отрицать того, что внешние обстоятельства во многом способствуют счастью человека: фавор, благоприятная возможность, смерть других, случай, способствующий добродетели. Но главным образом судьба человека находится в его собственных руках. «Каждый кузнец своего счастья», — сказал поэт. Наиболее же частой внешней причиной счастья одного человека является глупость другого, ибо нет другого такого способа внезапно преуспеть, как воспользоваться ошибками других людей. «Змея не станет драконом, пока не съест другую змею». Открытые и очевидные достоинства вызывают похвалу; но есть тайные и скрытые достоинства, приносящие счастье, — определенные проявления человеческой натуры, которые не имеют названия. Отчасти они выражаются испанским словом «desinvoltura», то есть когда в натуре человека нет упрямства или своенравия и проявления его духа следуют за поворотами колеса фортуны. <…> Дорога Фортуны подобна Млечному пути в небе, который есть собрание или средоточение множества мелких звезд, не видимых поодиночке, но дающих свет, когда они собраны воедино. Таковы же незначительные и едва различимые свойства или, скорее, способности и нравы, которые делают людей счастливыми. <…> И конечно, не может быть двух более счастливых свойств, чем быть немножко глупым и не слишком честным. Поэтому-то те, кто чрезвычайно любит свою страну или своих господ, никогда не были счастливы; они и не могут быть таковыми. Ибо когда человек устремляет свои мысли на что-то лежащее вне его, он уже не волен идти своим собственным путем.
Скороспелое счастье делает предприимчивым и неугомонным; испытанное счастье делает опытным и умелым. Счастье надо уважать и почитать хотя бы из-за двух его дочерей — уверенности и репутации. Ведь обе они порождают удовлетворение: первая — в самом человеке, вторая — в других по отношению к нему. Все мудрые люди, чтобы отвести зависть к своим успехам, достигнутым благодаря их добродетелям, обычно приписывают эти успехи Провидению и Судьбе, ибо они таким образом могли спокойнее пользоваться своим счастьем и, кроме того, это признак величия человека, если о нём заботятся высшие силы. Поэтому Цезарь сказал своему проводнику в бурю: «Ты везёшь Цезаря и его счастье». Поэтому Сулла выбрал имя Феликс (Счастливый), а не Магнус (Великий). Было также замечено, что те, кто открыто приписывают слишком многое своей собственной мудрости и прозорливости, плохо кончают. Передают, что Тимофей Афинский, рассказывая народному собранию о результатах своего правления, часто вставлял в свою речь слова: «И к этому Фортуна не была причастна»; и после этого, что бы он не предпринимал, он никогда больше ни в чём не преуспевал. <…> Но что бы там ни говорили, несомненно, многое здесь зависит от самого человека.
Рене Декарт (1596 — 1650)
Он словно соткан из противоречий. Питомец иезуитского колледжа, где одной из главных наук было воспитание повиновения и единомыслия, писал: «Я стал таким философом, что презираю большую часть вещей, обычно уважаемых, и уважаю несколько других, которые люди не привыкли ценить». При этом всю жизнь боялся своих духовных наставников и опасался, нет ли в его трудах чего-нибудь такого, чего не одобрят эти «уважаемые люди».
Оживленный и веселый в кругу близких, он был молчалив и скучен в обществе. С коллегами — надменный и высокомерный, и потому отчитывал как мальчишек крупнейших ученых своего века. Сильных побаивался и не гнушался лести. Зная, что его письмо приятелю станет известно 23-летней шведской королеве, ученый высказывает в нем такую не очень научную мысль: «Особы высокого происхождения не нуждаются в достижении зрелого возраста, чтобы превзойти ученостью и добродетелью всех прочих людей». Провозгласил своим принципом сомнение, однако с обычной для него категоричностью определил место человеческой души в шишковидной железе лишь на том основании, что это единственный непарный орган в мозгу. Был твердо уверен, что сердце бьётся потому, что движется кровь, а не наоборот. Но математические труды Декарта настолько основательны, что мимо них не пройдет ни один школьник: ученый предложил прямоугольную систему координат; иксы, игреки и прочие привычные алгебраические обозначения — тоже его. Рационалист, он, однако, остерегался астрологов и всю жизнь скрывал точную дату рождения — 31 марта 1596 года.
Как он стал таким?
В поисках достоверного
Иезуитская школа Ла-Флеш нравилась и учителям, и родителям. Она была бесплатна и общедоступна. Если большинство тогдашних педагогов норовили — из лучших побуждений, конечно, — превратить школу в каторгу, то иезуиты больше заботились о здоровье. Занятия длились пять часов, причем половина — утром, половина — после обеда. Никаких домашних заданий, вместо них игры, фехтование, танцы. В центре внимания — классические языки, математика, а всё остальное охватывал один предмет с расплывчатым названием «эрудиция». Из него можно было узнать кое-что любопытное из истории, послушать о нравах разных народов, познакомиться с организацией военного дела у греков и римлян. Плюс невообразимая мешанина из пословиц, эпиграмм, мудрых изречений, советов по садоводству и тому подобных столь же полезных сведений. Всё это вполне годилось, чтобы при случае пустить пыль в глаза. Специально занимались развитием памяти, но учеников берегли, запрещая малышам учить более четырёх строк подряд, а старшеклассникам — более семи. Особенно налегали на красноречие и технику спора, цель которого заключалась не в поиске истины, а в победе.
В эту школу попал и десятилетний Рене. От рано умершей матери он унаследовал слабые лёгкие, сухой кашель и бледное лицо. Врачи повторяли: обречён. Но мальчик жил, что давало ему повод сомневаться не только в своем будущем, но и в прогнозах эскулапов. Зато плохое здоровье позволяло пользоваться льготами; он мог спать едва ли не до полудня и приходил только на вторую половину занятий.
Впрочем, иезуитская школа была вовсе не так безобидна, как может показаться. Недаром слово «иезуит» стало синонимом коварного и двуличного лицемера. Отметками и наградами в школе разжигали самолюбие, поощряли ханжей. Всё это не прошло бесследно, и уже покинув Ла-Флеш, Декарт нередко бывал неискренним, болезненно реагировал на критику, считая, что ему всего лишь завидуют.
Из школы выходили здоровые, жизнерадостные парни, привыкшие думать «как положено», специалисты по борьбе с ересями. Самостоятельная мысль не поощрялась. Читая по обязанности сочинения язычника, «собаки», настоящий иезуит должен был всем своим видом выражать презрение к прочитанному, для чего следовало по-собачьи почёсывать себя за ухом. Когда юный Декарт старался с помощью собственных рассуждений прийти к тем же выводам, что и автор, то это не одобрили: с попыток улучшить канон и начинаются ереси.
Здоровье не позволяло ему быть в общей колонне воспитанников, и образцовый иезуит из него не получился. Более того: школа совершила привычное для нас «чудо», и любознательный ученик почувствовал отвращение к наукам. Чтение и размышления помогли ему понять главное: когда науку делают не бескорыстно, то она перестаёт быть наукой, перестаёт давать правдивые ответы и превращается в схоластику.
После школы Рене решил отдохнуть от иезуитской одури и отправился в Париж, где преуспел среди завзятых картежников. Логика игры радовала его не меньше выигрыша. Весело и бездумно провёл полтора года, после чего вдруг исчез, погрузившись в математику в уединённом загородном домике. К тому времени молодой человек уже разочаровался в науке и захотел посмотреть свет, рассчитывая «встретить больше истины в рассуждениях, какие каждый делает о прямо касающихся его делах». Странствовать решил с помощью военной службы, хотя и не относил это занятие к уважаемым. Он надел мундир волонтёра голландской армии, однако ратными делами себя не изнурял, а чтобы служба и вовсе не отвлекала, отказался от жалованья. Пренебрегая даже парадами, сидел дома и занимался математикой, физикой и философией. Потом служил в баварской армии, участвовал в Тридцатилетней войне. Но не забывал о главной своей задаче: избавиться от сомнений и открыть критерий достоверности. Если это удастся, дал обет отправиться в Италию, в Лорето, и поклониться Мадонне. В 27 лет исполнил обещанное.
Вдоволь попутешествовав, возвратился домой, где его считали сумасбродом: служить не хотел, деньги тратил на опыты, о семье не думал. Ему шел уже тридцатый год, когда родители решили женить своего Рене. Хорошенькая барышня завела с ним разговор о различных видах красоты и, очевидно, ожидала комплиментов. На это философ заметил, что из всех известных ему видов красоты наиболее сильное впечатление на него произвела красота истины. В общем, сватовство не состоялось, и учёный сосредоточился на науке. Католик и подданный французского короля, он предпочел жить в республиканской и протестантской Голландии, которая отличалась веротерпимостью и свободомыслием. Декарту нравился здешний народ, «более заботящийся о своих делах, чем любопытный к другим».
Мыслю, следовательно существую
Эти знаменитые декатровские слова могут показаться странными. Далеко не всё, что существует, способно мыслить, и это такая же истина, как и декартовская. Но не зря философ ездил к лоретской Мадонне: критерий достоверности он нашёл.
Дело в том, что тогдашняя наука вызывала больше недоумённых вопросов, чем давала правильных ответов. Астроном Йоганн Кеплер, например, полагал, что Земля обладает душой: ведь все одушевлённые существа теплые, а в земных недрах тоже тепло… Изучение магнита привело научную мысль к выводу, что он любит красный цвет, недолюбливает чеснок и замечает присутствие железа. Поэтому Декарт задумался над тем, как отличить псевдонаучное красноречие от истины. Сделать это он попытался с помощью математики, которая способна на основе немногих посылов построить целую систему истинного знания.
Единственно научное орудие ума — сомнение, его-то Декарт и принял за исходную точку рассуждений. Чтобы разом покончить со всем сомнительным, нужно довести сомнения до крайности. Предположим, что нет ни Бога, ни неба, ничего вокруг. Даже собственное существование нельзя считать несомненным: может, это всего лишь сон, ведь грань между сном и бодрствованием расплывчата. Нельзя доверять даже тому очевидному факту, что у нас есть руки, ноги и вообще тело. Врачи знают случаи, когда у человека продолжает болеть, например, ампутированная рука.
Что же тогда несомненно? То, что мы сомневаемся, то есть мыслим: ведь нелепо считать мыслящее несуществующим. В этом и увидел философ твердую основу для своего мировоззрения. Теперь уже можно браться и за метод, который вместо приблизительных рассуждений о мире способен дать истинное знание. Совершенствованием этого метода Декарт и занялся, уединившись в тихом голландском домике. Своим девизом он сделал строку из Овидия: «Тот прожил счастливо, кто хорошо укрылся». Чтобы избавиться от назойливых посетителей, учёный переезжал на новое место, когда замечал, что становится слишком известен там, где живёт. За 20 лет жизни в Голландии он 24 раза менял адрес. «Свободу и досуг, которыми я теперь обладаю вполне, я ценю так высоко, что ни один монарх в мире не имеет достаточно богатств, чтобы купить их у меня. Учиться — для меня такое наслаждение, что я принужден употребить насилие над собой, чтобы засадить себя за трактат», — пишет он.
Наконец Декарт решил печататься, и в 1637 году появляется его «Рассуждение о методе». Написано он по-французски, а не по-латыни, что означало небывалую по тем временам демократизацию науки. Не случайно Декарт писал по этому поводу: «Наука похожа на женщину: у неё есть свой стыд. Пока она при муже, её уважают; становится публичной — подвергают презрению». В этом «Рассуждении» ученый на основе своего опыта формулирует четыре важнейших правила, которыми руководствуется в науке. Вот они:
— Не принимать за истинное что бы то ни было, прежде чем не признаешь это несомненным.
— Каждый из рассматриваемых вопросов следует делить на части, чтобы лучше их решить.
— Нужно руководить ходом своих мыслей, начиная с простейших примеров и постепенно поднимаясь к познанию более сложных.
— Делать полные перечни и общие обзоры, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено.
Иными словами, скептицизм, анализ, последовательность, система. Предаваться наукам без метода скорее вредно, чем полезно, считает Декарт. Но одних правил мало, нужен ещё незаурядный ум, чтобы ими пользоваться — отличать сомнительное от несомненного, простейшее от сложного… Даже самому автору метода это не всегда удавалось.
«Рассуждение о методе» произвело большое впечатление на ученых. Однако с книгами дела складываются неудачно: издатели жалуются на убытки, и Декарт собирается бросить писать, сетуя, что публика не хочет его знать. Современники ещё не поняли, что философ учит их думать по-новому, открывая дорогу научно-техническому прогрессу. Впрочем, в те времена таких слов не употребляли.
Любите то, что достойно любви
Декарт, повторим, был рационалистом и стремился к здоровой житейской мудрости. Он пришел к выводу, что наука — единственное, чему стоит посвящать жизнь, потому что «самое верное средство знать, как мы должны жить, состоит в том, чтобы сперва узнать, каковы мы сами, каков мир, в котором мы живём, и кто создатель Вселенной, в которой мы обитаем».
Но нужно ли познавать истинную цену вещей, если часто это сулит лишь новые печали? «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман»… Не лучше ли жить и радоваться тому, что радует? А огорчения можно, например, топить в вине, заглушать табаком…
Нет, возражает Декарт, вовсе не любая радость может быть высшим благом. Самый веселый — ещё не значит самый счастливый, смех бывает и спьяну, но он не радует ни душу, ни разум. К тому же, только мелкие кратковременные радости сопровождаются смехом, а большие — молчаливы и серьезны. Поэтому не будем обманывать себя ложными удовольствиями: «душа чувствует внутреннюю горечь, понимая, что они ложны».
Во всем он хочет дойти до сути, до прочной основы. Даже под мораль философ старается подвести прочный научный фундамент и предлагает такие правила:
— Повиноваться законам и обычаям своей страны, придерживаясь умеренных мнений, общепринятых среди «наиболее благородных людей своего круга».
— Быть твердым и решительным. Приняв обдуманное решение, не стоит его менять.
— Побеждать скорее себя, чем судьбу, изменяя свои желания, а не порядок мира.
— Использовать первые три правила для поиска истины, этого величайшего блага.
Учить любить то, что достойно любви — вот в чём Декарт видит смысл морали. Он подробно исследует вопрос, что хуже — чрезмерная любовь или чрезмерная ненависть. И приходит к выводу, что… любовь. Конечно, это наиболее полезная из человеческих страстей, в её основе благо и потому она не может так испортить нравы, как зло, рассуждает философ. Но любовь может стать гораздо опаснее ненависти, так как превосходит её по силе и устойчивости. Любя нечто недостойное, человек рискует стать хуже, чем ненавидящий хорошее, потому что гораздо опаснее быть соединенным с дурным, чем разлученным с хорошим. При этом Декарт приводит в пример любовь Париса и Елены, что закончилось разрушением Трои. Следовательно, делает он вывод, истинную радость и счастье даёт только любовь к достойному любви. Но чтобы определить, что достойно, а что нет, нужна мудрость, в которой заключается высшая нравственная свобода. Воля мудреца зависит только от разума, а разум — только от истины, и требовать от человека большего невозможно.
Дорога мудрости лежит через царицу наук — философию: «Жить и не философствовать — значит иметь закрытые глаза, не стараясь их открыть». Декарт полагал, что для жизни философия более полезна, чем глаза для пешехода: «Истина есть здоровье и подобие здорового тела».
Кстати, здоровье он ставил на второе место после истины. Ученый с детства был хил и болезнен, но повзрослев, врачам и лекарствам не доверял, предпочитая лечиться самостоятельно. При этом любил повторять слова императора Тиберия, что к тридцати годам каждый должен уметь обходиться без врача. От всех недугов признавал два главных лекарства — диету и отдых. И то, и другое, видимо, шло на пользу, потому что в зрелом возрасте философ почти не болел.
Но что говорит ему философия о том, как стать счастливым?
Декарт уверен, что счастье каждого зависит от него самого, и потому не следует полагаться на богиню судьбы. Даже если Фортуна не благоприятствует человеку, то всё равно не стоит считать себя несчастным, потому что в житейских делах всегда имеется множество соображений за и против. Лучше всего придерживаться взглядов, которые помогают одобрить происходящее. Такой вывод, как видим, вполне согласуется как с первым, так и с третьим правилами декартовской морали.
Не забывайте о душе
Декарта называют основателем современной философии, который впервые после Аристотеля попытался пересмотреть основы этой науки. Он первый ясно осознал условия, необходимые для получения достоверных знаний, думал и о критериях достоверности. Даже краткий перечень того, чем ученый прославил свое имя в математике и физике, заняло бы много места; изобрел аналитическую геометрию, описал логарифмическую спираль, создал знаменитую теорию вихрей, открыл законы отражения и преломления лучей и т. д. Исследователя интересует форма снежинок, загадка радуги, механизм возникновения эмоций. Однако там, где речь идет о живом, математическое мышление подводит ученого. Человек для него — не более чем машина, а тело и ум — два независимых друг от друга мира. Душе, по его мнению, Богом положено действовать синхронно с телом, которым управляет вовсе не наша воля, а чисто физические законы. Гнев, страх, радость — всего лишь действия паров крови на железу, где располагается душа. Если бы не она, то человека вполне можно было бы уподобить автомату. У животных души нет, поэтому они всего лишь живые механизмы: действуют механически, а их крики — безобидная реакция на раздражитель. Эта догма привела декартовских единомышленников к увлечению вивисекциями (операциями на животных, причем безо всякого обезболивания): животные-де бесчувственны, у них нет сознания…
Смелые рассуждения ученого о материальном и духовном не могли не вызвать возражений схоластов и богословов даже в вольнодумной Голландии. Поэтому предложение шведской королевы Христины поучить её философии и основать в Стокгольме академию наук было очень кстати. К тому же, как считал Декарт, немного покровительства полезно для распространения истины.
В шведской столице он чувствовал себя неуютно. Местная знать ревниво недолюбливала философа, а образ жизни королевы был непривычен для изнеженного аристократа. Мужеподобная Христина, говорившая на шести языках и предпочитавшая салонным разговорам охоту и чтение Тацита, просыпалась гораздо раньше Декарта и считала, что философией нужно заниматься с пяти утра. И вот ершистый ученый муж, неуживчивый с коллегами, задолго до зимнего рассвета отправляется к коронованной особе, годившейся ему едва ли не во внучки. Одна из таких поездок закончилась воспалением легких. Лечил философа придворный медик, считавший учение о кровообращении ересью. Его невежество бесило больного, и Декарт просил дать ему спокойно умереть. Но умереть ему позволили только после кровопускания, отнявшего последние силы.
В общем, отношение королевы к гостю можно смело назвать бездушным, хотя это и не имело отношения к декартовской философии. Христина пообещала возвести на могиле ученого роскошный мавзолей, однако на месте так и не построенной усыпальницы много лет простоял скромный памятник, сооруженный другом покойного за собственный счет.
Почти два десятилетия спустя, благодаря хлопотам почитателей, прах ученого перевезли в Париж. Таможенники рылись в гробу, искали контрабанду. А философию покойного во Франции уже считали опасной, и книги его запретили. Поэтому в день погребения в церкви Святой Женевьевы из дворца пришел приказ речей не произносить. Великого ученого похоронили тихо и скромно.
Декарт освобождает философию от религиозных шор и требует от неё доказательности. Он во всём сомневается и всё, кроме сомнения, отвергает. Но это не самоцель, а средство найти достоверное философское начало. Сомнение помогло ему вернуть веру в разум, однако атеистом не сделало: Бог, это наиболее совершенное сущее, гарантирует Декарту истинность познания.
Декарт научил людей думать так, что они смогли в конце концов создать современную технику. Его метод — скептицизм, критически-недоверчивое отношение к результатам как чувственного, так и рационального познания. Но это не мешало учёному рассчитывать в основном на разум, контролируя его при этом. Правила научного поиска, выведенные в «Рассуждении о методе», оказались долговечны и не потеряли значения в наше время.
О философии скажу одно. Видя, что она от многих веков разрабатывается превосходнейшими умами и, несмотря на то, нет в ней положения, которое не было бы предметом споров и, следовательно, не было бы сомнительным, я не нашел в себе столько самоуверенности, чтобы надеяться на больший успех, чем другие. И принимая в соображение, сколько относительно одного и того же предмета может быть разных мнений, способных быть поддержанными учеными людьми, тогда как истинным необходимо должно быть какое-либо одно из них, я стал всё, что представлялось мне не более как правдоподобным, считать за ложное.
Далее, касательно других наук, насколько они заимствуют начала от философии, я полагал, что на столь непрочных основаниях нельзя ничего построить крепкого. Почести и выгоды, ими обещаемые, не были для меня достаточной приманкой, чтобы посвятить себя их изучению. Благодаря Богу, я не был в положении, которое заставило бы меня делать из науки ремесло для обеспечения своего благосостояния. И хотя я презрение славы не обращал в свою профессию, как циники, однако и не придавал себе такой цены, которую мог приобрести лишь по подложному праву. Касательно, наконец, дурных учений, я достаточно знал им цену, чтобы не быть обманутым обещаниями какого-либо алхимика, предсказаниями астролога, штуками магика, всякими хитростями и хвастовством людей, выдающих себя за знающих более того, что им действительно известно.
Вот почему, как только возраст позволил мне выйти из подчинения моим наставникам, я совсем оставил занятия по книгам и решил искать только той науки, которую мог обрести в самом себе или же в великой книге мира, и употребил остаток моей юности на то, чтобы путешествовать, увидеть дворы и армии, узнать людей разных нравов и положений, собрать разные опыты, испытать себя на встречах, какие представит судьба, и повсюду поразмыслить над встречающимися предметами так, чтобы извлечь какую-либо пользу из таких размышлений. Ибо, казалось мне, я могу встретить более истины в рассуждениях, какие каждый делает о прямо касающихся его делах, исход которых немедленно накажет его, если он дурно рассудил, чем в кабинетных соображениях ученого человека. <…>
Правда, в то время, когда изучал я нравы и поведение других людей, не находил в них ничего, на что мог бы опереться, ибо заметил столько же разнообразия, сколько прежде усмотрел в мнениях философов. Главнейшее сделанное мной приобретение было то, что, видя, как многое кажущееся нам смешным и странным, оказывается общепринятым и одобряемым среди других великих народов, — я научился не придавать твердой веры ничему вошедшему в убеждение моё только через пример и обычай. Так я мало-помалу освободился от многих ошибок, могущих затемнить наш естественный свет и сделать нас менее способными слышать голос разума.
Блез Паскаль (1623 — 1662)
Из своих 39 лет по крайней мере восемь Паскаль посвятил религии, забросив науку и жертвуя математический талант Богу. Потомки по-разному оценили его поступок. Вольтер видел в религиозности ученого отпечаток времени и называл его гениальным безумцем, который лет на сто поторопился родиться. Учёного обвиняли в употреблении таланта на то, чтобы проклясть здравый смысл и науку. В его навязчивой добродетели, замешанной на самопрезрении, многим виделось что-то жалкое. Его даже объявили сумасшедшим, страдавшим галлюцинациями.
Если же говорить о бесспорных фактах, то в учёном долгое время уживались критический анализ исследователя с верой религиозного человека, пока вера не победила. Атеистов критиковал: мол, прежде чем бороться с религией, следует по крайней мере основательно разобраться, что это такое. Паскаль отказывался называть их рассудительными людьми, однако призывал потратить хоть немного времени на чтение своих «Мыслей», где пытался убедить в истинности «божественной религии». Вряд ли ему это удалось. Но если математические открытия ученого по-прежнему восхищают в основном специалистов, то круг почитателей его мыслей о человеке, жизни и счастье куда шире. Лев Толстой, например, писал о философе так: «Какой молодец!.. Вот Паскаль умер двести лет тому, а я с ним живу одной душою, — что может быть таинственнее этого?»
О силе и бессилии математики
Время, в которое жил Паскаль, удивляет контрастами. Суеверная французская королева Мария Медичи, например, считала, что большие мухи понимают разговоры людей и повторяют услышанное. Увидев одну, она никогда не говорила того, что должно было оставаться в тайне от кардинала Ришелье…
А в те же годы в той же стране рос мальчик, который, не имея понятия о геометрии, стал выдумывать её сам, именуя всё по-своему: окружность — колечком, прямую — палочкой… И к двенадцати годам самостоятельно доказал знаменитую теорему Евклида о том, что сумма углов треугольника равна двум прямым углам. Отец, застав его за этим занятием, расплакался от восхищения.
Но не проще ли было вундеркинду почитать учебники, чем открывать давно открытое?
Для Блеза — не проще. Дело в том, что единственным его учителем был отец, Этьен Паскаль (кстати, известная алгебраическая кривая — «улитка Паскаля» — его открытие). Когда жена умерла, оставив ему троих детей, Этьен отошел от дел и посвятил себя воспитанию дочерей и сына. У Блеза рано появилась тяга к знаниям, но отец строго придерживался своего принципа: силы ребенка всегда должны превосходить трудность работы, и учить его математике он собирался лет в 15 — 16. Однако успехи сына заставили его пересмотреть эти сроки.
Книги мальчик читал легко и с увлечением, но к разнообразию не стремился, предпочитая подолгу размышлять над прочитанным. Рассказывали, что он никогда не забывал того, чему однажды научился. В десять лет Блез написал «Трактат о звуке», обратив внимание на то, как фаянсовая тарелка зазвенела от удара ножа и перестала звенеть, когда к ней прикоснулись рукой. В 16 лет работал над «Опытом о конических сечениях». Уже доказана теорема о «мистическом шестиугольнике»: если последний вписан в коническое сечение, то точки пересечения его противоположных сторон лежат на одной прямой. Декарт не верил, что это написал не Паскаль-старший, а его сын.
Сочинение сделало юного математика знаменитым. А он уже задумал счетную машину — «Паскалево колесо» и потратил на нее два года упорного труда. Машина удивляла всех, но сложность устройства и дороговизна помешали ей стать полезной.
Нередко к открытиям ведут весьма прозаические, житейские задачи. К примеру, некий флорентийский богач задумал устроить при своем дворце фонтаны. Воду качали из колодца, но выше некоторого уровня она не поднималась. Получалось, что средневековая догма — «природа не терпит пустоты» — не оправдывалась: не могла же природа бояться её лишь до некоторого предела. Обратились к Галилею, самому знаменитому в то время ученому. Тот попросил своего лучшего ученика Торричелли разобраться, в чем тут дело. Торричелли обнаружил, что дело не в боязни пустоты, а в тяжести воздуха. Однако ученый вскоре умер, и Паскаль продолжил его опыты. В своем сочинении «О тяжести воздуха» он показал, что вода не поднимается выше десяти с небольшим метров потому, что водяной столб такой тяжести уравновешивает давление воздуха. На эту работу обратил внимание весь учёный мир.
Учёный не боялся браться за любые задачи, какими бы странными они не казались с точки зрения научных традиций. Как заметил один из математиков, теория вероятностей родилась, когда Паскаль и его коллега из Тулузы Пьер Ферма начали изучать азартные игры. Кстати, Паскаль считал, что математические науки — лучшее средство воспитания ума и видел пользу не столько в познаниях, сколько в навыке четко мыслить. Математика, по его мнению, в отличие от прочих наук, никогда не учит тому, чего не может доказать.
Однако едва ли не решающую роль в судьбе ученого сыграла болезнь. Заболел он ещё в юности, и по этой причине пришлось сократить занятия наукой. В свободное время читал философов. Скептицизм Монтеня его удручил, размышления Декарта обращались только к разуму, а Блезу нужна была истина для сердца. И тут ему попалась книга голландского теолога Янсения, который осуждал не только сладострастие плоти, но и сладострастие духа, видя его в чрезмерной любознательности. Теолог усматривал в нем проявление утонченного эгоизма и самолюбия. Чрезмерной любознательностью юноша действительно грешил, и объяснение его настолько поразило, что он решил покончить с наукой. Однако это удалось не сразу, и учёный не раз возвращался к любимым занятиям.
Между тем, с годами Паскаль чувствовал себя всё хуже, его мучили страшные головные боли. Учёный уже окончательно оставил науку и решил посвятить свои силы познанию Бога. В одну из бессонных ночей его мысли вдруг сами собой вернулись к заброшенной математике. Паскаль не стал им противиться и записал. К удивлению, получилось исследование о циклоиде — пути, который совершает гвоздь на катящемся колесе. Так необычно проявили себя в последний раз способности математика, который давно уже думал совсем о другом. Он понял, что это занятие не отвечает на главный вопрос: что делать и как жить. «Математические науки годны не как приложение сил, но как их испытание», — к такому выводу пришел великий математик.
У сердца свои доводы
Умирает отец. Паскаль сочиняет эпитафию: «Ты, смотрящий на эти останки, — единственное, что осталось от такой прекрасной жизни, — удивись хрупкости всего существующего; оплакивай нашу потерю…» Блез снова возвращается к научным занятиям, самозабвенно, не рассчитывая сил. В результате здоровье резко ухудшилось, и врачи не смогли предложить ничего, кроме замены умственных трудов развлечениями.
Европа восхищается работами ученого, а он в это время борется с соблазнами людской славы: носит на теле пояс с гвоздями, и когда ему кажется, что похвалы возбуждают честолюбие и гордость, прижимает пояс локтем к боку… В душе Паскаля смятение: всё, что раньше радовало, теперь вызывает горечь и кажется ничтожным. Блез убежден, что эти новые ощущения — знак свыше. И учёный задает себе вопросы: есть ли сверхъестественный мир? Следует ли верить в Бога?
Он рассуждал как математик. Что касается Бога, то разум ничего не решит. Нужно только оценить, что выгоднее: вера или неверие? Какова тут степень вероятности и величина риска? С точки зрения разума вероятность за и против одинакова. Остается риск. С одной стороны, предстоит поставить на карту конечное, чтобы выиграть бесконечное — то есть рискнуть малой ставкой ради большого выигрыша. Ясно, что лучше допустить существование Бога, так как всегда «стоит верное ничто обменять на неверную Бесконечность».
Заметим, попутно, что привычные сегодня истины тогда ещё вряд ли кому приходили в голову. Например, что наука ничего по поводу существования Бога сказать не может, потому что наука и религия несопоставимы, как килограмм и километр. Каждая из них занимается своей стороной жизни человека и мира. И в естествознании не бывает теорий «материалистических» и «идеалистических», а есть лишь вероятные и достоверные, истинные и ложные. Поэтому список выдающихся ученых, веривших в Бога, поистине бесконечен — от Коперника и Ломоносова, Попова и Менделеева до наших современников.
Болезнь подтачивала силы, парализовала ноги, и Блезу нужны костыли. Но это для тела, а где взять костыли для души, чтобы превратить зло в добро? Ответ он видит в христианстве, которое объясняет происхождение болезней. Человек согрешил, и Господь во имя справедливости подвергает его страданиям. Религия указывает и путь к спасению: страдания должны стать тем каналом, по которому благодать снисходит на человека. Паскаль благодарит Бога за болезнь, потому что это, по его мнению, — надлежащее состояние христианина: болезнь «приучает к лишению всяких благ и чувственных удовольствий, приучает удерживаться от страстей, которые всю жизнь обуревают человека, быть без честолюбия, без жадности, быть всегда в ожидании смерти». Мысль о смерти его страшит, и он утешается тем, что земная кончина — лишь начало подлинной жизни. Ведь по христианскому учению, рассуждает Паскаль, наша любовь к жизни есть лишь извращенная склонность к жизни вечной. А ужас смерти — это извращенный ужас к вечной смерти. Поэтому чем больше мы будем страшиться смерти духовной, тем меньше ужаса будет внушать смерть телесная.
Паскаль уже не довольствуется презрением к светской суете. Он хочет любить Бога и взывает: «Господи! Посети Твоего слугу!»
Блез добился своего. В одну из ноябрьских ночей 1654 года его охватил религиозный экстаз, и он почувствовал присутствие Бога. Торопливой рукой он заносит на бумагу эти отрывочные фразы. Листочки пергамента зашил в одежду, и «амулет Паскаля» нашли после смерти философа.
В 32 года он уединился в келье монастыря Нор-Рояль, где уже несколько лет вела монашескую жизнь младшая сестра. Затворник обрек себя на бедность и подчинение монастырским правилам. Постился, лишал себя сна вопреки запретам докторов. Здоровье, как ни странно, улучшилось, настроение тоже, и это дало Паскалю повод сказать, что здоровье зависит больше от Христа, чем от Гиппократа. Учёный уверен, что у сердца свои доводы, неподвластные разуму.
Мысли о вере
Последние восемь лет жизни, бесплодные для науки, давали Паскалю обильные философские плоды. После смерти в его комнате нашли несколько свертков отрывочных записей. Это большое незаконченное сочинение в защиту религии — его знаменитые «Мысли». Их автор размышляет о вечных вопросах — о жизни, о смерти, о счастье.
Даже ничтожный промежуток времени, именуемый жизнью, человек не может потратить с толком: желая истины и счастья, он не находит ни того, ни другого. Вместо того, чтобы думать об этих наиважнейших вещах, люди стараются забыться, убивая время в политике и развлечениях, пока время не убивает их самих. Каждый день смерть забирает кого-то из нас, а мы лишь скорбно и безнадёжно ожидаем своей очереди… Мысль о смерти для Паскаля невыносима: «Легче умереть, не думая о смерти, чем перенести мысль о смерти, не подвергаясь опасности». Не имея возможности избавиться от смерти, нищеты и неведения, люди ищут счастья в светской сутолоке, которая лишь мешает задуматься всерьёз о своём положении. Оставьте короля без наслаждений, без общества, без охоты — и увидите, что без развлечений он несчастен, замечает Паскаль.
Между тем, человек уже был счастлив, когда был с Богом. Теперь от былого блаженства остался лишь слабый след, и нынешнюю пустоту тщетно пытаются заменить — кто созерцанием природы, кто науками, а кто и пороком. Но настоящее благо не зависит ни от власти, ни от знаний, ни от удовольствий. Всё это не сможет дать полного счастья, и потому придётся довольствоваться неполным, дополняя его из неисчерпаемого перечня несбывшихся удовольствий. Даже достигая их, мы не становимся счастливее, потому что появляются всё новые желания.
Что же делать? Паскаль отвечает: стремиться к бесконечному и всеобщему существу — Богу, потому что только Он в состоянии дать нам полное счастье. Когда Бог касается нашей души, то преображает её, в ней просыпаются страх и совесть. Человек видит непостоянство зримого мира и осознаёт существование мира незримого. Он понимает, что любые блага, которые уходят вместе со смертью, неподлинны. В поисках высшего блага душа обращается к небесам…
Такой ответ нашел для себя Паскаль на самый главный для человека вопрос. И он хочет объясниться с «порядочными людьми», открыть им глаза. Величие независимого человека — идеал Возрождения — на его взгляд, опасное преувеличение, чреватое самообожествлением. Человек одновременно и велик, и ничтожен: «Не нужно человеку верить, будто он равен ангелам и животным, а необходимо и полезно ему знать того и другого в себе». Добро и зло связаны тесными узами, и напрасно философы разводят их по разным полюсам. Без веры в высший источник, способный просветлить разум, нельзя стать счастливым.
По мнению философа, мы пришли в мир, чтобы любить и наслаждаться. Это не нуждается в доказательствах, потому что ощущается каждым. Но только любовь к Богу может стать источником истинного наслаждения, возвышенного и благородного. Без Бога человек ничтожен, его жизнь подчинена случайности. Если бы нос Клеопатры имел другую форму, то история была бы другой, уверен автор «Мыслей». Не стоит надеяться и на разум. О каком разуме может идти речь, если для управления государством люди выбирают… старшего сына королевы. Это ничуть не более разумно, чем назначать капитаном корабля самого знатного пассажира. Поэтому рассуждая о том, что такое добро, за основу нужно брать не нашу волю, а Божью: всё, что Он хочет, для нас хорошо, а чего не хочет, то дурно.
«Мыслю, следовательно существую», — провозгласил Декарт. Паскаль возражает: как глупы эти наши мысли, на какие пустяки направлены! Лучше открыть сердце вере, которая развеет пустые софизмы. Мы ничего не потеряем, отвергая ложные умствования, потому что сердце дальновиднее их. Истинной мудрости не нужны принципы, почерпнутые у собственных страстей, она просит их у Бога.
Однако эти мысли рассчитанные на верующее сердце, далеко не всегда выдерживают критику разума. Вольтер в своих «Замечаниях на „Мысли“ г-на Паскаля» заметил, что «в целом настроение, в котором г-н Паскаль писал эти мысли, можно определить как стремление показать человека в одиозном свете. Он упорно старается изобразить всех нас дурными и жалкими… Я осмеливаюсь стать на защиту человечества против этого возвышенного мизантропа».
…Когда умерла старшая сестра, Блез лишь сказал: «Дай Бог нам всем такую кончину». Сёстры часто жаловались, что Блез не говорил им ласковых слов и ничем не проявлял своего расположения. Правда, помогал, но это не мешало сёстрам подозревать, будто брат их не любит. Брат же думал так: «Если есть Бог, надо любить его, а не его творения». Вольтер на это резко возражает: «Нужно любить творения, и очень нежно; нужно любить свою родину, свою жену, своего отца и своих детей, и любить их тем более, что Бог заставляет нас их любить вопреки нам самим. Противоположные принципы способны лишь творить жестоких резонёров».
Спорить с философом решились немногие, предпочтя списать его спорные, парадоксальные, неожиданные мысли на такие всем понятные причины, как болезнь, опухоль мозга, галлюцинации. Но у Паскаля было довольно и сторонников, в том числе не менее именитых, чем Вольтер. Вот что писал, например, Лев Толстой: «Удивительная судьба этой книги! Является пророческая книга, толпа стоит в недоумении. И вот приходит один из тех, которые, как говорит Паскаль, думают, что знают и потому мутят мир: мол, он был больной и ненормальный, и потому всё понимал навыворот. Он отрёкся даже от того хорошего, что сделал и что нам нравится. И занялся совершенно бесполезными рассуждениями о судьбе и будущей жизни. „Поэтому надо брать из него не то, что он сам считал важным, а то, что мы можем понять и что нам нравится“. И толпа рада: нечего тут понимать. Паскаль открыл закон, по которому делают насосы, и это хорошо. А всё, что он там говорит о Боге и бессмертии — это пустяки, — иронизирует Толстой. — Не нужно усилий, чтобы подниматься до него; напротив, мы с высоты своей нормальности можем покровительственно и снисходительно признавать его заслуги».
«Не плачьте обо мне»
В монастырской жизни Паскаль нашел, наконец, своё счастье. Там учился смирению и простоте, равнодушию к мирским страстям. Он старается обходиться без слова «я», избегает хорошей пищи: «Есть, чтобы потакать своему вкусу — дурно. Надо удовлетворять потребности желудка, а не прихоти языка». Зато ему была по вкусу бедность, которую философ считал основанием добродетели, потому что «Христос был беден и нищ и не имел где главу преклонить». Что мог, Блез отдавал нуждающимся, но при этом не одобрял благотворительности богатых, строящих приюты и богадельни: надо-де не бросать лишнюю копейку, а помогать своим трудом: «Если бы я мог выздороветь, у меня бы уже не было больше никакого дела, кроме служения бедным», — говорил он. В завещании отдал неимущим большую часть своего имения. Очень мучился, что отдал не всё, не желая обидеть сестру и её детей.
Последние три года болезнь была особенно тяжела, но он переносил её с удивительным терпением: «Не плачьте обо мне, не жалейте меня, мне хорошо; страдания и болезнь не могут быть в тягость христианину».
Умирал трудно. Невыносимые головные боли, конвульсии, стоны… последние часы был без сознания. Перед самым концом поднялся с постели и с ясным и радостным выражением сказал: «Не остави меня, Господи!»
Врачей, делавших вскрытие, поразила необычайная величина мозга, удивительно плотного и твёрдого, а также почти полное отсутствие швов на черепе, которые есть у каждого человека.
На могильной плите родственники написали: «Здесь покоится Блез Паскаль, клермонец, счастливо закончивший жизнь после нескольких лет сурового уединения в размышлениях о божественной благодати. <…> Из рвения к бедности и смирению он пожелал, чтобы могила его не была особо почтенна и чтобы даже мёртвым он был оставлен в неизвестности, как стремился к этому при жизни. Но в этой части его завещания не мог уступить ему Флорен Перье, советник парламента, брачными узами связанный с его сестрою, Жильбертой Паскаль, который сам возложил эту плиту, дабы обозначить могилу и в знак своего благоговения…»
Потомки назвали его человеком великого ума и великого сердца, пророком добра и любви и даже королём в королевстве умов. Время по-своему расставило акценты, но почти ничего не опровергло.
Его кумиры — любовь и наслаждения. Но наши радости слишком коротки и непостоянны, и потому философ борется с преходящими удовольствиями ради бесконечных. Наука тут ничем не может помочь человеку, не она наполнит его сердце. Даже философия, царица наук, не стоит и часа труда, потому что не заменит и часа удовольствий. Но, отвергая на словах философию, Паскаль на самом деле философствует. Он ищет внутреннего согласия с собой, со своей душой.
Философ независим в суждениях и поддерживает расхожие истины лишь до тех пор, пока они соответствуют его внутренним ощущениям. Он не раболепствует перед разумом и видит его ограниченность: «В нашем мире ничто не бывает безусловно истинно и, значит, всё ложно — разумеется, в сравнении с конечной истиной. Наша истина и наше добро только отчасти истина и добро, и они запятнаны злом и ложью». Может, это и есть один из важнейших уроков неутомимого искателя истины.
Мы никогда не ограничиваемся настоящим. Желаем, чтобы поскорее наступило будущее, сожалеем, что оно как будто медленно подвигается к нам; или вспоминаем прошедшее, хотим удержать его, а оно быстро от нас убегает. Мы так неразумны, что блуждаем во временах, нам не принадлежавших, не думая о том, которое дано нам. Мы суетно пребываем мыслью во временах, которых уже нет более, и без размышления упускаем настоящее. Оно-то именно всегда и не нравится нам. Мы стараемся не видеть его, когда оно приносит нам горе; если же оно доставляет нам удовольствие, мы с сожалением смотрим, как оно бежит от нас. Стараемся поддержать его будущим и думаем располагать вещами, не нам принадлежащими, и во времени, до которого, кто знает, доживём ли.
Пусть всякий исследует свою мысль; окажется, что она всегда занята или прошедшим, или будущим. О настоящем мы почти не думаем, а если и думаем, то только ради того, чтобы из него научиться располагать будущим. Настоящее никогда не составляет нашей цели: прошедшее и настоящее — наши средства, а цель — одно будущее. Таким образом, мы никогда не живём, но надеемся жить: а так как всегда рассчитываем на счастье, то, несомненно, никогда его не достигаем (если стремимся только к такому, которое может быть уделом этой жизни).
<…> Так как природа во всяком положении делает нас несчастными, то недостающее нам счастье мы стараемся вообразить себе, присоединяя к состоянию, в котором находимся, удовольствия, присущие состоянию, в котором не находимся. Достигнув же этих удовольствий, мы бы не нашли в них счастья, так как вызымели бы другие желания, согласные с этим новым состоянием.
Люди, не будучи в силах избегнуть смерти, бедствий и неведения, вознамерились ради счастья совсем о них не думать; вот всё, что они могли изобрести для облегчения себя от стольких зол. Но это утешение очень жалкое, ибо ведёт не к исцелению зла, а только к временному сокрытию его; а скрывая зло, мы удаляем мысль о его действительном исцелении. Таким образом, благодаря странному извращению природы человека, выходит, что скука, самое чувствительное для него зло, как будто становится до некоторой степени его величайшим благом, будучи в состоянии более всего остального заставить человека подумать об истинном врачевании. По такой же иронии развлечение, которое он считает своим величайшим благом, в действительности есть его величайшее зло, ибо более прочего отвлекает его от искания средства против зол. То и другое служит замечательным доказательством жалкого и поврежденного состояния человека и в то же время его величия. Человек скучает от всего и ищет такого множества занятий потому только, что имеет представление о потерянном им счастье; но, не находя в себе этого счастья, он тщетно ищет его в вещах внешних, ибо счастье это не в нас, не в тварях, а только в одном Боге.
Бенедикт Спиноза (1632 — 1677)
Его трудно упрекнуть в противоречии между словом и делом. Знавших Спинозу восхищало нравственное величие философа, жившего в полном согласии со своим учением. Недаром в молодости он часто повторял поразившие его слова Джордано Бруно: «Там обо мне будут верно судить, где научные исследования не есть безумие, где не в жадном захвате — честь, не в обжорстве — роскошь, не в богатстве — величие, не в диковинке — истина, не в злобе — благоразумие, не в предательстве — любезность, не в обмане — осторожность, не в притворстве — умение жить, не в тирании — справедливость, не в насилии — суд».
Философ полагал, что жизнь можно вывести из аксиом, и предпочитал не наблюдать, а рассуждать, ни на кого при этом не оглядываясь. Если почитаемый им Декарт хотел бы не знать, что до него существовали другие люди, то и Спиноза не признавал авторитетов — ни Сократа, ни Платона.
Дети, еретики и мудрецы часто спрашивают про одно и то же. Естественно, что подобных вопросов философу не простили. Его долго называли наглым, богохульным и даже безбожным, хотя он обожествлял и природу, и вселенную. Когда он спокойно умер, не дожив до 45 лет, то ученые долго спорили, достоин ли атеист такой смерти. Решили: недостоин. И распустили слухи, будто отступник каялся на смертном одре, молил о прощении и даже отравился. Но благомыслы беспокоились напрасно: на душе у Спинозы было легко. В своё время он писал: «Я не предполагаю, что нашёл лучшую философию, но я знаю, что познал истинную».
Цена свободомыслия
Критический ум доставил ему немало неприятностей. Ещё в школе, читая Ветхий Завет, мальчик не обнаружил там никаких высказываний в пользу бессмертия души. Пытался обсудить эту тему с товарищами, но те сообщили куда следует и вольнодумца тут же вызвали в синагогу, пригрозив отлучением. Потом его пробовали даже купить, предлагая неплохое пособие, только бы этот мыслитель помалкивал и не позорил общину. Наконец какой-то фанатик ударил ножом — к счастью, неудачно. Дело кончилось тем, то с синагогой ослушник порвал. Его отлучили от общины и предали анафеме, посылая проклятия и гася в крови зажженные свечи.
Расчёт не оправдался, потому что молодой человек был готов к жертвам. После отлучения он отказался от имени, данного родителями, — Барух, взяв равнозначное латинское — Бенедикт, благословенный. Жил в уединённом домике, зарабатывая на жизнь шлифовкой оптических стёкол. Если учесть, что от матери он унаследовал туберкулёз лёгких, то понятно, что цену за свободомыслие платил серьёзную.
Бенедикт едва сводил концы с концами и сравнивал себя со змеёй, держащей собственный хвост. Ему не раз предлагали помощь, но безуспешно. Отказывался и от приглашений на обеды, предпочитая скудный домашний стол даровым усладам.
В университет, да и вообще к книжной учёности не стремился, считая, что академии, живущие на государственный счёт, учреждаются не столько для развития умов, сколько для их обуздания. Зато молодой человек охотно читал Декарта и философствовал. Его восхищал декартовский принцип ничего не считать истинным, пока это не доказано. Расплывчатые этические нормы философ решил пересмотреть с помощью математики.
Он не был лицемером и не умел, отвергая что-либо в теории, из страха признавать это на практике. Однако Бенедикт уже не наивный школяр и не хочет понапрасну осложнять себе жизнь. На его печати — латинский девиз: «Будь осторожен». За всю жизнь он издал лишь одно произведение за своей подписью, где изложил философские принципы учителя — Декарта. Другие же работы, которые принесли ему скандальную репутацию атеиста, расходились анонимно.
Философ умел владеть собой: не обольщался надеждами и не впадал в уныние от неудач. Чрезмерные страсти считал разновидностями сумасшествия, а истинное счастье рассчитывал найти «в познании мирового порядка и общественного процесса». Но он — не пассивный зритель житейских баталий и в одной из своих работ призывает каждого гражданина бороться против неправды всеми доступными средствами — законными, конечно. Так жил и сам. Протестовал против административной высылки из Амстердама. Когда умер отец и в семье начались раздоры, Бенедикт долго судился с сёстрами: подкупив чиновников, те пытались лишить его наследственных прав. Но когда дело было выиграно, победитель добровольно уступил им наследство… Зачем же тогда судился? «Чтобы уяснить, существуют ли в Голландии справедливость и правосудие», — отвечал он. Ему не нужны деньги, его бог — истина.
Спинозе оставалось жить всего четыре года, когда его официально пригласили на кафедру философии в Гейдельбергский университет. Он отказался, объяснив, что предложенное место не только отвлечёт его от занятий, но и стеснит свободу выражения мнений. Однако пользовался своей свободой осторожно, стараясь не разрушать, а укреплять. Однажды хозяйка дома спросила философа, убеждён ли он, что религия её спасёт. Спиноза мог бы долго рассуждать о своих особых взглядах на вопросы веры, но предпочёл ответить просто: «Ваша религия хороша, и вам не следует искать другой; не сомневайтесь в том, что она спасёт вас, если вы присоедините к своему благочестию мирные добродетели спокойной жизни».
Несмотря на весьма умеренные доходы, в душе он был эпикурейцем, полагая, что мудрецу следует «поддерживать и восстанавливать себя» умеренной и приятной пищей и питьем, благоуханием растений, красивой одеждой, музыкой, играми и тому подобными вещами. Одевался скромно, но изящно. Однажды сказал приятелю, что неопрятная одежда лишает учёных права называться людьми науки. Сознательную небрежность считал признаком мелкой души, которая не имеет ничего общего с мудростью. А он был настоящим мудрецом, который, говоря словами Цицерона, обрёл в философии истинное лекарство для души.
Ниспровергатель богов
Редкому государству по вкусу свободомыслие. Если же несанкционированные размышления касаются религии, то даже в либеральной Голландии вольнодумец не мог рассчитывать на прижизненную славу. Страх, как заметил Спиноза, заставляет людей толковать природу столь удивительно, что, кажется, будто она заодно с ними безумствует. Философ решил защитить свободу религиозного мышления и доказать необходимость такой религии, которую никому не навязывают. Это он сделал в своем «Теолого-политическом трактате».
Для начала Спиноза пытается разобраться в таких, например, вопросах: что такое пророчество? противоречат ли чудеса законам природы? представляет ли Библия слово Божие или она написана людьми? Иначе говоря, подвергает Библию научной критике. И приходит к неожиданным по тем временам выводам. Так, он доказывает, что божественный закон, открытый людям через пророков и апостолов, вытекает из сути человеческой природы и не нуждается в рассказах из еврейской истории. Эти рассказы нужны лишь для того, чтобы сделать доступными для народа некие моральные истины. Народ, в свою очередь, приспособил библейскую историю к своему пониманию и вообразил Бога человекоподобным верховным правителем. Поэтому добродетельным людям, понимающим вечные истины, читать Писание не обязательно, равно как и верить в чудеса. Последние он считал плодом человеческого невежества и спорил с теми, кто необыкновенные дела природы называет чудесами, не желая знать об их естественных причинах.
Насчет естественных причин поясним: чтобы судить о них, требуется дополнительное знание о том, что именно в природе естественно, а что — уже «сверх». Нынешние спинозисты, увидев парящий пластмассовый шарик между ладонями экстрасенса, безуспешно пытаются обнаружить некую ниточку, на которой якобы и держится это «чудо». Что же касается самого Спинозы, то он не стал бы ограничивать естественный мир репертуаром фокусника. Обвиненный в атеизме, философ на самом деле был пантеистом: он не только не отрицал Бога, но и обожествлял природу, считая именно её, а не разум, как полагал Декарт, основой бытия. Его Бог — конечно, не иконописный лик: «Бог, как субстанция, состоящая из бесконечно многих атрибутов, из которых каждая выражает вечную и бесконечную сущность, необходимо существует». Он не над природой, а внутри неё.
Анализ Библии разочаровал Спинозу. Он нашел там множество противоречий и убедился, что библейские книги написаны не теми, кому приписываются. В них нет и не может быть никаких тайн и философских истин, которые объясняли бы суть природы. Там содержатся самые простые вещи, которые требуют не толкования, а лишь послушания. Если цель философии — истина, то цель религии — только повиновение и благочестие.
Его называли ниспровергателем богов, хотя автор трактата не понимал, как именно его слова могут поколебать добродетель: «в моих глазах всё, согласное с разумом, не может принести делу истинной добродетели ничего, кроме величайшей пользы», — писал он.
Государство, преследующее инакомыслящих, подвергает себя опасности: «Разве не несчастье для государства, если честные люди, которые не могут думать по-иному и не желают притворяться, изгоняются из страны? — спрашивает философ. — Если люди, не виновные ни в каком преступлении, ни в каких дурных поступках, объявляются врагами и подвергаются карам, — а эшафот, долженствующий быть предметом ужаса для преступников, превращается в трибуну, с которой гражданам даются примеры возвышенного самоотвержения и доблести?». Люди, уверенные в своей правоте, не боятся смерти и не умоляют о пощаде. Они не преступники и потому не испытывают раскаяния, считая честью для себя умереть за доброе дело.
Мудрость политики Спиноза видит в том, чтобы учесть всё разнообразие и противоречивость людских интересов, сочетать человеческие страсти. Философ призывает жить, руководствуясь исключительно разумом. Но признаёт, что путь этот открыт для немногих, поскольку «всё прекрасное так же трудно, как и редко».
В 1674 году голландские власти запретили трактат.
Геометрия души
Вслед за Бэконом и Декартом Спиноза строит новую философию. Он за разумное, математическое знание, лишенное субъективизма и бесплодного скепсиса. Главный предмет исследований — человеческое счастье. Философ хочет выяснить истинный смысл жизни, а для этого нужно «не осмеивать человеческие поступки, не плакать и не проклинать их, а понимать».
Поскольку человек — частица природы, то его чувства и поведение можно изучать так же, как и природные, рассуждает философ. В своей знаменитой «Этике» он берет за основу геометрический принцип. Геометрия — наука дедуктивная, которая из немногих аксиом и определений строит целый мир, нигде не выходя за пределы достоверного знания. Спиноза хочет таким же образом создать и учение о нравственности: «Я буду рассматривать человеческие действия и влечения точно так же, как если бы вопрос шел о линиях, поверхностях и телах».
Ученый хочет разобраться в многообразии страстей: ведь именно они мешают покою души, мешают счастью. А возбуждает их — стремление к самосохранению, собственной пользе, потому что «расчёт всегда составляет рычаг и нерв всех человеческих действий». В познании природы страстей заключается и исцеление от них. Идеальный человек — это мудрец, который всегда спокоен и удовлетворён. Он радуется познанию и любит не изменчивые вещи, порождающие лишь беспокойство, а любит неизменное и вечное — то есть Бога.
Философ называет три основные страсти, или аффекта — удовольствие, неудовольствие и желание. Из них он выводит все остальные. Если, к примеру, удовольствие, по его определению, есть переход человека от меньшего совершенства к большему, то любовь — это «удовольствие, сопровождаемое идеей внешней причины». Добро — это то, что для нас полезно, а зло — то, что мешает обладать каким-либо добром… Его этика относительна, её мерило — польза. В природе нет ничего хорошего или дурного, совершенного или несовершенного, а есть только цепь закономерных явлений. Поэтому важнейшие нравственные правила — самосохранение и эгоизм, так как разум не учит ничему, направленному против природы.
Только что же это получится за общество, где каждый думает только о себе? Война всех против всех? Но идеал Спинозы не «человек человеку волк», а «человек человеку — Бог», и потому, доказав, что стремление к собственной пользе — величайшая добродетель, он доказывает и другое — что нет ничего полезнее для человека, чем общество себе подобных. Согласно Спинозе, интересы личности предполагают служение общему благу.
Если стоики призывали к полному отказу от страстей, то Спиноза считал, что их нужно подчинять разуму, собственной пользе. Как и эпикурейцы, он ценит наслаждения: дело мудреца пользоваться вещами и, насколько возможно, наслаждаться ими. Правда, умеренно, потому что мудрец меру богатства определяет нуждой. Утончённые наслаждения бездельников — пустое и даже вредное занятие: удовлетворяя какую-то часть тела, они не охватывают всего человеческого духа.
Религиозная мораль его не устраивает: она небескорыстна, так как человек рассчитывает на вознаграждение в ином мире. Но только рабам назначается награда за добродетель, а свободный не нуждается ни в каких наградах, кроме тех, что следуют из его поступков. Гёте, читавший «Этику» в юности, вспоминал: «Передо мной открылась <…> смелая перспектива на нравственный и физический мир. Особенно привлекало меня безграничное отсутствие себялюбия, сквозившее в каждой фразе. Чудные слова: «Кто истинно любит Бога, тот не будет стремиться к тому, чтобы Бог в свою очередь любил его».
Учение Христа привлекает обещаниями посмертного блаженства, но философ не верит в загробную жизнь — ведь душа не может существовать без тела, а потому не склонен к рассуждениям о смерти: «Человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти. Его мудрость состоит в рассуждениях не о смерти, а о жизни».
Спинозе не удалось соблюсти точность своего геометрического метода. Вне математики понятия многозначны, да и критерием истины философ считал не практику, а «очевидность». Зато в своих рассуждениях он всегда был искренен. Если Декарт писал униженные посвящения сановным особам, то Спиноза, когда ему предложили посвятить свою «Этику» Людовику XIV, ответил: «Свои труды я посвящаю только истине».
Почти два столетия его философствования считались нечестивыми и постыдными.
Свобода как необходимость
Итак, со страстями Спиноза разобрался. Но как избавиться от них, чтобы стать свободным и счастливым? Увы… Человек слаб, он всего лишь часть природы, и единственно возможная для нас свобода — это следовать объективным законам мира. Как говорили античные стоики, послушного судьба ведет, а непослушного — тащит. Заменим судьбу на природную необходимость — и получим свободу в спинозовском понимании. Такая позиция удобна тем, что может обеспечить душевный покой. Мы же не сердимся на ступеньку, на которой споткнулись. Точно так же не стоит переживать и по поводу прочих неприятностей, которые, если присмотреться, — лишь звенья единого механизма божественной природы. Свобода Спинозы основана не на эмоциях и желаниях, а на знании и необходимости. Человек свободен в той же мере, что и река, свободно текущая по своему руслу. Иные представления, по мнению философа, — лишь живучие заблуждения людей, которые не понимают объективных причин своих желаний.
От такого понимания совсем недалеко до рассуждений Энгельса в «Анти-Дюринге» о свободе как «познанной необходимости», которая заключается «не в воображаемой независимости от законов природы», а в способности «принимать решения со знанием дела».
Однако теоретически ясная формулировка философа на практике нередко приводит к спорным выводам. Скажем, пудель, которого хозяин ведёт на поводке, согласно Спинозе вполне может считать себя свободным. Если, конечно, не натягивает поводок, олицетворяющий в данном случае закон природы, потому что собака — животное домашнее. Что же касается самого хозяина, то он, тоже следуя природному закону, вынужден обеспечивать своему организму достойную жизнь. Однако последняя идет не только по природным, но и по общественным законам, которые зачастую произвольны и изменчивы. Куда должен вести человека его разум в случае сомнений в мудрости общественного устройства? Всегда следовать верховным повелениям, идя против своего внутреннего закона, иначе именуемого совестью, или же никому не передоверять природное право думать самому? В первом случае обеспечивается некоторое благоденствие покорного организма, во втором — за независимость души расплачивается тело. Даже осознав это, трудно почувствовать себя свободным.
Предшественники Спинозы, как мы видели, решали этот вопрос по-разному. Сократ, например, предпочел не лучшее с точки зрения природы решение, потому что мог ещё пожить. Однако сам он считал иначе и о выборе своём не жалел. Спиноза же конфликтов с согражданами избегал, предпочитая учить их морали анонимно. Он называл свободным то, что следует необходимости лишь своей природы. Так жил и его кумир Джордано Бруно, — человек, внутренне свободный от общества инквизиторов. После семи лет тюрьмы он отправился на костёр, но зато жил и думал по-своему.
Судьба самого Спинозы сложилась относительно благополучно. Последние годы он провел в Гааге. В своё последнее воскресенье жил как обычно, хоть и чувствовал себя плохо. С утра работал, говорил с домашними, шутил. В три часа дня умер.
Его труды, опубликованные после смерти, были запрещены. Противники взялись опровергать «безбожные» идеи философа, но опровержения получались довольно бледными. Век ещё не кончился, когда родился Вольтер, которого потом назовут «дитятей Спинозы». Будут и другие последователи и почитатели. Шеллинг и Гегель, например, объявят философию Спинозы единственно верной, полагая, что каждый образованный человек непременно должен познакомиться с основами спинозизма.
Спиноза, как и почитаемый им Декарт, был уверен, что только математический способ мышления ведёт к истине. По его представлениям, в мире царит необходимость и все события следуют некой логике. Человек не свободен, пока он подчиняется страстям, а чтобы освободиться от них, требуется познание. Чем лучше мы познаем собственные силы и природу, тем успешнее будем действовать. Отсюда и понимание свободы как познанной необходимости.
Свобода человека, согласно Спинозе, состоит в единстве разума и воли, а её границы определяются границами познания. Свобода и необходимость не противоречат друг другу, а дополняют, потому что необходимости противостоит не свобода, а произвол. Союз свободы и необходимости пришелся по вкусу марксистам, которые вообще считают свободу фикцией: они уверены, что мысли и поступки человека полностью зависят от желаний и от среды, где главную роль играют экономические отношения и классовая борьба.
Сколько бы ни думали, что верховные власти распоряжаются всем и что они суть истолкователи права и благочестия, они, однако, никогда не будут в состоянии заставить людей не высказывать суждения о каких-нибудь вещах сообразно с их собственным образом мыслей и соответственно не испытывать того или иного аффекта. <…>
Итак, если никто не может поступиться своей свободой судить и мыслить о том, о чём он хочет, но каждый по величайшему праву природы есть господин своих мыслей, то отсюда следует, что в государстве никогда нельзя, не опасаясь очень несчастных последствий, домогаться того, чтобы люди, хотя бы у них были различные и противоположные мысли, ничего не говорили иначе, как по предписанию верховных властей, ибо и самые опытные, не говоря уже о толпе, не умеют молчать. Это общий недостаток людей — доверять другим свои планы, хотя и нужно молчать; следовательно, то правительство самое насильническое, при котором отрицается свобода за каждым говорить и учить тому, что он думает, и, наоборот, то правительство умеренное, при котором эта самая свобода дается каждому. Но мы никоим образом не можем отрицать, что величество может быть оскорблено столь же словом, сколько и делом; и, стало быть, если невозможно совершенно лишить подданных этой свободы, то и весьма гибельно будет допустить её неограниченно. Поэтому нам надлежит здесь исследовать, до какого предела эта свобода может и должна даваться каждому без ущерба для спокойствия в государстве и без нарушения права верховных властей.
Из выше объяснённых оснований государства весьма ясно следует, что конечная его цель заключается не в том, чтобы господствовать и держать людей в страхе, подчиняя их власти другого, но, наоборот, в том, чтобы каждого освободить от страха, дабы он жил в безопасности, насколько это возможно. <…> Цель государства, говорю, не в том, чтобы превращать людей из разумных существ в животных или автоматы, но, напротив, в том, чтобы их душа и тело отправляли свои функции, не подвергаясь опасности, а сами они пользовались свободным разумом, не соперничали друг с другом в ненависти, гневе или хитрости и не относились враждебно друг к другу. Следовательно, цель государства в действительности есть свобода.
Далее, мы видели, что для образования государства необходимо было только одно, именно: чтобы вся законодательная власть находилась у всех или нескольких или у одного. Ибо так как свободное суждение людей весьма разнообразно и каждый в отдельности думает, что он всё знает, и так как невозможно, чтобы все думали одинаково и говорили едиными устами, то они не могли бы жить мирно, если бы каждый не поступился правом действовать сообразно с решением своей души. Таким образом, каждый поступился только правом действовать по собственному решению, а не правом рассуждать и судить о чём-либо; стало быть, и никто без нарушения права верховных властей не может действовать против их решения, но вполне может думать и судить, а следовательно и говорить, лишь бы говорил или учил и защищал свою мысль только разумом, а не хитростью, гневом, ненавистью и без намерения ввести что-нибудь в государстве благодаря авторитету своего решения.
Джордж Беркли (1685 — 1753)
Философия, которую предложил этот ирландский епископ, оказалась едва ли не самой скандальной. Материалисты отрицали дух, но с этим ещё можно было мириться, потому что глаз видит вокруг одну только материю. Беркли же замахнулся на саму материю. Он просто отвергал её существование. И пояснял: «Этим я никоим образом не наношу ущерба остальным людям, которые об этом, наверное, даже не вспомнят. Разумеется, атеистам будет недоставать этого пустого, красивого слова как опоры в их безбожности…»
Критики, конечно, именовали его философию абсурдом, персидскими сказками, а самого философа — сумасшедшим. Им казалось, что, следуя своему учению, епископ непременно разобьет себе голову о фонарный столб. В связи с этим некий доктор Джонсон, беседуя во время прогулки с коллегой о философии Беркли, пнул ногой придорожный камень и сказал: «Вот чем я его опровергаю!» Однако для спора с отцом идеализма требовались иные аргументы. Недаром француз Поль Гольбах, тот самый, который весь мир сводил к материи и движению, заметил, что самая сумасбродная из всех систем оказалась самой трудной для опровержения.
Но разве абсурд нуждается в опровержении? Достаточно забыть про него. С учением Беркли сделать это оказалось непросто.
Атеизму — бой
Философы XVIII века сильно потеснили религию, заменив Бога материей. Но Беркли не мог примириться с попытками примитивного, механистического объяснения природы. «Теперь всё хотят объяснить взаимодействием частиц вещества и механическими законами движения, — писал он. — Но мы не в состоянии понять способов действия одной частицы на другую. Каким же образом защитники материи надеются объяснить явления жизни посредством того, что само непонятно!» А уподобление человека простой машине он и вовсе полагал безнравственным. Чтобы вернуть людям веру в Бога, философ решил развенчать основу материализма — материю.
Его оружие — не религиозные догмы, а опыт и разум: «Единственное преимущество, на которое я претендую, это то, что я всегда мыслил и судил самостоятельно». По сути, он бэконовец, и все его труды — против скептицизма и атеизма ради торжества естествознания. Беркли ожидал, что его философия принесёт пользу не только религии, но и науке. Он хотел помочь исследователям научиться читать и понимать язык творца природы.
Молодой ирландец рано взялся за дело. В 20 лет он организовал в дублинском колледже Троицы тайный кружок. Восемь студентов собирались по пятницам, чтобы изучать «новую философию». В этом колледже он провёл лучшие свои годы, написал главные произведения. В 23 года решил дать бой материализму, а в 25 уже был сложившимся философом.
Современников поражало многообразие его интересов: молодой человек, знавший несколько языков, в том числе латынь, греческий и древнееврейский, изрядно разбирался в математике и позволял себе спорить с самим Ньютоном. Интересовался физикой и медициной, экономикой и политикой. Знал толк в литературе, дружил с великим сатириком Джонатаном Свифтом. Знавшие его говорили, что Беркли «обладал всякой добродетелью под небом». При этом философ был очень религиозен и не жалел сил, чтобы развеять атеистический дурман, который, по его мнению, лишал человека самого дорогого. Именно в неверии видит он источник всех зол на земле: «Из всех преступлений преднамеренное атеистическое богохульство — самое опасное для человечества, поскольку открывает дверь для всех других преступлений…»
Его миссионерские планы распространялись не только на Европу, по которой он охотно путешествовал, но и на Америку. Беркли удалось даже уговорить своё правительство организовать на Бермудах колледж для подготовки миссионеров из числа детей переселенцев и индейцев, потому что приезжим не удавалось в должной мере влиять на местное население. И вот 45-летний энтузиаст нанял корабль, нагрузил его книгами и отправился за океан, потратив на это не только государственные деньги, но и полученное наследство. Приплыл, однако, не на Бермуды, а на прибрежный остров Род-Айленд, в Ньюпорт. Почти три года он прожил в тех местах, тщетно дожидаясь от властей обещанных денег. Пришлось вернуться в Лондон ни с чем. Зато в память о тех событиях имя Беркли носит город на западном побережье США, в штате Калифорния, где расположено одно из самых крупных отделений калифорнийского университета. Его некогда основал первый американский ученик философа — Сэмюэль Джонсон.
Вскоре после возвращения миссионер был посвящен в сан епископа. С молодой женой Анной он поселился в Ирландии, в небольшом городке Клойн, где и провёл почти весь остаток жизни. «Я избрал её за умственные достоинства и за её стихийное влечение к книгам», — говорил счастливый муж. У Беркли, как и у его отца, было семеро детей, и он наслаждался семейным уютом и уединённой жизнью.
Свифт сказал о своём друге, что он — абсолютный философ в том, что касается денег, титулов и властолюбия. Но Беркли был философом не только в этом.
Изгнание материи
Так писал Джордж Байрон, родившийся десятилетия спустя после того, как епископ окончательно порвал с материальным миром. Однако философ предвидел подобные возражения: «Пусть не говорят, что я устраняю существование. Я лишь устанавливаю смысл этого слова, насколько я его понимаю».
Декарт верил только в своё существование, а бытие внешнего мира для него уже нуждалось в доказательствах, потому что чувствам доверять нельзя, и ограниченный человеческий разум, рассуждая о бесконечном, впадает в нелепости и противоречия. Беркли критически пересмотрел декартовы доказательства. Он не отрицает реальности внешнего мира, но хочет разобраться, что под этим надо понимать. Для него реальный мир — это мир звуков, красок, запахов, а не мир вещей, которые подчиняются законам механики. Да и вообще философ невысокого мнения о современной науке. Учёным спорам не видно конца, но «темноты и сомнительности» не становится меньше. А всё дело в том, что философы выдумывают ложные принципы познания: «мы сначала подняли облако пыли, а затем жалуемся на то, что оно мешает нам видеть». Но разве может быть наука о выводах, если нет науки о принципах, спрашивает он. И создаёт новую теорию, согласно которой весь видимый мир образуется путём психологической обработки субъективных ощущений. Зрение не позволяет нам судить ни о расстоянии до предметов, ни об их величине, ни о положении. Глаз имеет дело лишь с отраженным светом, а все выводы, которые мы из этого делаем — результат нашего опыта. Само же восприятие субъективно, обманчиво, да и видим мы вовсе не вещи, а цвета, фигуры, величины. Вещи — всего лишь сочетание качеств, комплексы наших ощущений. Вывод такой: видимый нами мир не существует независимо от духа. То есть это мир нашего собственного сознания, мир идеальный.
Оставалось доказать, что не только видимый, но и осязаемый мир невозможен без духа. Беркли сделал это в «Трактате о принципах человеческого знания». Он утверждает, что все ощущаемые качества предметов воспринимаются чувствами и не могут существовать вне сознания. Нет чувств — нет и предметов. «Быть — значит быть воспринимаемым» — это основная теорема философии Беркли: «Я говорю: стол, на котором я пишу, существует, — это значит, что я вижу и осязаю его».
Однако вещи существуют, полагал философ, когда их не только воспринимают, но и представляют, думают о них. Согласно этой логике, мифическая химера — животное с головой льва, телом козы и хвостом дракона — существует по крайней мере в воображении, а вот десятитысячная доля дюйма — нет, так как никто не может себе представить такую ничтожную величину…
А если нет ни восприятия, ни представления, то нет и вещей? Нет, вещи всё равно остаются, потому что Бог воспринимает их постоянно. Если бы не было и его, то вещи возникали бы скачкообразно, только на время восприятия. Поскольку ничего подобного не происходит, то Беркли считает это обстоятельство серьёзным аргументом в пользу бытия Бога, которое, кстати, для философа гораздо очевиднее, чем существование сограждан. Ведь наши органы чувств не позволяют непосредственно воспринимать своего собрата как другую личность. Человека, который не двигается и молчит, и вовсе можно спутать с манекеном. О его духовном начале мы судим лишь по поступкам, заключая по аналогии с собой, что некая человеческая фигура — тоже мыслящая личность. Что же касается Бога, то Беркли уверен, что он существует, хоть и недоступен зрению. В этом философу помогает не восприятие, а логическое умозаключение, согласно которому распознать Бога гораздо проще, чем человека, потому что весь окружающий мир постоянно несёт в себе следы его присутствия и могущества.
Итак, что остаётся от материи, если удалить всё, что делает её воспринимаемой, — например, форму, цвет, протяженность? Ничего, только название. Материи нет, есть только дух. Материя не может быть причиной воспринимаемых качеств предмета, потому что вызывать их может только духовное начало. Значит, материя неприемлема как основа бытия. Зачем же тогда она нужна, если ничему не служит и ничего не объясняет?
Основы праведности
В рассуждениях о морали Беркли слабее, чем в битвах с материей, и знатоки считают, что тут он не сказал ничего нового. Но, несмотря на это, некоторые мысли поборника религиозно-нравственного улучшения человеческого рода любопытны. Уничтожая материю, он убирал преграду между Богом и людьми. Когда все поймут, что Бог воздействует на нас непосредственно, видит злых и добрых, находится рядом с ними и охраняет, — то род людской станет благоразумнее.
Это благоразумие у Беркли сводится к смирению и консерватизму вперемешку с размышлениями о творце и о наших земных обязанностях. Прогрессивные представления о том, что жизнь одна и Бога нет, не делают человека лучше и не располагают к заботам друг о друге. И это бы ещё полбеды — истина есть истина, и неважно, полезна она кому-нибудь или нет. Беда в том, что такие представления — всего лишь заблуждения, которые навязывают народу недобросовестные мыслители. Их Беркли называет мелкими философами, потому что они «умаляют все наиболее ценные предметы, мысли, взгляды людей; <…> человеческую природу они ограничивают и низводят к узкому и низменному стандарту животной жизни и сулят нам лишь ничтожный отрезок времени вместо бессмертия». Такие рассуждения — лишь признак ограниченности людей, не привыкших думать. Вместо того чтобы безоговорочно подчиняться властям, они норовят исправлять законы.
Философ уверен, что не дело граждан выяснять, что полезно обществу, а что нет: «Ничто не есть закон только потому, что оно ведёт к общественному благу, но закон является таковым потому, что так предписано Божьей волей». Сиюминутными неприятностями следует пренебречь ради будущего блаженства. Ещё в юношеских тетрадях Беркли писал, что тот, кто не стремится к вечному счастью, наверное, сомневается в грядущем суде. Тут мыслитель и вправду неоригинален. Зато у него нет противоречия между его консерватизмом, верой и философией.
Он вовсе не демократ, и во главе нации видит монарха, которого, в отличие от президента, менять нельзя. Конечно, с государем может не повезти и на его месте окажется тиран. Зато верховная власть освящена Богом, а это хороший залог стабильности государства. И не надо ничего менять: «Предоставьте нам и нашим слугам остаться при том образе мыслей, который установлен нашими законами». Ведь у простолюдинов, по Беркли, вместо разума — обычаи и манеры, поэтому задача заключается лишь в том, чтобы то и другое было разумным.
Но неужто в мире всё так прекрасно, что дело только за благонравием? Беркли отвечает и на это. Его теодицея — оправдание Бога в отношении допускаемого им зла на земле — такова. Зла в мире нет, а то, что мы называем злом — всего лишь результат действий законов природы. Не следует применять к творцу наши мерки здравого смысла. Надо не судить всевышнего, а подняться до понимания взаимосвязи всех явлений, а также выяснить, зачем мы пришли в этот мир. Тогда станет очевидным, что вещи, которые нам не нравятся, — вовсе не зло, и направлены они на благие цели. И вообще, рассуждая о Боге, следует соблюдать известную осторожность насчёт собственных познаний. Не надо, к примеру, обольщаться успехами естествознания, потому что мы не можем утверждать, что творец намерен всегда действовать по одним и тем же правилам.
Иначе говоря, возможны чудеса. Но зачем Богу усложнять мир? Ну вот, снова мы со своими «зачем»… Рассуждать о целесообразности божественных действий — задача для человека непосильная. В конце концов, Бог вообще мог бы обойтись безо всяких правил, полагаясь лишь на собственную волю, но он почему-то предпочёл действовать по законам механики…
Как видим, Беркли не уходил от острых вопросов и старался находить на них ответы. Ну, а как должен жить человек в перерывах между размышлениями о Боге и долге? К этому, собственно, и сводится пафос трудов философа. Беркли задаёт встречный вопрос экономического свойства: разве действительная цель и задача людей не богатство? Причём источник его — не земля и даже не деньги, а труд. Так считал епископ за сорок лет до выхода книги Адама Смита «Богатство народов», то есть задолго до рождения английской классической политэкономии.
Как же заставить людей работать? Беркли выбирает самый верный путь: не принуждение, а личная заинтересованность, к которой ведёт развитие потребностей. Если бы крестьяне привыкли питаться говядиной и обуваться, разве не стали бы они более прилежными, задаёт философ риторический вопрос. Впрочем, говядиной можно соблазнить не каждого, и потому всегда были и будут бродяги и нищие, так сказать, по призванию (те, кто оказался в таком положении поневоле, не в счёт). Для них Беркли предлагает «принудительные работные дома» — исправительные колонии, по-нашему. И снова спрашивает: разве временное рабство не лучшее лекарство от лености и нищенства?
Философ-идеалист твёрдо стоял на земле, когда речь шла о сугубо земных делах.
Вечны ли истины?
Законопослушание и богобоязнь не сковывали, однако, свободной мысли учёного: «Я охотно соглашаюсь, что новшества в правлении и религии опасны и им должно противодействовать. Но есть ли подобные основания к тому, чтобы отбивать охоту к ним в философии?» Философские новшества его и прославили. Он сделал ещё один шаг к пониманию того, что такое реальность.
Абсолютное отрицание всего, кроме духа, называют абсолютным идеализмом. Беркли и сам понимал, что его философия противоречит очевидному. «Нужно время, нужен труд, чтобы преодолеть глубокий предрассудок всего человечества», — писал он. Где же та победа над скептицизмом и атеизмом, на которую надеялся философ? Увы. На него смотрели как на больного, да и сейчас не жалуют. Хотя кое-кто и говорил, что его философия означает триумфальное изгнание материи из вселенной, настоящего триумфа не получилось.
Верил ли сам Беркли в свои выводы? Вот его слова: «Бог мне свидетель, что я был и всё ещё остаюсь при полном убеждении в несуществовании материи». В этом убеждён не только он, но и его последователи — идеалисты. Те же, кто не желает расставаться с материей, такой близкой и очевидной, могут ограничиться выводом, что с помощью слов можно довольно убедительно доказать что угодно.
…Последние годы жизни философ решил провести в покое и уединении. «Прежде меня забавляли честолюбивые проекты, интриги, политические столкновения. Теперь же они представляются мне пустым, мимолётным видением», — писал Беркли за год до смерти. Умер за обеденным столом, мгновенно, от апоплексии. Завещание оставил сугубо деловое и трезвое. Он хотел, чтобы похороны были скромными и недорогими. И не спешил насовсем покидать наш призрачный мир, наказав не хоронить его раньше пяти дней после кончины.
Почему епископа занимала судьба мёртвого тела, если он так ясно видел пределы даже духовных ценностей? Однажды философ спросил себя: «Что становится с Вечными Истинами?» И ответил: «Они исчезают».
Его систему называли самой сумасбродной, а он говорил, что во всех вопросах разделяет взгляды толпы. Преувеличивал? Нет, всего лишь, как и человек толпы, держался очевидного. Что же делать, если размышления над очевидным привели философа к отрицанию материи. Беркли занялся вопросом, который для других просто не существовал, и сумел поставить его жёстко и бескомпромиссно. Он сформулировал практически все доводы против материалистов, став классиком идеализма.
Епископ не боялся быть первым и никогда не отказывался от права думать самому в обмен на одобрение толпы, против которой, кстати, ничего не имел. «Единственное преимущество, на которое я претендую, — это то, что я всегда мыслил и судил самостоятельно», — говорил философ. И этому у него вполне можно поучиться.
Так как философия есть не что иное, как стремление к мудрости и истине, то можно было бы ожидать по разумным основаниям, что те, которые посвятили ей всего более времени и труда, должны наслаждаться большим спокойствием духа и весёлостью, большей ясностью и очевидностью знания и менее терзаться сомнениями и затруднениями, чем прочие люди. Между тем на деле мы видим, что невежественная масса людей, которая следует по широкой тропе обычного здравого смысла и руководствуется велениями природы, по большей части бывает довольна и спокойна. Ничто обыденное не представляется ей необъяснимым или трудным для понимания. Она не жалуется на недостаток очевидности своих ощущений и находится вне опасности впасть в скептицизм. Но как только мы уклонимся от руководства ощущений и инстинкта, чтобы следовать высшему началу — разуму, размышлению, рассуждению о природе вещей, то в наших умах немедленно возникают тысячи сомнений относительно тех вещей, которые раньше казались нам вполне понятными. Предрассудки и обманчивость ощущений обнаруживаются со всех сторон перед нашим взором, и, пытаясь исправить их при помощи разума, мы незаметно запутываемся в странных парадоксах, затруднениях и противоречиях, которые умножаются и растут по мере того, как мы продвигаемся далее в умозрении, пока мы наконец после скитания по множеству запутанных лабиринтов не находим себя снова там же, где мы были ранее, или, что ещё хуже, не погрузимся в безысходный скептицизм.
Полагают, что причины сказанного заключаются в темноте предмета или в естественных слабостях и несовершенстве нашего ума. Говорят, что наши способности ограничены и самой природой предназначены служить для сохранения жизни и наслаждения ею, а не для исследования внутренней сущности и строения вещей. Притом, так как человеческий разум конечен, то не удивляются тому, что, трактуя о вещах, причастных бесконечности, он впадает в нелепости и противоречия, из которых ему невозможно высвободить себя, ибо бесконечное по самой своей природе не может быть постигнуто тем, что конечно.
Однако мы, может быть, слишком пристрастны к самим себе, отнеся погрешности к нашим способностям, а не к неправильному их употреблению. Трудно предположить, что правильные выводы из истинных начал могли когда-либо привести к следствиям, которых нельзя поддержать или привести к взаимному согласию. Мы должны веровать, что Бог относится к сынам человеческим настолько благостно, чтобы не внушать им сильного стремления к такому знанию, которое он сделал для них совершенно недостижимым. Это не согласовалось бы с обычными милостивыми путями провидения, которое, коль скоро оно поселило в своих созданиях известные склонности, всегда снабжает их такими средствами, какие при правильном употреблении не могут не удовлетворить этих склонностей. В целом я склонен думать, что если не всеми, то большей частью тех затруднений, которые до сих пор занимали философов и преграждали путь к познанию, мы всецело обязаны самим себе; что мы сначала подняли облако пыли, а затем жалуемся на то, что оно мешает нам видеть.
Франсуа-Мари Вольтер (1694 — 1778)
Его, вождя французских просветителей, «главу философов», называли также отцом лжи. А как ещё называть человека, который о своей «Орлеанской девственнице», где он спустил святую Жанну с небес на землю, отозвался так: «Что за гнусную рапсодию, полную прескверных стихов, приписывают мне?» Автором богохульной поэмы «За и против» объявил покойного аббата Шолье. Церковники догадывались, конечно, чьих рук это дело, но доказать ничего не могли. А «Кандид»? «Я, наконец, прочёл „Кандида“. Нужно потерять разум, чтобы приписать мне подобную нелепицу». Это уже не просто ложь, а с подробностями, убедительная. Он что, забыл, что блаженны чистые сердцем? Ах, да, он же заявил, что он не христианин… К концу жизни у этого борца с фанатизмом накопилось около полутора сотен псевдонимов. Вера Засулич, которая спустя сто лет после смерти Вольтера в открытую пальнула в градоначальника, не одобряла такого низкого притворства. Ей ближе была позиция партийного манифеста: «Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения». Но Вольтеру, питомцу иезуитского колледжа, по душе более безопасная тактика: «Смело и сильно говорите то, что у вас на сердце. Бейте, но прячьте вашу руку». Разрушая храм фанатизма, философ не хотел подобно Самсону пасть под его развалинами и потому смотрел на ложь как на одно из орудий борьбы. Плохо, когда она служит злу, но если ведёт к добру, то что же вам не нравится?
Да и с другой стороны посмотреть: лгать, отрекаясь от своего произведения, — конечно, некрасиво и неблагородно. Ну, а если сажать в тюрьму за стихи — это закон, то можно ли требовать от добродетельного гражданина, чтобы он был послушен такому закону? Сократ жил честно, но заплатил за это жизнью. «Смейте думать сами!» — призывал Вольтер и платил за это право своей репутацией в глазах тех, кто больше дела ценил «безумство храбрых». Он был готов к тому, что всем не угодишь. Однажды с горечью заметил, что самое большое несчастье для писателя — когда его судят дураки…
Прыжки на одной ноге
Ребенок был так хил, что крестины откладывали много месяцев подряд. С годами он слегка окреп, но всё же имел повод сказать: «Всегда одной ногой в гробу, другой — выделывая прыжки». Его отец, преуспевающий чиновник казначейства, был склонен к вольнодумству, и в доме собиралась довольно пёстрая публика: острый на язык поэт Буало, престарелая Нинон де Ланкло, некогда знаменитая куртизанка… Малыш, которого в честь отца и матери назвали Франсуа Мари, напевал модные непечатные песенки, а в семь лет и сам пробовал рифмовать в том же духе.
Когда юноша окончил иезуитский колледж, то тепло вспоминал тамошних монахов, старавшихся приохотить питомцев к наукам и добродетели. Что касается наук, то Франсуа ничему больше учиться не хотел: он решил стать писателем. Отец не без оснований полагал, что с такими настроениями сын превратится в обузу для родственников и настоял, чтобы будущий литератор поступил в школу правоведения. Но трудно учиться из-под палки. «Жить в тоске, петь лишь по обязанности для меня значит — не жить», — грустил Франсуа. А что для него значило — жить?
Соображениями на эту тему молодой человек поделился в письме некой мадам Ж.: «Удовольствие есть предмет, долг и цель всех разумных существ». Разговорам о загробном блаженстве он предпочитает земной рай, тем более, что «любовники существовали прежде, чем в мире появились христиане». Если же говорить о литературе, то она началась с язвительных сатир на самого герцога Орлеанского, дядю Людовика XV. Ясно, что добром это кончиться не могло, и через год поэт оказался в Бастилии. К счастью, во времена этого Людовика, известного своей легкомысленной фразой «после нас хоть потоп», к диссидентам относились несерьёзно. В Бастилии Франсуа читает Гомера и Вергилия, строит творческие планы. Заодно просит друзей принести ему два индийских платка — один для головы, другой для шеи, а также ночной чепец и помаду… Через год преступник вышел из этой славной тюрьмы более авторитетным человеком, чем туда попал. Да и планы его стали посерьёзнее: эпикурейские дела отошли на второй план, и писатель теперь протестует против тирании, защищает законность.
Обличительные стихи сделали недавнего узника известным. Свою фамилию Аруэ он сменил на более благозвучную — Вольтер, хотя русскому уху и трудно оценить разницу. Кстати, именно новая фамилия помогла появиться на свет его «Философским письмам», названным главной книгой века. Дело в том, что известность не принесла Вольтеру уважения со стороны аристократов. Некий кавалер де Роган, чья фамилия осталась в истории лишь благодаря конфликту с писателем, однажды приветствовал его таким образом: «Господин Вольтер, господин Аруэ или как вас там?» На что получил ответ: «Я не влачу за собой громких имён, но делаю честь тому, которое ношу». Кавалеру это не понравилось, и вскоре лакеи избили знаменитость, а их хозяин с удовольствием наблюдал за событиями из лавки напротив. Но зря хозяин прятался, потому что в Бастилии скоро оказался Вольтер, который безуспешно пытался вызвать обидчика на формально запрещённую дуэль, чем, конечно, нарушил закон. Выйдя на волю, Франсуа предпочёл покинуть страну, где достоинства значили куда меньше, чем происхождение, и отправился в Англию. Равенства он не нашёл и там, зато увидел немало такого, что выгодно отличало эту страну от его родины. Так, вместо религиозного единомыслия он обнаружил десятки религий, живущих «в мире и счастливо». Уплата налогов в этой удивительной стране зависит не от званий, а от доходов. Там даже ограничивают власть самого короля… Всё это он и изложил в «Философских письмах», которые издал на родине. Критика властям не понравилась: следуя обычаю, установленному ещё Тиберием, книгу сожгли, как скандальное произведение, «противное религии и добрым нравам», хотя с изобретением книгопечатания костры из книг потеряли смысл. Издателя упрятали всё в ту же Бастилию, а самого автора спасла лишь резвость, с которой он умчался из Парижа.
Философия не мешала Вольтеру трезво смотреть на житейские проблемы. Отцовские деньги помогли ему вырасти, не испытав нужды. К тому же, он был независим, не знал угодливости и не имел того «здравого смысла», который сводится к нехитрой мудрости: если один раз пожалеешь, что не сказал, то сто раз — что не промолчал… Молчать Вольтер не умел, а независимость, в отличие от древних, видел не в бедности, а в богатстве. Это в сократовские времена изгнание из города приравнивали к высшей мере, а Вольтер с деньгами мог недурно устроиться где угодно. Но — с хорошими деньгами, и потому философ презирал мелкий ежедневный заработок, предпочитая крупные дела. Чтобы не быть всего лишь продавцом собственных строчек и не зависеть от издателей, он приумножает отцовское наследство успешными спекуляциями. Отпущенный ему срок он был намерен провести как можно лучше.
Вольтер не был бы Вольтером, если бы только этим и ограничился. По сути, не он выбрал профессию писателя, а она его. Разносторонность философа типична для эпохи Просвещения, и нет таких вопросов, где он не стремился бы сказать своё слово. Тут и «Рассуждения о человеке», «Основы философии Ньютона» и даже «Опыт о природе и распространении огня», отмеченный, кстати, Академией наук. Замок Сире, где Вольтер обосновался у своей возлюбленной, маркизы дю Шатле, постепенно становился заметным культурным центром. Издатели уже охотятся за произведениями Вольтера, не всегда дожидаясь его согласия на публикацию. С ним переписывается даже наследный принц Пруссии, будущий Фридрих II.
Европейская известность Вольтера производит, наконец, впечатление и на Людовика. Философу разрешают вернуться в Париж, назначают камергером и придворным историографом, избирают академиком. Но напрасно философ думал, будто королю нужен мудрый наставник. Двору нужны всего лишь придворные. Не помогли и славословия: монарх равнодушно реагировал на вольтеровские сравнения его с Марком Аврелием и Александром Македонским. И, конечно, снова подвёл язык: сначала рискованный мадригал, потом неосторожная реплика… Кончилось всё детективной историей: бегство, потайная каморка в замке приятельницы-герцогини… Приглашение в гости к Фридриху II было очень кстати. Но и там, как говорится, не сложилось. Двоим насмешливым и обидчивым людям трудно ужиться вместе. Да и философ не раз отступал от принятого политеса. Привыкнув к финансовым махинациям, попробовал заняться этим и в Берлине, несмотря на высочайший запрет. Вскоре гость отбыл из королевской резиденции, увозя напутственное письмо монарха, где тот выражал надежду, что впредь философ «не будет больше иметь неприятностей ни с Ветхим, ни с Новым Заветом. Дела такого рода обесчещивают».
В Париж его, конечно, не пустили, и Вольтер обосновался в Ферне, у границы с Швейцарией, начав новый период жизни. Теперь у него иные взгляды: он считает, что в молодости надо наслаждаться, а в старости — «дьявольски трудиться». Здесь, в оставшиеся ему два десятка лет, он написал свои лучшие вещи.
Разум и терпимость
«Царица-глупость властвует страной» — к такому выводу пришел Вольтер. Но глупость, напичканная суевериями и фанатизмом, становится опасной. А когда фанатичную толпу направляет влиятельная церковь, то тут уже без крови не обойтись…
Некий Жан Калас был гугенотом, а его сын перешёл в католичество. Случилось так, что неуравновешенный сын покончил с собой. Однако «общественность» сделала другой вывод: это убийство на религиозной почве. Законность была соблюдена — состоялся суд, но он лишь узаконил мнение улицы. Старика Каласа колесовали. Его не просто казнили: искусство палача заключалось в том, чтобы развлекать толпу как можно дольше и, бывало, казнь растягивали до двух суток. На этот раз жертве повезло: её мучили всего два часа, ханжески уговаривая раскаяться. Получили своё и члены семьи злодея — мать и сыновей выслали из города, а дочерей отправили в монастырь. Вольтер, верный своему принципу вступаться за гонимых, заподозрил неладное и взялся за дело. Четыре месяца он вёл собственное следствие и убедился в невиновности казнённого. Философ потратил уйму энергии на то, чтобы добиться пересмотра приговора. Его доводы неопровержимы, приговор пришлось отменить. Один из судей оправдывался: мол, и лучшая лошадь может споткнуться. «Да, но не вся же конюшня», — парирует писатель.
Вольтер убеждён, что суеверия порождают нетерпимость и считает себя обязанным бороться с ними. Только смягчая нравы и просвещая людей можно привести их к свободе. Но пока разум не уничтожил власть духовенства, остаётся опасность и рабского отупения, и разрушительных мятежей. Философ обвиняет христианство в том, что оно довело народ до нищеты, обогащая монахов и порождая преступления.
Некий полицейский лейтенант однажды сказал Вольтеру: «Что бы вы ни писали, вам не удастся уничтожить христианство». «Это мы увидим», — ответил Вольтер. Христианство, как видим, осталось. Но собирался ли философ уничтожать религию? Ничуть. Напротив, он уверен, что народу необходима эта узда: «Я хочу, чтобы мой поставщик, мой портной, моя жена верили в Бога; я думаю, что тогда меня реже будут обворовывать и наставлять мне рога». К своим знаменитым словам насчёт того, что если Бога не существует, его следовало бы выдумать, он добавляет: «но в этом нет нужды, ибо Бог есть».
Философ собирается воевать не с религией, а с суеверием, этой «безумной дочерью разумной матери». И всё это для того, чтобы защитить человека, принимая его таким, какой он есть и призывая жить в согласии с разумом и творить добро. Это и есть «естественная религия» Вольтера, божественная мораль которой — в справедливости и доброжелательности друг к другу.
Он хочет подчинить церковь светской власти, хочет, чтобы узаконили гражданский брак (то есть без обязательного венчания в храме), разрешили развод, исключили из числа уголовных преступлений богохульство, колдовство, ересь… Свои письма друзьям фернейский адвокат справедливости обычно заканчивает призывом: «Раздавите гадину!» Так он именует церковь и нетерпим во имя терпимости.
Вольтер защищает свободу каждого выражать своё мнение, эту основу всех других свобод. Терпимость для него — первый закон природы, достижение человечности: «Мы все начинены слабостями и недостатками, простим друг другу взаимно наши глупости!» В конце концов, все привычные догмы так относительны… Вот что писал философ по этому поводу:
Писатель старался трезво смотреть на жизнь: «Надо верить только тому, что доказано; надо отбрасывать то, что противно разуму и истине». Спорит с Руссо, который усмотрел в частной собственности источник всех страданий и преступлений человечества». «Автор этих слов, на мой взгляд, — довольно антиобщественное животное», — замечает Вольтер со свойственной ему прямотой. Жизнь показала, кто из них был прав.
Спорил с безоглядными оптимистами, полагавшими, что мир устроен прекрасно. Нет, возражал Вольтер, мудрые законы вселенной — лишь выдумка философов. Люди — марионетки в руках слепой судьбы, и для облегчения нашей участи небеса дали нам две вещи: надежду и сон… Но этого слишком мало. Писатель хоть и не Бог, но тоже кое-что может: борется с суевериями и предрассудками, защищает беззащитных. «Я сделал немного добра, и это мой лучший труд», — такой итог подведёт он своей жизни.
Делайте жизнь лучше!
Вольтер неутомимо спорил с теми, кто видел в свободомыслии угрозу государственному порядку. У себя в Ферне вольнодумец сумел преобразовать жизнь: маленький посёлок превратился в цветущий городок, с ткацкой фабрикой, мастерскими. Философ ссужает деньгами герцогов, наслаждается плодами трудов и утверждает, что даже европейские короли «не вкушают такого счастливого покоя». Так и надо жить, уверен он: заботясь о собственном благе, стараться сделать жизнь немного лучше и для других. Надо возделывать свой сад, работать не рассуждая, потому что это единственный способ сделать жизнь сносной, писал он в своём «Кандиде».
Идеал правителя для Вольтера — просвещённый монарх; просвещают его философы, а тот претворяет их прогрессивные задумки в жизнь. Идея эта, как мы уже видели, старая, но бесплодная, и всё же Вольтер охотно переписывается с европейскими владыками. Философ хотел просвещать, однако власть имущие зачастую лишь использовали его авторитет, чтобы влиять на общественное мнение.
К России он проявлял особый интерес. Для начала через французского посла при петербургском дворе добился избрания почётным членом Академии наук. Потом вызвался писать историю Петра Великого. Труд его, правда, разочаровал россиян, зато многие влиятельные люди охотно вступили в переписку с философом. Когда же немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская стала Екатериной II, то популярность французского вольнодумца достигла в России пика. Императрица пятнадцать лет активно переписывалась с ним, не скрывая симпатий. Тот в долгу не оставался, называя её благотворительницей человеческого рода. Сравнивал с Богородицей и утверждал, что где она — там и рай, а жить под её законами — блаженство. Удивлялся, что снисходит до переписки с ним, «старым вралём»…
Да что там Екатерина. Сумароков, Фонвизин, Державин — все отдали дань великому французу, который надеялся на преобразования общества сверху, чтобы избежать потрясений снизу. Революций не одобрял, считая, что это дело годится только для респектабельных англичан, а в других странах обернётся лишь кровавым мятежом. Потому и не жаловал Пугачёва, пророча ему виселицу.
С приходом французской революции всё переменилось. Парижане перед королевским дворцом распевали стихи покойного поэта: «Народ, проснись, порви свои оковы!», и восторги российской императрицы резко пошли на убыль. Произведения Вольтера объявляют вредными, и печатать их без цензуры более не дозволяется. Философа ругают все, кому не лень, а имя его становится синонимом бунтаря. Не жалуют и вольтерьянцев, о чём напоминает грибоедовский Скалозуб:
Трубач свободы
Что может быть естественнее надежды, что, умерев, будешь похоронен по-людски в родной земле? Но в вольтеровские времена кое для кого это было не так просто. Актёров, например, приравнивали к колдунам и прочим грешникам и считали отлучёнными от церкви. Приятельницу философа, знаменитую актрису Лекуврер, тайно похоронили в какой-то яме, залив известью. Самому Мольеру друзья с трудом вымолили уголок земли для могилы: церковники смотрели на него как на врага религии. Что же говорить о Вольтере с его репутацией безбожника? Эта мысль беспокоила философа всю жизнь. В Ферне он соорудил церковь и написал на фронтоне: «Богу построил Вольтер». Подозревая, что святоши этого не зачтут, завещал похоронить себя в ванной. Но умереть дома не пришлось. Не добившись разрешения приехать в Париж, он решил это сделать вопреки запрету. Его встречали с триумфом. Академия почтила торжественным заседанием; в театре давали его трагедию, бюст автора увенчали лаврами, публика рукоплескала стоя… Нервы старика не выдержали, и он слёг. Тут-то им и занялись служители культа. Аббат Готье пришёл к Вольтеру, чтобы документировать отречение философа от заблуждений. В результате получил такую бумагу: «Я умираю, как родился, в лоне католической церкви, и надеюсь, что милосердный Бог отпустит мне все мои грехи. Если я когда-нибудь нанёс оскорбление церкви, прошу прощения у неё и у Бога». Своему доктору потом объяснил: «Я не хочу, чтобы моё тело выбросили на свалку».
Однако опасения философа сбылись. Парижский архиепископ похороны запретил, сочтя отречение недостаточным. Тогда племянник покойного, аббат Миньо, надел на труп халат, ночной колпак, посадил в карету и увёз в Шампань. Когда гроб опускали в землю, пришла депеша: хоронить запретили и здесь. Тело всё-таки предали земле, но это стоило племяннику должности.
Проводы покойного прошли тихо и скромно. А ведь в своё время Вольтер написал, что являясь на свет, мы плачем, а все кругом радуются. Когда приходит смерть, всё должно быть наоборот: мы должны смеяться, а окружающие — плакать… Так и произошло, но через тринадцать лет, в дни французской революции. Останки философа перенесли в церковь святой Женевьевы, преобразованной в пантеон. На колеснице с его прахом были слова: «Поэт, философ, историк, он дал мощный толчок человеческой мысли; он подготовил нас к свободе».
Его останкам не было суждено покоиться в мире. Через три года казнили Робеспьера, а через двадцать лет добрались и до философа. С попустительства властей компания «золотой молодежи» вскрыла гробы Вольтера и Руссо, а кости выбросила на помойку. Впрочем, на этом французские революции не кончились, и в июле 1830 года Карл Х «под давлением народных масс» спешно отбыл с семьёй за рубеж. Могилы Вольтера и Руссо восстановили — насколько, конечно, это было возможно.
…«Кроме имени, не остаётся ничего от тех людей, которые предводительствовали батальонами и эскадронами; человечество не выигрывает ничего от сотни битв; но великие люди, о которых я говорю вам, приготовили чистые и продолжительные наслаждения даже для тех поколений, которые ещё не родились… Вы знаете, что у меня великие люди стоят на первом месте, герои же на последнем». Он не лез в герои и честно занял место среди великих.
Человек, его свобода, устройство общества — вот что занимает Вольтера. Философия служит ему оружием разума в борьбе с неразумным и отживающим. Чем люди просвещённей, тем они свободней, говорил философ и смело боролся с предрассудками, на что в его времена решались немногие. Он хорошо понимал, где живёт, и чрезмерным оптимизмом не страдал. Один из его героев даже называл оптимизм страстью утверждать, что всё хорошо, когда в действительности всё плохо.
Вольтер предпочитал практический взгляд на вещи. В социальное равенство, даже будущее, не верил, полагая, что это «наиболее естественная и наиболее химерическая идея». Не к равенству в кошельках он призывал, а к равенству перед законом. Популярная в наши дни фраза — «Я могу быть не согласен с вашим мнением, но я отдам жизнь за ваше право высказывать его» — вольтеровская. Насчёт «отдам жизнь» сказано, может, и с полемическим перехлёстом, но суть бесспорна: без свободы слова не может быть общества свободных людей.
Если столькие физические ошибки ослепили целые нации, если в течение стольких веков нам неведомы были направление магнитной стрелки, циркуляция крови и вес атмосферы, то какие огромные ошибки должны были допускать люди в деле правления? Когда речь идёт о физическом законе, его исследуют — по крайней мере, в наше время — с определённой беспристрастностью; яростные страсти и настоятельная необходимость занять определённую позицию ослепляют человеческий ум вовсе не при исследовании первоначал природы; в деле же государственного правления очень часто руководствовались исключительно страстями, предрассудками и требованиями момента. Здесь заключены три причины скверного управления, явившегося несчастьем для стольких народов.
Именно это породило столькие войны, начинавшиеся по безрассудству, широким потоком разливавшиеся без руля и ветрил и оканчивавшиеся бедой и позором; именно это дало ход стольким законам, гораздо худшим, нежели отсутствие всякого закона; именно это разорило столькие семьи — правопорядок, изобретённый во времена невежества и освящённый обычаем; это сделало и общественные финансы игрушкой опасного случая.
Именно это ввело в культ божества столько чудовищных злоупотреблений и столько неистовства, быть может более омерзительного, чем невежественный культ дикарей. Заблуждение по всем этим основным пунктам закреплялось, передаваясь от отца к сыну, из книги в книгу, с кафедры на кафедру, и зачастую оно делало людей более несчастными, чем если бы они продолжали спорить в лесах из-за жёлудя.
Довольно легко преобразовать физику, когда, наконец, открыта истина. Небольшого количества лет оказалось достаточно, чтобы утвердить вращение Земли вокруг Солнца вопреки римским декретам, установить — назло университетам — законы тяготения и определить пути света. Законодателям в области природы тотчас же начинает повиноваться и уважать их весь мир — от одного конца до другого; но не так обстоит дело в области политического законодательства. Оно было и продолжает оставаться почти повсюду в хаотическом состоянии; люди привыкли руководствоваться случайностью во всём, что относится к их жизни, богатству и ко всему их существованию в настоящем и будущем.
Иммануил Кант (1724 — 1804)
Темперамент меланхолика определил и его жизнь, и его философию. Аристотель считал, что меланхолический склад души характерен для гения. Кант, полагая, что счастье чаще улыбается сангвиникам, всё же жил в согласии со своим темпераментом. В одной из своих работ он описал этот тип, оставив, по сути, автопортрет.
Итак, по Канту, меланхолика мало беспокоят чужие мнения, он живёт своим умом. Недаром первую работу — «Мысли об истинной оценке живых сил» — философ снабдил эпиграфом из Сенеки: «Идти не тем путём, по которому идут все, а по которому должно идти». Молодой автор, заявив о пренебрежении авторитетами Ньютона и Лейбница, пообещал следовать только голосу рассудка.
У меланхолика возвышенный характер и глубокое чувство человеческого достоинства. При этом он свободолюбив, не терпит лжи и притворства. Здесь Кант был категоричен и не в пример хитроумному Вольтеру утверждал, что каждый человек обязан быть правдивым всегда, независимо от того, вредит ли это ему или другим. Однако философ признаёт, что бывают ситуации, когда лучше всего помолчать. В ответ на королевский окрик, что-де учёный злоупотребляет своей философией, искажая основные положения христианской веры, Кант написал: «Отречение от внутреннего убеждения низко, но молчание в случае, подобном настоящему, является долгом подданного; если всё, что говоришь, должно быть истинным, то не обязательно гласно высказывать истину». Иными словами, не лги и не говори правду невпопад.
Кант поступал так, как проповедовал, слушая лишь собственную совесть. Своих учеников учил не философии, а философствовать. Учил не запоминать чужие слова, а их оценивать.
Талант не выбирает родословных
Небесам было угодно, чтобы величайший философ нового времени родился в семье прусского седельника. Из десяти его братьев и сестер шестеро умерли в раннем детстве. Иммануил был крепче лишь настолько, чтобы выжить. Воспитание, которое дали ему набожные родители, по его мнению, не могло быть лучшим. В семье сын никогда не видел и не слышал ничего недостойного. Отец требовал от детей честности и трудолюбия, а мать — едва ли не святости. Недаром биографы философа впоследствии находили истоки его этического учения не у предшественников, а в семье.
В школе Иммануил ничем не выдавал своей незаурядности. Скорее наоборот: был так рассеян, что о забытых учебниках вспоминал лишь на пороге класса. Робость и слабое здоровье тоже не способствовали успехам у сердитых учителей. «Эти господа не могли зажечь в нас ни малейшей искры», — вспоминал философ не лучшие свои времена.
Потом был богословский факультет Кёнигсбергского университета, где Кант тоже не проявил дарований. План его занятий представлял собой невообразимую смесь богословия, филологии, физики, математики, и товарищи с недоумением гадали, что из всего этого может получиться. Попутно студент выучился недурно играть в бильярд и даже умудрялся извлекать из этого умения некоторый доход. Пока тянулись годы учёбы, умер отец, и Канту пришлось всерьёз думать о заработке. Не защитив магистерской диссертации, он отправляется в глубину Восточной Пруссии, где девять лет работает учителем в состоятельных семьях.
Пора же, наконец, будущему профессору подумать и о науке. Вернувшись в Кёнигсберг из этого самого далёкого в своей жизни путешествия, он привозит рукопись, в которой пробует внести ясность в вопрос, не изменилось ли что во вращении Земли вокруг оси. В очередной статье рассуждает о старении нашей планеты, а потом пишет трактат, где уже пытается построить собственную систему мироздания… В будущем он видит себя университетским преподавателем, а пока считается студентом, не кончившим курса.
Но вот магистерская диссертация защищена, вслед за ней — ещё одна, давшая право на внештатное преподавание. Каждодневные лекции, среди которых логика и метафизика, этика и естествознание, отнимают всё время. Зато с нуждой покончено, и в доме магистра появляется слуга, отставной солдат Лампе. Тот самый, который несколько десятилетий подряд ровно в пять утра будил философа, и хозяин отправлялся в свой кабинет.
В 46 лет он наконец-то получил должность профессора логики и метафизики. Свои лекции обычно импровизировал, глядя на какого-нибудь студента с первой скамьи. При этом терпеть не мог ничего отвлекающего. Обнаружив, к примеру, что у попавшегося на глаза студента не хватает пуговицы на сюртуке, бывал рассеян, часто сбивался. Впрочем, обычно его лекции, несмотря на слабый голос, пользовались неизменным успехом. Я читаю не для гениев, говорил он, они сами прокладывают себе дорогу. Но и не для дураков: ради них не стоит напрягаться, а для тех, кто посередине и хочет научиться работать.
Соблазны профессор презирал. Очень любил читать про путешествия и чужие страны, но сам из родных мест никуда не выезжал. Всю жизнь он посвятил поиску истины и потому более всего ценил покой. По этой причине часто менял квартиру: на берегу Прегеля ему мешали крики лодочников, вдали от реки досаждал соседский петух, в домике рядом с тюрьмой мешали арестанты, распевающие псалмы, и профессор даже жаловался бургомистру.
Слабое здоровье заставляло его постоянно следить за собой, и благодаря размеренной жизни он никогда не болел, хоть и совершенно здоровым почти никогда не был. Никаких лекарств не признавал, делая исключение только для слабительного. Ел один раз в день, если не считать нескольких чашек чаю. Из удовольствий — полбутылки вина да ежедневная трубка табаку. К музам относился равнодушно, музыку ценил только весёлую, а из остальных искусств предпочитал кулинарию, о которой и разговаривал с женщинами. Пунктуальность Канта вошла в анекдоты. По его прогулкам можно было проверять часы и соседи говорили: «Нет ещё семи: профессор Кант ещё не проходил».
Таким знали профессора горожане, далёкие от философии. О чём он думал, над чем работал — было известно немногим. А он тем временем обдумывал весьма отвлечённые проблемы…
Категорический императив
Канта интересовали четыре главных вопроса: что я могу знать? что я должен делать? на что я смею надеяться? что такое человек? На каждый из них он отвечал капитальным трудом. Мы поговорим лишь о втором, на который философ ответил своей этикой, изложенной в «Критике практического разума».
Итак, как нужно жить, чтобы быть счастливым? Для начала определим цель. Удовольствие? Не годится: «Какова ценность жизни, если ценить её лишь с точки зрения наслаждения, легко решить, — пишет философ. — Она — ниже нуля». И приводит мнения разных мыслителей, которые сравнивали жизнь с постоялым двором, каторжной тюрьмой, сумасшедшим домом и даже сточной канавой. Правда, когда-то Кант ценил удовольствия и даже считал, что сумма наслаждений превосходит сумму страданий. Но к старости чувственные услады потеряли для него значение. А что осталось? Нравственность: «жизнь наслаждающегося без разумения нравственности не имеет никакой ценности»…
Может, поискать другие идеалы счастья? Кант считает, что это бесполезно. К счастью стремятся все, но человек не в состоянии разобраться, из чего оно складывается. Для Канта счастье — это такое состояние, когда всё идет по нашей воле и желанию. Представить себе исчерпывающую сумму собственных желаний, не только нынешних, но и будущих, никто не в силах. Приходится руководствоваться единичными склонностями, что чревато ошибками. Поэтому, принимая решение, нужно думать не о счастье, а о долге. Но что это за долг? Перед кем он и какова его цель? По Канту, это долг перед Вселенной ради всеобщего счастья. Если Сократ считал, что добро — это знание, то Канту, чтобы быть честным и добрым, никакая наука не нужна. Достаточно спросить себя, в чём заключается мой долг в данном случае. Заповеди нравственного закона представляются философу божественными, космическими и потому бесспорными. Они всем известны с детства и есть в каждой душе: нельзя убивать, красть, лгать… Откуда они — загадка. «Две вещи наполняют душу всё новым и нарастающим удивлением и благоговением, чем чаще, чем продолжительнее мы размышляем о них, — звёздное небо надо мной и моральный закон во мне», — написал он свои знаменитые слова.
Но для Канта мало всего лишь поступать хорошо. Ведь в основе доброго поступка могут лежать не очень симпатичные личные интересы. Скажем, можно ухаживать за чужим одиноким стариком не из гуманных соображений, а имея виды на его квартиру. Такой поступок — результат внутреннего повеления (по кантовской терминологии — императива). Это условный императив, потому что имеет личный интерес. Если же такого интереса нет, поступок не преследует никакой цели и необходим сам по себе, то он — следствие категорического императива. Последний сводится к следующему: поступай так, чтобы правило твоей воли всегда могло стать принципом всеобщего законодательства. Здесь Кант не оригинален, и его формула — лишь старый призыв поступать с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Однако разница в том, что нравственное значение поступка по Канту зависит от воли. Он считал, что удовольствие от добрых дел обесценивает их. Это вызвало немало возражений и насмешек. Немецкий поэт И. Ф. Шиллер написал такую эпиграмму:
На склоне лет Кант уже не противопоставлял любовь и долг и говорил другое: «Много ли стоит благодеяние, которое совершено с холодным сердцем?»
Теоретики «разумного эгоизма» полагали, что можно быть счастливым, работая ради всеобщего счастья. Но это бессмыслица, потому что всеобщего счастья не бывает. Единственный путь, который видит философ, — выполнение нравственного долга. «Мораль собственно учение не о том, как мы можем сделаться счастливыми, а только о том, каким образом мы можем быть достойными счастья», — пишет он. И не надо рассчитывать, что естественный порядок предусматривает каждому счастье в зависимости от его нравственных заслуг. Лишь вера в Бога даёт надежду когда-нибудь достичь такого счастья, какого мы достойны.
Так какое же «разумение нравственности» имел в виду Кант, без чего все наслаждения ничего не стоят?
Он призывал помнить, что человек — цель, а не средство. И жить надо достойно человека — не холопствовать, не принимать благодеяний, не допускать попрания своих прав. А чтобы это удавалось, нужно всегда думать самому, почаще становиться на место другого и никогда не изменять себе.
Смысл жизни, счастье — не вне человека, а внутри его.
Или мораль, или вечный покой
Чтобы быть счастливым, надо, как минимум, быть. Вот тут-то и начинаются сложности. Мир между соседними народами Кант считал неестественным состоянием, потому что гораздо естественнее была война. И хоть оружие тех времён с точки зрения нынешних генералов выглядит несерьёзно, но его вполне хватило бы, чтобы враги могли уничтожить не только друг друга, но и всё прочее население. Поэтому вывеска на одном из трактиров «К вечному миру» рядом с изображением кладбища навела философа на невесёлые мысли. Если оставить в стороне кладбищенский юмор, то всё равно требует ответа вопрос: как людям договориться о мире, чтобы вражда не обернулась преждевременным вечным покоем?
Мирный договор, подписанный Францией и Пруссией, стоил обеим сторонам около двухсот тысяч жизней. Но враждебность осталась и новые конфликты были неизбежны. Философ в своей работе «К вечному миру» размышляет о том, как соединить мораль с политикой. Трактат написан в форме дипломатического договора, который, как надеялся автор, мог бы помочь народам избежать вражды. Предотвратить войну может только международное правительство. Речь идёт не о некой сверхдержаве, а о союзе равноправных народов, федерации свободных государств.
Сначала в этих государствах должны исчезнуть постоянные армии. Угрожая друг другу, они провоцируют наращивание вооружений и в конце концов мир становится обременительнее небольшой войны. Ясно, что такая война неминуемо случится и, скорее всего, затянется. Но и во время сражений философ рекомендует правителям думать о будущем мире, который невозможен без взаимного доверия. Поэтому, даже воюя, нельзя делать ничего такого, что разрушало бы это доверие — скажем, засылать к врагу тайных убийц, вербовать шпионов, нарушать договорённости. Впрочем, правители охотно используют подобные приёмы и в мирные времена, приближая очередную войну.
Но о чём толкует на старости лет этот философ? Неужто он так и не понял, что политика плохо уживается с моралью? Ведь и в наши дни иные чиновники порой снисходительно объясняют журналистам, что политика — это грязное дело и нечего сюда путать мораль. Что ж, профессор Кант знавал и такую разновидность политических практиков. Эти государственные мудрецы, писал философ, на деле занимаются политиканством, раболепствуя перед властью, чтобы не упустить личной выгоды, и предают народ. Профессор называл их ремесленниками, которые, кичась тем, что знают людей, воображают, будто способны судить о праве. Но, зная людей, они не знают человека и полагаются на свой опыт, который диктует такие проверенные принципы, как «победителей не судят», «не пойман — не вор», «разделяй и властвуй». В результате мы имеем то, что имеем.
Политическому моралисту, подгоняющему мораль к собственной выгоде, Кант противопоставляет морального политика, чьи принципы не противоречат, а совмещаются с моралью. Если в отношениях между государствами он обнаруживает помехи, то старается их устранить, сообразуясь с разумом и жертвуя эгоизмом. Как именно? С помощью права и гласности. Философ уверен, что всё, что делается тайно, противоправно, и честность — лучшая политика.
Профессор, конечно, понимает, что политические ремесленники с юмором отнесутся к его проекту. Поэтому и сам позволяет себе пошутить. Договор о вечном мире он дополняет тайной статьёй, где рекомендует государствам, собравшимся воевать, учесть соображения философов по этому поводу. Кант — это не Платон с его идеалом правителя-философа и даже не Сенека, учивший будущего тирана мудрости. «Нельзя ожидать, чтобы короли философствовали или философы стали королями, — пишет он. — Да этого нельзя и желать, так как обладание властью неизбежно искажает суждения разума». Вывод один: не дать философам умолкнуть.
Трактат, похоже, мало повлиял на политиков, зато у читателей вызвал большой интерес. Ни одно произведение Канта не пользовалось таким успехом, как это.
Хочешь наслаждаться жизнью — работай
Жизнь утомила философа и, обессиленный старостью, он говорил, что ни под каким видом не согласился бы начать всё сначала. Единственное средство быть довольным жизнью он видел в работе ради достойной цели.
А друзья? Ведь, по Канту, меланхолик предрасположен к возвышенной дружбе. Но друзей у него не было, и профессор порой говорил: «Дорогие друзья, друзей не существует». Не повезло ему и в семейной жизни: он был одинок, как, впрочем, Платон, Декарт, Спиноза, Вольтер и многие их коллеги. Говорили, что этому помешала застенчивость, хотя сам профессор оставил такое свидетельство: «Когда мне могла понадобиться женщина, я не был в состоянии её прокормить, а когда был в состоянии прокормить, она уже не могла мне понадобиться». Не исключено, что безбрачие и стало причиной его несколько утилитарного взгляда на брак: «Всё очарование, которое оказывает на нас прекрасный пол, в основе является распространённым половым влечением». Философ предупреждал, что это ненадёжная основа любви, потому что «огонь, зажжённый в нас одной особой, весьма легко может быть погашен другой». Особое возмущение читателей вызвало его замечание о том, что брак — юридический договор о взаимном пользовании половыми органами друг друга… Профессор, как видим, не был в этих вопросах большим специалистом, но всё же некоторые его суждения любопытны. Так, он считал, что супружеская чета должна образовывать как бы единое лицо; его оживляет женский вкус, а управляет им — мужской рассудок. А поскольку нежные чувства со временем притупляются, то искусство семейной жизни заключается в том, чтобы уберечь их от равнодушия и пресыщения.
До старости ценил женскую красоту. Уже на восьмом десятке, полуслепой, обедая по выходным у приятеля, он сажал со стороны здорового глаза красивую женщину и не скрывал, что испытывает большое удовольствие.
Лекарствам не доверял, зато следил за успехами медицины в области продления жизни. Радовался, что немногие достигли столь почтенного возраста. По ежемесячным сводкам полицейского управления Кёнигсберга о смертности определял вероятную продолжительность своей жизни. Но в последние годы философ убедился, что дух бессилен перед болезнями. За год до смерти записал на листке библейские слова: «Жизнь человека длится 70 лет, много 80». Ему было уже 79, смерти он не боялся и говорил: «Я буду уметь умирать… Если бы в эту ночь ко мне явился ангел смерти и я почувствовал, что умираю, я бы поднял руки кверху и сказал: слава Богу!» На самом деле в свой последний день, придя в сознание, он выпил немного разбавленного вина и сказал: «Хорошо». Это и было его последнее слово.
Труды философа современники оценили по достоинству. Кант — член Берлинской, Петербургской и Сиенской академий наук. Вскоре после смерти пришло известие об избрании его парижским академиком. Но при жизни учёный избегал всего, что походило на чествование. Ему тягостно, когда в его честь хотят изготовить медаль. У него такое чувство, будто молот чеканщика падает на него самого, а он должен издавать звон…
В Калининграде — так теперь зовётся Кёнигсберг — и сейчас у развалин древнего собора можно увидеть могилу великого философа. Когда-то здесь располагалась и прогулочная галерея — «Стои Кантиана», где были высечены слова:
Ничего этого уже не сохранилось после того, как по городу прошлась самая жестокая в истории война. Зато кантовский призыв к вечному миру — остался.
Знаменитый кантовский категорический императив дословно звучит так: «…поступай так, чтобы использовать человека для себя так же, как и для другого, всегда как цель и никогда лишь как средство». Есть и более простая формулировка: «Другой человек должен быть для тебя святым».
Кант был уверен, что только уважение морального закона и следование долгу делает поступок моральным. Мораль заключена в самом человеке, который самодостаточен благодаря разуму и потому не нуждается в религии. Такая этика, по мнению философа, даёт человеку, кроме прочего, уверенность в собственном бессмертии: ведь если в этой жизни добрый поступок не будет вознаграждён, то, значит, остаётся верить, что Бог не оставит добро без награды. Чтобы стать угодным Богу, человеку достаточно благочестивого образа жизни, а все религиозные организации, догмы, обряды и прочее — заблуждение и напрасный труд, полагал философ.
1. «Ни один мирный договор не должен считаться таковым, если при его заключении тайно сохраняется основа новой войны».
Ибо иначе это было бы только перемирие, временное прекращение военных действий, а не мир, который означает окончание всякой вражды и присоединять к которому прилагательное «вечный» есть уже подозрительный плеоназм. Мирный договор уничтожает все имеющиеся причины будущей войны, даже те, которые, может быть, в данный момент не известны самим договаривающимся сторонам и которые впоследствии могут быть хитро и изворотливо выисканы в архивных документах.
2. «Ни одно самостоятельное государство (большое или малое, это безразлично) ни по наследству, ни в результате обмена, купли или дарения не должно быть приобретено другим государством».
Государство — это общество людей, повелевать и распоряжаться которыми не может никто, кроме его самого. Поэтому всякая попытка привить его, имеющее подобно стволу собственные корни, как ветвь к другому государству означала бы уничтожение первого как моральной личности и превращение моральной личности в вещь и противоречила бы идее первоначального договора, без которой нельзя мыслить никакое право на управление народом.
3. «Постоянные армии со временем должны полностью исчезнуть».
Ибо, будучи постоянно готовы к войне, они непрестанно угрожают ею другим государствам. К тому же нанимать людей, для того чтобы они убивали или были убиты, означает пользоваться ими как простыми машинами или орудиями в руках другого (государства), а это несовместимо с правами человека, присущими каждому из нас. Совершенно иное дело — добровольное, периодически проводимое обучение граждан обращению с оружием с целью обезопасить себя и свое отечество от нападения извне. <…>
6. «Ни одно государство во время войны с другим не должно прибегать к таким враждебным действиям, которые сделали бы невозможным взаимное доверие в будущем, в мирное время, как, например, засылка тайных убийц, отравителей, нарушение условий капитуляции, подстрекательство к измене в государстве неприятеля и т.д.»
Это бесчестные приемы борьбы. Ведь и во время войны должно оставаться хоть какое-нибудь доверие к образу мыслей врага, потому что иначе нельзя было бы заключить никакого мира и враждебные действия превратились бы в истребительную войну. Война есть печальное, вынужденное средство в естественном состоянии… утвердить свои права силой. Отсюда следует, что истребительная война, в которой могут быть уничтожены обе стороны, а вместе с ними и всякое право, привела бы к вечному миру лишь на гигантском кладбище человечества. Итак, подобная война, а также использование средств, которые открывают пути к ней, должны быть, безусловно, воспрещены.
Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 — 1831)
Рассказывают, что однажды Гегеля попросили изложить своё учение коротко, популярно и вдобавок по-французски. На это мыслитель обиженно ответил, что его философию нельзя изложить ни коротко, ни популярно, ни, тем более, по-французски. Можно ли это сделать по-русски, он не говорил, но вот один из образчиков русского перевода. Речь идёт о звуке. «Звук есть смена специфической внеположности материальных частей и её отрицания, — он есть только абстрактная или, так сказать, только идеальная идеальность этой специфичности».
Оставляло желать лучшего и его ораторское искусство. С трудом подыскивал слова, нюхая табак по ходу дела. «Говорит он несносно, кашляет почти на каждом слове, съедает половину звуков и дрожащим, плаксивым голосом едва договаривает последние», — вспоминал современник. Замысловатые термины, вроде «в-себе-и-для-себя-сущая необходимость», словно нарочно придуманные, чтобы затуманить смысл. Неудивительно, что число его слушателей редко превышало три десятка.
Незадолго до смерти Гегель сказал: «Только один меня понял», но тотчас раздраженно прибавил: «Да и тот тоже не понимал». Пройдет несколько десятилетий, и его соотечественник Людвиг Бюхнер, тоже, между прочим, философ, заметит, что философские рассуждения, которые не могут быть поняты каждым образованным человеком, не стоят потраченных на них чернил… Но в гегелевские времена господствовали другие взгляды: философия — занятие не для всех, и не дело профанов о ней рассуждать.
Недостатки изложения не помешали Гегелю стать официальным философом Пруссии. Герцен называл его философию «алгеброй революции», а Ленин, готовя переворот, обращался к первоисточникам и штудировал Гегеля.
Однако отношение к его философии остаётся неоднозначным. Английский философ Карл Поппер уже в прошлом веке написал следующее: «Слава Гегеля была сотворена людьми, предпочитавшими быстрое посвящение в глубокие секреты этого мира трудоёмким процессам науки, которые только разочаровывали их своей неспособностью сразу раскрыть все тайны».
Что же это за удивительный метод, сулящий «быстрое посвящение»?
Тезис — антитезис — синтез
Гегеля называли фанатиком Разума. Если французские материалисты утверждали, что нет ничего в интеллекте, чего не было бы в ощущениях, то Гегель ставил вопрос ещё смелее: нет ничего в ощущениях, чего не было бы в интеллекте. Это помогло ему вывести философию из тупика, в который её завел Кант. Тот, как известно, утверждал, что когда человек вторгается в область, где выводы нельзя проверить опытом, то разум приходит к противоречиям и порождает иллюзии. А это уже научная спекуляция, то есть попытка путём рассуждений получить знания о вещах. Но рассуждения, оторванные от практики, не имеют отношения к науке, потому что на каждый аргумент можно найти контраргумент ничуть не хуже.
Гегель разрешил это противоречие. Он заявил, что необходимость противоречить самому себе — в природе разума, а противоречия — это способ его развития. Если Кант рассматривал разум как нечто неизменное, то Гегель видит в нём продукт исторического развития, которое происходит диалектически. Сначала выдвигается тезис, которому жизнь противопоставляет антитезис. Со временем происходит примирение этих противоположностей («отрицание отрицания»), то есть синтез. Затем весь процесс может повториться, уже на более высоком уровне (примерно то же самое происходит и в обыденной жизни: скажем, некая непривычная идея сначала объявляется сумасшедшей, а потом, в несколько причёсанном виде, становится банальностью). Гегель назвал это диалектической триадой. Так из противоречий, тормозящих науку, философ сделал двигатель прогресса, объявив их неизбежными.
Но это, конечно, не всё. Для диалектических рассуждений очень важно, чтобы используемые понятия были гибкими. Ведь мы зачастую рассуждаем категорично и потому примитивно: деньги или есть, или их нет, человек или жив, или умер, свой — чужой и т. п. Для обыденного сознания это вполне годится. В диалектике же всё иначе. В совершенном мышлении, по Гегелю, истина и ложь не имеют резкой границы, потому что ничто не является абсолютно ложным, равно как и абсолютно истинным.
Особый разговор об абстрактном и конкретном. Философию считают абстрактной наукой, а под конкретным понимают то, что можно увидеть и потрогать. У Гегеля иначе. Когда он был ещё молод, то написал популярную статью, которую назвал «Кто мыслит абстрактно?» Философ использовал сюжеты из жизни, и стиль произведения для него необычен:
— Эй, старуха, ты торгуешь тухлыми яйцами! — говорит покупательница торговке.
— Что?! — кричит та, — мои яйца тухлые? Сама ты тухлая!.. Не твоя ли мать с французами крутила, не твоя ли бабка сдохла в богадельне!.. Дырки бы на чулках заштопала!
И так далее, в том же духе. Отсюда философ делает вывод, что торговка мысли абстрактно: увидеть другие, реальные черты покупательницы ей мешает обида за свой товар.
Итак, от абстрактного — к конкретному, от одностороннего — к единству многогранных определений. Гегель полагал, что при достаточном знании предмета с помощью логики можно вывести все его свойства. Так он установил, что между Марсом и Юпитером нет места никакой планете, хотя Церера была уже открыта; считал, что намагничивание железа приводит к увеличению его веса… короче говоря, диалектика его подвела. Зато Марксу она помогла в работе над «Капиталом», а марксисты усматривали в законах диалектики путь к всеобщему счастью: капитализм (тезис) влечет за собой диктатуру пролетариата (антитезис), что в конечном счёте обернётся бесклассовым обществом и равным счастьем для всех (синтез). Выходит, философия — наука вовсе не абстрактная, если диалектические умозаключения вполне конкретно влияют на жизнь нескольких поколений.
Однако надежды получить готовый ответ на любой вопрос не оправдались. Никакая логика, не подкреплённая опытом, не обещает истины там, где речь идет о живой жизни. Не укладывается она в гегелевскую триаду. В итоге вместо научного поиска может получиться сочинение очередного мифа. Гибкие понятия — благодатный материал для обоснования и классовой борьбы, и расового превосходства.
О возможностях диалектического метода некоторое представление даёт и такой «философский» анекдот. Итак, в не столь далёкие времена в районном Доме культуры выступает лектор — что-то там о противостоянии двух систем, передовой и загнивающей. После лекции некий дотошный старичок просит объяснить ему, что это за логика такая — диалектическая, которая была помянута с трибуны. В ответ лектор предлагает любознательному товарищу подумать над таким вопросом:
— Вот, к примеру, приехали к нам в город двое: чистый и грязный. Кто из них в баню пойдёт?
— Грязный, конечно.
— А если подумать? Рассмотрим вопрос исторически: грязный потому и грязный, что в баню не ходит…
— А-а… Тогда, выходит, чистый?
— Однобокий подход. Зачем чистому идти: он же и так чистый!
— Что ж тогда — никто не пойдёт?
— Не надо спешить. Давайте рассуждать: грязному ведь тоже надо изредка помыться. Да и чистому не дожидаться же, пока он грязным станет. Значит…
— Получается, оба пойдут?
— Может, пошли бы. Но если отвлечься от абстракций и посмотреть на ситуацию конкретно, то куда же им идти, когда баня-то здешняя давным-давно на ремонте. Ясно теперь, какая это полезная штука — не формальная логика, а диалектическая?
«Мир устроен хорошо»
С детства его звали маленьким старичком. Даже на довольно заурядные события он реагировал не по-детски. Так, однажды какой-то штуттгартский мальчишка, пробегая мимо, ударил маленького Вилли. Тот схватил обидчика за руку и спросил:
— Почему вы меня ударили?
— Я хочу, чтобы вы мне объяснили.
— Мне было скучно.
— А разве, ударивши, весело? — удивился Вилли и надолго задумался над этой свежей мыслью.
Но несмотря на подобные мелкие неприятности, жизнь Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, сына уважаемого бюргера, секретаря казначейства, шла размеренно и благополучно. В гимназии он на хорошем счету, много читает, а карманные деньги тратит исключительно на книги. Его даже вызывают на педсовет в числе образцовых учеников и просят повлиять на товарищей, склонных к дурным играм.
Вили уже знает, что нужно делать, чтобы произвести хорошее впечатление. Когда после окончания гимназии выпускнику потребовалось произнести речь, то будущий философ выбрал довольно странную тему: «О жалком состоянии искусств и наук у турок». Ясное дело, что туркам в этом отношении было далеко до немцев, что и позволило смышлёному гимназисту должным образом отметить местного покровителя искусств: «Теперь мы поймём выпавшее на нашу долю счастье и будем достойным образом ценить то, что родились в государстве, монарх которого…» и т. п. Это — о деспоте и солдафоне Карле-Евгении, гонителе Шиллера.
Дальше тоже всё идёт гладко — теологический факультет Тюбингенского университета, герцогская стипендия… Там Гегель стал кандидатом богословия и получил аттестат, из которого следовало, что, несмотря на способности и хорошее физическое развитие, молодой человек не проявил стараний в учёбе, особенно в философии.
Как и Канту, ему пришлось несколько лет поработать домашним учителем. Получив отцовское наследство, переезжает в Йену. Несколько благополучных лет он преподаёт, пишет, чтобы затем внезапно поменять всё это на пост редактора ежедневной газеты в Бамберге. Одна из причин — рождение внебрачного сына. Его мать — жена хозяина дома, где квартировал профессор… Для маленького городка это скандал.
Однако пора подумать и о семье. Гегелю скоро сорок, и в письме приятелю он между прочим пишет: «Я бы хотел начать и завершить ещё одно дело, взять себе жену или, лучше сказать, найти её. Что Вы на это скажете?» Поиски были удачны, что дало повод в другом письме сообщить: «Я достиг своей земной цели; служба и любимая жена — это всё, что нужно на этом свете». И счастливый муж поучает свою Марию, которая годится ему в дочери, что счастье любви завершают только религия и чувство долга.
В его доме всё солидно и основательно. Хозяин ведёт домашний календарь, где среди прочих расходов не забывает учесть и подарки невесте. Он твёрд, хоть и несдержан; если уж кого бранил, то становился страшен и не похож на философа.
Спокойная семейная жизнь не мешала профессору возглавлять нюрнбергскую гимназию, писать капитальную «Науку логики», издавать «Энциклопедию философских наук». У него уже есть ученики, последователи. В Берлинском университете, где пятидесятилетний философ читает лекции, даже образовалась гегельянская школа. Студентам нравятся слова учителя: «Смело смотреть в глаза истине, верить в силу духа — вот первое условие философии».
Его биография небогата яркими событиями. Своей путеводной звездой философ сделал библейскую мудрость: думай прежде всего о пропитании и одежде, а царство небесное приложится. Готовясь к переезду, не забывает выяснить, есть ли на новом месте хорошее пиво и недорогие продукты. Он был настолько гениален, пишет один из биографов, что мог позволить себе быть и филистером. Обывателем то есть. Выходит, гению — можно… Поистине: не та красавица, что красавица, а та, что любящему нравится.
Он считал, что в жизни ему везло: «для людей, у которых имеются деньги и которые не сворачивают с широкой дороги, мир устроен хорошо».
Приглядимся к устройству мира по Гегелю.
Что действительно — то разумно?
В двадцатые годы прошлого столетия в революционной России был популярен такой лозунг: «Если есть водка, то её надо пить. Всё существующее разумно». Нарком здравоохранения объявил это «питейное гегельянство» белогвардейской пропагандой, потому что имелось в виду знаменитое гегелевское высказывание: «Что разумно, то действительно, а что действительно, то разумно». Альберт Швейцер, лауреат Нобелевской премии мира, оценил его так: «В ночь на 25 июня 1820 года, когда эта фраза была написана, началась наша эпоха, которая привела к мировой войне и когда-нибудь закончится гибелью цивилизации».
Да так ли уж разумно всё действительное? Гейне, слушавший лекции Гегеля, поспорил с ним на эту тему, и профессор уточнил: «Можно было сказать также, что всё разумное должно быть действительно». Разница довольно существенная. А когда Гёте возразил, что сущее не делится на разум без остатка, то Гегель ещё больше запутал современников, сказав, что-де только Бог истинно действителен, и случайное существование не заслуживает названия действительности. Это открыло простор для революционных толкований: если нынешняя действительность не устраивает, то всегда можно предложить другую, «более действительную». Впрочем, и у самого Гегеля можно найти немало противоречивых утверждений об одном и том же.
В молодости философ был настроен радикально и никакое государственное устройство не одобрял. Государство, по его мнению, не способно рассматривать людей иначе, чем механические шестерёнки, и потому оно должно исчезнуть. В те времена Гегель писал стихи, ценил красоту и верил в наступление вечного мира на земле. Но с годами он расстался с идеалами молодости и пришёл к выводу, что путь прогресса — не добро и справедливость, а зло и неравенство. Задача философии не в назидании, а в оправдании существующего: ведь всё действительное разумно. Государство — действительно, а подлинная действительность есть необходимость. Дальше — больше: государство — это «действительно нравственная жизнь», «шествие Бога в мире» и даже цель прогресса. Если говорить о конкретных образцах — то это прусское королевство времён Фридриха Вильгельма III. Отсюда же следуют и более конкретные выводы: человек ценен лишь благодаря государству и он должен посвятить себя «нравственному целому». Если государство требует жизни, то гражданин должен без разговоров её отдать. Оно же следит за тем, чтобы частные интересы не взяли верх над общим благом, потому что люди обычно забывают, что они — частицы целого и предпочитают интересоваться лишь своими личными делами. «Моментом целого» является, конечно же, монарх.
Правда, есть тут для государства и серьёзная опасность: не дай Бог, если во главе правительства окажется женщина… Беда в том, что женщины почему-то «действуют не согласно требованиям всеобщего, а руководствуются случайными склонностями и мнениями». Гегель мог себе позволить быть обывателем.
Воюйте на здоровье… народов
Если Цицерон называл историю учительницей жизни, то Гегель в этом отношении гораздо ближе к истине: опыт и история учат, говорит он, что народы и правительства никогда ничему не научились из истории. Сам же философ извлёк из этого предмета много полезных вещей. Так, он считает, что конфликты между государствами можно разрешить только войной. Договориться невозможно, потому что государства не подчинены законам морали, наивысший закон для каждого — собственный интерес.
Здесь философ неоригинален. Современник Гегеля, прусский генерал Карл Клаузевиц утверждал, что война есть просто продолжение политики другими средствами. Ленин находил, что именно в этом и состоит основное положение диалектики применительно к войнам…
Что же касается рядовых военнообязанных, то война полезна и для них, потому что убедительно доказывает тщету привычных благ. А поскольку воюют друг с другом не люди (?), а государства, то на войне, по мысли философа, можно обойтись без ненависти и воевать гуманно. Бонопартист Гегель в своей «Бамбергской газете» на фактах разумной действительности убеждает читателей в благородстве наполеоновской армии. Однажды в отместку за убийство французского офицера император приказал разграбить и сжечь город Херсфельд. Когда в назначенный день гарнизон был построен и комендант предложил желающим исполнить высочайшую волю, то, оказывается, никто не пошевелился. Жители ликуют, благородный комендант отказывается от подарков… Вашими бы устами да мёд пить, господин профессор.
Обыватели, конечно, могут не согласиться с рассуждениями насчёт войны, но философу видны более далёкие горизонты. Частная жизнь расслабляет, рассуждает он, и это делает нацию добычей других народов. Война нравственно необходима, потому что из неё народы выходят укреплёнными, «внутренне спокойными».
Но даже у Гегеля возникает вопрос: ради чего эта бойня, где приносится в жертву счастье народов? Дело в том, отвечает он, что все мы — участники, так сказать, исторического процесса — на самом деле всего лишь слепые орудия в руках мирового разума, хотя и воображаем, что действуем по своей воле. Да и вообще всемирная история — не арена для счастья: «периоды счастья являются в ней пустыми листами, потому что они являются периодами гармонии».
Гегель сформулировал ряд положений, которые потом очень пригодились противникам демократии: государство должно утверждать себя путём войны, оно свободно от моральных обязательств, избранная нация имеет право на мировое господство, потому что тот, кто не способен рискнуть жизнью ради свободы, заслуживает рабской участи и т. п.
Вечный мир, к которому призывал Кант, Гегеля не устраивает. Коммунистов, кстати, тоже: они связывали его лишь с победой социализма во всём мире, о чём откровенно написали в своей программе.
Артур Шопенгауэр, который лично знавал философа-идеалиста, сказал, что Гегель оказал оглупляющее влияние на философию. И добавил: «Правительства делают из философии средство обслуживания своего государственного интереса, а учёные делают из неё предмет торговли».
Гегель умер в Берлине. Как принято считать, от холеры, хотя есть и другая версия — давняя болезнь желудка. Похоронили его не среди жертв эпидемии, а в центре близ Ораниенбургских ворот. В последний путь его провожала длинная процессия студентов.
Гегеля называют выдающимся философом, утверждая, что ни один немецкий мыслитель не оказал такого влияния на другие нации, как он. Часто цитируют знаменитый ответ философа на замечание, что-де его теории не согласуются с фактами: «Тем хуже для фактов». Реже цитируют другое, не менее смелое и спорное высказывание: «Русские женщины жалуются, если мужья не бьют их — значит, не любят. Это и есть мировая история. Народы так же хотят кнута».
А где же знаменитая гегелевская логика? Увы, логика далеко не всегда приводит к истине: «Гегель полагал, что если достаточно знают о вещи, чтобы отличить её от всех других вещей, то все её свойства могут быть выведены посредством логики. Это была ошибка, и из этой ошибки вырастает всё внушительное здание его системы», — таково мнение Бертрана Рассела. Что, впрочем, не помешало Гегелю преподать нам полезный урок: даже у выдающихся нет монополии на истину.
Самый счастливый тот, кто проводит свои дни в тишине и спокойствии, вдали от шумной человеческой деятельности, не зная, как людьми управляют, и не стремясь постигнуть, почему на наших глазах Бог терпит вещи, происходящие ежедневно. Но может ли так жить человек? От него ли зависят его дни и его судьба? Не будет ли он насильно втянут в водоворот жизни? Великое Почему возвращается.
Счастлив тот, кто устроил своё существование так, что оно соответствует особенностям его характера, его желаниям и его произволу и таким образом сам наслаждается своим существованием. Всемирная история не есть страна счастья. Периоды счастья являются в ней пустыми листами, потому что они являются периодами гармонии, отсутствия противоположности.
Совесть есть глубочайшее внутреннее одиночество, пребывание лишь с самим собою, в котором исчезло всё внешнее, всякая ограниченность; она — уединение внутри себя самого. Человек в качестве совести уже больше не скован цепями особенности, и совесть есть, следовательно, более высокая точка зрения современного мира. <…> Подлинная совесть есть умонастроение волить то, что в себе и для себя есть добро.
Но соответствует ли совесть определённого индивидуума этой идее совести, есть ли то, что он считает добром или выдаёт за добро, в действительности добро, это познаётся лишь из содержания этого утверждаемого.
То, что можно требовать от человека на основании права, представляет собой некоторую обязанность. Долгом же нечто является постольку, поскольку оно должно быть исполнено из моральных соображений.
Долг родителей перед детьми — заботиться об их прокормлении и воспитании; долг детей — повиноваться, пока они не стали самостоятельными, и чтить родителей всю жизнь; долг братьев и сестёр вообще — обходиться друг с другом с любовью и в высшей степени справедливо.
Долг всеобщего человеколюбия распространяется ближайшим образом на тех, с кем мы состоим в отношениях знакомства или дружбы. Первоначальное единство людей должно быть добровольно превращено в такую близкую связь, из которой возникает определённый долг.
Дружба основывается на сходстве характеров и интересов в общем совместном деле, а не на удовольствии, которое получаешь от личности другого. По отношению к своим друзьям необходимо быть как можно менее тягостным. Деликатнее всего — это не требовать от своих друзей никаких услуг. Нельзя избавляться от дел, сваливая их на других.
Честь человека заключается в том, чтобы в отношении удовлетворения своих потребностей он зависел только от своего трудолюбия, от своего поведения и своего ума.
Артур Шопенгауэр (1788 — 1860)
Будущий философ родился в вольном городе Данциге, в немецкой семье и, естественно, свои первые слова произнёс по-немецки. Но стал ли он немцем?
Родители назвали малыша Артуром потому, что это имя не изменяется в европейских языках. Отец, богатый коммерсант, накануне рождения сына хотел отвезти свою Иоганну в Англию, чтобы ребёнок родился англичанином; но не получилось. Да это, пожалуй, было и не нужно: став взрослым, Артур говорил, что весь его патриотизм сводится к пользованию немецким языком и часто вспоминал голландские корни своих предков. Он не любил, когда его считали немцем, полагая, что его отечество гораздо шире Германии. И вообще, что касается национальной гордости, то тут у Шопенгауэра-младшего свои соображения.
Во-первых, он считает, что это самый дешёвый вид гордости. У кого за душой больше ничего нет, чем можно гордиться, тому остаётся утешаться тем же, чем и миллионам его соотечественников, — случайной принадлежностью к определённой нации. Это даёт бедняге опору, и он готов кулаками защищать даже все недостатки и глупости, присущие соплеменникам. Немцы, по мнению Шопенгауэра, свободны от этого предрассудка (хотя и не все), чем и подтверждают свою честность. Но тогда выходит, что это их национальная черта, которой не грех гордиться? Чушь, полагает философ. В национальном характере отражается толпа, и хорошего там много не сыщешь. Просто человеческая ограниченность в каждой стране принимает свою форму, которая и зовётся национальным характером. Это, во-вторых. А гордиться, если уж вам так хочется, имеет смысл лишь собственной индивидуальностью, которая стоит намного выше национальности.
Своей индивидуальностью Шопенгауэр гордился необыкновенно.
О рамке от картины
Философ искренне восхищался своим разумом и предпочитал беседовать с собой, а не с другими. Что касается собственного характера, то его он столь же решительно не одобрял. И было за что. Стоило Шопенгауэру появиться в обществе, как он обрушивал на окружающих потоки сарказма и злобных издёвок. В откровенном письме приятелю писал, что живёт в окружении «двуногой породы обезьян». Своего пуделя по кличке Атма, что значит на санскрите «мировая душа», он, похоже, ценил гораздо выше. Если хотел покрепче отругать четвероногого друга, то обзывал его человеком. Когда же пудель закончил свои дни, то в кабинете, рядом со статуэткой Будды и бюстом Канта, появилась и гипсовая голова любимого пса…
Заметим, что Шопенгауэр не одобрял интереса к биографиям. Он считал, что люди, копаясь в биографии философа, напоминают любителей искусства, которые вместо того, чтобы заниматься картиной, гораздо более озабочены её рамкой, оценивая достоинства резьбы и стоимость позолоты. Его пугает, когда в биографии выискивают мелочи, не имеющие отношения к научной деятельности учёного.
Что ж, всё это вполне справедливо. Но не всегда. Если учёный занимается, скажем, повышением урожайности картофеля, то его семейная жизнь заинтересует разве что родственников. Но когда философ печатно заявляет, что обычно браки по любви несчастливы и тот, кто женится, лишается половины прав и удваивает обязанности, то поневоле хочется выяснить, какие у него основания для таких умозаключений. Или, по крайней мере, насколько они справедливы хотя бы для его собственной жизни. Иначе как оценить его науку? Ведь философия, изобретённая напоказ, для других, — неинтересна. Цену имеет лишь то, что делается в искреннем стремлении к истине. Поэтому без знакомства с биографией трудно оценить справедливость слов Шопенгауэра, сказанных незадолго до смерти: «Почти все имеют какой-либо порок; я наблюдаю это ежедневно. А я — нет». Неужели?
Во всяком случае, фрау Маркет, знакомая его квартирной хозяйки, с этим бы не согласилась. Философу, видите ли, не понравилось, что в передней, которой он пользовался, — посторонние люди, и он спустил 47-летнюю швею с лестницы. Да так, что та осталась калекой на всю жизнь. Правосудие, конечно, восторжествовало — обидчик 20 лет платил пострадавшей пенсию, до самой её смерти. Но, как видим, законопослушный — ещё не значит безгрешный. И характерно, что подобное происходило на фоне философских призывов к состраданию.
Неубедительно и его разочарование в богатстве, почестях, наслаждениях, которые-де мешают стремлению к вечным благам. Проповедующий аскетизм философ был весьма практичен, чувствителен к удобствам и говорил, что хороша мудрость с наследством. Он ловко устраивал свои дела и, умножая состояние, был уверен, что «можно отлично быть философом, не будучи вследствие этого дураком». Людям не доверял, в честность тоже не верил и придерживался принципа: «Не делай мне ничего, и я тебе тоже ничего не сделаю».
Чем же так досадили мыслителю современники, что он их невзлюбил на всю жизнь?
Конечно, публика не баловала его вниманием. Главная книга философа — «Мир как воля и представление» — почти целиком пошла в макулатуру. Лекции в Берлинском университете, опрометчиво назначенные на один час с гегелевскими, остались без слушателей и потому продолжались всего один семестр. Да и сам философ долгое время был известен лишь как сын писательницы Иоганны Шопенгауэр. Тем не менее, был убеждён, что равных ему нет и не сомневался в посмертной славе. Но всё-таки подобное отношение его сильно раздражало. Хоть он и презирал современников, но к их мнению был очень чувствителен.
Очевидно, причину его многочисленных странностей следует искать в нём самом. Итальянский психиатр и криминалист Чезаре Ломброзо в своей работе «Гениальность и помешательство» нашёл место и для Шопенгауэра: «Он всегда жил в нижнем этаже, чтобы удобнее было спастись в случае пожара, боялся получать письма, брать в руки бритву, никогда не пил из чужого стакана, опасаясь заразиться…» Плюс постоянное самовозвеличение. Таким образом, кроме мании преследования психиатр усмотрел ещё и манию величия, что, впрочем, его нисколько не удивило: ведь ещё Сенека говорил, что нет великого ума без примеси безумия. На это счёт известны и более категоричные мнения: чем больше человек незауряден, тем больше и ненормален. Кстати, настораживает и наследственность философа. Отец его покончил с собой в приступе ипохондрии, то есть болезненной мнительности.
Значит ли это, что философ был неискренен в творчестве? Нет. Гарантию верности своих слов он видел в том, что ему не приходилось ничего выдумывать: «Мои философские положения возникли во мне безо всякого моего содействия, — писал он. — Я просто в качестве зрителя и очевидца записал то, что в подобные моменты представлялось мне пониманием, чуждым всякого участия воли, и затем воспользовался записанным для моих творений». К сожалению, недостаток той же воли не позволил ему дотянуться до собственных идеалов, изложенных, кстати сказать, с редкой для философов ясностью и красотой.
Философия мировой скорби
Несмотря на внешне благополучное детство, философ был склонен видеть мир в мрачном свете. «Уже в семнадцатилетнем возрасте <…> я был настолько проникнут горестью жизни, как Будда в своей молодости, когда он узрел болезнь, старость, страдания и смерть», — вспоминал он. Его мир наполнен скорбью и страданием, это «госпиталь неизлечимых», а оптимизм — нелепая насмешка над человеческой судьбой.
Заметим, то пессимизм с точки зрения науки ничуть не хуже оптимизма, потому что и тот, и другой имеют отношение не к науке, а лишь к темпераменту учёного. Кант, например, соглашался с тем, что человек часто бывает недоволен провидением, когда приходится иметь дело со злом. И всё же советовал оставаться оптимистом — хотя бы для того, чтобы сохранять бодрость духа во всех обстоятельствах и, не приписывая всех несчастий судьбе, искать спасения в собственном совершенствовании. А Шопенгауэра стремление к истине привело к другому убеждению: мир — это «арена, усеянная пылающими угольями», которую надо пройти. Как это сделать наилучшим образом?
Чтобы понять, как надо правильно жить, философ решил разобраться с моралью. Её легко проповедовать, но трудно обосновать. Откуда берутся моральные законы? Верующие полагают, что их даёт Бог, а атеисты уверены, что для этого вполне достаточно собственного разума и смело создают «моральные кодексы». Шопенгауэр идёт своим путём. Он полагает, что дело не в вере или разуме, а в воле. Мир для него состоит из двух частей. Та, что мы видим, — иллюзорная. Но есть и другая, реальная: это мир воли, его беспредельное начало. Всё на свете имеет волю — и камень, падающий на землю, и росток, который тянется к солнцу. Но ярче всего она проявляется в человеке, потому что он не только думает, но и хочет. В этой-то воле и заключается корень зла, источник страданий. Ради чего все наши житейские хлопоты? Ради счастья? Но его не может быть в принципе: ведь в конце концов всё равно побеждает смерть. Мы лишь «стараемся выдуть мыльный пузырь как можно больше, отлично зная, что он всё равно лопнет».
Но почему же так невозможно счастье хотя бы при жизни? Разве мир не знает счастливых людей? Нет, философ не верит в такое счастье, потому что наша воля колеблется между болезненным желанием и разочарованием. Неосуществлённое желание причиняет боль, а осуществлённое ведет к пресыщению. Радоваться же дарам жизни — молодости, здоровью, свободе — мы умеем, лишь потеряв их. Отсюда следует самая важная из истин: уменьшить зло можно лишь ослабив волю. Самоотречение, к которому стремятся аскеты, — путь к небытию. Иначе говоря, лучше бы нас совсем не было. Цель жизни — смерть.
Тогда, может, лучше умереть? Но самоубийства философ тоже не одобряет, потому что нередко это всего лишь бунт неудовлетворённой воли к жизни. Такое бегство от страданий не может заменить блаженного погружения в небытие.
Его современники видели прогресс в движении к разуму, культуре, счастью, в утверждении жизни. Шопенгауэр напомнил, что у человечества есть и другой путь, по которому пошел Восток, по которому идут аскеты и святые — путь освобождения от воли к жизни и самой жизни с её страданиями. Идущие к счастью надеются достичь цели, удовлетворив все желания. Идущие путём отрицания желаний могут прийти к спокойствию и миру. Это, конечно, не счастье, но зато вполне достижимо. Счастливая жизнь невозможна, и высшее, чего может желать человек, «есть героический жизненный путь». Высшее благо человека — его личность, нравственные достоинства, данные природой. Власть, богатство — это иллюзии, вроде театрального короля в сравнении с настоящим. Между двумя извечными жизненными принципами — иметь и быть — Шопенгауэр выбирает второе.
Ну, а где же нравственные ориентиры, всеобщие законы? Философ считает, что их нет. Мораль воплощается не в нормах, а в свободных поступках, и задача философии — не учить, а изучать. Человеку прежде всего надлежит постигнуть собственную индивидуальность, и тогда мы поймём, как сделать жизнь лучше. Только собственные искания делают человека личностью. Но и этот рецепт не универсален. Большинству удобнее жить в рамках готовых стереотипов, свобода для них — непосильное бремя. Лучше тёплый хлев и регулярный корм… Путь свободы — удел немногих.
Отравленные стрелы Амура
Если цель жизни — смерть, то ясно, что философ не мог хорошо относиться к женщинам. Ведь это благодаря им человечество обречено вновь и вновь повторять муки бытия. Значит, женщина — главный источник зла в мире. Да, она более сострадательна, участлива, больше способна наслаждаться жизнью. Но зато природа обделила её духовно, и этот «узкоплечий, широкобёдрый и низкорослый пол» не создал ничего истинно великого. К тому же женщины легкомысленны и безнравственны, а их мотовство и стремление к роскоши — причина едва ли не всех экономических бедствий человечества. Поэтому женщины, как и дети, должны находиться под государственной опекой…
Но как же тогда мужчины влюбляются в таких недостойных особ?
Всё очень просто, объясняет философ. Любовь — всего лишь неудержимое влечение к продолжению рода. Влюблённый идеализирует свою избранницу, не подозревая, что он — лишь игрушка в руках природы. Когда цель достигнута — иллюзия рассеивается. Смысл любви вовсе не в счастье влюблённых, а в благе целого рода, поэтому она быстро проходит. Если бы Петрарка удовлетворил свою страсть, то его песня бы смолкла — в этом философ убеждён.
Исследуя брак с точки зрения интересов рода, Шопенгауэр пришёл к выводу, что лучше всего мусульманский гарем с четырьмя жёнами… Но это, так сказать, теория. На практике философ отдавал предпочтение безбрачию и даже следовал своим убеждениям, хотя скромником не был. Он полагал, что радости домашнего очага — не для мыслителя, и тот, кто хочет покоя, должен избегать женщин. Короче говоря, в любви он не видел ровным счётом ничего хорошего. На своих вершинах эта химера облекается в такое сияние, что влюблённый теряет голову и, не добившись цели, вполне способен покончить с собой. Но и удовлетворённая любовь чаще всего ведёт к большим неприятностям. Порой страсть устремляется на того, кто при трезвом рассмотрении не способен вызвать никакой симпатии, и посторонним остаётся лишь удивляться выбору. Вскоре ослепление исчезает, но ненавистная спутница жизни остаётся. Не случайно же древние изображали Амура, этого недоброго и коварного бога, слепым. Влюблённым кажется, что они идут навстречу счастью, а на самом деле идут навстречу рождению новой жизни. По сути, интересы нынешнего поколения приносятся в жертву будущему, и потому брак по любви обычно несчастен. Другое дело — брак по расчёту… Тут философу нельзя отказать в знании предмета. Когда его отец, 38 лет от роду, женился на восемнадцатилетней девице из уважаемого, но небогатого семейства, то молодая супруга не скрывала, что вышла замуж по расчёту. И что же думает по этому поводу философ-женоненавистник? Он считает, что мотивы таких браков куда реальнее романтических и не могут исчезнуть сами собой. Но заботы супругов направлены на благо нынешнего поколения в ущерб будущему; это противоречит духу природы и потому нередко наказывается.
Что ж, всё правильно. Шопенгауэр никогда не вспоминал о своём счастливом детстве, зато помнил суровость отца и жалобы матери на погибшую молодость. В конце концов родители разошлись, а два года спустя, когда сыну было 17, отец утопился. Всё это ничуть не противоречит рассуждениям философа: обязательно приходится чем-то поступиться — или интересами супругов, или детей. Семью может спасти только настоящая дружба, которая заменит бывшим влюблённым настоящее чувство.
Не надо быть философом, чтобы заметить, мягко говоря, некоторую необъективность мыслителя. Впрочем, какая тут может быть объективность? Шопенгауэр смотрел на любовь именно так, и его истина — в этом. А тем, кто видит в любви лишь приятную сторону, порой полезно послушать завзятого женоненавистника. Но неужто философ не понимал, что его доводы куда слабее стрел Амура, и мир никогда не пойдёт за ним?..
Живите по-своему
Лев Толстой был уверен, что Шопенгауэр — гениальнейший из людей, а его произведения — это «весь мир в невероятно ясном и красивом отражении», как писал он другому почитателю философа — А. Фету. Но даже поклонники сомневались, что Шопенгауэр может стать добрым советчиком молодёжи: ведь он учит презирать общепризнанное, всё отрицать, склоняет к мрачному настроению.
Почему же восхищались им? Пессимист, женоненавистник. Реакционер, убеждённый, что на земле властвует не право, а сила, и государство — это намордник, который сдерживает звериные зубы людей… И всё же философ далеко не так однозначен, как может показаться из этих субъективных заметок. У него имеется немало точных и трезвых наблюдений. Например, о том, во что превращается наука, если учёные не ищут истину, а исподтишка присматриваются к знакам высшего начальства, от которого надеются получить пропитание. О том, что правда похожа на разборчивую красотку, и потому даже тот, кто приносит ей в жертву всё, не может быть уверен в её расположении. Или о том, что для каждого человека его ближний — зеркало, из которого на него смотрят его собственные пороки; но человек поступает как собака, которая лает на зеркало…
Он же высказал и не всем приятную мысль о том, что есть только одна всеобщая ошибка — убеждение, будто мы рождены для счастья. Философ вовсе не собирался шокировать оптимистов: он ведь и сам не был рождён для него. И всё же при крайне вздорном и неуживчивом характере он сумел найти наилучший для себя образ жизни, не ограничиваясь глубокомысленными замечаниями насчёт того, что-де «нельзя жить в обществе и быть свободным от него». Он считал — можно: «В течение всей моей жизни я пользовался редким счастьем свободы и независимости, как в повседневной жизни, так и в научных занятиях. Мой путь был без чувствительных неприятностей, гладок, светел, что удел немногих», — писал он. Может, это и есть один из главных его уроков: умение прожить жизнь по-своему, чтобы на исходе дней сказать: «Будь что будет; по крайней мере моя интеллектуальная совесть чиста».
Он всегда рассчитывал на лёгкую смерть, утверждая, что тот, кто провёл всю жизнь одиноким, сумеет лучше любого другого отправиться в вечное одиночество, честно и добросовестно выполнив своё призвание. И умер действительно легко, за утренним кофе. По его желанию на надгробной плите написали всего два слова: «Артур Шопенгауэр». На вопрос, где бы он желал быть похороненным, ответил, имея в виду ещё не родившихся: «Это безразлично, они уж сумеют отыскать меня».
Шопенгауэр — пессимист, и потому оптимизм именует безнравственной и горькой насмешкой над страданиями человечества. Да и так ли уж хороша наивная вера в неизбежность благоприятного исхода, в непрерывный прогресс, в то, что мы живём в лучшем из миров, где всё подчинено разуму? Ведь жизнь идёт по своему собственному сценарию, далёкому от оптимистических прогнозов. Люди с прежней лёгкостью загрязняют планету, разбазаривают её богатства, создавая новые способы уничтожения друг друга.
Философ не зря предупреждал, что прекраснодушное прославление прогресса по меньшей мере глупо, а в конце концов и опасно. Он оказался прав. Не случайно в нашем веке интерес к Шопенгауэру возрос. На смену бездумному оптимизму, в основе которого непоколебимая убеждённость, что всё как-нибудь образуется, обязательно должно прийти осознание простой истины: человек — не царь природы, а всего лишь её частица, но частица разумная и потому ответственная за то, что происходит на земле. Однако не исключено, что и эта надежда чересчур оптимистична.
Мы уже признали в общем, что счастье человека гораздо более зависит от его свойств, нежели от того, что он имеет или чем он представляется. Всегда главное в том, что такое человек есть, т.е. что он имеет в самом себе: ибо его индивидуальность сопутствует ему постоянно и всюду, накладывая свою печать на всё, что он переживает. Во всём и при всём он ближайшим образом наслаждается только собою самим — это справедливо уже относительно наслаждений физических, а ещё в гораздо большей мере относительно духовных. <…> Если же индивидуальность плохого качества, то все наслаждения подобны превосходным винам, попавшим в рот, где побывала жёлчь. Поэтому, если оставить в стороне тяжкие несчастья, в хорошем и дурном меньше имеет значения то, что человек встречает и претерпевает в своей жизни, чем то, как он всё это воспринимает, иными словами — какова по своему характеру и степени его восприимчивость во всех её формах. То, что такое человек сам по себе и что он в самом себе имеет, короче — его личность и её достоинство, — вот единственное, с чем непосредственно связано его счастье и благополучие. Все остальные условия имеют здесь лишь косвенное значение, так что их влияние может быть парализовано, влияние же личности — никогда. Поэтому-то зависть, направленная на личные преимущества, бывает наиболее непримиримой, да и скрывают её всего тщательнее. Далее, только свойства сознания устойчивы и неизменны, и только личность действует постоянно, непрерывно, с большей или меньшей силою сказываясь в каждое мгновение; всё же остальное всегда обладает лишь временным, случайным, преходящим действием, а к тому же и само подвержено превращению и перемене — почему Аристотель и замечает: «ибо натура прочна, не материальные вещи». <…> Этим объясняется, почему несчастье, всецело зависящее от внешних обстоятельств, мы переносим с большей твёрдостью, чем вызванное собственной виною: судьба может измениться, собственная природа — никогда. Первое и важнейшее условия для нашего счастья заключается, следовательно, в субъективном благе — благородном характере, способной голове, счастливом нраве, бодром настроении и хорошо устроенном, вполне здоровом теле, т.е. вообще «в здоровом теле — здоровый дух», и потому мы гораздо больше должны заботиться о развитии и поддержании этих качеств, нежели о приобретении внешних благ и внешнего почёта.
После всего этого самый ближайший путь к счастью — весёлое настроение: ибо это прекрасное свойство немедленно вознаграждает само себя. Кто весел, тот постоянно имеет причину быть таким, — именно в том, что он весел… Пусть человек молод, красив, богат, пользуется почётом: при оценке его счастья является вопрос, весел ли он при всём этом.
Фридрих Ницше (1844 — 1900)
Казалось, ему повезло: мало кто из философов был так популярен при жизни. На многие годы ницшеанство стало модой. Сам автор нашумевших книг с опаской смотрел на поклонников: «Худшие читатели те, которые поступают, как грабящие солдаты: они выбирают себе то, что может им годиться, пачкают и перепутывают остальное и ругают всё». Так и вышло. В сверхчеловеки, в белокурые бестии полезли те, у кого этой пресловутой бестиарности не хватило бы, по замечанию одного остроумца, даже на морскую свинку.
Ну, а сам-то философ — был ли он сверхчеловеком? Тот, который называл мораль важничаньем человека перед природой и мечтал заблистать через триста лет? Нет, в нём не было ничего от нынешних суперменов вроде бравого Шварценэггера. Ему нравились изысканные манеры и при первой встрече он поражал церемонностью. Один его знакомый барон сказал, что не знает более аристократического человека, чем Ницше. Стоит ли удивляться, что подражатели так мало походили на оригинал? Впрочем, — внешне почти всё на месте: «Как похожи на тебя эти юноши! Им недостаёт лишь гениальности!» — в восторге воскликнул однажды его приятель. «Этим молодцам недостаёт и головных болей», — ответил философ.
Знавшие его, смотрели на шокирующие парадоксы мыслителя другими глазами. «Я очень счастлив, что восстановил против себя всё слабое и добродетельное», — написал он знакомой даме. Та мягко возразила: «Не будьте парадоксальны! Разве сами вы не представляете собою живое противоречие тому, что вы говорите? Вы добродетельны, и пример вашей жизни, если бы люди могли только его знать, убедил бы их скорее, чем ваши книжки…» Но как бы там ни было, а среди официально почитаемых гитлеровцами Гёте, Бетховена, Вагнера занял своё место и Ницше. Неплохая компания.
Создатель истины
Жизнь его словно шла в обратном направлении. Когда другие малыши уже бойко говорили, Фридрих упорно молчал. Зато на склоне лет не мог остановиться, захваченный непрерывной чередой видений. В 17 лет он задумывается над тем, что такое человечество, будет ли конец этому вечному движению, и где пружины огромных часов мира. В 24 года ему почётным образом, без защиты диссертации присуждают докторскую степень и приглашают профессором филологии в Базельский университет. Семья в восторге, а молодой профессор спокоен: «Подумаешь, какое событие, — стало на свете одной пешкой больше, вот и всё!» В тридцать с небольшим, когда многие только начинают карьеру, Ницше её уже завершил, покинув университетскую кафедру. Он рвёт со старыми друзьями, не обзаводясь новыми, и в неистовом профессоре окружающие всё меньше узнают того учёного старца, каким он был в молодости. А философ будто хочет уничтожить всё, что ценил раньше. Страсть к противоречию заставляет его то и дело спорить с самим собой. Но он по-прежнему верен цели, поставленной много лет назад: «Чего мы ищем? Покоя, счастья? Нет, одну только истину, как бы ужасна и отвратительна она ни была». Он ничуть не заботится о создании нового учения, новой веры («религия — дело черни»). А какая у него философия — поэтическая, лирическая? Да и философия ли вообще? «Я — перила моста на стремительном потоке: держись за меня кто может за меня держаться. Но вашим костылём не служу я. Так говорил Заратустра».
И болезнь, болезнь… Она постоянно толкает его вперёд, не позволяя засиживаться на месте. Он, конный артиллерист прусской армии, упал с лошади, после чего с военной службой пришлось расстаться. Болезнь разлучила его и с университетской кафедрой. Слепнущие глаза избавили от книг, дав просто собственным мыслям. Со временем недуги одолевали всё сильнее, и в году порой выходило до двухсот «юдольных» дней. И что же? Болезнь обострила гордость философа, сделала его мужественным, выделила среди соплеменников. Во всяком случае, он смог сказать, что знает о жизни больше прочих, потому что часто бывал на границе смерти. К свободе духа, по его мнению, приводит только великая боль. Значит, спасибо болезни за это. Ведь здоровому нечего желать, не о чем спрашивать, и потому у здоровых нет психологии. Всякая мудрость — от страданий.
Собственно, выбор у него был невелик: или застрелись от такой жизни, или радуйся ей. И дело не только в болезни — в самой жизни: «Мир отвратителен, он жесток как дисгармонирующий аккорд». Изучив Шопенгауэра, чьи идеи стали частью Ницше ещё в молодости, философ почувствовал прочную опору: житейские волны уже не захлёстывают его, он чувствует себя в этом тёмном мире как дома. В его душе нет ни Бога, ни друзей, он с презрением смотрит на «тусклое благополучие» здоровых. Всё это ему заменило страдание, благодаря которому душа стала мягче и нежнее, для чего не понадобилось ни религии, ни искусства. Что ни убивает, то делает сильнее.
В Генуе, где он лечится, жизнь скромна и проста. Философ установил для себя свод житейских правил: «Будь независим, никого не оскорбляй; пусть гордость твоя будет мягкой и сокровенной и не стесняет других людей, пусть не будет в тебе зависти к их почестям и благополучию, <…> не употребляй вина, избегай знакомства со знаменитостями, не сближайся с женщинами, не читай журналов…» Только всё это больше подходит для Эпикура. Где же тот сверхчеловек, без которого нет и самого Ницше? Не торопитесь, его «Заратустра» появится позже, чтобы учить людей стремиться не к счастью, а к делу. Только разве истина в этом? Для обычных людей — нет. Но у Ницше — своя истина, он её не ищет, а создаёт. Истина в том, что человек остановился в развитии, и потому нужно идти дальше; на нём, как на перегное, вырастает сверхчеловек. Счастье в том, чтобы стремиться к этому. Надо покончить с гнилым пессимизмом, к которому привела цивилизация с её болезненной изнеженностью, испорченным желудком и обложенным языком. По дороге от животного к ангелу человек растерял «радость и невинность зверя» — и жизнь стала невкусной. Заратустра этого не одобряет.
Нехоженые тропы сверхчеловека
Итак, по Ницше, культура делает из человека унылое, больное существо. Единственное, что может оправдать это, — достойная цель, стремление к чему-то более совершенному. Ясно, что речь о сверхчеловеке. Стремление к его красоте заменяет прежнее стремление к добру. Но как достичь этого идеала?
Чтобы проснулось божественное, надо довести до предела человеческое, считает философ. Где же те люди, тот класс, нация, раса, среди которых появятся более благородные и счастливые представители рода человеческого? Маркс уже усмотрел перспективу в пролетариях, да только какие из них, ей-богу, сверхчеловеки… «Властная раса может иметь только ужасное и жестокое происхождение». Где вы, варвары ХХ века? Чтобы они появились, нужны невиданные социальные потрясения. И Ницше набрасывает план действий: необходима обязательная военная служба, постоянные войны… Тогда, пожрав некоторое количество своих ближних, образуется новая человеческая порода, которой всё позволено. А для этого нужна новая мораль. Христианская, которая делит весь мир на «больных» и «сиделок», не годится, она порождает рабское сознание, навязывая готовые ответы. Но ответы должна давать не мораль, а жизнь. И вот что получается: «Никто не ответственен за то, что он живёт, что он создан так или иначе, что он находится в известных условиях и в известной обстановке». Общество же норовит обезличить всех, хотя человек зависит не от общества, а от природы, космоса. Царство коллектива ведёт не к прогрессу, а к вырождению культуры и всеобщему падению нравов.
В идеях стадного социализма Ницше виделась гибель человечества, и он цитировал любимого Достоевского: «Мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы… Мы заставим их работать, но в свободные от труда часы устроим им жизнь как детскую игру…» Социалисты забыли, что тот, кто желает людям добра, должен призывать не к равенству, а к разнообразию, потому что природа создаёт людей разными. «Ты должен» надо заменить на «я хочу». И не нужны пророки, которые наметят цели и укажут нам будущее. Своё будущее каждый должен найти сам. А для этого сначала надо освободиться от стадных стереотипов. Стань тем, кто ты есть, призывает философ. То же говорит своим ученикам и его Заратустра, странствующий проповедник: «Это теперь мой путь, а где же ваш?» Не надо идти за вождём в толпе последователей. Люди коллективного мышления — неважно, официального или наоборот — для Ницше всего лишь чернь. Он и за собой-то никого не зовёт: «Останься верен сам себе и следуй только за самим собой; тогда хотя и медленно, но всё же ты пойдёшь за мной». То есть, поступайте так, как герой песни Владимира Высоцкого — воспевавшего, кстати, не сверхчеловека, а неповторимое в человеке:
Ницше, как и его кумир Шопенгауэр, высоко ценил индивидуальность. Считал себя самым независимым человеком в Европе. Его отчизна — одиночество, философ смеётся над единомыслием, над мнимой объективностью. Разве человек может освободиться от своей личности, чтобы видеть вещи такими, какие они в действительности? Потому-то в научных трудах важно не то, что автор почерпнул извне, а то, что вложил туда своего.
«Так говорил Заратустра» — по мнению автора, самая серьёзная его работа, «пятое евангелие», — имеет подзаголовок: «Книга для всех и ни для кого». Слова «для всех» вопросов не вызывают, но и «ни для кого» остались незамеченными. И напрасно, потому что его учение — для избранных: «Масса людей, которых снедает зловредная жажда возвыситься, много честолюбцев волнуется безнадёжно! Покажи мне, что ты не принадлежишь к числу жаждущих и честолюбцев!» Но где же те, достойные, которые произведут опыт с истиной, уничтожат всё болезненное и враждебное жизни? Носители новой «интеллектуальной совести», свободные от догм и условностей? Которые вырвались из темницы собственных убеждений? Эти гении, способные остановить эпоху и потребовать у неё отчёта?
Увы. Как признал сам философ, они могли существовать только в его воображении. В том самом воображении, которому везде чудился больничный воздух и сумасшедший дом. Пророческое предчувствие: последние десять лет — лечебница для душевнобольных. «Спой мне новую песнь: мир просветлел, и небеса ликуют», — пишет он в одном из последних писем, ставя вместо подписи — «Распятый». Стиль тот же, что и в «Заратустре», но это — уже диагноз.
Почётный фашист?
Из разрушителя кумиров публика быстро сотворила нового кумира. Философа заменили цитатником, и его поэтичный «Заратустра» оказался на восточном фронте, в ранце немецкого солдата, вместе с Библией и гитлеровской «Моей борьбой». Но если ни один философ не считал, что добрался до окончательной истины, то толпа в этом уверена, едва услышав нечто созвучное настроению. «Мы должны освободиться от морали…» — это запомнилось быстро и надолго. А дальше идёт: «…чтобы суметь морально жить». Чтобы открыть самих себя, собственную индивидуальность. Но какая индивидуальность на массовом митинге? Там вполне достаточно, когда зовут «освободиться». В результате Ницше называли не только провозвестником нового, свободного человека, но и духовным отцом фашизма. Поэтому стоит приглядеться, много ли у него общего с фашистами.
Начнём с того, что национализм философу крайне несимпатичен, и он называет его «национальной нервозностью». А из чего эта «нервозность» складывается? Из уверенности, что «Германия превыше всего», славяне — низшая раса плюс особый счёт к евреям. Однако Ницше не считал Германию украшением наций, скорее уж наоборот: «Куда бы ни простиралась Германия, она портит культуру». Или: «Происхождение немецкого духа — из расстроенного кишечника…» Себя философ к немцам не причислял и часто упоминал о польском происхождении. Семейный культ правды уходил корнями в родословную аристократа: «Граф Ницкий не должен лгать», — сказал он в детстве сестре. Если же говорить о национальных симпатиях, то французских революционеров он ненавидел, Германию называл страной европейской тупости, зато благоволил полякам: ещё в детстве Фридриха восхищали рассказы о том, как шляхта, съехавшись на лошадях в долину, выбирала короля, причём даже младший среди них мог воспротивиться общей воле. Да и вообще к славянам философ был неравнодушен: «Одарённость славян казалась мне более высокой, чем одарённость немцев, я даже думал, что немцы вошли в ряд одарённых наций лишь благодаря сильной примеси славянской крови». На сотрудничество с гигантским восточным соседом он смотрел с надеждой: «Мы нуждаемся в безусловном сближении с Россией и в новой общей программе, которая не допустит в России господства английских трафаретов. Никакого американского будущего! Сращение немецкой и славянской расы». Не его вина, что призыв не был услышан.
Что же касается евреев, то философ считал, что было бы полезно и справедливо «удалить из страны антисемитских крикунов». Под горячую руку досталось и сестре: у неё в этом вопросе была своя позиция, за что брат обозвал её «мстительной антисемитской дурой».
Сестра, которая благополучно дожила до 1934 года, даже удостоилась посещения «сверхчеловека» — самого Гитлера. На память о той встрече у фюрера осталась подаренная ему трость философа. Но если бы до этих лет дожил сам Ницше, то вряд ли встреча была бы такой же обоюдоприятной. «Предтеча» же ясно писал: «Я страдаю от того, что мне приходится писать по-немецки». И Заратустра его, конечно, не лучше: «Гости мои, вы, высшие люди, я хочу говорить с вами по-немецки и ясно. Не вас ожидал я здесь, на этих горах…»
Цитировать Ницше вне контекста рискованно. «Остерегайтесь добрых и праведных», «толкни слабого» — значит, освободись от морали и господствуй? Нет, это о том, как слабого сделать сильным. Смысл отдельных слов уточняется лишь в предложении, а смысл предложения ясен, когда ясна позиция автора. Вот о позиции и речь. «Злое — лучшая сила человека. Человек должен стать лучше и злее». Ну почему — злее? Ведь когда философа спросили, что он видел на войне, тот ушёл от ответа: «Об этом не надо говорить, это невозможно, нужно гнать от себя эти воспоминания!» Но именно там артиллерист и додумался до этой странной мысли. Однажды, ошеломлённый увиденным в санитарном отряде, он вышел на дорогу, а мимо промчался кавалерийский полк. Молодые, здоровые люди спешили на смерть… И тогда солдат впервые почувствовал, как хорошо, что Бог даёт вождям жестокое сердце. Иначе как посылать людей на гибель, чтобы привести к победе свой народ?..
«Право наций выше прав человека» — основа нацистской морали. Но снова это право берутся определять, говоря словами философа, те, «которых слишком много». Снова стадо… Нет, одинокий затворник для нацистов предтеча очень сомнительный.
Воздух свободы
Верную ли дорогу указывал нам мыслитель? Если мы хотим держаться философских рамок, то не следует ждать однозначного ответа: как говорил сам Ницше, лишь на базаре нападают с вопросом: да или нет? Важно другое: что именно может взять из этой философии конкретный человек и насколько это поможет ему жить? Кому своя истина не нужна, потому что кругом полно чужих, тому не о чем беспокоиться. Кому тесно ширпотребовское счастье — пусть ищет своё, нестандартное. Так, кстати, и поступал сам философ. Судьба обошлась с ним сурово, но он не позволял себе падать духом и жаловаться на жизнь. Ницше даже удавалось её воспевать, презирая страдания. Значит, такая философия вполне себя оправдала — по крайней мере, была полезна своему создателю. Кому не нравится, может искать другую. В отличие от иных классиков, Ницше не создавал бессмертного учения — он создал атмосферу свободного духа, его книги умножили независимость человека. Этим возвышением духа философ и ценен. Некоторые го выражения стали крылатыми, вошли в повседневный язык — «сверхчеловек», «переоценка ценностей», «по ту сторону добра и зла»… По сути, речь не столько о чём-то «сверх», сколько о самопознании и реализации наших внутренних возможностей. А разве не к этому звали люди, в которых, право же, нет ничего ницшеанского? Например, писатель М. Пришвин, называвший свободой возможность «жить в себе» и радоваться жизни, вынося все лишения. Или В. Вересаев, полагавший, что если цель борьбы — лишь сделать жизнь сытой и благоустроенной, то это не стоит трудов. Обновление строя — только первый шаг к обновлению самого человека, возрождению его «инстинкта жизни». Цель одна, но пути разные. Лев Толстой, который прочитал Ницше с «великим отвращением», тоже искал пути нравственного совершенствования. Но, в отличие от немца, считал человека не выдрессированным зверем, а воплощением божественного разума на земле.
А Ницше — сам по себе: ни тот, каким его представлял немецкий солдат, ни тот, каким рисует предвзятый критик. Он уверен, что судить об истинном и ложном можно лишь поднявшись над путами собственных убеждений. По этой причине и диалектику недолюбливал, считая, что её способность всё объяснить и оправдать «служит черни». Ей он противопоставлял «перспективизм», который не допускает однозначных ответов и позволяет видеть перспективу в развитии.
Как видим, философ чувствовал себя в своём выдуманном мире свободно и уютно. Ну, а как быть ницшеанцам, «которых слишком много»? Не зря ведь Толстой беспокоился: «Каково же общество, если злой сумасшедший признаётся учителем?» Кто ответит за фанатика-экспериментатора, одержимого идеей покончить с миллионами «недоделанных и неполноценных», как и завещал больной, но неунывающий старик Ницше? Вот что думал на эту тему его соотечественник Г. Лихтенберг, родившийся за столетие до философа. Он тоже был сторонником самостоятельных философствований, но предостерегал от возможных неприятностей: «Поступай так, как поступали до тебя мудрейшие люди, и не начинай с таких вопросов, где каждое твоё заблуждение может отдать тебя в руки палачу». Словом, помни о Нюрнберге.
…Пожалуй, больше всего в жизни Ницше не любил лжи и праздных ротозеев, от которых защищался, пока мог. И сестре своей наказывал: «Обещай мне, что одни только друзья пойдут за моим гробом, не будет ни любопытных, ни посторонней публики. Я уже тогда не смогу защититься, и ты должна будешь защитить меня. Пусть ни один священник и никто другой не произносит над моею могилой неискренних слов. Поручаю тебе похоронить меня, как настоящего язычника, без всяких лживых церемоний».
Воля покойного, конечно, не спасла его ни от любопытных, ни от лжи. Ни от горе-подражателей. Неужто он не знал, что такова судьба всех, кто живёт по нестандартным меркам?
Ницше стремился создать идеал сверхчеловека, способного уничтожить всё болезненное и враждебное жизни. Ему была противна и буржуазная мораль, которую он считал лживой, и мораль толпы, угрожающая всему благородному и возвышенному. Философ видел иной путь: «Человек, который не хочет слиться с толпой, должен прежде всего отбросить лень и следовать голосу своей совести, взывающей к нему: „Будь самим собой“… В противном случае ты будешь только манекеном, мыслящим по общему шаблону».
Карл Ясперс, соотечественник Ницше, полагал, что в его философии нет ни окончательной истины, ни положений, которые можно принять на веру. По мнению Ясперса, правильно понять Ницше может лишь тот, кто уже имеет теоретическую подготовку, кто приобрёл точность мышления и настойчивость, потому что «философствовать вслед за Ницше — значит постоянно утверждать себя в противовес ему».
Смерть достаточно близка, чтобы можно было не страшиться жизни.
Для меня не должно быть человека, к которому я испытывал бы отвращение или ненависть.
Я ненавижу людей, не умеющих прощать.
Кто стремится к величию, у того есть основания увенчивать свой путь и довольствоваться количеством. Люди качества стремятся к малому.
Те, кто до сих пор больше всего любили человека, всегда причиняли ему наисильнейшую боль; подобно всем любящим, они требовали от него невозможного.
В стадах нет ничего хорошего, даже когда они бегут вслед за тобою.
В моей голове нет ничего, кроме личной морали, и сотворить себе право на неё составляет смысл всех моих исторических вопросов о морали. Это ужасно трудно — сотворить себе такое право.
Прекраснейшие цвета, которыми светятся добродетели, выдуманы теми, кому их недоставало. Откуда, например, берёт своё начало бархатный глянец доброты и сострадания? — Наверняка не от добрых и сострадательных.
Я не понимаю, к чему заниматься злословием. Если хочешь насолить кому-либо, достаточно лишь сказать о нём какую-нибудь правду.
Наиболее вразумительным в языке является не слово, а тон, сила, модуляция, темп, с которыми проговаривается ряд слов, — короче, музыка за словами, страсть за этой музыкой, личность за этой страстью: стало быть, всё то, что не может быть написано. Посему никаких дел с писательщиной.
Требование взаимности не есть требование любви, но тщеславия и чувственности.
Достаточно скверно! Время брака наступает гораздо раньше, чем время любви: понимая под последним свидетельство зрелости — у мужчины и женщины.
Наши недостатки суть лучшие наши учителя: но к лучшим учителям всегда бываешь неблагодарным.
Мы хвалим то, что приходится нам по вкусу: это значит, когда мы хвалим, мы хвалим собственный вкус — не грешит ли это против всякого хорошего вкуса?
Незаурядный человек познаёт в несчастии, сколь ничтожно всё достоинство и порядочность осуждающих его людей. Они лопаются, когда оскорбляют их тщеславие, — нестерпимая, ограниченная скотина предстаёт взору.
Карл Маркс (1818 — 1883)
Эти строки тысячу лет назад написал персидский поэт Фирдоуси и, конечно, не о Марксе. Речь тут о вожде народного движения по имени Маздак, что означает: «тот, кто принуждает к служению и при этом экспроприирует имущество». Этот Маздак, будучи защитником обездоленных и сторонником общенародной собственности, советовал имущество богатых поделить между бедными. Идея многим пришлась по вкусу и, как говорится, овладев массами, стала материальной силой.
Но прогрессивная затея кончилась печально. Идеолог вскоре оказался в темнице и сидел там, пока его не вывели на прогулку в царский сад с напутствием: «Иди и собери урожай посеянных тобой зёрен». В саду Маздак увидел тысячи человеческих ног, торчащих из земли. Так восточный владыка расправился с революционерами. Зрелище произвело на бывшего вождя такое впечатление, что тот упал в обморок.
Однако идея не умерла. Если раньше она основывалась на житейских наблюдениях («лекарство для голодного — еда, а сытым неизвестна в ней нужда»), то со временем под неё подвели научную основу. Дело в том, что при капитализме общественный характер производства вступает в непримиримое противоречие с несправедливой формой присвоения и… «бьёт час капиталистической собственности. Экспроприаторов экспроприируют». То есть принудительно отчуждают имущество. Или ещё проще — грабят, но на законной, научной основе. Такой теоретический вывод сделал основоположник научного коммунизма, учитель и вождь международного пролетариата Карл Маркс.
Насчёт экспроприации он не ошибся, хоть и не дожил до светлых времён. Что же касается других теоретических открытий мыслителя, осуществившего, как утверждает Советская энциклопедия, «революционный переворот в общественных науках», то тут дела складывались по-разному.
Призрак, ставший мифом
Философия Маркса неисчерпаема. В том смысле, что в ней можно подобрать цитаты на любой вкус. Начать хотя бы с такой: «Прежде всего я знаю, что я не марксист». И действительно, со временем в мире развелось столько марксистов, что основоположнику далеко не с каждым по пути.
Как философ, Маркс придерживался материалистического понимания истории, ставя на первое место бытие, на второе — сознание. Основа человеческой жизни — экономика, от неё зависит всё остальное — культура, мораль, политика… Если профессор невропатологии Зигмунд Фрейд видел основу человеческого поведения в сексуальных инстинктах, то Маркс объяснял людские поступки существующими в обществе производственными отношениями, которые приводят к расчленению общества на классы. У каждого из них свои интересы, а это означает неизбежность взаимной борьбы. Следовательно, «история всех доныне существовавших обществ есть история борьбы классов». Отдельные личности философа не интересовали.
33 лет от роду Маркс писал: «То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего: 1) что существование классов связано лишь с определёнными фазами развития производства, 2) что классовая борьба необходимо ведёт к диктатуре пролетариата, 3) что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов». Это учение давало возможность делать определённые исторические прогнозы, а для одурманенных религией — настоящие пророчества. Анализ капиталистического способа производства привёл учёного к выводу о росте как богатства, так и нищеты. Отсюда следовало, что со временем все классы исчезнут, кроме основных — горстки эксплуататоров (буржуазии) и множества эксплуатируемых (пролетариата). Противоречия между ними приведут к социальной революции, в которой победит пролетариат. Возникнет бесклассовое общество, свободное от эксплуатации, — социализм.
Сторонникам революционного переустройства жизни учение понравилось. Во-первых, в отличие от прежних социальных утопий, тут была обоснована неизбежность будущей победы в силу законов общественного развития. Во-вторых, ясно говорилось, кто и как должен это осуществить.
Среди учёных существуют разные точки зрения по поводу того, много ли в этих утверждениях философии и даже науки. Бертран Рассел, например, усматривал здесь ничем не обоснованную веру в то, что с каждым этапом диалектического развития человечество становится всё счастливее. То есть будущее обязательно будет светлым. Правда, не для всех. Тем, кому хорошо уже сейчас, рассчитывать не на что.
Сравнение с религией станет ещё нагляднее, если светские термины заменить привычными для христиан: Маркс — Христос, коммунистическая партия — церковь, пролетариат — избранный народ, революция — второе пришествие, коммунистическое общество — рай, земная жизнь для неверующих — ад, революционные дела отцов и дедов — святыни, любое инакомыслие — ересь…
По мнению Маркса, пролетарий сам не может понять революционную истину, и открыть ему глаза должен философ. Учитывая тогдашнюю эксплуатацию рабочих, когда ребёнок мог умереть на рабочем месте, были совершенно справедливы слова: «в оформившемся пролетариате практически закончено отвлечение от всего человеческого, даже видимости человеческого…» Этому классу было нечего терять, кроме цепей. Взамен Маркс обещал ему весь мир, который станет раем.
«Маркс создал миф о пролетариате. Миссия пролетариата есть предмет веры», — писал русский философ Николай Бердяев. Но это был не единственный миф. Того же рода и рассуждения о якобы неизбежном развитии исторических событий, которые приведут к бесклассовому обществу. Никакой капитализм как способ производства не приводит ни к революции, ни, тем более, к социализму. Классовая борьба сама по себе не гарантирует солидарности угнетённых, и пролетарии всех стран до сих пор не соединились. Исчезновение буржуазии вовсе не означает конца эксплуатации. Свято место пусто не бывает, и вполне может образоваться новая разновидность любителей пожить за чужой счёт, о которой Маркс и не подозревал, — например, номенклатура. По эксплуатации труда большевики далеко переплюнули капиталистов, и работник стал стоить дешевле, чем при царе. Да и капиталист, как выяснилось, вовсе не дармоед, только и знающий, что грабить рабочих. Без него ну никак не возникает в работнике чувство хозяина, а без этого чувства очень трудно не то что зарабатывать деньги, но и даже тратить их с умом.
То, что Маркс открыл в капиталистическом обществе своего времени, он признал справедливым для всех времён. Но где тот призрак коммунизма, который якобы бродил по Европе? Фридрих Энгельс, на несколько лет переживший своего друга, честно признал: «История показала, что и мы, и все мыслившие подобно нам были не правы». Европейская экономика не дозрела до того, чтобы можно было покончить с капитализмом. «История не только рассеяла наши тогдашние заблуждения, но совершенно изменила и те условия, при которых приходится вести борьбу пролетариату».
Однако Маркс не зря предупреждал, что он ограничивается «критическим расчленением данного, а не сочиняет рецепты для кухни будущего. Практическая программа, по сути, исчерпывалась призывом к пролетариям всех стран да верой в то, что обещанное непременно сбудется. Эта вера ещё долгое время питала марксистов. Ленин, например, сурово отметал всякие подозрения в утопизме социалистической затеи. Вот какой разговор вспоминает один из знавших его: «Никакого острова «Утопия» здесь нет, — резко ответил он тоном очень властным. — Дело идёт о создании социалистического государства. Отныне Россия будет первым государством с осуществлённым в ней социалистическим строем… А вы пожимаете плечами! Ну, так нет, удивляйтесь ещё больше! Дело не в России, на неё, господа хорошие, мне наплевать — это только этап, через который мы приходим к мировой революции…»
Диалектика в сочетании с властным тоном — дело опасное. Зато вполне в духе основоположника учения.
Смешные премудрости «практичных» людей
В своих знаменитых «Размышлениях юноши при выборе профессии» юный Карл наметил высокие цели: «…сама религия учит нас тому, что тот Идеал, к которому все стремятся, принёс Себя в жертву ради человечества, — а кто осмелится отрицать подобные поучения?» Тогда он не считал религию «опиумом народа» (впрочем, даже позднее, говоря об «опиуме», уточнял: «религия — это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира»…) При этом тоже был готов принести «жертву во имя всех», будучи уверен, что в таком случае «над нашим прахом прольются горячие слёзы благородных людей». Когда речь идёт о счастье миллионов, а собственное счастье видится в борьбе, то церемониться не приходится. «Не по мне покой и праздность, весь я там, где штурм и шторм», — такие стихи сочинял многообещающий юноша. Высмеивал обывателей, не вглядываясь в лица: «В уютные кресла — сама осовелось — немецкая публика молча уселась»… Не щадит и отцов церкви, критикуя тем самым «юдоль плача, священным ореолом которой является религия». Гневно обрушивается, клеймит, пригвождает — и своих недавних приятелей, и самого Гегеля. Даже старика Плутарха не пощадил за… что бы вы думали? За напыщенную добропорядочность. Оказывается, тот, кому больше нравится «копаться в себе, чем <…> быть творцом мира», несёт в себе проклятие духа. Хлёстко и безапелляционно. А чего стесняться? «Я говорю о беспощадной критике всего существующего» — такова его программа для начала.
Скажем, производитель старается создать товар, который будут покупать, что, естественно, должно принести прибыль. Вот как красочно описывает Маркс этот процесс: «Для этой цели промышленный евнух приспосабливается к извращённейшим фантазиям потребителя, берёт на себя роль сводника между ним и потребностью, возбуждая в нём болезненные вожделения…» и т.д., столь же образно, закладывая основы партийной публицистики. Но вряд ли эта проблема требовала столько пыла. Марксисты потом решили её легко и в первую очередь: получил, что дают, — и отходи.
Его отец, прусский патриот и благочестивый христианин, незадолго до рождения сына порвавший с иудейской верой ради карьеры, не на шутку обеспокоен «роковым демоном» сына и спрашивает в письме: «Носит ли твой демон небесное или фаустовское происхождение?» Чем спрашивать, лучше бы почитал стихи сына: «Моя душа, некогда верная Богу, предназначена теперь для ада…» Отец советует Карлу быть мягче и снисходительнее, избегать утверждений, которые могут «возбудить бурю». Да где там… Карл уже изучает право в университете. Бесшабашная студенческая жизнь, насмешки, эпиграммы. Пирушки, дуэли. Не обошлось и без карцера «за нарушение ночного покоя»…
Но борьба борьбой, а личную жизнь никто не отменял. В восемнадцать лет Карл обручился с баронессой Женни фон Вестфален, «царицей балов». Сделано это было вопреки желанию обоих семейств. Правда, у родителей Женни согласия никто и не спрашивал — видно, шансы его получить были невелики. Через семь лет они поженились. Карл к тому времени закончил университет, в 23 года получил степень доктора философии. Однако не стал ни адвокатом, ни университетским профессором, ни редактором газеты, где тоже успел поработать. Мать считала Карла неудачником и говорила, что он поступил бы умнее, если бы приобрёл капитал вместо того, чтобы писать о нём. Но это будет позже, а пока — счастливая семейная жизнь. Хотя тут как посмотреть. Женни родила шестерых детей, однако бедствия эмигрантской жизни обернулись преждевременной смертью четверых. Лаура и Элеонора покончили с собой, но это уже после смерти отца, который при жизни куда больше думал об изменении мира, чем о прокорме семьи. «Писатель, конечно, должен зарабатывать, чтобы иметь возможность существовать и писать, но он ни в коем случае не должен существовать и писать для того, чтобы зарабатывать». Как говорили древние, речь не мальчика, но мужа.
Ну, а всё-таки: на что жить? Лавочники отказывают в кредите, всё мало-мальски ценное давно в ломбарде, семья бедствует. Мать отказывается давать в долг даже под проценты. А Маркс пишет «Капитал». И тут очень кстати оказалась помощь Энгельса, сына богатого текстильного фабриканта. Правда, отец ничего не хотел давать революционно настроенному сыну, пока тот не образумится, но дело решилось к обоюдному удовольствию. Сын поступил в отцовскую торговую контору в Манчестере, и его заработка хватило, чтобы содержать и Маркса с семьёй. Так вышло, что «Капитал» был написан на деньги капиталиста.
Были, однако, и другие источники дохода. Глава семьи, например, активно интересовался дядюшкиным наследством: «Если собака сдохнет, я спасён», — писал он соратнику. Энгельс откликнулся: «В связи с сообщением о болезни старого наследопрепятственника поздравляю тебя и желаю, чтобы катастрофа как можно скорее наступила». К счастью, смертен не только дядя. В декабре 1864 г. Маркс пишет другу: «Два часа тому назад я получил телеграмму о смерти моей матери… При нынешних обстоятельствах я могу быть более полезным, чем эта старая женщина. Я спешу в Трир за наследством».
Наконец, первый том «Капитала» закончен. Ему Маркс, по его словам, «принёс в жертву здоровье, счастье жизни и семью». А устроила ли эта жертва семью? Какая разница… «Я смеюсь над так называемыми „практичными“ людьми и их премудростью. Если хочешь быть скотом, можно, конечно, повернуться спиной к мукам человечества», — пишет лондонский Прометей. Что ж, любить человечество, наверное, проще, чем своих домашних. Не случайно Маркс держится молодцом, по-прежнему напорист и категоричен. Как вспоминает один из биографов, все его «приёмы шли наперекор с принятыми обрядами в людских сношениях, но были горды и как-то презрительны, а резкий голос, звучавший как металл, удивительно шёл к радикальным приговорам над лицами и предметами, которые он произносил. Маркс и не говорил иначе, как такими безапелляционными приговорами, над которыми, впрочем, ещё царствовала одна до боли резкая нота, покрывавшая всё, что он говорил. Нота выражала твёрдое убеждение в своём призвании управлять умами, законодательствовать над ними и вести их за собой».
Эту ноту хорошо усвоили его последователи. Но куда же так яростно вёл человечество доктор философии?
Сила всегда права
Маркс и Энгельс быстро нашли в Европе единомышленников, объединившихся в «Союз справедливых». Как и следовало ожидать, оказали на них глубокое влияние и повели за собой. Утопический девиз союза «Все люди — братья» был заменён на революционный: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Справедливых упразднили вовсе, переименовав организацию в «Союз коммунистов». А на первом конгрессе союза в Лондоне в 1847 году одобрили «Проект коммунистического символа веры», который впоследствии стал называться «Манифестом коммунистической партии». Написали его Маркс и Энгельс.
В этом манифесте, в частности, есть слова о том, что коммунизм отменяет вечные истины, в том числе религию и даже нравственность. Недаром же Маркс считал, что мораль — это «бессилие в действии» и коммунисты не проповедуют никакой морали. Так уж совсем никакой? Энгельс внёс ясность в «Анти-Дюринге». Дело в том, что моралей много и все они разные — традиционная «феодально-христианская», буржуазная и пролетарская. Какая же истинная? Никакая. Но при этом всё же самая долговечная из них та, которая выступает за ниспровержение настоящего и, следовательно, представляет интересы будущего. Ясно, что такая мораль — пролетарская. В её этические подробности можно не вдаваться, достаточно быть на стороне тех, кому принадлежит будущее.
Если Гегель полагал, что всё действительное разумно и потому право на стороне нынешней силы, то у марксистов оно — на стороне будущей силы. Мир такие моралисты видят в чёрно-белом изображении, по принципу «наш — не наш», а истину отыскивают путём голосования. Равенство достигается уничтожением индивидуальности, а сам человек рассматривается как материал для воспитания улучшенной модели — «нового» человека. Вот он-то и заживёт счастливо, когда всё намеченное сбудется. Короче, было решено принудительно, с помощью силы, осуществить давнюю мечту о райской жизни. В результате появилась не обещанная диктатура пролетариата, а диктатура над пролетариатом. Остальным пришлось ещё хуже, что неудивительно, потому что среди фанатиков нельзя найти гуманистов, фанатизм — лишь фасад насилия. Б. Рассел, повидавший Россию в 1920 году, сравнивал её с гигантским иезуитским колледжем, где запрещена свобода мысли.
Если у Ницше личность во имя своих прав отрицает целое, то у Маркса — наоборот: личность отменяется, чтобы превратить страну в нечто вроде Спарты или гигантского муравейника. Но крайности, как известно, сходятся, и братание красно-коричневых уже никого не удивляет. Да и велика ли в принципе разница между избранным классом и избранной нацией?
Свободолюбивый М. Бакунин, друг В. Белинского, с Марксом и его соратниками ужиться не смог. И написал: «Одним словом ложь и глупость, глупость и ложь. В этом обществе нельзя дышать свободно и полной грудью. Я держусь в стороне от них и решительно заявил, что не вступлю в их коммунистический союз ремесленников и не желаю иметь с ними ничего общего».
Хотели как лучше, а получилось как всегда
Эта крылатая фраза принадлежит нашему государственному деятелю, занимавшему ленинский пост главы правительства, но уже во времена, когда стране пришлось разбираться с большевистским наследием. Почему же деятели давно минувших лет не могли сказать то же самое?
Нам возразят: речь о Марксе! При чём тут Ленин, большевики? Разве Маркс виноват, что его так поняли? Пусть эксперимент неудачен, но идея-то хороша…
Конечно, за свершения последователей отвечать не Марксу, а тем, кто пытался переделать мир по его теориям. Кто, твердя, что-де марксизм не догма, или вольно толковал его на свой лад, или догматически абсолютизировал марксистские идеи. Кто видел в них отмычку для понимания любых событий, хотя у классика речь шла о тенденциях того времени. Но почему об этом учении нужно судить по заявленным целям, а не практическим результатам? Благородные пророчества если и сбылись, то совсем не так, как это представлялось пророку. Как не однажды было замечено, марксисты соизмеряли задачи не со своими силами, а со своими мечтами. Вот и снова люди оказались слишком плохи для осуществления передовых (научных!) идей.
Маркс ошибся в главном: в оценке возможностей капитализма, его способности к развитию, к обновлению — и весь теоретический домик рухнул. Ставка на пролетарскую мораль тоже не оправдалась. Современник Маркса О. Уайльд, похоже, был прав, когда говорил, что есть только один класс людей, которые ещё более своекорыстны, чем богатые. Это — бедные. А ведь тоже сочувствовал идеям социализма…
Массы, классы — все эти категории, конечно, полезны, пока не заменяют собой личность и индивидуальность. Где уже тогда разглядеть «слезинку ребёнка», о которой печалился Достоевский. Между прочим, в числе других людских прав он отстаивал и естественное право на глупость и прихоть, чтобы «по своей глупой воле пожить». Но если обоснованная Марксом историческая неизбежность пришествия коммунизма вызывает вопросы, то другой его вывод бесспорен: когда система плоха, то добродетель благополучных фальшива, поскольку все мы ответственны за порядки, при которых живём. Поэтому не следует валить на философа чужие ошибки, у него достаточно своих. Иначе это помешает разглядеть то полезное, что дал марксизм человеческой мысли. По крайней мере, благодаря ему мы увидели, как бывает, когда начинают торопливо изменять мир, не поняв толком, что в нём происходит. Удостоверились, что бездумная убежденность приверженцев учения нередко не соответствует качеству самого учения. Что ошибается тот, кто воображает, будто творит историю, хотя всего лишь ломает уже сделанное. В этом смысле поучителен ответ лидера парламентской фракции ФРГ, в то время ещё будущего канцлера республики. На вопрос, как он относится к Марксу и насколько руководствуется его идеями, Гельмут Шмидт ответил: «Вы знаете, мы Марксом не руководствуемся, мы его уважаем как большого учёного. А руководствуемся мы волей народа и интересами наших избирателей».
…До последних дней философ активно работал, и его нашли мёртвым за письменным столом. Похоронили Маркса на Хайгетском кладбище в Лондоне, где он прожил много лет.
Марксизм не умер, но марксисты извлекли некоторые уроки из судьбы страны, объявившей это учение официальным и единственно верным. Философы заговорили об освобождении от догматизма, идеологической нетерпимости, о гуманизации марксизма. Человек — не средство достижения великих целей, а самоцель, поэтому в глазах и философов, и политиков должен занять подобающее ему место.
Стало ясно, что современная философская мысль не может быть сведена к текстам классиков, её состоятельность проверяется жизненной практикой. Диалог, дискуссия неизбежны для любой теории, претендующей на научность. При этом настоящий марксизм не ставит никаких границ в осмыслении мира. Француз Р. Гароди, например, видел преимущества марксизма в том, что он не витает над вещами, людьми и историей, а осознаёт и преображает их. Эти преимущества позволяют сделать марксистам обобщающий вывод, в котором нуждается наш век, полагал философ. Но такой вывод пока не сделан. Гароди спорил с догматиками, утверждая, что для марксизма нет раз и навсегда установленных понятий, взятых вне человека. Но коммунисты не нашли лучших доводов, кроме как назвать его ревизионистом и исключить из партии. Что ж… Возражая им, философ напомнил буддистскую пословицу: «Когда указывают пальцем на луну, дурак смотрит на палец».
Буржуазные разглагольствования о семье и воспитании, о нежных отношениях между родителями и детьми внушают тем более отвращения, чем более разрушаются все семейные связи в среде пролетариата благодаря развитию крупной промышленности, чем более дети превращаются в простые предметы торговли и рабочие инструменты.
Но вы, коммунисты, хотите ввести общность жён, — кричит нам хором вся буржуазия.
Буржуа смотрит на свою жену как на простое орудие производства. Он слышит, что орудия производства предполагается предоставить в общее пользование и, конечно, не может отрешиться от мысли, что и женщин постигнет та же участь.
Он даже и не подозревает, что речь идёт как раз об устранении такого положения женщины, когда она является простым орудием производства.
Впрочем, нет ничего смешнее высокоморального ужаса наших буржуа по поводу мнимой официальной общности жён у коммунистов. Коммунистам нет надобности вводить общность жён, она существовала почти всегда.
Наши буржуа, не довольствуясь тем, что в их распоряжении находятся жёны и дочери их рабочих, не говоря уж об официальной проституции, видят особое наслаждение в том, чтобы соблазнять жён друг у друга.
Буржуазный брак является в действительности общностью жён. Коммунистам можно было бы сделать упрёк разве лишь в том, будто они хотят ввести вместо лицемерно-прикрытой общности жён официальную, открытую. Но ведь само собой разумеется, что с уничтожением нынешних производственных отношений исчезнет и вытекающая из них общность жён, т.е. официальная и неофициальная проституция.
Далее, коммунистов упрекают, будто они хотят отменить отечество, национальность.
Рабочие не имеют отечества. У них нельзя отнять то, чего у них нет. Так как пролетариат должен прежде всего завоевать политическое господство, подняться до положения национального класса, конституироваться как нация, он сам пока ещё не национален, хотя совсем не в том смысле, как понимает это буржуазия.
Национальная обособленность и противоположности народов всё более и более исчезают уже с развитием буржуазии, со свободой торговли, всемирным рынком, с единообразием промышленного производства и соответствующих ему условий жизни.
Господство пролетариата ещё более ускорит их исчезновение. Соединение усилий, по крайней мере цивилизованных стран, есть одно из первых условий освобождения пролетариата.
Владимир Соловьёв (1853 — 1900)
Если Шопенгауэр всю жизнь успешно доказывал, что философ вполне может быть практичным в житейских делах, то Соловьёв олицетворял платоновское представление о философе: с юных лет избранник мудрости не знает дороги на площадь, не ведает, где места публичных собраний и даже законы своей страны ему неизвестны. Только телом находится он в государстве, а ум его царит над землёй, исследуя «природу сущего и не спускается к близлежащему». Недаром его даже называли русским Платоном.
Он был далёк от житейской прозы, и нечистый на руку лакей, рассказывая своему барину небылицы, долго мог его обманывать, считая неизлечимым простаком. Да что там лакей — из чудачеств философа норовила извлечь выгоду публика и посолиднее, отчего деньги у этого странного господина не задерживались подолгу. Когда просили взаймы, то Владимир Сергеевич давал всем без разбора, не глядя, сколько захватит рука. «Взаймы» — это, конечно, всего лишь дань вежливости, потому что о возврате речь никогда не заходила. Он мог снять с себя тёплую одежду и отдать бессовестному просителю, рассчитывая заработать к зиме на шубу; мог христосоваться на Пасху с нищим пьянчужкой под умилённые восклицания извозчиков: «Ну что ж это за барин такой задушевный!…»
Философ жил словно в другом мире, неразличимом не только извозчикам, но и абсолютному большинству его образованных современников. Поэтому с такой лёгкостью ему навешивали ярлыки славянофила, мистика, атеиста, материалиста, идеалиста… А он мечтал о таком обществе, где царят нравственность и правда. О том, как человеку стать лучше, чтобы жить по-человечески.
Младенческая душа
Не опоздал ли Владимир Сергеевич с этим вопросом? Ведь Маркс со своим соратником уже всё объяснили: революция, диктатура, экспроприация, всеобщее счастье. Однако они так и не смогли убедить Соловьёва, что экономические отношения могут переделать общественную мораль. Пролетариат, конечно, сумеет взять власть и поделить чужое, но более совершенного общества не получится. Когда мировоззрение сводится к удовлетворению потребностей, то вместо прежних борцов в битву за передел материальных благ включаются новые, и конца этому азартному процессу не видно. Если же экономика — не главное в жизни, то что остаётся? Обратиться к духовным, религиозным началам, учтя при этом, что современное христианство — «вещь жалкая» и, с точки зрения Соловьёва, нуждается в серьёзных реформах.
Интерес к религии у него проявился с детства. Предки Соловьёва были крестьянами, дед — московским священником. Отец, Сергей Михайлович, — профессор Московского университета, известный своим знаменитым трудом «История России с древнейших времён». В большой семье, где было девять детей, царили дружба и набожность. Последнее обстоятельство не прошло для Владимира бесследно. В восемь лет, начитавшись о подвигах святых, мальчик почувствовал вкус к подвижничеству и начал испытывать себя лишениями. Со временем это прошло, появилось увлечение математикой. Гимназию окончил с золотой медалью, поступил на физико-математический факультет Московского университета, где, впрочем, увлекался биологией. Однако студенту вскоре стало ясно, что естественные науки не помогут понять смысл мира и определить должный порядок вещей: это не под силу людям, которые «смотрят в микроскопы, режут несчастных животных, кипятят какую-нибудь дрянь в химических ретортах и воображают, что они изучают природу», — пишет Владимир своей кузине. Не доучившись, перешёл на историко-филологический факультет, где всерьёз занялся философией. Одновременно слушал лекции в Духовной академии. Эти «три кита» — наука, философия, религия — и стали основой его мировоззрения.
В 21 год защитил магистерскую диссертацию о кризисе западной философии. Он выступал против позитивистов, подменяющих философию практическими знаниями. Тургеневский Базаров, гончаровский Штольц — примерно так воплощались их идеи в «деловых людях». Диссертация привлекла внимание, а её автор получил учёную степень и начал читать лекции в университете в качестве доцента. Но продолжалось это недолго. Не желая участвовать в междоусобной борьбе «профессорских партий», Соловьёв перешёл в петербургский университет, где и защитил докторскую диссертацию. Однако по-прежнему оставался доцентом. Когда у министра просвещения спросили, почему Соловьёв не профессор, тот кратко ответил: «У него мысли». Для профессора философии это считалось лишним. Неудивительно, что с такой колыбелью науки философ вскоре расстался и поступил совершенно правильно, потому что в профессорском кругу слыл диссидентом.
Собственно, он был не столько профессором, сколько поэтом, мыслителем. Многим он казался «не от мира сего», потому что знавал и другой мир. Бывало, во сне беседовал с умершими и потом искренне верил в реальность этих встреч; нередко видел вещие сны. Философ утверждал, что странные истории случались и наяву: к примеру, приходилось спорить с дьяволом. А однажды явился некий субъект восточной наружности, в чалме и с зонтиком, которым и ткнул мыслителя в живот. Ушибленное место болело несколько дней…
Да уж не сумасшедший ли он? Не похоже. Во всяком случае, знавшие его утверждают, что в те времена он был здоровым и весёлым молодым человеком. Странным? Да. Душа у него была младенческая, чего он сам не скрывал. Однажды признался, что порой думал про себя: «Когда я буду большой…» Что же было, когда он был маленьким? «Странным ребёнком был я тогда, странные сны я видал», — вспоминал поэт те годы. В девятилетнем возрасте ему явилась «возлюбленная», «вечная подруга». Случилось это в церкви в праздник Вознесения, во время обедни:
Так потом он описал это в поэме «Три свидания». Во время второго свидания «возлюбленная» внушила ему, уже доценту университета, мысль ехать в Египет, куда он и отправился. Общение с местными жителями едва не закончилось печально:
Зато здесь, в песках, случилось третье видение, и снова на поэта глядела его возлюбленная, которую он сравнил с сияньем «всемирного и творческого дня». Кто же она? Премудрость Божия, душа мира, космическая София — вот кто являлся поэту-медиуму. Он считал всю природу одухотворённой, и даже в обычной грозе усматривал действие незримых духовных сил.
Соловьёв хотел примирить природу с религией, разум с верой, вывести людей из тупика реторт и микроскопов: «Пришло время не бегать от мира, а идти в мир, чтобы преобразовать его» и найти такого Бога, который наполнит смыслом человеческую жизнь.
Все вместе — к Богу
Человек, как известно, отличается от животных стремлением не просто жить, а жить разумно. Но чтобы делать, что должно, говорил Соловьёв, надо знать, что есть, надо знать истину. В чём же она?
Этот вопрос неизбежно ведёт к вере в некий безусловный абсолют, в котором ум видит абсолютную истину, критерий всех рассуждений; воля видит добро, которое безусловно достойно желания, а чувство — абсолютную красоту, без которой нет ни наслаждения, ни добра. Так философ пришёл к религиозной первооснове, наполняющей жизнь смыслом: это Абсолют, или Бог. Значит, религия должна занять центральное место в жизни, потому что, полагал философ, она связывает человека и его мир с началом всего сущего. Но человек — существо социальное, и его высшая цель сводится не к личной судьбе, а к судьбе человечества. Поэтому личный нравственный подвиг, направленный на обнаружение царства Божьего в себе, оборачивается богочеловеческим движением всех живущих. Только в таком собирательном — соборном — процессе и произойдёт совершенное соединение божества с человечеством. В богочеловеке и заключается цель всей мировой истории.
Итак, воплотить в человеке божество мы сможем только под водительством церкви. Но какой именно? По мнению философа, человеческим развитием управляют три религиозные силы. Первая стремится подчинить человека единому верховному началу, тем самым обезличивая каждого. Этим путём идет Восток. Вторая сила — наоборот, превыше всего ставит личность, одновременно лишая человека подлинных идеалов и превращая его жизнь в бесконечную погоню за благами. Так действуют на Западе. И лишь третья сила, гармонически сочетая общее с индивидуальным, свободу с необходимостью, способна привести разрозненное человечество к высшему единству. Это — христианство, соединившее два противоположных начала, веру в Бога с верой в человека.
Но века не пощадили и христианство, расколов его на католиков, протестантов и православных. Именно последних Соловьёв считал способными выполнить великую объединительную миссию, учитывая особенности русского национального характера. Но о характере позже, а пока отметим, что и в православии, на соловьёвский взгляд, хватает изъянов. Храня букву вероучения, православные забыли о духе, который требует свободы и творческого подхода к религиозным догмам. Поэтому к вселенской церкви приведёт только синтез конфессий. Надо соединить христианство с жизнью, привести её в согласие с разумом, потому что истинная обязанность религии — бороться за единение и нравственное возрождение человечества. Этому, по его мнению, поможет изучение философии, богословия, истории и других наук. Одухотворённое общество приблизит людей к «царству Божию» с помощью теократического государства. Христианская теократия, по Соловьёву, — это добровольный богочеловеческий союз, где первосвященник пасёт своё христово стадо, монарх правит согласно указаниям первосвященника, а пророк наставляет того и другого. Так же кротко подчиняются своим вождям — духовному и мирскому — и все христиане мира. В результате — никаких смут и инакомыслия, мир между народами и классами, справедливость и любовь. Даже в животном мире перемены: все животные становятся друзьями человека…
Конечно, это была очередная утопия. Свободная теократия — это что-то вроде горячего снега. Как жить во всеобщем христианском мире нехристианам — об этом и речи нет. Под теократическим государством надо понимать, конечно, Россию, которая станет великой империей будущего и поведет за собой все народы к Христу.
Кое-что о национальной самобытности
Соловьёва не зря называли славянофилом. Действительно, он считал, что великое историческое призвание набожного русского народа заключается в том, чтобы привести другие народы к вселенскому единству. Однако славянофильство его было особым, потому что больше всего он презирал модных идолов, которых его современники делали и из западных социалистических идей, и из восточного православия, и из русской самобытности. Если Россия призвана объединить народы, то надо не кичиться самобытностью, а войти в общую жизнь христианского единства, чтобы выполнить свою миссию. Кто хочет на деле продемонстрировать самобытность, тот и думать должен о деле, о том, как лучше его осуществить. По этому поводу философ высказывался без обиняков: «Если национальность хороша, то самое лучшее решение выйдет и самым национальным, а если она не хороша, так и чёрт с нею».
У славянофилов же поклонение своему народу, как носителю вселенской правды, обернулось агрессивным национализмом. Их рассуждения свелись к тому, что если государство наше самое большое, то и народ самый сильный, а, значит, и самый лучший. Отсюда уже следуют и кое-какие особые права: покорять другие народы или, по крайней мере, занять среди них почётное место. Соловьёв был уверен, что национализм, пробуждая грубые инстинкты, лишь понижает духовный уровень народа, в то время как истинно народный характер рождает людей мирового масштаба. Значит, надо не тратить силы на распознавание национальных особенностей, а приложить их к делу. Высшим и самым патриотичным делом философ считал водворение правды Божией на земле. Не ненависть к инородцам, а реальная любовь к своему народу, служение ему и одновременно — всему человечеству.
К европейскому просвещению Соловьёв относился сдержанно, считая, что оно отрицает духовное, нравственное начало и в таком виде не нужно русскому народу. Восстановить в себе русский национальный характер можно лишь освободив сердце от «житейской дряни». Истинно русский человек в его представлении «полон благоволения» к добру, красоте и правде в каждом смертном. Если и есть в нашем характере что-то особенное и святое, то это смирение, жажда духовного равенства, соборность сознания.
Чтобы проявился истинно христианский характер России, Соловьёв советовал для начала отказаться от национального эгоизма и перестать угнетать соседей: «Сила, даже победоносная, ни на что не пригодна, когда ею не руководит чистая совесть». Раскаяться в исторических грехах, отказаться от политики русификации народов — вот путь осуществления национальной идеи.
Истинный патриотизм требует осознания собственных недостатков и национального самоотречения. В русской истории философ видел несколько ярких проявлений такого патриотизма: призвание варягов, крещение Руси греками, усвоение западной культуры в ходе петровских реформ. В этом и проявилась национальная самобытность, плоды которой сказались в творческом подъёме. Нужно не противопоставлять себя Западу, а сближаться с ним, — такой вывод делает философ. Россия должна быть не только большой и сильной, но и уметь достойно жить. А для этого нужно вести нравственную политику. Кто думает лишь о своих интересах в ущерб другим народам, тот сеет семена раздора и будущих войн. «Лучше отказаться от патриотизма, чем от совести», — писал по этому поводу Соловьёв, чем навлёк на себя критические стрелы ура-патриотов, не признающих его стремления уйти от национального самодовольства к национальному самосознанию.
По меткому определению философа, национализм так относится к национальности, как эгоизм к личности. Самоутверждение любого народа за счёт других ведёт его к гибели. Что, кстати, не раз доказано историей.
Добро выбирает нас
Существующий порядок далеко не таков, каким должен быть, и его надо менять — к такому выводу пришёл Соловьёв. Прежде всего должны измениться сами люди, их сознание, отношение к жизни.
Но есть ли в этом смысл? Есть ли он, кстати, и в самой жизни? Не случайно некоторые вообще отрицают смысл нашего существования и предпочитают умереть; другие же, если и не отрицают, то толкуют его по-разному. Но то, что он всё-таки есть, подтверждают даже самоубийцы. Для Ромео смысл жизни в том, чтобы обладать Джульеттой. А когда юноша обнаруживает, что жизнь идёт не так, как хочется, имеет не тот смысл, что устроил бы его, — то отказывается жить…
Итак, смысл есть в любом случае, но он может нравиться или нет. Поэтому стоит ли усложнять? Живи, как все, будь хорошим семьянином, законопослушным гражданином — и не ошибёшься. Может, в этом и есть правда? Нет, для философа — это только начало правды. Ведь речь идёт о чужом понимании смысла жизни, принятом в определённое время и среди конкретных людей. Тот, кто хочет собственные поиски заменить чьими-то, пусть и авторитетными установлениями, в конце концов принимает за смысл жизни нечто случайное, потому что установления разнообразны, противоречивы и относительны.
Однако существует и противоположная точка зрения насчёт того, как нужно жить. Она, как и предыдущая, сводится к тому, что мудрить тут нечего и следует полагаться на собственные внутренние ощущения: что нравится, то и хорошо. Но и тут, и там за добро принимают не само добро, а его внешние проявления, которые, в зависимости от обстоятельств, могут быть и добрыми, и злыми. Скажем, человек всегда был благонамеренным гражданином, верил в справедливость существующей власти. Но вот власть сменилась, и его благонамеренность уже не вызывает одобрения. Выходит, надо поступаться принципами? Но тогда обессмысливаются прожитые годы. Жить в разладе с изменившимся окружением — тоже не лучший вариант. Что же делать? Соловьёв видит выход в том, чтобы служить безусловному Добру, на которое указывают нам совесть и разум. В этом служении и состоит для философа нравственный смысл жизни. Любопытно, что, по его мнению, человек не может свободно выбирать между добром и злом: добро само определяет выбор в свою пользу «бесконечностью своего положительного содержания».
Философ отстаивал ценность каждого человека и спорил с учёными, ставящими общественные интересы выше личности, превращая человека в винтик, марионетку. Для Соловьёва нравственно лишь то общество, где обеспечено «безусловное значение лица»: «Никакой человек ни при каких условиях и ни по какой причине не может рассматриваться как только средство или орудие — ни для блага другого лица, ни для блага известной группы лиц, ни для так называемого «общественного блага». Но, возразим мы, а как же самопожертвование, самоотречение, подвиг ради других? Если признать, что часть важнее целого, то что же будет с целым? Впрочем, очевидно, что главное в любом подвиге — именно личное решение. Нельзя идти на смерть ни по какому приказу, кроме собственного. Добровольно умирают только добровольцы, а гонят на смерть рабов.
Многие философы, как мы видели, вполне допускали разлад между словами и делами. Мол, мудрец учит не тому, как он живёт, а тому, как надо жить… Соловьёву это было чуждо. «Чтобы смотреть на жизнь с высоты, нужно этой высоты достигнуть», — говорил он. Оценивать жизненные явления может лишь тот, кто докажет это право собственным нравственным совершенством.
А как жил она сам? Жил по совести и, думается, вёл бы себя одинаково при любом режиме и в любое время. Пренебрегал житейскими благами, вечно странствовал. У него не было не только постоянного адреса, но и определённых часов для еды, сна, занятий. Зато было главное — напряжённый труд, порой по нескольку ночей подряд, который и подорвал здоровье. Врачи удивлялись, что он всё ещё живёт. А философу не было дела до своего здоровья — ведь он старался научить людей не только жить лучше, но и самим стать лучше.
«Трудна работа Господня», — сказал он умирая. Он устал.
Соловьёв был религиозен и выводил мораль из религиозного начала в человеке, благодаря которому все члены общества «восполняют друг друга в свободном единстве духовной любви». Критики утверждали, что такая позиция не позволила философу разглядеть неизбежность социальной революции. Однако в отличие от тех критиков Соловьёв понимал, что ни к чему хорошему эта затея не приведёт. Вместо того, чтобы приближать общество к нравственному идеалу, социализм видит в человеке только работника, а совершенствование общества ставит в прямую зависимость от общественного строя. Но учёный видел выход не в победе одного общественного класса над другим, а в понимании, что значение человека не ограничивается хозяйственной деятельностью, а общество есть нечто большее, чем хозяйственный союз. Его теократическая утопия, скорее всего, не более жизнеспособна, чем социалистическая, но важно то, что философ верно оценил возможности «экономического базиса».
У каждого отдельного человека есть материальные интересы и интересы самолюбия, но есть также и обязанности, или, что то же, нравственные интересы, и тот человек, который пренебрегает этими последними и действует только из-за выгоды или из самолюбия, заслуживает всякого осуждения. То же должно признать и относительно народов. Если даже смотреть на народ как только на сумму отдельных лиц, то и тогда в этой сумме не может исчезнуть нравственный элемент, присутствующий в слагаемых. Как общий интерес целого народа составляет равнодействующую всех частных интересов, <…> так же точно должно рассуждать и о народной нравственности. Есть у народа интерес, есть у него и совесть. И если эта совесть слабо обнаруживается в политике и мало сдерживает проявления национального эгоизма, то это есть явление ненормальное, болезненное, и всякий должен сознаться, что это нехорошо. Нехорошо международное людоедство, оправдываемое или неоправдываемое высшим призванием; нехорошо господство в политике воззрений того африканского дикаря, который на вопрос о добре и зле отвечал: добро — это когда я отниму у соседа их стада и жён, а зло — когда у меня отнимут. Такой взгляд господствует в международной политике; но он же в значительной мере управляет и внутренними отношениями; в пределах одного и того же народа сограждане повседневно эксплуатируют, обманывают, а иногда убивают друг друга, однако же никто не заключает из этого, что так и должно быть; отчего же такое заключение получает силу в применении к высшей политике?
Есть и ещё несообразность в теории национального эгоизма, губительная для этой теории. Раз признано и узаконено в политике господство своего интереса, только как своего, то совершенно невозможным становится указать пределы этого своего; патриот считает своим интерес своего народа в силу национальной солидарности, и это, конечно, гораздо лучше личного эгоизма, но здесь не видно, почему именно национальная солидарность должна быть сильнее солидарности всякой другой общественной группы, не совпадающей с пределами народности? Во время французской революции, например, для эмигрантов-легитимистов чужеземные правители и вельможи оказались гораздо больше своими, чем французские якобинцы; для немецкого социал-демократа парижский коммунар также более свой, нежели померанский помещик и т.д и т. д. Быть может это очень дурно со стороны эмигрантов и социалистов, но на почве политического интереса решительно нельзя найти оснований для их осуждения.
Возводить свой интерес, своё самомнение в высший принцип для народа, как и для лица, значит узаконять и увековечивать ту рознь и ту борьбу, которые раздирают человечество. Общий факт борьбы за существование, проходящий через всю природу, имеет место и в натуральном человечестве. Но ведь исторический рост, все успехи человечества состоят в последовательном ограничении этого факта, в постепенном возведении человечества к высшему образцу правды и любви.
Николай Фёдоров (1829 — 1903)
Мы все осуждены природой на смерть, но с разной отсрочкой приговора. Многие мыслители старались примирить человека с этим печальным фактом. «Нет смерти, а есть ряд перемен, которые я пережил, а лучшие переживу ещё», — писал Лев Толстой. Его современник Николай Фёдорович Фёдоров едва ли не первым в истории бросил вызов самой смерти — той самой, в которой не сомневались и завзятые скептики, не очень уверенные даже в собственном существовании. Но воевать со смертью — это воевать с природой. Что ж! На вопрос, кто наш общий враг, Фёдоров уверенно отвечает: «Природа». Философ объявляет войну самому злому закону природы. Его так и называли — философ бессмертия.
Да только стоит ли читать труды этого борца со смертью, написанные, кстати, мудрёно и неудобоваримо, если мы заранее знаем, что и он умер в свой час, не выторговав у природы исключения хотя бы для себя — пусть не бессмертия, а всего лишь долголетия?
Нет, философ не так прост. Лично для себя ему не нужно и бессмертие. Он не о себе беспокоился, а обо всём человечестве — как живущем, так и покинувшем этот мир. Он хотел воскресить всех. Правда, сам сделать это не обещал, а в колдунов и магов не верил. Зато верил в науку. Недаром своё основное сочинение мыслитель назвал «запиской от неучёных к учёным». Если Христос на четвёртый день после смерти воскресил Лазаря и тот прожил ещё тридцать лет, служа епископом на Кипре, то что же наука? Кто там твердит о её безграничных возможностях? Вот и займитесь этим благим делом. Ведь победа над смертью куда важнее победы над бедностью.
Когда родные бывают чужими
Однажды философ высказал довольно странную мысль: что-де человека отличают два чувства — чувство смертности и стыд рождения. Если последнее заставляет краснеть, то первое — бледнеть… Фёдоров, похоже, сильно преувеличил, и вряд ли нормальные люди так реагируют на естественные вещи. Однако именно они произвели в детстве на будущего философа неизгладимое впечатление.
Обстоятельства его рождения считались по тем временам постыдными. Он был внебрачным сыном князя П. Гагарина и крепостной крестьянки. Фамилию и отчество ребёнку дал не отец, а крестивший священник. Отец, конечно, материально обеспечил сына, и тот смог потом окончить гимназию, но князь умер, когда мальчику было четыре года. Вместе с матерью им пришлось покинуть господский дом. Тогда-то и потрясла мальчика суровая истина: кроме родных бывают и чужие. И, что ещё хуже, даже родные бывают чужими…
После гимназии Николай поступил на юридический факультет одесского лицея. Но доучиться до конца не пришлось: умер богатый дядя, который содержал племянника. «Только смерть, лишая нас существ, нам близких, заставляет нас давать наибольшую оценку родству, и чем глубже сознание утрат, тем сильнее стремление к оживлению», — писал Фёдоров. Он был убеждён, что «без отцов сыны жить не могут, и потому они должны жить только для воскресения отцов».
Молодой человек пошёл в школу, чтобы учить детей географии и истории. Но задачи учителя были далеки от обычных. Прежде всего он хотел возродить в людях всеобщее чувство родства, «возвратить сердца сынов отцам». Кому же об этом говорить, как не детям? Неслучаен и выбор предметов: «География говорит нам о Земле как о жилище; история же о ней — как о кладбище». Школу будущего он видел соединённой с музеем, школу-храм, где и учителя, и ученики будут воодушевлены идеей общего братства и подчинения природы разумной человеческой силе.
В тогдашней школе относились к новаторам не лучше, чем в нынешней. Начальству не по душе были не только фёдоровские идеи, но и его затрапезный внешний вид. Рассказывают, что однажды заболел отец одного из учеников. Лечить его было не на что, и Фёдоров отдал на это дело всё, что у него было. Однако больной умер, и чтобы его похоронить, учитель продал свой единственный вицмундир, а на уроки стал ходить в старье. В таком виде его и застал однажды высокий проверяющий чин. Инспектору вид преподавателя не понравился, и он стал придираться к ответам учеников. Фёдоров подал прошение об отставке. Когда начальство разобралось в причинах, то отставку не приняло. Но всё равно странный учитель вскоре перевёлся в Углич. Начались его скитания: из Углича — в Тульскую губернию, потом снова Подмосковье… Семь городов переменил философ, пока не оказался в Москве. Там он четверть века служил библиотекарем в Румянцевском музее, известном нам теперь как Российская государственная библиотека (бывшая Библиотека им. Ленина).
Профессиональным философом он никогда не был, то есть денег за свои философские труды не получал. И даже ничего не публиковал. Он словно стеснялся собственных идей и долго надеялся найти «авторитетных мужей», которые донесли бы их до учёного мира. Но надежды не оправдались. В Московском психологическом обществе встретили сообщение о фёдоровских замыслах насчёт воскрешения ироническим смехом. Знаменитый Соловьёв, называвший Фёдорова своим духовным учителем, так и сказал: мол, и рад бы выступить, да засмеют критики… Оставалось действовать самому. И вот в воронежской газете «Дон» Фёдоров анонимно излагает основные положения своего учения. Конечно, у «Дона» оказались не те читатели, на которых рассчитывал философ, и его не поняли. Зато понимал Достоевский, писавший, что «совершенно согласен с этими мыслями». Понимал Толстой: «Я горжусь, что живу в одно время с подобным человеком».
Этот удивительный старик восхищал многих. О нём говорили, что он знал не только место каждой книги в музее, но и её содержание. Отношение к книге у него было сродни религиозному: за ней он видел нетленные останки её творца, которые помогут когда-нибудь возвратить к жизни душу автора. Когда Лев Толстой, глядя на бесконечные библиотечные полки, неосторожно заметил: «Мало ли глупостей написано, следовало бы всё сжечь», Фёдоров решительно осадил графа: «Много я видел на своём веку глупцов, а такого ещё не видал». Толстой сконфуженно извинился. Он не знал, что у этого старика книги заменяли даже подушку. Купить её было не на что, потому что из своего малого жалованья библиотекарь оставлял себе всего четверть, раздавая остальные нуждавшимся коллегам — стипендиатам, как он их называл.
Даже библиотеку он хотел реорганизовать в соответствии со своими идеями, расположив книги по календарному принципу, по дням смерти авторов. Тогда для любой книги наступит день в году, когда её раскроют, помянут автора, вызовут в памяти его образ, а это, по мысли философа, — первый шаг к воскрешению.
За мир без грешников
Фёдоров был человеком практическим, и по этой причине недолюбливал философию, которая отделила мысли от дела и объявила знание самоцелью. Поэтому собственное учение к философии не относил, а называл «проектом». Суть проекта — в таком преобразовании земной действительности, которое приблизило бы нас к царству Божию. Фёдоров считал, что земной рай человек может и должен построить сам. Но ничего из этого не получится, пока люди разобщены и в мире царит небратское, «неродственное» отношение друг к другу. А жить нужно, по Фёдорову, не для себя и даже не для других, а со всеми и для всех, потому что большее невозможно, а меньшее безнравственно. Слова «для всех» тут нужно понимать буквально, имея в виду и умерших. Лишь такая полнота будет соответствовать царству Божию. Иначе какое же это царство, если по-прежнему над людьми будет господствовать смерть, это исходное зло. Чтобы с ней справиться, перестать быть рабом природы, нужно «оживить живых» — то есть раскрепостить, раскрыть их творческие возможности, воодушевить на общее дело преобразования жизни. «Только бы ожили живущие, тогда станут воскресать и умершие поколения», — уверен философ. Настоящая философия для него — это наука о родстве и неродственности. В родстве — полнота жизни, чувства, разума, в его отсутствии — разъединение, раздор, смерть.
Эту идею воскрешения мёртвых рационалисты высмеяли. Ну, предположим, воскресили мы мёртвых. А чем их кормить, где они будут жить, когда и живущим-то голодно и тесно? И потом: мало ли было в минувшие времена убийц и людоедов, отлично умевших превращать землю в ад… А мы их теперь потянем в рай? И что из этого получится? Нет, «проект», конечно, смелый, но сомнительный. Мы уж не говорим о чисто технических сложностях такого загадочного процесса, как воскрешение тех, чей и прах-то давно исчез…
«Какая нелепость!» — заметил Фёдоров на письме Соловьёва, который поделился сомнениями насчёт целесообразности воскрешать человечество, где люди норовят пожрать друг друга. Он не ожидал, что на его религиозную идею будут смотреть глазами реаниматолога-практика. У Фёдорова речь не об оживлении, а о воскрешении и одновременном преображении, после чего бывшие грешники станут праведниками.
Но если идеи — чисто религиозные, то о чём хлопотать? Ведь Христос уже пообещал при втором пришествии решить эти вопросы — и с воскрешением, и с царством. Соберутся все народы, Вседержитель отделит добрых от злых и каждый получит по делам своим: кто вечное царствие, а кто — вечный огонь. Однако Фёдорова такой вариант не устраивает, он хочет всеобщего спасения, для всех, а не только избранных. Его план указывает путь к искуплению греховности, а заодно устраняет и старое богословское противоречие: всесправедливый Бог не может простить грешников, не нарушив справедливости, но, будучи всемилостивым, не может и не простить. Если же люди сами воскресят и преобразят усопших, то грешников не будет и в рай попадут все.
Как же осуществить это на практике? Фёдоров предлагает собрать все атомы и молекулы, из которых некогда состояли умершие предки. Ещё Лукреций Кар заметил, что если бы частицы вещества, из которых мы состоим, могли соединиться вновь после нашей смерти, то мы родились бы заново. Но легко сказать — собрать… Впрочем, Фёдоров и не говорит, что это легко. Он пишет о будущих научных центрах, где физики, химики, физиологи, археологи проявят свои познания. Волны, излучаемые в результате вибраций мельчайших частиц вещества, по мысли философа, индивидуальны и найдут отклик в других частицах, принадлежащих живым родственникам покойного. «Химические лучи» помогут отделить родное от чужого. С душой сложнее, однако тут слово за генетиками. Зная механизмы наследственности, они сумеют восстановить мысленные образы предков, потому что душа каждого живущего — это два родительских изображения, слитые воедино.
Фёдоров искренне верил в это научное чудо, осуществимое совместными усилиями «ума, воли, всего существа сынов». Если Бог-отец родил сына, то почему бы и сыну, которого наука сделает богом, не возродить отца? Искупить в этом общем деле свои грехи философ призывал всех — верующих и неверующих. Верующим он говорил о воскрешении, неверующим — о регуляции природы. Бог создал мир, но сделать его прекрасным для человека может только человек.
Не пассажиры, а экипаж
Покорность судьбе Фёдоров считал «вершиной безнравственности» и противопоставлял ей величайшую ненависть к року. Он твёрдо верил, что причина бедности — не в правилах распределения товаров, а в рабской зависимости от природы, которую надо «регулировать», то есть подчинить воле человека. У философа были основания так говорить: он пережил и засуху начала 90-х годов, помнил и опустошительные ливни с градом, и голод. Землю надо защитить от слепой стихии — от наводнений и засух, землетрясений и извержений вулканов. Надо разумно использовать ресурсы её недр, а энергию природы обратить на пользу человеку.
У него были нешуточные планы — строительство трансконтинентальной железной дороги, электрическое кольцо вокруг земного шара… Мечтал, что человек сможет воздействовать на тучи так, чтобы дождь падал не в море, а туда, куда надо. Американские опыты по вызыванию дождя с помощью взрывчатых веществ воодушевили, и Фёдоров откликнулся: «Это благая весть, что все средства, изобретённые для взаимного истребления, становятся средством спасения от голода».
Мало сказать, что его замыслы были грандиозны, — они были космическими. Философ замыслил сняться с надоевшей околоземной орбиты и отправиться в просторы вселенной. Цепь аэростатов, которая охватит Землю, превратит планету в электромагнит и позволит управлять её ходом. Единое человечество, команда этого «земнохода», станет заботиться о сохранении на нём жизни…
Поэтам идея понравилась. Это она звучит в стихотворении Брюсова «Хвала человеку»:
Как видим, философ не заботился о солидности и научной проработке своих идей. Брать ли с собой в путешествие наше светило, а если нет, то как быть с теплом и светом? Но обо всех этих деталях можно забыть, если взять главную фёдоровскую мысль: человечество должно быть не пассажиром, а экипажем нашего космического корабля, независимо от маршрута.
Но зачем Фёдорову космос? Неужто все земные дела переделаны и пришла пора заняться вселенной? Нет, космос для него не самоцель. Если нам дано познавать вселенную, считал он, то дано и владеть ею, заселять миры. Человечество не должно ограничиваться одной планетой, сфера наших интересов — всё мироздание. Поскольку Земля зависит от космоса, то выход в него неизбежен. Воскресшие поколения разместятся в просторах вселенной, а преображённая, регулируемая природа обеспечит их пищей.
Развивая технику, человек изнеживается и слабеет. Пора подумать и о собственной разумной регуляции: чтобы человек мог сам летать без технических ухищрений, мог далеко и глубоко видеть, мог жить во всех средах; чтобы научился «естественному тканетворению», воссоздавая свой организм из мёртвого вещества, как это делают растения и некоторые бактерии. Для этого Фёдоров требовал внести в науку и технику ясный нравственный критерий как высшую цель. Кому нужен свободный научный поиск во имя некоего «прогресса», который завтра обернётся концом света? Пока прогресс преуспел в уничтожении жизни. Восстановление её — по-прежнему недосягаемая высота для гордой научной мысли. Цивилизация эксплуатирующая, а не восстанавливающая, не может иметь иного результата, кроме конца, считал учёный. Сегодня, более века спустя, мы вполне убедились, что наши возможности в войне с природой несообразны с разумом. С землетрясениями и неурожаем совладать так и не удалось, зато впереди замаячил экологический кризис. Удивляться тут нечему, потому что ещё в позапрошлом веке нетрудно было предвидеть последствия хищнического обращения с природой её невежественных «покорителей»: истощение земли, исчезновение лесов, обмеление рек, ухудшение климата… «Человек сделал, по-видимому, всё зло, какое только мог, относительно природы», — писал Фёдоров. Он, конечно, ошибся: сделано было далеко не всё. Просто в те времена философ и представить себе не мог разрушительные возможности «царя природы». Зато не ошибся в главном, предвидя грядущий «всеземной кризис» — или, по-нынешнему, экологическую катастрофу. Предотвратить её может «общее дело» всего человечества. Объединившись вокруг него, люди научатся регулировать слепые силы не только в окружающей природе, но и внутри себя.
Последний вопрос
Когда-то Конфуций учил отца быть отцом, а сына — сыном, и говорил о сыновней почтительности как одной из опор государства. Тысячелетия спустя о том же размышлял и русский философ, утверждая, что нет других религий, кроме культа предков. Конфуций видел изъяны правления и даже был готов за три года преобразить страну, если только правитель будет следовать его советам. Фёдоров не был так наивен, на правителей не рассчитывал и сроков не называл. Государство для него — воплощение небратских отношений, которому ещё предстоит стать отечеством.
Философ чувствовал нашу всеобщую зависимость друг от друга и звал к сплочению. Ему виделась идеальная община будущего, всечеловеческая семья. Там будет царить психократия — власть души. Всех живущих и умерших объединят родство и братство. Люди забудут про скрытность и обман, потому что исчезнет взаимная борьба и никто не будет считать себя товаром, который нужно подороже продать. Каждый предпочтёт быть самим собой, открытым для всех. Совершенные знания помогут объединиться людям, близким по душевным качествам. Целью брачного союза станет не рождение, а воскрешение.
Фасады домов, украшенные священными изображениями, составят стену храма. На центральной площади — кладбище, выражающее отношение к ушедшим. Вся жизнь общины подчинена «общему делу», и каждый исполняет свой долг воскрешения. Сила армии, умноженная всеобщим образованием, используется в мирных целях: она противостоит природной стихии, занимается научными экспериментами…
Дух утопизма веет над русской мыслью, заметил один из исследователей отечественной философии. Но не во всём Федоров оказался утопистом. Он верил в будущее России и предсказывал ей роль первопроходца в космосе. Это сбылось. Символично, что мечту осуществил Гагарин — по сути, однофамилец Николая Фёдоровича, княжеского сына.
На склоне лет философ сжёг часть рукописей, и один из его учеников тайно увёз оставшееся и сохранил. Лишь незадолго до кончины Фёдоров согласился на издание и начал приводить бумаги в порядок. Книги вышли в свет уже после его смерти, — согласно воле покойного, с пометкой «не для продажи», их раздавали бесплатно.
Он скончался холодным декабрьским днём от воспаления лёгких в больнице для бедных. Похоронили его на кладбище Скорбященского монастыря. В последние часы философ говорил не о себе, не о болезни, а об «общем деле». Но его слова о любви сыновей к отцам никто не услышал. Кладбище снесли, и по нему прошла Новослободская улица. А на могиле устроили игровую площадку. Сбылось пророчество покойного о нравственном одичании блудных сынов, превративших «кладбища в гульбища».
«Будет и на нашей улице праздник», — говорили в фёдоровские времена жаждавшие справедливости. В нынешнем столетии её не стало больше, и сегодняшние «сыны» мрачно шутят: будут и на нашем кладбище танцы… Если не «отрегулируем» разум — непременно будут. Ведь разуму нужно твёрдо знать, зачем он сюда пришёл и какой в этом смысл.
Фёдоровский «проект воскрешения умерших» оказался для практичных материалистов одновременно и заманчивым, и недоступным. Не зря философ не слишком рассчитывал на понимание со стороны учёного мира, предчувствуя его способность превратить религиозную идею в «невыносимую подлость». Так и случилось. Нарком внешней торговли и дипломат Леонид Красин, большой почитатель фёдоровской философии, на похоронах товарища по партии в 1921 году кратко изложил свои практические выводы. «Я убежден, что придёт время, когда наука станет всемогущей, что она сможет воспроизвести умерший организм, — говорил он. — И я убеждён, что придёт время, когда освобождённое человечество <…> будет способно воскрешать великие исторические фигуры».
Когда умер Ленин, то Красина назначили в комиссию по похоронам, членом исполнительной тройки. Он и стал инициатором бальзамирования вождя. Результаты этой затеи можно считать наглядным уроком непонятого философа.
Вера только тогда примирится со знанием, когда последнее будет решением вопроса о причинах небратства между людьми и неродственного отношения природы (слепой) к людям, — а не знанием для знания, — когда знание (наука) станет вопросом об отношении разумных существ к слепой силе и о подчинении слепой силы разумной, когда последняя станет орудием воли Бога.
Воззвание к повсеместному построению школ-храмов означает примирение Веры со знанием, т. е. если вера есть осуществление чаемого, то знание есть средство, орудие этого осуществления, и таким образом примирение совершается в деле. Школа в этом случае берётся в обширном смысле как школа, соединённая с Музеем всенаучным, <…> вмещающем в себя знания о человеке (история) и природе (астрономия). Взятые в отдельности, школа, особенно высшая, будет отживающею, а Музей — недозревшим. В соединении же с Музеем (просвещение — познавание) школа становится способною быть орудием осуществления чаемого. Музей, возвращающий сердца сынов к отцам, указывает им (сынам) на всю природу, на небесные земли как на средство выражения любви к Богу-отцов. Повсеместное построение школ-храмов есть истинный путь к зрелости, к совершеннолетию.
Выставка так же, как и храм, соединяет в себе все искусства, искусства сынов, забывших отцов, не признающих другого блага, кроме производимого промышленностью и искусством, ей (т.е. промышленности) подчинённым. Выставка имеет в своём распоряжении школу, или вернее сказать, что школы светские сами по себе — усердные служанки индустриализма. В виде временной уступки в школах светских преподаётся Закон Божий, требовать исполнения коего было бы преступлением против великой добродетели века — терпимости. Выставка как храм промышленности не сказала ещё своего последнего слова. Вытеснив кладбища, она вытеснит самые храмы, академии и университеты тех наук и искусств, кои не имеют непосредственного приложения. Но этим не ограничится деградация. Сам человек, храм любви к Богу-отцов в себе носящий, будет разрушаться. Оттолкнув труп умершего, отвратив взор от неба, человек обратится в животное. Таков конец искусства или дела человеческого — дела, которое началось восстанием живущего (вертикальное положение) и восстановлением падшего или умершего, обращением к небу первого и мнимым воскрешением в виде памятника второго, т.е. концом искусства, или дела человеческого, будет полное подчинение слепой силе.
Заключение или Учись быть счастливым
Заключение должно повторять дело трактата и в сокращеньи обнять его снова, чтобы читатель мог повторить самому себе.
Попробуем посмотреть на бессмертный совет Козьмы Пруткова — «Если хочешь быть счастливым — будь им» — с практической точки зрения. Собственно, философия всегда занималась двумя главными вопросами: как устроен мир и как лучше в нём жить. Что касается второго, то, по словам Б. Рассела, все философы — от древних до современных — делились на тех, кто стремился укрепить социальные узы и на тех, кто старался их ослабить. Одни выступали за дисциплину, подчинение обществу, а другие — за торжество разума, свободомыслие. Что та, что другая крайность опасны для общества: первые превратят страну в исправительный лагерь, а людей — в винтиков, вторые же развалят её на враждующие уделы, которые станут лёгкой добычей менее размышляющих, но зато более сплочённых. Все цивилизации постепенно проходят этот путь, начиная с тирании и кончая упадком общества, погрязшего в анархии и неспособного прокормить и защитить себя.
Итак, счастье — полная удовлетворённость, гармония жизни. Все хотят быть счастливыми, но не у всех это получается. Восьмидесятилетний Гёте, например, говорил, что помнит всего лишь несколько истинно счастливых дней.
Что же советуют философы? Советов множество. На поверхности — древний как мир принцип «жизнь — удовольствие». Но искать кратковременные наслаждения и ловить удачу — дело хлопотное и ненадёжное. Это поняли ещё стоики, которые говорили, что за наслаждениями гонятся слабые, малодушные и неразумные. Сами же видели основу счастья в честности и красоте повседневной жизни.
А почему, собственно, наслаждения нужно противопоставлять честности и красоте? Кстати, слабые здоровьем, но вовсе не малодушные Эпикур и Спиноза ценили наслаждения, хоть и жили очень скромно. Зато такие баловни судьбы как Бэкон и Монтень, которые не отказывали себе в удовольствиях, рассуждали об иных ценностях. Бэкон, например, говорил, что счастье надо строить на том, что находится в нашей власти, и сознание своих добрых намерений даёт более истинную и чистую радость, чем удовлетворение желаний. Монтень же избегал искушений властью и почестями, потому что, как мы помним, слишком себя любил. Он знал, каким огромным напряжением сил и подвижничеством платили великие мужи за своё возвышение. Но толпе видны лишь слава и власть. Тем, кто неспособен предложить за это достойные дела, остаётся расплачиваться, как говорят в нашем веке, натурой, а это занятие на любителя.
Наверное, самое живучее представление о счастье сводится к тому, что оно прямо зависит от богатства и власти: чем больше того и другого, тем человек счастливее. Сколько людей тратят жизнь на карьеру и погоню за богатствами… А счастье по-прежнему где-то впереди, и нередко, подводя итоги, человек рад бы всё это отдать, только вернуть потеряннее здоровье и чистую совесть. Ведь больная душа в конце концов делает больным и тело, и это известно не только медикам. Поэтому мудрец скорее готов примириться бедностью и лишениями, чем с внутренним разладом.
Но если счастье — жизненный идеал, то как его достичь в неидеальном обществе?
Не будем говорить, как достичь, потому что рецептов тут нет, а лучше вспомним, кто и как это пытался сделать. Энергичные и неразборчивые в средствах в идеальном обществе не нуждаются, потому что им хорошо в любом. Менее энергичным, но столь же неразборчивым, остаётся держать нос по ветру, улавливая, откуда исходит власть, и держаться сильного. Те, кому это не по вкусу, уходит из «горячих точек», где идёт битва за житейские блага, предпочитая уединённую жизнь и непрестижные профессии. Сильные и благородные выбирают борьбу.
Однако крайности вряд ли годятся для подражания. Жить удовольствиями, «не беря в голову», легко, но последствия печальны. Повседневный же героизм чересчур утомителен для обычного человека. Недаром русский философ Василий Розанов говорил, что настоящая мудрость заключается в том, чтобы в героическую эпоху жить героически, а в негероическую всё-таки не разбивать голову о стену…
Но и этот здравый тезис привлекает далеко не всех, потому что гораздо красивее выглядит другой, согласно которому нынешние испытания через столетия обернутся счастьем потомков. Так думали А. П. Чехов, М. Горький. Выходит, нынешнее поколение — лишь средство для блага тех, кто будет жить после? Чем же они ценнее нас? Ведь человек живёт не для будущего, не для осуществления некой идеи, а только потому, что родился. Не прав ли был тургеневский Базаров с вопросом: «Какое мне дело до того, что мужик будет счастлив, когда из меня будет лопух расти?» Но разговоры о будущем счастье тем и привлекательны, что о нём можно говорить бесконечно и не отвечать за результаты.
Если один классик предупреждал, что в карете прошлого далеко не уедешь, то другой, тоже классик, не жаловал и карету будущего: «Оттого и вся беда наша, что мы не глядим в настоящее, а глядим в будущее… если делается не так, как нам хотелось, мы махаем на всё рукой и давай пялиться в будущее». А дороги к этому будущему сокрыты в настоящем, «тёмном и запутанном», напоминал Н. В. Гоголь.
И всё же: жить, служа людям, жертвовать личным, думать об идеалах, не спать на кровати, пока другие спят на земле? Или, как рассуждал Андрей Болконский в «Войне и мире», надо только как-нибудь получше, никому не мешая, дожить до смерти, избегая двух зол — угрызения совести и болезней? Спор на эту тему бессмыслен, потому что никто не может быть счастлив чужим счастьем. Можно говорить лишь о разных представлениях на этот счёт. Так, Сократ полагал, что жизни придаёт смысл добро. Кант видел её оправдание в работе, а Лев Толстой был уверен, что жизнь прекрасна сама по себе, и пока она есть, есть и счастье. На это нетрудно возразить: бывает и несчастная жизнь, и потому более справедливым кажется утверждение, что счастье — не в нём самом, а в непрерывном стремлении к нему: ведь очередная достигнутая цель — это краткий миг, и надо идти дальше.
А теперь спустимся с небес на землю. Мы так настойчиво толкуем о счастье, будто возможность стать счастливым — вопрос решённый, остаётся только уточнить, что для этого нужно делать. Но какое тут счастье, если ты, к примеру, болен, живёшь рядом с людьми, которых ненавидишь, а денег хронически не хватает. Или с человеком обошлись несправедливо, а потом его же обвинили и загнали за колючую проволоку… Может, Диоген и не обратил бы на это внимания, но диогены рождаются нечасто. Выходит, все эти философствования о счастье — для благополучных людей, а кому не повезло — уж извините?
Что ж, мы не будем приводить дежурные примеры со слепоглухонемыми, которые спорят с судьбой, кончают вузы и живут наполненной жизнью. Из исключений нельзя выводить правило. Но если вы уверены, что несчастны и сделать ничего нельзя — значит, так оно и есть, потому что не будет счастлив тот, кому для этого нужны чужие подпорки. И всё же вспомним, что у многих мудрецов жизнь тоже была далеко не безоблачная, но они умели ей радоваться. Не забудем и мифического Сизифа. Он самонадеянно пошёл против воли богов: ему удалось заковать в цепи богиню смерти, и люди перестали умирать; он же был единственным покойником, сумевшим с помощью обмана вернуться на землю. Однако на обмане далеко не уедешь, и в наказание хитрец теперь тяжко трудится в мире ином: катит камень в гору, но никогда не достигнет вершины. Мораль: не стоит спорить с богами. Но даже в бессмысленном труде Сизифа А. Камю увидел победу. Она в том, что Сизиф сознаёт бессмысленность своего труда. А философ уверен, что нет такого жребия, который нельзя было бы преодолеть презрением.
Историк В. Ключевский считал, что быть счастливым — значит быть умным; быть умным — значит не спрашивать того, на что нельзя ответить. Значит, быть счастливым — не желать того, чего нельзя получить. Иначе говоря, счастье не в том, чтобы иметь, что любишь, а в том, чтобы любить, что имеешь. Но, может, это философия слабых, неспособных добиваться своего? Что ж, запретов тут нет, дерзайте. Здесь важно не надорваться в бесконечной борьбе за обладание. Впрочем, это ещё не вся истина. Не спрашивать, не желать… Всё это ориентиры вовне, для тех, чьё счастье зависит от количества приобретённого. Для тех, кто между «иметь» и «быть» выбирает первое. Тоже, как говорится, вариант. Хотя многие люди давно пришли к выводу, что внутренние богатства лучше внешних: их нельзя отнять или потерять. Сенека, например, советовал не считать счастливым того, чьё счастье зависит от условий жизни. Не будем, однако, доводить частное мнение Сенеки до абсурда и уверять, что благоустроенная жизнь в своем доме хуже романтических ночёвок на вокзалах или чердаках. Важно лишь, чтобы состояние души меньше зависело от внешних помех. Верно сказал один неглупый мальчишка: скоро все забудут, какие на тебе были джинсы, но будут помнить, что ты за человек.
Итак, свобода души, независимой от вещей, от обстоятельств. Ещё от чего? От тех, кто пытается решать за нас, как нам жить; от тех, кто хочет из граждан сделать подданных. Свобода для чего? Для того, чтобы задавать любые вопросы и искать на них ответы. Чтобы действовать и ошибаться, искать и находить, чтобы не жить в убогих рамках кем-то якобы познанной необходимости. У свободы есть лишь одна граница — чужая свобода. Впрочем, эти вопросы — от чего, для чего и т. п. — не обязательны. Как полагал Кант, свобода — это способность самостоятельного начинания и не нуждается ни в каких причинах, кроме себя. Поэтому у каждого есть прекрасная возможность начать самостоятельно думать. Помня, однако, о предупреждении Конфуция: «Я целыми днями не ел и ночи напролёт не спал — всё думал. Но напрасно. Полезнее — учиться».
В том числе — учиться быть счастливым. Но школа этому не учит. Она всего лишь с переменным успехом старается готовить «полезных членов общества». Да только пока человек и его счастье не станут для общества самоцелью, ничего путного построить на земле не удастся. Значит, нужно учиться самому, попытавшись для начала получше узнать себя, чтобы жить с собой в ладу.
Многие сходятся в том, что для полного счастья человеку необходимо полное здоровье — тела, души и ума. Больная душа не будет счастлива, и поэтому, занимаясь телесными потребностями, нужно помнить и о ней. Источник её здоровья — чистая совесть, сознание, что ты поступил хорошо. Зато неумеренные удовольствия нередко оборачиваются болезнями и тела, и души.
Что же мы извлечём из всего этого разнобоя мнений?
Прежде всего то, что философы, размышлявшие о жизни, достойной человека, в общем-то не были праведниками или пророками. Они нередко ошибались, но зато им в голову приходили мысли, которые интересны и нам. И самое важное, что каждый из них нашёл свой рецепт счастья. Счастливы были Эпикур и Блаженный Августин, Сократ и Спиноза, Монтень и Кант. Даже Шопенгауэр при своём-то характере умудрился неплохо прожить. Нам же остаётся искать свой путь, потому что нет и не может быть «научного» рецепта счастья. Как говорил И. Фихте, какую философию ты выбираешь, зависит от того, какой ты человек. На вопрос, зачем жить, можно ответить только для себя. Можно не ответить вовсе, но хорошо уже и то, что этот вопрос возник.
Счастье — личная забота, и поэтому нам его не подарит никто: ни любящие родители — они могут лишь обеспечить достаток и благополучие, ни тем более государство, которое не способно даже на это. Цену имеют только наши субъективные решения.
Впрочем, эти рассуждения тоже субъективны и не гарантируют абсолютной истины. Они гарантируют лишь соответствие взглядам автора.
Мысли о философии
Философия видит мир из человека и только в этом её специфичность. Наука же видит мир вне человека.
Философская мудрость века настоящего становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Многое, о чём думает физика, предвидела философия
Философия есть общее духовное достояние; философские рассуждения, которые не могут быть поняты каждым образованным человеком, не стоят потраченных на них типографских чернил. Что ясно мыслится, то может быть сказано так же ясно и без околичностей.
Каждому возрасту соответствует известная философия. Ребёнок реалист: он так же убеждён в существовании груш и яблок, как в своём собственном. Юноша, обуреваемый внутренними страстями, должен следить за собою. Забегая со своим чувством вперёд, он превращается в идеалиста. Напротив, у мужчины все основания стать скептиком. Он хорошо делает, когда сомневается, надлежащее ли средство выбрал для своей цели… Старик же всегда будет тяготеть к мистицизму. Он видит, как много вещей зависит от случая: неразумное удаётся, разумное идёт прахом, счастье и несчастье неожиданно уравновешивают друг друга. Так есть, так было — и преклонный возраст находит успокоение в Том, который был, и есть, и будет…
Самое верное средство знать, как мы должны жить, состоит в том, чтобы сперва узнать, каковы мы сами, каков мир, в котором мы живём, и кто создатель вселенной, в которой мы обитаем.
Жить не философствуя, значит собственно иметь закрытые глаза, не стараясь их открыть.
Мудрость есть не что иное, как наука о счастье.
На вопрос, чем философы превосходят остальных людей, он (Аристипп) ответил: «Если все законы уничтожатся, мы одни будем жить по-прежнему».
Заниматься философией, говорил он (Кратет), нужно до тех пор, пока не поймёшь, что нет никакой разницы между вождём войск и погонщиком ослов. Кто окружён льстецами, говорил он, тот одинок как телёнок среди волков: ни там, ни здесь, ни в ком вокруг содействия и во всех вражда.
Душа, вместившая в себя философию, не может не заразить своим здоровьем и тело. Царящие в ней покой и довольство она не может не излучать вовне; она не может равным образом не переделать по своему образу и подобию нашу внешность, придав ей, соответственно, исполненную достоинства гордость, весёлость и живость, выражение удовлетворённости и добродушия. Отличительный признак мудрости — это неизменно радостное восприятие жизни; ей, как и всему, что в надлунном мире, свойственна никогда не утрачиваемая ясность.
Всюду, где образовалось сильное общество, государство, религия, общественное мнение, всюду, где установилась тирания, она ненавидела одинаково философа; ибо философия открывает человеку убежище, куда не проникает никакая тирания, долину внутреннего мира, лабиринт сердца, и это раздражает тиранов.
Народы будут счастливы, когда настоящие философы будут царями, или когда цари будут настоящими философами.
Философия не признаёт иного счастья, кроме себя, счастье в свою очередь не признаёт никакой философии, кроме себя; таким образом, и философ счастлив, и счастливец считает себя философом.
Наука — это то, что вы знаете, философия — то, чего не знаете.
Вот что даёт философия: весёлость, несмотря на приближение смерти, мужество и радость, несмотря на состояние тела, силу, несмотря на бессилие.
Многие хотят знать, что делается в чужих странах, а что в своей душе находится, не ищут.
Высшая наука — быть мудрым, а высшая мудрость — быть добрым.
Философия, в личном смысле, есть знание, дающее наилучшие возможные ответы о человеческой жизни и смерти.
Пусть никто в молодости не откладывает занятия философией, а в старости не утомляется занятиями философией: ведь для душевного здоровья никто не может быть ни недозрелым, ни перезрелым. Кто говорит, что заниматься философией ещё рано или уже поздно, подобен тому, кто говорит, будто быть счастливым ещё рано или уже поздно.
В заключение приведем некоторые определения из полушутливой «Краткой философской энциклопедии» выдающегося польского философа Лешека Колаковского.
АВГУСТИН: скорее всего, ты окажешься в аду, а если в раю, то лишь благодаря милосердию Божьему.
АРИСТОТЕЛЬ: держись серёдки и не пропадёшь.
БЕРКЛИ: что видно, то и есть, а чего не видно, того и нет.
ГЕГЕЛЬ: Бог совершенно растворился в мире, потому что как же иначе.
ДЕКАРТ: Бог, в общем, есть, но его не видно; он также дал нам разум, так что мы знаем, что правда, а что неправда.
ДЕМОКРАТИЯ: чтобы каждый воображал, что управляет, и при этом мог жаловаться, что управляет недостаточно.
ИСТОРИЗМ: сегодня правда одно, а завтра что-нибудь другое.
КАНТ (практическая философия): если что-либо делаешь, ничего при этом не чувствуй и не думай, что получится; думай только о том, хорошо ли будет, если все этим займутся.
КОНСЕРВАТИЗМ: так хорошо, как при Франце Иосифе, уже никогда потом не было.
ЛИБЕРАЛИЗМ: занимайся своим делом, не лезь в чужие, и всё будет хорошо.
МАРКС: Бога нет, есть только люди, которые дерутся из-за денег, но скоро станет ужасно весело, потому что деньги отменят и оставят только карточки.
МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ: властей, но только коммунистических, надлежит не только слушаться, но и любить их всем сердцем.
МАТЕРИАЛИЗМ: всё устроено примерно так же, как стул или кирпич.
НАЦИОНАЛИЗМ: мы лучше всех и благороднее всех, все это знают и потому хотят нас уничтожить.
НИЦШЕ: все дерутся со всеми, и всегда так будет, а смысла в этом никакого.
ПАСКАЛЬ: признайся, что ты мерзавец и дурак, тогда будешь спасён, хотя и не обязательно.
ПЛАТОН: нет ничего прекраснее, чем красота, смешнее, чем смешное, глупее, чем глупость и т. д.
РЕЛЯТИВИЗМ: бывает так, бывает и наоборот.
СКЕПТИЦИЗМ: ничего неизвестно.
СОЦИАЛИЗМ: когда власти у всех всё отберут, все станут очень счастливы, а народ станет править.
СПИНОЗА: ничего нет, кроме Бога.
СТОИКИ: что есть, то и хорошо.
ХАЙДЕГГЕР: неизвестно, откуда ты взялся, но держись молодцом и не обращай внимания.

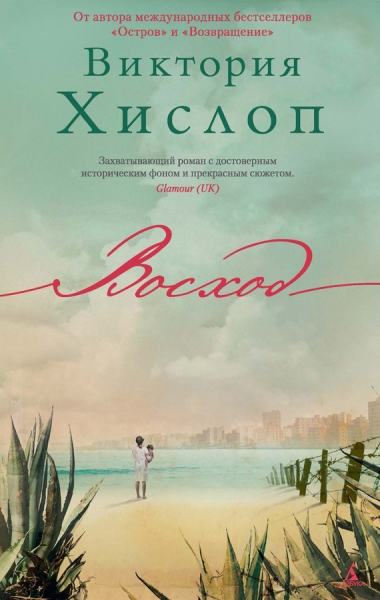
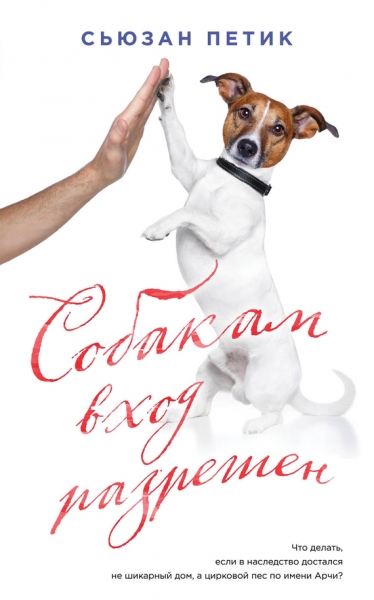
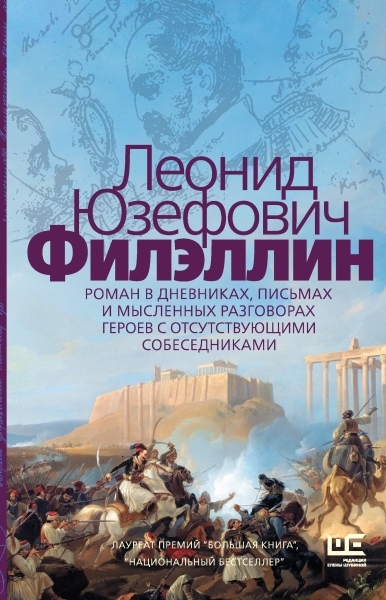
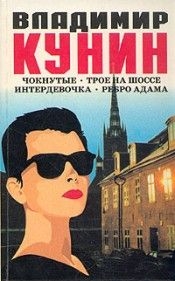
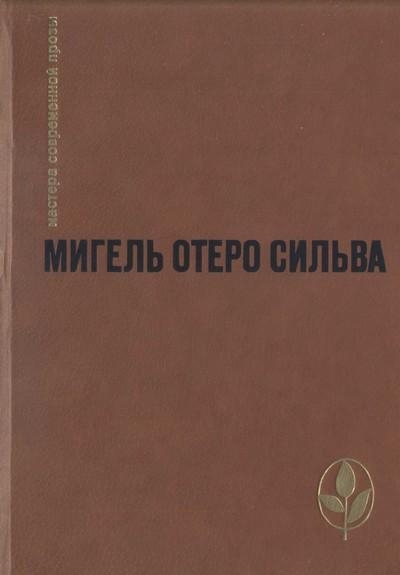

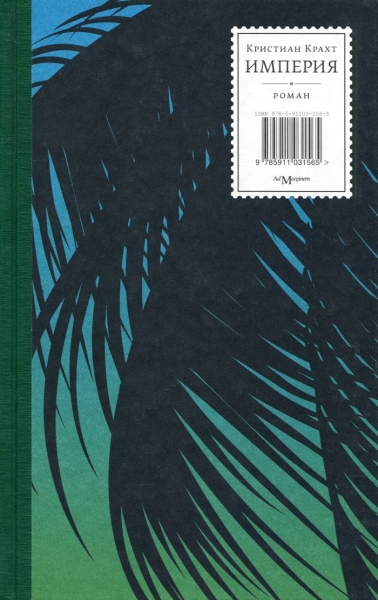
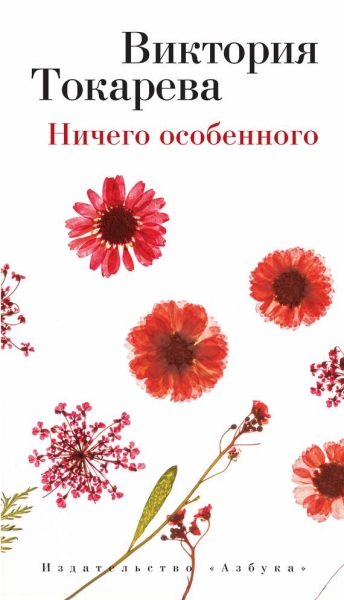
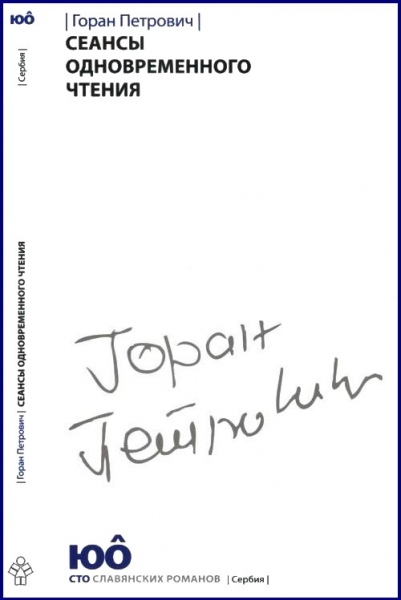
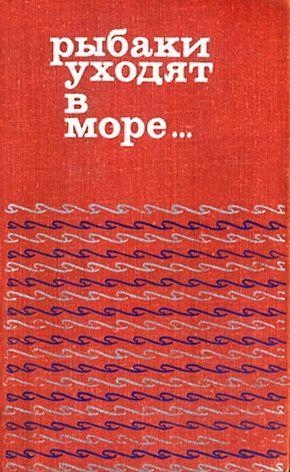

Комментарии к книге «Философские уроки счастья», Евгений Леонидович Крушельницкий
Всего 0 комментариев