Антон Борисов Кандидат на выбраковку
Человек настоящий
У Алексея Маресьева не было ног. Он научился ходить на протезах, танцевать и даже управлять самолетом. У Антона Борисова ноги есть, но он не может танцевать и ходить. Впрочем, стоять он тоже не может. И даже сидеть. Ему можно только лежать на жесткой поверхности. Всю жизнь, все 42 года. Есть такая болезнь – несовершенный остеогенез. Малейшее неосторожное движение ведет к перелому. Первый раз он сломал ногу в 5 месяцев, а потом… Кто их считал, эти сотни переломов? На Западе с этой редкой и неизлечимой болезнью борются, тренируя мышцы, чтобы они корсетом охватывали слабые кости. Впрочем, это на Западе. В Советском же Союзе, где жила семья Борисовых, родители Антона отдали его, пятилетнего, в больницу, где ребенка привязали крепко-накрепко к кровати, чтобы не вставал и ничего себе не сломал. Он и не встал больше с кровати. Просто не смог.
В больнице, а точнее в детском костно-туберкулезном санатории в Астрахани, Антон прожил до совершеннолетия. Там же, в больнице, мальчик учился, окончил школу-десятилетку. Антон учился старательно. Одна беда – писать было очень трудно. Переломанные во многих местах, искривленные руки с трудом могли держать карандаш. Все приходилось воспринимать на слух, запоминать. Вот так и жил мальчик в детском туберкулезном санатории. Его там не лечили, зато учили. После школы поступил на заочное отделение Астраханского пединститута, но тут пришла новая беда – отказали руки. Начались немотивированные переломы – от взятой в руку ложки или ручки. Поняв, что вскоре он не сможет даже перевернуть книжную страницу, Антон смог добиться направления в Москву, в ЦИТО. Там сделали операцию, вставили в кости рук металлические штифты, а через два года вернули обратно в Астрахань.
Дорога таким, как он, была одна – в дом-интернат для инвалидов и престарелых. Такое чувство, вспоминал он потом, что тебя положили в гроб и закрыли крышку. Ни одного близкого человека рядом.
Изменения в жизни произошли неожиданно. Журналист городской молодежки Владимир Пигарёв пришел в интернат, чтобы сделать репортаж о его обитателях. Обошел здание, поговорил со стариками и уже собирался уходить, как у двери бабушка-вахтерша спросила его: «Ты был на третьем этаже? Там у нас мальчик живет, который в институте учится». В палате у Антона Володя просидел до полуночи. А уже на следующий день после выхода статьи к необычному студенту начали приходить гости. Появились друзья, и, что не менее важно, появилась работа. Антон стал консультантом телефонной службы психологической помощи. Затем стал подрабатывать в газете, писать информационные колонки, брать интервью, благо его к этому времени перевели в отдельную палату и поставили туда телефон. Случай, конечно, неслыханный, но ведь и человек необычный. Новые друзья помогли Антону «пробить» квартиру. Он, правда, не мог из нее выходить самостоятельно, зато туда можно было поставить компьютер. Он освоил его, после чего стал работать еще и в двух компьютерных фирмах одновременно. В 1994 году его выбрали человеком года по номинации «Молодежная политика» в Астрахани. На полученную премию в миллион «старых» рублей Антон обновил свой компьютер.
А вскоре он с друзьями сделал еще одно важное дело: интернет-сайт SOS.RU – место во Всемирной сети, где одни люди ищут помощь, а другие бескорыстно предлагают ее.
Вот только передвигаться Антон не мог. Спонсоры оплатили ему поездку в Германию и изготовление специальной кровати, но, к сожалению, немецкая коляска оказалась на удивление неудобной, а вскоре и вовсе сломалась. Через некоторое время новую кровать заказали в США. Антон поехал на примерку и неожиданно для себя остался в Америке. Живет он в Портленде, штат Орегон, уже восемь лет и больше всего переживает из-за того, что не может найти себе постоянную работу. Впрочем, без дела не сидит. Продолжает управлять из-за океана сайтом SOS.RU, в ожидании оплачиваемого места пока работает волонтером, то есть бесплатно. Учит работе на компьютере эмигрантов. Вначале работал только с приезжими из СНГ, затем, когда отшлифовал свой английский, и с остальными. В США сейчас трудно найти работу даже здоровому американцу, что уж говорить об эмигранте-инвалиде чуть больше метра ростом, прикованном к своей кровати.
Девиз свой Антон впервые сформулировал почему-то на английском и только потом проговорил по-русски: «Life is not a choice. Life is a chance» – «Жизнь – это не выбор. Жизнь – это шанс».
Подвиг Алексея Маресьева не в том, что он дополз до своих. И даже не в том, что заново научился ходить, танцевать «барыню», управлять самолетом. Подвиг его в том, что он предпочел продолжать жить так, как жил раньше. У него был выбор – стать инвалидом на тележке, с пенсией, которой хватало бы на ежедневную поллитру, или остаться летчиком. Первое – проще, второе – достойнее. У Антона Борисова такого выбора не было. Советская власть предоставила ему убогое угасание в палате дурдома. Новая российская власть предложила ему в общем то же самое, только в отдельной квартире, из которой он не мог выйти самостоятельно. В отличие от Маресьева Антон не знал, как это – быть здоровым и сильным: он никогда не умел танцевать, управлять самолетом или автомобилем. Даже на трехколесном велосипеде поездить не успел. Антон Борисов не хотел совершать подвиг. Он просто жил и живет. Потому, что не может иначе.
Михаил Гохман
«Московские новости» № 46 за 2002 год
Предисловие к первому изданию
Я благодарю всех, кто так или иначе, в основном мысленно, был рядом в те беспокойные для меня дни, когда я начал вывешивать отдельные главы книги в Интернете. Говорю «Спасибо!» всем моим невидимым друзьям, чьи бесценные слова поддержки и доброжелательной критики на страницах моего сетевого журнала давали мне силы продолжать работу и не падать духом. Я скажу банальность: но без вашего морального ободрения у меня просто опустились бы руки. Потому что даже сейчас у меня нет уверенности, что мои «приключения» будут кому-то интересны.
Отдельная и особая благодарность моя – Вадиму Дымову, талантливому, успешному бизнесмену и просто смелому, бескорыстному человеку, решившемуся издать книгу никому неизвестного «писателя» в авторской редакции. Что вообще-то неправильно с позиции бизнесмена, но, подозреваю, принимая решение относительно моей книги, предприниматель Дымов руководствовался мотивами абсолютно не экономического характера. А это достойно, как минимум – аплодисментов со стороны моих друзей, сочувствующих читателей и моего глубокого искреннего поклона признательности.
И конечно же, я просто не вправе обойти молчанием человека, взвалившего на себя всю тяжесть по изданию и продвижению моей книги и в ходе работы ставшего моим другом. Это Евгений Кульков, главный редактор одного из московских издательств, вызвавшийся быть повивальной бабкой рождавшегося автора и сполна испытавший на себе все «прелести» моего упертого характера.
Спасибо вам всем. Антон.
Ноябрь 2007 года.
Предисловие ко второму изданию
По правде сказать, я не рассчитывал на второе издание, поскольку тот факт, что состоялось первое, – мною до сих пор воспринимается с недоверчивым удивлением. Но издательство АСТ в лице Ильи Алексеевича Анискина, решилось на этот шаг и, что самое для меня приятное, согласилось не привлекать к работе с текстом профессиональных редакторов и непрофессиональных тоже. Так что текст выходит таким, каким и был написан автором. За что я безмерно благодарен издательству. И, пользуясь случаем, хочу коротко упомянуть о двух вещах.
Первое. После того как в 2008 году повесть «Кандидат на выбраковку» впервые вышла в свет и попала в руки читателей, прошло без малого шесть лет, но до сих пор я получаю письма, в которых незнакомые люди благодарят меня за мой оптимистичный взгляд на жизнь, умение не сдаваться в самых отчаянных ситуациях, за психологическую поддержку, которую получили они, прочитав мои непростые воспоминания. (Мне предлагали включить хоть какую-то часть из них во второе издание, но я отказался, потому что писавшие не рассчитывали на такое откровенно рекламное использование их пронзительных, искренних и очень эмоциональных реплик.) Я благодарен всем за эти письма и записи в моем блоге. Поверьте, для меня самая большая награда – это осознавать с вашей помощью, что я не паразитирую на собственной жизни, а сам по мере возможностей создаю ее и через рассказанную историю своей жизни помогаю другим обрести уверенность в себе, и тем самым я возвращаю долги всем, кто помогал мне когда-то и помогает теперь. Я немного горжусь, что усилия этих людей оказались не напрасными и часто думаю, что все мы живем и что-то совершаем только благодаря тому, что помогаем друг другу. Даже в безнадежных ситуациях.
И второе. 18 августа 2012 года умер астраханский профессор Николай Петрович Демичев, замечательный человек, блестящий клиницист, с которым у меня, к сожалению, не сложились отношения. Узнав об этом трагическом событии, я хотел убрать из текста книги резкость, с которой вспоминаю некоторые эпизоды моего с ним общения. Но, поразмыслив, решил оставить все как есть. Потому что иначе будет нечестно. Тем более что один субъективный взгляд одного неоперабельного больного нисколько не умаляет заслуг профессора перед медициной и не наносит никакого ущерба его репутации – репутации Врача, сумевшего за свою жизнь поставить на ноги сотни своих пациентов. Просто так у нас с ним получилось. Бывает.
А. Борисов. Апрель, 2014 г.
Life is not a choice. Life is a chance [1]
Мама, я говорю «Спасибо» тебе, отцу, сестренке, бабушкам и дедушке. Я помню вас и никогда не смогу забыть. Вот только минувшее порой отзывается невыразимой горечью и фантомной болью в ночи, поэтому мои оценки ваших действий и поступков иногда будут резки, воспоминания тяжелы, но так я воспринимал тогда все, происходившее с нами. Я благодарю и благословляю вас всех за терпение, честно выполненный родительский и родственный долг. Ведь вы могли просто отказаться от меня и сдать в приют. Вряд ли тогда мне удалось бы увидеть мир, узнать, что такое дружба, пообщаться с массой прекрасных людей, почувствовать себя микроскопической частичкой цивилизации и написать эти строки. Болезнь, неумолимая и неизлечимая, разлучила нас. Вы боролись с моим недугом и одновременно со своим отчаянием, бытовыми и личными проблемами, равнодушием чиновников и врачей. Боролись, пока у вас хватало сил. Вы люди, и возможности ваши не беспредельны. Мне было неведомо, что творилось в ваших душах, как раскалывался ваш внутренний мир и умирали надежды на будущее, поэтому я заранее прошу прощения, если по неведению покажусь категоричным или несправедливым в оценках. Я еще не до конца осмыслил происшедшее со мной, но в одном убежден абсолютно – стыдиться ни тебе, мама, ни всем остальным нечего. Да благословит вас всех Господь!
Твой сын, Антон.
Пролог 13 сентября 1999 года
Посвящаю тем, кто выбирает Жизнь и все, что к ней прилагается.
«Если живешь, значит нужно просто жить.
А в остальном – все зависит от тебя самого.
Ведь это твоя жизнь».
«Я летел» – привычное словосочетание, рожденное рядовым для миллионов людей событием. Для миллионов, но не для меня. Со мной все обстоит по-другому и банальные фразы, подобные этой, всегда оказываются переполненными массой неожиданных, но чаще всего неприятных ощущений.
Итак, «я летел» – перемещался в пространстве посредством самолета «Аэрофлота» по маршруту «Москва-Сиэтл». Все одиннадцать часов полета я намеревался притворяться спящим. Хотя никогда не могу уснуть ни в дороге, ни в гостях. Вот и этот полет в Америку обещал мне изматывающую многочасовую бессонницу.
Я лежал в своей коляске, крепко прикрученный к ней ремнями безопасности. Лежал, закрыв глаза, слушал равномерный ватный гул двигателей и представлял, как через некоторое время встречусь с друзьями – Пашей и Лидой, с которыми не виделся уже семь лет. Я прикидывал, что будет нужно сделать в первую очередь, после возвращения домой. Придется вновь искать работу, потому что вряд ли за те два месяца, что я проведу в Штатах, за мной сохранится рабочее место. Точнее, не одно, а три, поскольку я умудрялся работать сразу в нескольких организациях, годами не вылезая из своей однокомнатной квартиры. Я пытался придумать, какие, хотя бы маленькие, подарки и кому я должен привезти из этой поездки за океан.
– Вам что-нибудь нужно?
Вопрос прозвучал неожиданно: я летел один и настроился на полную самоизоляцию. Было немного тревожно, и желание общаться с кем-либо отсутствовало напрочь.
Еще при посадке, когда друзья занесли коляску со мной в самолет и укрепили ее между перегородкой и креслами, меня спросили о сопровождающих. Узнав, что я лечу один, старшая стюардесса на мгновение опешила и наградила меня недоуменным взглядом, в котором явственно прочитывалось: «А как же вы будете если?…»
– Не переживайте, все будет нормально. Мне ничего не понадобится, и я вас не побеспокою, но, – я изобразил бодренькую улыбку. – Вы только помогите мне, пожалуйста, по прибытии в Сиэтл. В аэропорту меня должны встречать друзья. Мне бы их только найти…
– Конечно, вам обязательно помогут.
Она казалась вежливой и предупредительной, но в широко распахнутых глазах отсвечивало охватившее стюардессу смятение. Девушка не понимала, как это так, со мной нет сопровождающих? А вдруг «что-то»? Что тогда со мной делать? С какого боку подступиться? Как может человек в таком беспомощном состоянии путешествовать один? Да что там путешествовать? Как он ТАКОЙ, вообще, жить-то может?
Всматриваясь в растерянное лицо бортпроводницы, я сам начал теряться: а вдруг «Аэрофлот» ввел какие-нибудь новые, неизвестные мне правила относительно перевозки «нестандартных людей», и меня в последний момент ссадят и уже не впустят в самолет без сопровождающего, который моим сценарием не предусматривался? Я, как мог, успокаивал и себя, и стюардессу, вкладывая в свой голос максимум уверенности, беззаботности и нахальства, на которые в тот момент был способен. В конце концов, я не представляю никакой опасности для окружающих, не являюсь животным. Билет куплен мной вполне законно, на деньги, собранные моими друзьями – близкими и незнакомыми, узнавшими о моих проблемах через форум партии «Яблоко». Я имею право путешествовать самостоятельно. Устроившись в салоне, я закрыл глаза. Пусть думают, что я безмятежно сплю и, следовательно, ни в чем не нуждаюсь. Однако персонал авиалайнера так не считал.
– Вам что-нибудь нужно? – вопрос прозвучал вторично, и я решил, что, пожалуй, следует «проснуться».
Рядом стояла девушка в голубой униформе. Она улыбалась, а в глазах – то же самое тревожное недоумение. Окажись мы в иной обстановке, я бы не упустил возможности пообщаться подольше, однако вокруг сидели пассажиры и смотрели, смотрели… Любопытные взгляды некоторых я ощущал даже сквозь свой «очень глубокий сон».
– Нет, спасибо! Все нормально.
– Хорошо! Если что-то потребуется, позовите меня. Я все время буду здесь неподалеку.
– Спасибо.
Она пошла дальше, унося свое вежливое испуганное лицо. Здесь, как и повсюду, от меня не ждали ничего, кроме неприятностей и проблем. Я не убедил стюардесс. Впрочем, у меня и не было такой задачи. Я не собирался никому объяснять, что, готовясь к полету, не ел уже более двадцати четырех часов и не пил часов восемь, не меньше. Потому как знал: если в полете у меня возникнет потребность облегчить организм, то помочь в этом деликатном вопросе никто не сможет. А даже и окажись рядом друг, что это изменит? Ну не станем же мы устраивать физиологическое шоу на глазах у ошарашенных пассажиров? А тащить в самолетную уборную мою неуклюжую коляску – вариант совсем скверный – задействовать придется весь салон. Так что оставалось только уповать на воздержание, причем во всех его формах. Я уже, правда, немного созрел для туалета и сильно хотел пить, но полет длится всего одиннадцать часов, ну еще плюс часа полтора-два на взлет и посадку. Нужно просто немного подождать и потерпеть. Я умею и то и другое. Времени и возможностей научиться этому, у меня было предостаточно. В общем, все шло нормально.
Я вновь закрыл глаза. Хотелось со смыслом провести эти неизбежные часы пребывания в самолете. Читать я не мог, во-превых, у меня ничего подходящего не оказалось. Я летел один, а потому взял только самое необходимое. Я даже отказался захватить посылки для Паши и Лиды. А во-вторых, в моей коляске не то, что читать, просто лежать было неудобно. Мне оставалось только одно – вспоминать и размышлять.
Для этого сейчас был самый подходящий момент.
Странно у меня все сложилось. По прогнозам врачей я должен был умереть много лет назад. Не умер. Что-то не сработало.
Обреченный на неподвижность, на вечную зависимость от кого-то, на скуку и одинокое беспомощное умирание в каком-нибудь забытом Богом и государством доме призрения я, тем не менее, сам, без сопровождающих, летел на высоте десяти тысяч метров через океан к друзьям, живущим на другом континенте…
Опять что-то «не сработало»? Или наоборот, сработало «вопреки»? А для чего?
Было о чем поразмыслить.
И пока я перемещался в пространстве, память унесла меня в прошлое…
Воспоминание первое Постижение
Osteogenesis imperfecta
Родился я в 1965 году во Владивостоке, и города этого, и того периода своей жизни не помню совсем. Мой папа был моряком – китобоем, и в момент моего появления на свет находился за тысячи миль от дома.
Он очень ждал сына. Когда ему там, на корабле, сообщили о моем рождении, то радости его не было предела, и, надо полагать, не было предела горячительным возлияниям. Как же иначе? Наследник родился! Если бы он только знал, что это за «наследник» и что произойдет дальше.
Проблемы начались через несколько месяцев. Мама заворачивала меня в пеленки и вдруг услышала истошный крик. Орал я сильно, и что самое странное, не переставая. После того как меня отвезли в больницу, выяснилось: сломана ножка.
Там же, в больнице, был поставлен диагноз – osteogenesis imperfecta, так это красиво звучит по-латыни, а по-русски – «несовершенный остеогенез», «несовершенное костеобразование».
Мой первый перелом – мой первый диагноз. Он же приговор, из которого следовало, что я перестану расти, а мои кости станут ломаться от малейшего резкого движения, малейшей нагрузки. Ломаться будет все: ноги, руки, ребра. Переломы станут исчисляться десятками, сотнями… Они станут моими пожизненными спутниками. Они продолжаются и сейчас. Я уже как бы не обращаю внимания на них. В момент перелома – очень больно. Потом надо некоторое время лежать. Тихо, как испуганная мышка. Не шевелиться или шевелиться очень осторожно.
Вообще, это немного несправедливо: темперамент, данный мне с рождения, был облачен в такую хрупкую оболочку! Большая часть моих переломов – это переломы, произошедшие по моей собственной «вине». В моменты радости я часто совершаю движения, которые мне категорически противопоказаны. Да и не только в моменты радости. Оказалось, что ребенок с такими «хрустальными» костями не мог вести себя спокойно в принципе. Даже когда он лежал замурованный в гипс по самую шею.
Мои родные долгое время жили надеждой. Мама лежала со мной в больницах, бабушка таскала меня по городам и весям Советского Союза, едва заслышав, что где-то чудотворит очередной кудесник-лекарь с неизвестным доселе лекарством или методом лечения. Так в 1967 году я побывал в Ташкенте, в клинике профессора Шакирова. Он был первым, кто в свое время описал препарат «мумие» и начал его клиническое применение. Лечение оказалось очень дорогим, но мои родные тогда были готовы пойти на все.
Бабушку – маму моего папы – звали Елена Антоновна. Ее отец, мой прадед, был «чистопородный немец», как о нем говорила сама бабушка – Отто Шпунк. Еще в девятнадцатом веке он иммигрировал из Германии в царскую Россию в поисках лучшей жизни. Герр Шпунк хотел обеспечить безбедное существование себе и своей большой семье, которую планировал создать на российском Дальнем Востоке. Здесь прадед встретил свою любовь, православную девушку Екатерину. Они поженились, а немного позже решивший окончательно «обрусеть» германец принял православие. Таким образом «чистопородный немец» Отто стал русским Антоном. Первая их дочь родилась еще до того, как он крестился. Ее назвали Валентиной, Валентиной Оттовной. Вторую дочь назвали Еленой, Еленой Антоновной. Так что, родные сестры, имея одних родителей, носили тем не менее разные отчества.
В семье Шпунков рождались еще дети, но выжили только бабушка, ее сестра и мальчик Геннадий. О своем брате бабушка рассказывала очень неохотно, ограничиваясь буквально одной фразой: «Ушел на фронт и сгинул где-то, в самом начале той страшной войны».
Моя милая, любимая бабушка Елена Антоновна, именно она взвалила на себя всю тяжесть забот о больном внуке, когда родители приняли как неизбежное, что лечить мою болезнь невозможно. Понимание этого приходило долго. С появлением очередной газетной статьи о новом «чудодейственном» лекарстве, рождалась новая надежда, с ней являлись бессонные ночи, затем неизбежно наступало разочарование. А я продолжал «ломаться».
Дедушка мой, мамин папа Андрей Аврамович, жил тогда в Астрахани. Родные надеялись, что смена климата сможет улучшить мое состояние. Да и дедушка тянул всех к себе. И мы из влажного Приморья переехали в засушливые и ветреные приволжские степи. Точнее мама с папой остались во Владивостоке, а меня привезли в Астрахань, невыносимо жаркий летом и замерзающий зимой город, ставший моей второй родиной.
Я был отправлен под присмотр бабушки Ани – маминой мамы. Медик по образованию, она и присматривать за мной взялась как профессионал. Присмотр заключался в том, чтобы своевременно отслеживать мои переломы. Обнаружив очередной, мгновенно «играли тревогу», поломанную ногу или руку замуровывали в гипс и ждали момента срастания. Потом гипс снимали и заставляли меня двигаться, заставляли не бояться. Я двигался, но боялся. Боялся сильно. Каждый перелом был страшно болезненным. А приведение поломанной части тела в нормальное недеформированное состояние, перед тем как накладывался гипс, оказывалось просто мучительным.
Тогда моя жизнь состояла из долгих периодов, когда я лежал в гипсе по самую шею или сидел, разглядывая скованные жесткими повязками руки, и коротких моментов, когда, играя с другими детьми, я чувствовал себя ребенком. Хотя уже начинал смутно догадываться, что я не такой, как остальные дети. Большинство моих воспоминаний того периода можно обозначить четырьмя словами «я играю в одиночестве». Но есть и очень яркие.
…Вот я сижу и кручу руль детской педальной машины. Ее привез мне отец. Тогда это было детским богатством. Одной рукой держу руль и управляю, а второй толкаю заднее колесо. До педалей я не доставал и передвигался таким вот образом.
…Вот я на улице, во дворе, еду вперед, смотрю по сторонам. Раскаленный асфальт. От него пышет жаром и нечем дышать – это астраханское лето, но я сам – САМ! – передвигаюсь без посторонней помощи.
…А вот – песок в песочнице, я что-то делаю в нем, мама…
…Сидя, ползаю по полу – «путешествую» по квартире…
…Сижу дома на стуле, свесив ноги… упал со стула лицом вниз… очень больно. Пол прямо перед глазами. Я смотрю в него и весь напрягаюсь, ожидая, как меня будут поднимать. Потому что за всеми прикосновениями – боль. Так и есть. Очередной перелом ноги, перелом ребра, сломана рука… Гипс. Почти на всем, что только есть у человека. Лежать в гипсе нужно как минимум месяц.
…Помню праздник. Наверное, Первое мая, потому что тепло. Я сижу на дедушкиной шее, стараюсь держаться за его голову крепко, насколько позволяют мои слабые руки. Верхом на дедушке я двигаюсь в большой толпе людей. Вокруг множество флагов и надувных шаров. Это – демонстрация.
…Помню рождение сестренки. Мама рожала ее во Владивостоке. Нам принесли телеграмму с известием, что родилась девочка. Вопрос: «Как назвать?»
– Антончик, ты хочешь, чтобы у тебя была сестренка Вика?
– Нет, не хочу. Викафика…
– А как назвать?
– Таню хочу.
Так ее и назвали.
Немногое из событий тех лет сохранила память. Еще – смерть бабы Ани, это впервые коснулось меня. Сначала разговоры на кухне, продолжавшиеся не одну ночь. Потом: «положение тяжелое…», «безнадежное…», «умерла».
Игорь был сыном Эммы Викторовны, которая оказалась рядом с моим дедом Андреем Аврамовичем в те тяжелые для него дни. Позже она стала его женой. Я помню, как Игорь поднял меня вместе со стулом, понес в «зал», как у нас называли гостиную. Игорь очень высокий. Пол где-то далеко внизу. Немного страшно, но я доверяю Игорю – он сильный.
В зале – сумрачно. В середине комнаты стоит «гостевой» стол. Его раскладывают, когда к нам приходят гости и требуется всех рассадить. Я это знаю. Видел два или три раза. Когда кто-то приходит к нам «на огонек», я обычно сижу в спальной комнате и слушаю доносящиеся из зала веселые выкрики, песни, стук вилок и рюмок.
Сейчас в нашей квартире очень тихо, все говорят вполголоса или шепотом. На «гостевом» столе стоит гроб. Игорь подносит меня поближе, и я вижу лицо бабушки, бабы Ани. Оно уже не живое. В гробу лежит она?… Нет, не она. Не живая и не похожая, но моя бабушка. Я плачу, потому что не могу узнать лицо любимой бабушки. Мне страшно.
Не помню, о чем я в тот момент думал и думал ли вообще. Одно помню точно: я увидел Нечто, что не понимал. Почувствовал, как что-то необратимо ушло и больше уже не вернется. Тогда я еще не догадывался, что потерял не только бабушку Аню. Вместе с ней я лишился возможности активно противостоять болезни. Умер человек, который нянчился со мной, заставлял двигаться, благодаря только бабушке я еще держался в форме, мог самостоятельно садиться и даже крутить руль маленького детского автомобиля, что при моем заболевании было большим чудом.
После смерти бабушки Ани какое-то время, но совсем недолго, я находился под присмотром прабабушки – бабы Мани – мамы дедушки Андрея Аврамовича. Она пребывала уже в очень почтенном возрасте и жаловалась на плохую память. Любила баба Маня меня прямо-таки до умопомрачения. Я был для нее не только внуком, но еще и «напоминателем».
Выглядело это очень забавно. Утром, перед тем, как все уходили на работу, бабе Мане поручали сделать «то-то и то-то». Но все подробности, «что и как» объясняли мне. Она выносила меня на середину зала и укладывала на стол. Я лежал в центре комнаты и говорил, какие дела надо делать, какие еще не сделаны. Баба Маня слушалась меня беспрекословно.
Шел 1970 год. Мне уже почти пять лет, скоро нужно отдавать меня в школу. Присматривать за мной некому. Мама с папой и крошечной Танюшкой, которой не исполнилось еще и двух месяцев, недавно переехали в Астрахань. Папа устроился на работу и изо всех сил старался обеспечить семью, маму поглотили заботы о моей малютке-сестренке. Бабушка Аня умерла. Оставалась только старенькая, забывчивая прабабушка Маня, а ей самой требовалась нянька… Родители решили устроить меня в какое-нибудь учреждение, где бы я и находился под присмотром врачей, и мог учиться. Такое вскоре нашлось: Астраханский туберкулезный санаторий имени Войкова.
Было начало лета. Мама несла меня на руках. Я озирался по сторонам, разглядывая растущие вдоль дороги деревья, серый корпус санатория, бетонные дорожки, пробегающих по территории собак.
Со мной уже все ясно. Я серьезно болен. Мама и папа понимали, что помочь мне ничем не смогут. В той ситуации они приняли жесткое, но правильное решение. Правда, то, что оно правильное, я пойму много позже. А тогда мне было невыразимо грустно от предстоящей разлуки с родными.
Спустя год баба Маня попала в психбольницу, где и умерла. Она не пережила, что у нее отобрали ее обожаемого правнука. Резко начала терять память. Ходила по квартире, что-то пыталась делать, но тут же бросала начатое и принималась звать меня…
Дальневосточную правнучку баба Маня невзлюбила сразу. Маленькая девочка, появившаяся в доме, так и не смогла заменить ей любимого Антошу. Дошло до того, что как-то раз все находящиеся в квартире услышали доносящийся из кухни истошный детский крик. Побежали туда и увидели жуткую картину: баба Маня, открыв до предела кран с горячей водой, держала под бьющей из него струей ручки годовалой девочки…
После этого вопрос с прабабушкой Маней, так же как и со мной, был решен кардинально.
Пульс сознания
…В санаторий меня принимала врач Вера Николаевна. Отлично помню ее удивленные глаза. О, сколько раз я видел и еще увижу такие же ошеломленные, устремленные на меня взгляды врачей! Заболевание редкое. Я становился диковинкой даже для профессионалов. Правда, мне сложно сейчас понять, почему у Веры Николаевны был тот самый взгляд. Моя физическая анормальность не была тогда так ярко выражена, как теперь, и я почти ничем от своих сверстников не отличался. Впрочем, нет, отличался. Рост у меня прекратился. Но какими бы стали глаза Веры Николаевны, встреть она меня лет через двенадцать, когда я выписывался из санатория?
Мама поставила меня на койку, поддерживала, и я стоял. Стоял на некрепких, хрупких ногах, цепляясь за мамину руку. Кто же думал, что это – момент моего триумфа? Не помню вообще, чтобы после этого или до этого я когда-нибудь стоял на своих ногах. Возможно, это единственный эпизод в моей жизни – последняя возможность, когда еще можно было «законсервировать» мое состояние, не дать заболеванию одержать полную победу. И конечно же, шанс был упущен.
…Кровать, на которую меня положили «лечиться» в санатории, была высокой, на колесах и с бортиками. Несмотря на изрядную величину колес, крутились они туго, потому что не смазывались с момента выпуска заводом-изготовителем. Такие кровати считались наименее травматичными для лежащих в них маленьких пациентов. Лечение длилось очень долго. Все дети, страдавшие туберкулезом позвоночника, лежали еще и в «гипсовых кроватках». Это – слепок из гипса, который делали так: ребенка клали на живот, а на спину, вместе с головой и ступнями ног, накладывали гипс. Потом этот слепок сушили, и дня через два кроватка была готова. Ребенка клали в нее и привязывали «лифчиком» – фиксирующей повязкой на грудь, чтобы малыш не смог даже слегка пошевелиться и деформировать больной позвоночник. В объятиях таких вот кроваток некоторые дети проводили по нескольку лет.
…Я не знал, какая жизнь меня здесь ожидает. Глядя на привязанных к гипсовым скорлупкам сверстников, не верилось, что они когда-нибудь смогут бегать и прыгать, лазить по деревьям. Я не знал, как здесь станут лечить мою болезнь, какое будущее ожидает меня после лечения. Вид заживо загипсованных детей пугал. Но выбора мне не предлагали. Я был маленьким, несмышленым заложником своей болезни и рациональной воли родивших меня людей. Они делали для меня все, что было в их силах, но сами ходили в невольниках того странного больного общества, в котором мы тогда жили. Общества, где семья, воспитывающая такого неприспособленного ребенка, как я, сталкивалась с жуткими бытовыми, социальными и финансовыми проблемами, перед которыми оказывались бессильными и родительский инстинкт, и сердечная привязанность. Оказавшись один на один со своей бедой, родители прибегли к крайнему, как казалось тогда, средству – под предлогом лечения меня выдворили из семьи. И хотя речь постоянно шла об учебе, истинные мотивы их действий, как я понимаю, были другие. Врачи им уже объяснили, что умру я рано, лет в двенадцать, и нет смысла нянчиться со мной все эти годы. Будет лучше, если смерть настигнет меня где-нибудь подальше. Покидая дом пятилетним малышом, я чувствовал страх, горечь и парализующую тоску по близким, любимым лицам и пусть равнодушному, пусть сердитому – любому, но непостижимо родному маминому голосу, который я слушал еще до рождения.
Так начиналась моя новая «санаторная» жизнь.
…Местные доктора умели лечить костный туберкулез. У меня его не было. Как и во всех других лечебных учреждениях, которых в моей жизни набралось великое множество, в этом санатории врачи впервые сталкивались с таким заболеванием. Как со мной поступить? Так же, как и со всеми. Меня положили на кровать, привязали к ней «лифчиком». Через месяц такого «лечения» меня можно было развязывать. Я бы все равно никуда не двинулся. За четыре недели, проведенные на медицинской привязи, мышцы моего тела окончательно атрофировались. Меня развязали, и я стал отличаться от всех, кто лежал рядом. Теперь я даже мог хвастаться, что лежу без «лифчика». Правда, с тех пор положение лежа стало моими единственным положением в пространстве на всю дальнейшую жизнь. Только лежа и только на спине.
…В палате, где я «лечился», находилось еще двадцать маленьких постояльцев. Летом нас вывозили на веранду, которая тянулась вдоль всего здания. Ходячих детей было совсем мало, основной контингент составляли лежачие. Тяжело это – постоянно чувствовать себя прикованным к постели, не бывать на воздухе, не видеть деревьев, неба, облаков… Поэтому когда в начале лета мы слышали слова медсестер и нянечек: «Вывозим!», – у нас случалось «тихое помешательство» от радости. Начинался праздник. Мы прислушивались к шуму листвы, к птичьему чириканью, жадно глазели на зелень.
Днем нас изматывала жара и духота, но ночами мы наслаждались прохладой. Спали под пологами из марли, каждый под своим. Иначе невозможно: комары в Астрахани – просто звери. Тем более что возле нашего туберкулезного санатория «шумел камыш». Шумел в буквальном смысле. Ветхие, бесхозные, трубопроводы, в изобилии проходившие мимо детского лечебного заведения, давали многочисленные течи. Вода стекала в котлован, питая обширное болото – своеобразный камышово-комариный рукотворный заповедник, откуда на нас и налетали тучи маленьких кровососов.
…Лечение заключалось в неподвижном лежании на протяжении многих месяцев, порой лет и регулярном употреблении огромного количества таблеток. Я таблеток не пил – лекарства от моего заболевания еще не изобрели, а довольствовался только витаминами. Таблетки при лечении туберкулеза назначались врачами просто в лошадиных дозах. На вес. Граммами. К примеру, если прописывалось семь граммов популярного в то время лекарства «ПАСК», – самое распространенное назначение и не самое большое – то за один прием нужно было выпить сразу четырнадцать таблеток.
Мальчику, кровать которого находилась рядом с моей, прописали «Фтивазид» – что-то от туберкулеза. Как-то раз он дал мне его попробовать. Вкусом это было похоже на мел. Но мне понравилось, и с тех пор, я собирал «Фтивазид» у всех, кто его принимал. Я до сих пор не понимаю, как я тогда не отравился. Ведь было отчего.
…Вокруг санатория и на его территории бродило много всякого бездомного зверья, кошек, собак. Особенно много крутилось их возле кухни. Прибегала туда поживиться отходами и большая рыжая псина, которую мы сразу заприметили. Собака часто подбегала к нашим кроватям. Дети тянули к ней руки, чтобы погладить, но бдительные няни всегда ее отгоняли. В санатории боялись инфекции, особенно глистов. Очень часто этих паразитов находили у сельских детей. Глисты и вши – это то, что в первую очередь начинали искать у всех поступивших в санаторий.
Собака перебегала от одной кровати к другой. Ее отгоняли, выталкивали за железные ворота веранды. Далеко она не убегала, а крутилась все время рядом. Кому-то пришла в голову идея «полечить» собачку. К ней полетел ломоть колбасы, с кусочком сала, роль которого играла таблетка, всего одна таблетка. Собачка мгновенно проглотила колбасу, завиляла хвостом и улеглась на солнышке.
Умирала она страшно. Часа через полтора, собака, как будто поняла – то, что стало с ней происходить, исходило от нас. Она стала метаться вдоль железной ограды, выискивая лазейку, чтобы проникнуть внутрь. Вход был один – дверь. Она рванулась к ней. Заскулила… Няни отгоняли ее, но псина еще два раза попробовала преодолеть этот заслон. Потом, обессилев, легла. Через пару минут опять вскочила, но задние лапы уже не слушались. Она поползла по земле, опираясь на передние, поползла упорно к двери, но через пару метров, отказали и передние. Собака подняла голову, посмотрела в ту сторону, где лежали мы, напуганные и притихшие, заскулила, изо рта пошла пена…
Больше мы не проводили подобных экспериментов. А мне этот случай так сильно врезался в память, что я до сих пор ощущаю вину, вспоминая собачьи глаза. Что было в них? Укор нашему жестокому детскому любопытству или просто слезы отчаяния?
…С того же времени во мне зародилась нелюбовь к кошкам.
Стояла глубокая ночь. Я проснулся от странного царапанья по постели. Открыв глаза и повернув голову, увидел совсем близко что-то темное. Это была кошка, она как бы присела, а ее хвост находился у моего лица.
– Брысь, брысь!
Все спали, и я кричал шепотом. Никого будить не хотелось. Я попытался до нее дотянуться рукой, но не смог. От резкого движения в плече что-то хрустнуло. Перелом.
– Брысь, брысь! – шептал я, глотая слезы и, вдруг, мне в нос ударил резкий, очень неприятный запах. Кошка спрыгнула на пол. Приглядевшись, я увидел, как по простыне расплывается темное пятно и с ужасом осознал, что же произошло.
Позвать никого я не мог. Как обычно, ночью дежурили две медсестры и санитарка, но они всегда ложились спать в комнате, находящейся в самом конце очень длинного коридора. Кричать бесполезно. Даже если кого-то и разбужу, то в результате меня же и отругают. Этого я не хотел. Никто бы не стал менять мне постель глубокой ночью.
Я отодвинулся от злополучного пятна на несколько сантиметров – насколько позволила ширина койки и попытался заснуть, заткнув нос полотенцем, но дышать через рот не мог, начинал задыхаться. Время до утра тянулось мучительно медленно.
С тех пор я могу смотреть на кошек, которые нарисованы или разглядывать их фотографии, но только тем и ограничивать свое общение с этими, безусловно, милыми и грациозными животными.
…В санаторий я попал в начале лета 1970 года. В августе мне исполнялось пять лет. Я хорошо помню тот день рождения. Тем летом мы лежали не на веранде, а в беседках. В тихий час, когда все спали, я услышал шепот:
– Можно я к нему пройду? У него сегодня день рождения. А я тороплюсь.
– Можно, пройдите.
Через секунду я увидел над собой лицо деда.
– С днем рождения, Антоша. Я тебе там фрукты принес, вот книжка…
– Спасибо, дедуля.
Это я запомнил, а следующий просвет – когда я уже начинал учиться. Также – день рождения, мне уже семь лет. Я готовлюсь в школу. Подарки: портфель, тетрадки, карандаши, ручки… Объяснить такую избирательность памяти я не могу. Но могу предположить. Вероятно, я интуитивно почувствовал, что родных мне предстоит видеть очень редко. Этот робкий домысел был очень горек и память не приняла событий, связанных с ним. Память сохранила горечь, но не сохранила всех подробностей.
…До моего родного дома было две трамвайных остановки. Узнав это, санитарки и медсестры грустно надо мной подтрунивали.
– Что, улица Яблочкова опять в блокаде?
В среднем меня навещали один раз в год. Только дедушка Андрей Аврамович и бабушка Елена Антоновна.
…Мне – восемь. Но я все еще лежу с малышами, в палате, где возраст – до 6 лет. Есть опасения, что в палате для старших меня могут «сломать», начнут пацаны бегать по кроватям и случайно наступят – так мне объяснил мой врач, Герман Васильевич. Но есть и «плюсы», я в этой палате самый старший. Я – староста.
День начинался в 7.00 с измерения температуры. Медсестра вставляла градусники под мышки детям, еще плохо соображающим после сна.
– Держи, – голос медсестры.
– Держу, – отвечал ребенок.
– Держишь? – еще раз, чтобы окончательно разбудить, спрашивала медсестра.
Потом приходила санитарка, подавала всем судна, приносила чайник с тазиком, умывала. Мы просыпались окончательно и внимательно вслушивались в то, что происходило в длинном коридоре. Раздавался грохот тележки – это значит завтрак уже привезли и скоро начнут развозить по палатам. Вот звук тележки все ближе и ближе. Вот она останавливается рядом с нашей палатой и санитарки с медсестрами идут вдоль кроватных рядов с подносами.
Сначала разносится каша. Потом то, что можно назвать «вторым» блюдом – салат из помидоров и огурцов, или килька в масле. Потом подается чай. На стакане с чаем лежит хлеб с шоколадным маслом. Сладкое я всегда отдавал соседям. Взамен получал что-нибудь из «солененького» – того, что было «не кашей». Кашу я невзлюбил сразу и на всю жизнь. Она стала моим пищевым проклятьем. Каша, каша, каша: пшенная, рисовая, манная… Каша преследовала меня все двенадцать лет «санаторной» и все последующие годы кочевой больничной жизни. С тех пор я неизбежно вздрагиваю при одном только слове «каша».
После завтрака разносили лекарства и начинался обход. Проводил его лечащий врач палаты, а раз в месяц все врачи отделения подходили к каждому ребенку и обсуждали дальнейшее лечение. Возле меня задерживались недолго.
– Антон, как у тебя дела?
– Все хорошо.
– Молодец.
После обхода медсестры брались за каталки и развозили детей по «классам», то есть по соответствующим палатам. В каждой палате на стене висела доска. На ней мелом учительница писала задания.
Мою первую учительницу звали Тамара Ивановна. Я даже помню ее фамилию – Коробцева.
Палат было всего пять, поэтому классы объединяли. То есть, первый, второй и третий – все находились в одном месте и на всех одна учительница. Школа работала как настоящая. Только уроки на 10 минут короче, чем в обычной, и большая перемена – 25 минут, чтобы можно было покормить детей «вторым» завтраком и отвезти на процедуры тех, кому они назначены. Все же это было прежде всего медицинское учреждение, и учебный процесс подстраивался под лечение, назначаемое врачами.
…Я, как правило, учился в той же палате, в которой и лежал. Меня старались не трогать. Да я и не особо давался. Каждое такое перекладывание с кровати на каталку и обратно грозило переломами. Врачи это понимали. Понимали и нянечки с медсестрами – те, кому в основном приходилось мной заниматься. Поэтому обычно меня перевозили прямо на кровати.
Все же перекладывать хотя бы раз в неделю было нужно – нас возили в баню. С каким ужасом я ожидал этого «банного» дня! Ужас мой объяснялся просто – неловкое движение во время поднятия, неуклюжее прижимание мгновенно трансформировались в дикую боль, в перелом и последующее за ним гипсовое мученье, которого я боялся больше самих переломов.
В конце концов я стал их скрывать. Иногда врачам удавалось уличить симулянта, и тогда меня везли в гипсовочную комнату и накладывали белокаменную повязку – все проходило очень болезненно. Врачи пытались сохранить мои руки и ноги без деформаций, которые следовали за каждым переломом и всегда тщательно вправляли травмированные кости. Это было мучительно.
Со временем врачи просто морально устали терзать мое маленькое тело и стали легко «верить» когда я, боясь вправлений, откровенно врал, скрывая очередной перелом. А они следовали один за другим. Мои руки после «подпольных» самостоятельных сращиваний стали сильно искривляться. На ноги я тогда мало обращал внимания. Я знал, что они никогда не пойдут. Как-то мой дед шутливо предложил вообще их ампутировать. Зачем они, если столько переломов? И хотя в шутке деда скрывалась горькая правда, я не согласился – и без того очень короткий. Но руки мне были нужны. Я всегда боялся кого-то о чем-то просить. Страшнее всего чувствовать себя обузой. В санатории меня никогда не кормили, я всегда ел самостоятельно, самостоятельно чистил зубы. Даже сломанной рукой я умудрялся это делать.
Саратовские страдания
Когда я учился во втором санаторном классе, однажды за мной пришла мама.
– Сынок, поедем полечиться?
– В Саратов. Учебу продолжишь там. Может быть, врачи что-нибудь сделают.
Меня выписали домой. Я уже отвык от него – отсутствовал четыре года. Побыв несколько часов в домашней обстановке, на следующий день я покинул его вновь. Мама увезла меня на поезде в Саратов.
Я не знаю, что произошло тогда в действительности. Врачи почему-то взялись меня лечить. Мама подписала документ, обязываясь не иметь претензий к медикам, если во время лечения со мной что-то случится. Она сказала об этом, когда уезжала.
– Сынок, здесь тебя попробуют полечить. Я подписала все необходимые бумаги. Это очень серьезно. Врачи обещали что-то придумать. Слушайся их. Теперь мы с тобой не скоро можем свидеться.
В свои восемь лет я еще многого не понимал, но то, что здесь в чужом городе долго не увижу родных, было яснее ясного. Я и в своем городе не видел их месяцами.
Попал я в Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. В палате, куда меня определили, лежали еще три человека, точнее – мальчика, но все значительно старше меня. Двоих ждали операции на позвоночниках, третий лечил ногу. Все не ходячие.
Телевизора в палате не полагалось. Делать было абсолютно нечего, и дни напролет я читал. Читал все, что попадалось в руки. Раз в неделю приходила библиотекарь забирала прочитанное, приносила заказанное ранее и принимала новые заявки. Здесь я впервые услышал о книге «Земля Санникова», о Дюма и «Трех мушкетерах». Услышал, но не прочитал. Ребята, лежавшие рядом, не собирались делиться со мной тем, что они читали и живо обсуждали. А сам я просить не хотел. Потому что уже знал: в ответ на просьбу получу порцию насмешек и оскорблений.
Воспоминания о Саратове связаны с чувством унижения. Трудно отделаться от этого. Я находился один в чужом городе. Точно знал, что никто не принесет мне передачу. Как можно описать взгляд ребенка, который смотрит на соседа, только что получившего гостинцы из дома? Каким мог быть мой взгляд, когда я смотрел на лежащего в полутора метрах от меня мальчишку, поедающего шоколадку или апельсин? Хотя, помню точно, больше всего мучений мне доставляла жареная картошка. Запрещенную к передаче, ее все же умудрялись переправлять через окно. Этот деликатесный продукт накладывали в стеклянную банку, помещали в сетку или целлофановый пакет. Из окна выбрасывалась вниз веревка, к ней привязывался кулек с жареной контрабандой, и все это медленно плыло к нам в палату. Тот, кто находился у окна – тянул, а остальные были на «шухере» – просто прислушивались к шагам в коридоре. Таким же образом передавалась и запрещенная колбаса.
Как-то, не выдержав, я все же осмелился попросить картошки.
– Слава, дай, пожалуйста, чуть-чуть…
– Пошел вон, урод.
Потом Слава вдруг зло улыбнулся.
– Пей ссаки.
– Ты чего?
– Выпей мочу, тогда дам.
– Ну и заткнись, урод!
Вскоре в нашу палату поместили еще одного мальчика, лет девяти. Над ним сразу и постоянно стали издеваться старшие. Мальчик был «ходячий», и часто у него требовали что-то подать, что-то принести. Он выполнял беспрекословно. Взамен получал оплеухи и оскорбления. Я видел, как его заставляли делать то же самое, что предлагали и мне – пить мочу. Прямо из суден, в которые делали свои «дела» старшие. Посмотреть бы сейчас им в глаза.
Помню только одно радостное событие – когда я получил посылку – бандероль, в ней не оказалось никаких сладостей или вкусностей, просто пара чистых конвертов и книга! «Ура!!! Моя собственная книга!!!» Мне подарили книгу. Это были «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Я прочитал ее один раз, потом второй. Потом еще. Странным образом все описываемое – житье, обиды и унижения Тома накладывались на мою жизнь. Я, также как Том, ощущал полную свою ненужность, оторванность от близких. Вот только друга у меня не было, и убежать я никуда не мог, хотя робко мечтал когда-нибудь вернуться домой любимым, долгожданным проказником.
Я лежал. Время шло. Раз в месяц в отделении проводился «профессорский» обход. По всем палатам проходил главный врач института. Сопровождаемый коллегами и студентами, он подходил к каждому пациенту, вытаскивал рентгеновский снимок из конверта, который перед этим приносила медсестра и раскладывала в ногах у всех, кроме меня…
За время нахождения в саратовской клинике я ни разу не видел этого профессора, а он не видел… Угадайте, кого?
В первый «профессорский» вторник, когда уже зашумели голоса в коридоре: «Обход!» – к моей кровати подкатили каталку.
– Куда мы?
Все необходимые обследования я уже прошел. Меня возили на рентген, снимали кардиограмму, делали что-то еще…
– В перевязочную.
– Там немного полежишь.
Меня переложили на каталку и повезли. Перевязочную я еще не посещал. Мне пока нечего было перевязывать. Интересного здесь оказалось мало. Ослепительно белые стены, такой же потолок, стеклянные шкафы с завораживающе блестящими инструментами.
Полежал я здесь «немного». Часа полтора. Шум, который создавал, переходя из палаты в палату, профессор со свитой, сначала приближался, потом начал отдаляться и затихать. Обход закончился. За мной пришли.
– Поедем в палату?
– А обход?
– Уже все. Всех прошли.
Кроме меня… И потом еще два раза я оказывался в перевязочной во время профессорских обходов. Через пару месяцев меня перевели в «послеоперационную» палату и сообщили, что скоро за мной приедут – они дали телеграмму домой. Прошло недели полторы, и вот…
– Ну что, поедешь домой? За тобой приехал дедушка, – подошедшая ко мне медсестра светилась довольством. Чувствовалось, она рада, что я уезжаю и перестану, наконец, мозолить глаза всем и ей в том числе. Неудачливого пациента одели в одежду, привезенную дедушкой, вывезли на каталке.
– Дедуля! – радость переполняла меня. Я еду домой, вижу родное лицо!
– Ты почему не захотел лечиться? Почему не подпускал врачей? Почему ты отказывался от всего? – вместо приветствия набросился на меня дедушка.
– Кто тебе сказал, дедуля?
– Так сказали врачи. Они сказали, что ты отказался от лечения.
– Но это ведь неправда! – я не знал, что делать от отчаяния.
– Правда. Я им верю.
Потом дед все же смягчил тон.
– Скоро будем дома. Сейчас поедем на вокзал.
Почему-то ему не пришла в голову простая мысль: тому, кто «не допустил до себя врачей» и «отказался от лечения», было всего лишь восемь лет. В свои лета он мало что соображал. Ведь возили же его, этого восьмилетнего, на всякие обследования, процедуры? Кто бы ему стал объяснять, что сейчас его повезут на операцию? Да и что бы он смог сделать, если бы даже это понял?
Мы переночевали в комнате матери и ребенка на вокзале. Все было для меня интересно, ново. Уже тогда я не мог засыпать в незнакомых местах. Помню, всю ночь слушал вокзальные шумы: маловразумительные, лающие объявления, пронзительные, торопливые гудки, дробный стук колес…
Через сутки с небольшим нас встречали в Астрахани. Я вернулся домой. Радости мое возвращение никому не доставило. Счастливый конец, какой был у истории, произошедшей с Томом Сойером, моей историей не предусматривался.
Я отсутствовал дома четыре года и совсем не узнавал его. По комнатам бегала сестренка Таня. Все внимание уделялось ей. Ну а я находился здесь только потому, что дед не успел договориться с администрацией санатория, чтобы меня опять туда приняли.
Спустя много лет мама призналась, что из Саратова меня вообще не ждали: она подписала все бумаги, снимающие с врачей ответственность в случае моей смерти, и в глубине души надеялась, что так и произойдет.
Слушая признания матери, я не мог отделаться от ощущения, что она чего-то не договаривает, но мучить ее неприятными вопросами не хотелось – впервые за много лет она пришла ко мне в гости. Зову крови невозможно сопротивляться. Если ты не дегенерат, обязательно потянет тебя к родителям, нестерпимо захочется благоговейно прикоснуться к рукам матери, даже если когда-то она желала твоей скорейшей смерти. В такие минуты все прощается. Вот и я тихо радовался приходу мамы и не собирался рыться в отболевшем.
Теперь рискну предположить, что изначально была некая договоренность, возможно, с денежной подоплекой, о том, чтобы врачи под завесой лечения гуманно избавили родителей от тяжело больного ребенка. Медики тоже люди и вполне могли посочувствовать моим родным. Ведь мало кто кроме врачей понимал всю безнадежность моего состояния. Зачем обрекать на обоюдные муки несчастное дитя и его родителей, если можно избавить их от терзаний при помощи медицины? Кто потом будет разбираться отчего умер маленький пациент, заболевание которого просто несовместимо с жизнью? Увидев мой, исковерканный болезнью трупик, даже самый въедливый следователь прокуратуры ни на секунду бы не усомнился в естественности гибели больного.
Но что-то в этой схеме не сработало. Попытка приватной эвтаназии не удалась. Попросту говоря, не нашлось в институте хирурга, способного взять на себя грех убийства восьмилетнего мальчика. К счастью. Потому что в том возрасте мысли о смерти меня пугали – я не просто хотел жить, я жаждал жизни, страстно, так, как это умеют делать, наверное, только дети, и умерщвлять меня, когда я этого не хотел и боялся, было бы бесчеловечно. Спустя десять лет я был готов к такому повороту событий, а тогда – нет.
Удивительно другое – никто из врачей института не проявил интереса к редкой патологии и не захотел связываться с маленьким пациентом, носителем уникального ортопедического феномена. Почему? Если я лежал в клинике на законных основаниях, официально, почему меня упорно прятали от профессора? Почему выписали, не сделав попытки провести хоть какое-нибудь лечение, даже не выписали – выбросили? При этом врачи наплели деду, что я не подпускал их к себе. В общем, всю ответственность переложили на восьмилетнего мальчика. Подобное поведение наводит на мысль, что находился я в институте нелегально, что в отношении меня существовал какой-то замысел, который не осуществился по неизвестным причинам, и когда это произошло, от меня поспешили избавиться.
Но тогда об этих странностях я особенно не задумывался. А мои родные то ли на самом деле поверили врачам, то ли сделали вид, что поверили. И все время, проведенное мной дома, оказалось отравленным бесконечными упреками. Они, по словам матери, делали все возможное для моего лечения, а я, неблагодарный, просто гробил их силы, время и деньги. Саратовский НИИ стал последним местом, куда мои родные устроили меня, все еще, как говорила мать, «надеясь на чудо». Чуда не произошло. И виновным за это назначили меня. Больше со стороны родителей никаких попыток моего лечения не предпринималось. Зачем, если все их усилия я свожу на нет, все порчу и не желаю лечиться, в смысле – умирать?
Жизненное пространство
Дома меня предоставили самому себе. Сидеть я уже не мог – «лечение» в санатории сделало свое дело. Если раньше я бойко перемещался по дому, сидя на попе, то теперь мог только лежать. Лежать, а если опускали на пол, передвигаться ползком, на спине – примерно так, как это делают перевернутые черепахи. Я упирался головой в пол, затем двигал в нужную сторону на несколько сантиметров попу, подтягивал голову и «наматывал» метры по квартире. Так я «гулял» – ползал по всем трем комнатам.
Перед уходом мама оставляла мне два-три сырых яйца, немного соли, пару кусочков хлеба, наливала большую чашку чая. Это и было моей едой на целый день, пока кто-нибудь не возвращался домой. Если нужно было в туалет, то я все «делал» на газету, которую затем аккуратно упаковывал в целлофановый пакет. Я старался причинять как можно меньше хлопот своим родным.
Пол той квартиры был для меня и спальней, и столовой, и туалетом, и сквером для прогулок, и местом для интеллектуального развития.
Я смотрел телевизор. Кнопка для его включения находилась на стабилизаторе. Когда требовалось включить, я подползал к небольшому пластиковому ящику и локтем нажимал кнопку. Было единственное неудобство, – я мог смотреть телепередачи только одного канала – пультов дистанционного управления мы еще не знали. Да и телеканалов в Астрахани было тогда всего два. Вечерами, перед тем как все ложились спать, я просматривал телепрограмму, оценивал, на каком передачи лучше и просил настроить на него телевизор. Однажды, пытаясь включить стабилизатор, я нажал на кнопку очень сильно и сломал плечо.
Но главное – у нас была хорошая библиотека и я умел читать. Читал я с упоением. Все, что попадало в поле моего зрения. Одна из первых прочитанных книг – роман Николая Островского «Как закалялась сталь». Не знаю, какими соображениями руководствовалась мама, предлагая мне эту книгу, но книга меня потрясла. Поражали не живучесть и упорство Павки Корчагина, а то, что фундаментом живучести была Идея, он жил не для себя, а ради чего-то. Впечатляла реальность описанного, понимание, что совсем недавно жил на земле такой парень. «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так…» – эту цитату я выучил наизусть и даже сейчас, спустя много лет, могу воспроизвести весь тот отрывок целиком.
Я прочитал много томов Конан Дойля, читал «Детскую Энциклопедию», книга была очень большая и тяжелая для меня. Держать ее в руках я не мог. Но знать «где что есть» и «как все устроено» жутко хотелось. Я исхитрялся: просил родителей ставить книгу на опору сбоку от меня и читал, перелистывая страницы. Если книга заваливалась, то чтение заканчивалось. Приходилось ждать когда кто-нибудь придет и поднимет. Пробовал читать Бальзака, но все казалось очень скучным. Трудно ожидать какого-то иного впечатления от романов неподражаемого Оноре, если читающий – мальчик восьми лет. Но я прочитывал все, что попадало в мои в руки. Вот только сказок не любил: сапоги-скороходы и ковры-самолеты не возбуждали мою фантазию. Я ими все равно не смог бы воспользоваться ни в жизни, ни в мечтах.
Тогда же я научился читать быстро – просто читал, пропуская пейзажные зарисовки и изображения природы. Вокруг меня все время кружилась одна «природа» – стены и потолок. Поэтому все описания заходящего солнца, трепещущих на ветру листьев, шелестящей травы – все это было мне непонятно. Этого оценить я не мог. Все это я научился ценить позже. А тогда меня интересовала только динамика сюжета. Видимо давала себя знать натура.
Как-то мама подошла ко мне, держа в руках какие-то небольшие коричневые палочки.
– Это спицы. Хочешь, я тебя научу вязать?
– Конечно. Только я, наверное, не смогу. Мне тяжело будет.
– Нет. Я выбрала легкие спицы, вот попробуй, они из бамбука.
Спицы, действительно, оказались очень легкими.
Помню, как из каких-то желтых ниток вязал шарф. Процесс шел тяжеловато – я с трудом удерживал искривленные руки на груди. Но вязать было очень интересно. Я вывязывал клубок до конца, потом распускал свое «произведение», сматывал нитки в клубок, и все начиналось сначала. Мне просто нравился процесс.
Также и в доступных мне книгах я искал в первую очередь действий, поступков, борьбы, приключений и прочих завязок-развязок, всего того, чего в этой жизни мне испытать не суждено. Так мне тогда казалось, но это мало меня расстраивало. Я жил на полу родительской квартиры, увлеченный захватывающими книжными делами и похождениями своих новых литературных знакомых, чьи фигуры и лица проступали сквозь испещренные буквами листы. Проникаясь чужими воображаемыми проблемами, я забывал на время о своих собственных.
«Домашний период» закончился месяцев через восемь. Как-то, ни с того ни с сего, у меня началась рвота. Рвало целый день. Как я оказался на больничной койке – не помню. Попал я в инфекционную больницу, в палате лежал один. За стеной, точнее за тоненькой перегородкой, раздавался голос соседа, который лежал с мамой. Я же был один, как всегда.
Недели через четыре меня выписали. Я так и не понял, что же со мной случилось. Скорее всего, врачи тоже ничего не поняли. Уже позже дед рассказал – они связали то резкое ухудшение здоровья с моим заболеванием. Как ему объяснили, мой организм взрослел, а тело давно уже перестало расти. За свою жизнь я должен буду перенести несколько таких кризисов, один из которых обязательно будет смертельным. Об этом, кстати, врачи рассказали и матери, уверив ее в моей скорой кончине.
Много позже, когда мне было уже двадцать пять, мама призналась:
– «Знаешь, сынок, мне ведь тогда врачи обещали, что ты не доживешь до двенадцати лет. Только поэтому я не отказалась от тебя.»
– Но я же до сих пор жив.
– Да, но кто ж тогда мог это знать?
Что тут скажешь? Только то, что ошибочный прогноз врачей оказался счастливым для судьбы пациента, чьи родители, дожидаясь его скорой смерти, не стали сдавать сына в приют для отказных детей, где он неизбежно и сгинул бы много-много лет назад.
Домой из инфекционной больницы я не вернулся. Я вернулся в санаторий, который в общем-то с большим основанием мог считать своим домом.
Незваный гость
За весь свой «санаторный» период я «погостил» у родителей еще один раз. Мне тогда исполнилось четырнадцать. Наступало лето. В санатории грянул капитальный ремонт, на время которого всех детей решено было выписать по домам.
Я рвался домой, но мои родители не хотели меня забирать. Врачи несколько раз посылали телеграммы близким, но близкие не реагировали. Все дети разъезжались. Что со мной делать никто не знал. Уезжала моя подружка Наташа. Она тоже считалась старожилом санатория – лечилась от туберкулеза позвоночника. Будучи совсем детьми, мы лежали в одной палате. Детей до восьми лет клали вместе, и никто не обращал внимания на пол ребенка. Я в такой палате, для «маленьких», пролежал до десяти лет.
Наташка пришла попрощаться.
– Антон, а ты что будешь делать? Все почти разъехались.
– Я тоже скоро уеду. Может быть, меня заберут, – сказал я неуверенно.
– А давай напишем записку твоим? – вдруг предложила Наташка.
– Я сейчас напишу.
Она села около моей тумбочки и стала что-то царапать шариковой ручкой.
– Вот, смотри!
Перед моими глазами оказался лист бумаги, с бегущими неровными строчками: «Мать, почему ты не забираешь меня?…» – а дальше очень грязное ругательство.
– Нет, я так не хочу! У меня очень хорошие и мама, и папа.
– Хорошие? Да ты им не нужен. Ты же видишь, не хотят они, чтобы ты ехал домой.
– Нет. Порви то, что написала. Порви!
– Хорошо. Ну, я пошла. Может быть, еще увидимся. Пока! – Она протянула мне руку.
Через два дня за мной все же приехал дед. Когда я очутился дома, то понял, что здесь меня не только не ждали, но и не желали видеть.
– Ты что это ругательные письма пишешь? – с порога набросилась мать.
– Какие письма? – я ничего не понимал.
– Вот это письмо, – она протянула мне ту самую Наташкину записку. – Оно оказалось в нашем почтовом ящике. Лежало без конверта.
– Но я этого не писал. Ты же видишь, это не мой почерк?
Мама все равно не поверила: «Тут твоя подпись».
Моя подружка Наташа перестаралась. И без того меня считали здесь лишним. Я видел это в вопросах и взглядах сестренки, которая давно привыкла, что она главная в этой семье и все внимание должно уделяться только ей. Я читал это в поведении матери, в ее глазах. Нет, ей не приходилось «выгребать» из-под меня, или что-то подобное. Но тем не менее я не мог обходиться без посторонней помощи. Мне нужно было помогать мыться, давать еду, воду, нужно было ломать голову, что делать со мной, если они захотят куда-нибудь поехать. Мать была уверена – она тратит силы напрасно, никакой пользы от меня в будущем ожидать не приходится – я дерево, никогда не принесущее плодов, – вот что говорили ее глаза, вот что я в них читал.
Я читал это и в глазах отца, которого видел не часто. К тому времени его назначили директором рыбного завода; он работал допоздна, бывало по выходным. Иногда он заходил в нашу с сестренкой комнату, садился напротив и отсутствующим взглядом смотрел на меня, словно говоря: «Что же ты так подвел меня, сын?»
В июне, практически сразу после моего появления дома, мать решила, что лучше всего нам переехать на дачу и там провести самый жаркий месяц года. Кондиционеры в то время были приборами просто космической недосягаемости. Наша семья не считалась бедной – все же отец имел престижную должность, тем не менее кондиционером мы похвастать не могли. Я вообще не слышал о кондиционерах в то время, хотя астраханское лето переносится очень тяжело. Температура порой поднимается выше сорока градусов по Цельсию в тени.
Был назначен день переезда. Я ожидал от него переломов, так как при переезде меня обязательно станут переносить. И не один раз. Утром назначенного дня мама с отцом о чем-то долго говорили на кухне.
– Сынок, мы сейчас с Таней уедем, а после шести часов приедет папа и привезет тебя.
Мама поставила на пол тарелку с обычным моим завтраком и обедом: два сырых яйца, хлеб, соль и чай. Я остался ждать. Однажды, когда мне было четыре года, меня так же оставили одного. Я ждал, ждал, ждал родных. Обычно ничего страшного не происходило, но в тот вечер они сильно задерживались. Когда растворились последние солнечные лучи, проникавшие в нашу квартиру, стало темно. Свет я включить не мог. Оставалось только по-щенячьи подползти к входной двери и, вглядываясь в тончайшую полоску света у самого пола, прислушиваться к шагам на лестнице. Проходили мимо люди: вот кто-то вошел в квартиру напротив, кто-то поднялся этажом выше. Я хорошо научился слышать и различать все, что делается снаружи. У меня не было возможности выйти и посмотреть, но у меня имелись уши. Я напряженно вслушивался в шум и звуки доносящиеся снаружи, ждал, когда в дверной замок вставится ключ – я узнал бы этот звук из тысячи самых разнообразных звуков. Но было тихо.
И тут мне стало страшно, что я навсегда останусь один, в этой пустой безжизненной квартире.
Я заплакал. Сначала тихо. Потом громче. Через минуту я уже орал.
К двери подошла женщина.
– Что случилось?
– Мама! Мама! Мама не идет! – орал я.
Подошел еще кто-то, они тихо, невнятно поговорили. Отошли.
Через какое-то время я услышал долгожданное, спасительное позвякивание в дверном замке.
– Ты что это устроил истерику? – строго спросила мать.
– Чтобы я больше этого не слышал, – почти со злостью бросил отец.
И больше я ничего не боялся. Точнее, боялся, но старался никогда этого не показывать.
В день переезда на дачу я снова ждал. Стояла жара. Наша квартира располагалась на первом этаже. Окна были открыты. На этот раз я слушал улицу. Возле подъезда, как и всегда, сидели соседки. Пожилым женщинам делать было нечего и они обсуждали всех, кого видели.
– Нина, здравствуй! Ты с работы? Посиди с нами, устала, поди?
– Здравствуйте, тетя Лида! Нет, спасибо, ужин готовить нужно. Мой с работы придет, а дома ничего не приготовлено.
– Да и, правда, ты вот все по дому, по дому. Он тебя обижает?
– Нет, что Вы такое говорите, тетя Лида? Он меня никогда не обижает. Выпить любит, но так ведь он работает много, иногда и расслабиться нужно. Я пойду. Позже, может быть, выйду.
– Ладно, Нина, иди. Не бережешь ты себя, худющая-то какая. Я ведь знаю, что твой работает много. Молодец он у тебя. Все в дом, – голос у говорящей был сочувствующий, почти жалеющий.
Послышались удаляющиеся по лестнице шаги.
– Она ленивая, да и муж такой же. Как напьется, так бьет ее. Видимо, есть за что, – голос принадлежал все той же «тете Лиде», которая только что жалела ушедшую соседку.
Зная о злых соседских языках, мать старалась не вступать в разговоры с лавочными «сиделками». И очень редко кого-то из них приглашала домой. Хотя тетушки ее уважали. Во всяком случае демонстрировали это, когда приходили «на минутку» по своим соседским делам: попросить взаймы соли или муки.
Я слушал эти лавочные пересуды, ждал отца и старался прокрутить в воображении как он станет переносить меня в машину, как возьмет на руки, как будет держать, закрывая входную дверь ключом, выходя из подъезда, открывая дверцу машины, укладывая на сиденье, как в это время мне лучше придерживать рукой ногу. Короче, это был обычный процесс: я мысленно готовился, стараясь предусмотреть все возможное, чтобы не сломаться, а если сломаться, то не в нескольких местах сразу.
Время подходило к семи вечера, когда я услышал, как в замок вставили ключ – пришел отец.
– Что, сын, ждешь? Я сейчас помоюсь, немного отдохну и поедем.
Летнюю жару отец переносил тяжело из-за псориаза. По его рассказам, в районе Новой Зеландии их корабль накрыло радиоактивное облако. По кораблю объявили тревогу, все укрылись внутри, а он не успел. Облако образовалось в результате испытания ядерного оружия на атолле Муруроа. После того плавания отец какое-то время провел в больнице. Псориаз проявился позже и всякий раз обострялся в моменты нервного напряжения. С назначением на должность директора рыбокомбината отец нервничал постоянно.
Красные шелушащиеся пятна появлялись у него по всему телу – в периоды обострения они стягивали кожу и сильно чесались. По причине заболевания отцу приходилось носить рубашку с длинными рукавами даже в летнее время – чистым оставалось только лицо. Никто на рыбзаводе не знал о его болезни, а он очень стеснялся. Пятна выглядели страшно, и хотя заболевание это не заразное, впечатление складывалось отталкивающее. Каждый вечер, вернувшись с работы, он шел в душ, а потом долго сидел в кресле, растирая свои пятна, часто до крови. Кусочки отшелушившейся кожи валялись потом по всему полу, и мать постоянно ругала отца за это. Только он не мог иначе. Болезнь протекала мучительно. Отец пытался лечиться у разных специалистов, но ничего не помогало. Мать где-то нашла рецепт мази, которая приносила облегчение. Снадобье делалось дома, из компонентов, которые пахли очень неприятно. И только вечером, после того как отец намазывался своим пахучим лекарством, можно было видеть его отдыхающим от изматывающего зуда.
Немного посидев в кресле и придя в себя, отец прошел на кухню и выглянул в окно.
– Что они здесь сидят? – в его голосе слышалось раздражение. Я только сейчас понял, отец не просто отдыхал после работы, он ждал, когда уйдут соседки. Время подходило к девяти вечера, а они все сидели у подъезда и расходиться, судя по оживленной беседе, не собирались. А нам нужно ехать за город.
Отец прошел в спальню, окна которой выходили на другую сторону. Здесь никого не было. Он вытащил противокомариную сетку, открыл окно и выставил на улицу стул.
– Давай, сынок! – он приблизился и взял меня на руки. Когда меня поднимал отец, я боялся меньше. Руки у него сильные, и брал он всегда очень осторожно. Подхватив, он понес меня, но не к двери, а к окну в спальне. Положил на подоконник.
– Лежи осторожно. Я сейчас подгоню сюда машину. Там эти сидят. Я не хочу, чтобы они видели.
«Этими» были те самые тети, обсуждающие всех и вся. Я вдруг догадался и с какой-то щемящей остротой осознал – моему отцу стыдно, что у него «такой» сын. И еще я понял, что стыдно не только ему, но и моей маме. Именно об этом они говорили утром на кухне. Об этом. Это открытие тогда потрясло меня. Я внезапно ощутил, как мучительно жжет клеймо неполноценности, только что поставленное мне самым главным человеком – отцом, который, опасаясь подлых соседских языков, предпочел тащить меня по-воровски, через окно, чтобы никто не увидел его позор и унижение – его больного сына.
Я лежал, боясь пошевелиться, испытывая незнакомую еще боль. Я ничего не сломал, болело где-то внутри. Я понимал, что для родных стал не просто обузой, я стал обузой, которую надо непременно скрывать от окружающих. Я замечал, когда к нам приходили гости, меня старались не показывать, держали их подальше от той комнаты, где я прятался. Но никогда до этого я не осознавал так остро, что они, самые близкие мне люди, стыдятся меня, моей болезни.
Отец появился под окном минуты через три, встал на стул и осторожно снял меня с подоконника. Спустя некоторое время я уже лежал на заднем сиденье. А спустя еще немного мы ехали за город, в наш дачный домик.
Мать встречала нас у ворот. Участок был небольшой. Уже почти стемнело, но в жидком свете электрических ламп я успел разглядеть ряды виноградных лоз, ползущих вверх по струнам проволоки, натянутым на вбитые в землю деревянные жерди. До этого я никогда не видел, как растет виноград. Да и на природу попал впервые. Перед домиком застыли кусты роз, а позади него располагался огород. Росли здесь и плодовые деревья. Мать в начале осени всегда делала запасы на зиму, консервировала помидоры и огурцы, варила варенья. Все у нее получалось очень вкусным, только я, постоянно проживая в санатории, исключительно редко пробовал эту вкусноту.
Почти весь июнь и одну неделю июля прожил я тогда с семьей на даче. Первые дни мама выносила меня по утрам из домика и укладывала на раскладушку, под небольшим навесом. Навес хорошо защищал от солнца, правда, даже в тени тогда температура достигала тридцати восьми градусов. Ночью меня переносили в домик и я спал на полу. В этой же комнате на одной кровати спали родители и сестренка. С наступлением ночи прохладнее не становилось. Ночью работал вентилятор. Засыпали все тяжело. Ночи для меня были пыткой.
В первый же выходной мать решила искупать меня в небольшом, узком корыте. Когда опускала в него, хрустнула ключица. Перелом. Я поморщился, но матери ничего не сказал. Она сама поняла – что-то случилось. Закончив мытье, позвала отца, чтобы тот помог меня вытащить. Боль в ключице была сильной, и я напрягся в тот момент, когда отец взял меня на руки. Результат – еще один перелом. Точнее, два. Сломаны рука и нога. Нога сломалась, когда я выпустил ее из сломавшейся руки. Ничего особенного, обычная моя жизнь: пришлось отказаться от ежедневных прогулок на раскладушке и оставшуюся часть дачного отдыха проводить в душной комнате, где единственным спасением от жары был тарахтящий вентилятор, который теперь крутился и днем, а купание заменить обтиранием мокрым полотенцем.
«Отдыхая» на даче, я иногда видел чистое небо. Я смотрел на него и думал, думал, думал. Я разглядывал плывущие облака. Мне хотелось улететь вместе с ними. Улететь от всего. И от отца с матерью тоже. А может быть, в первую очередь, мне хотелось улететь от них? И в то же время я понимал – они единственные на свете люди, с которыми я еще чем-то связан: кровью, привязанностью, привычкой. Кому я нужен кроме родных, для которых я давно постыдная обуза, но все же не чужая обуза, своя?
Возвращение с дачи состоялось тоже ночью, на этот раз отец вносил меня через дверь. На скамейке перед домом никого уже не было.
Также, ночью, он отвез меня к бабушке, когда через неделю после дачи мать и сестренка уехали на месяц отдыхать в Трускавец. Отец работал, а я его обременял. До возвращения матери меня повесили на бабушку.
Елена Антоновна жила в отдельной квартире. Без удобств, но в центре города. Чтобы получить жилплощадь, бабушке пришлось стать дворником. В то время это был самый верный и быстрый способ получения жилья.
«Квартирой» называлась небольшая комнатка, четыре на пять метров, в которой был еще маленький чуланчик, его бабушка почему-то называла «кухней». На самом деле кухня была общей, на четыре семьи. Общими считались и все остальные удобства, состоящие из одного «биотуалета» – небольшого деревянного домика, прикрывавшего глубокую яму, над которой располагался деревянный помост с выпиленными отверстиями. Туалет находился во дворе и обслуживал пятнадцать семей, обитавших в этом доме.
Никаких возможностей помыться самой и помыть меня у бабушки не было и она нашла выход – мыла внука прямо на полу, держа мою голову над тазом с водой. Делала она это через силу. Кроме проблем с сердцем – следствием перенесенного инфаркта, она прошла через несколько операций, ей даже удалили желчный пузырь вместе с камнем, размером с голубиное яйцо. Камень этот бабушка хранила, иногда показывая своим знакомым. Но несмотря на болячки, она согласилась взять меня к себе.
У бабушки я жил целый месяц. Она вставала в пять утра, затягивала бандажом свою грыжу и уходила подметать назначенный ей участок. К девяти часам, когда я просыпался, она возвращалась домой, готовила и кормила меня завтраком.
Родители оставили ей денег на мое пропитание, кроме того, два или три раза к нам заезжал отец. Он привозил продукты, в основном – рыбу. Отцу я, конечно, радовался, но еще больше радовался дополнительным калориям – бабушка жила откровенно бедно, едва ли не нищенствовала, питалась только тем, что могла купить на свою мизерную пенсию и грошовую зарплату дворника. Я же был иждивенцем, и никаких социальных пособий мне не полагалось до моего совершеннолетия. Телевизор у бабушки отсутствовал, зато имелся холодильник. Им бабушка гордилась и в разговорах с соседями и знакомыми обязательно переводила тему на холодильник и подробно рассказывала, как ей удалось его купить. Для нее холодильник был предметом роскоши, самоутверждения и социального статуса.
Несмотря на материальные трудности, она не обращалась к отцу за помощью. У моей бабушки Елены Антоновны был Характер. Целеустремленность – до самоистязания. Рано потеряв мужа, умершего от какой-то болезни, она осталась одна с двумя детьми на руках. Благодаря силе своего духа и неимоверному труду она не только сохранила жизни детям, но и сумела дать им высшее образование. Хотя «дать» – это неправильно. Ей приходилось устраиваться на самые тяжелые работы, чтобы прокормить и выучить двух своих кровиночек. Видимо из-за этого-то характера отношения между бабушкой и моей матерью складывались очень непросто.
Живя с бабушкой Еленой, я впервые, на короткое время, ощутил, что живу с близким и родным человеком. Она любила меня, возможно, от страстного желания быть любимым я все это нафантазировал, но мне было очень уютно и комфортно в бабушкиной крошечной коммунальной лачуге.
Вернувшись в квартиру родителей, я вновь ощутил свою ненужность и очень радовался, когда к нам приходила бабушка. К сожалению, это случалось очень редко. Как правило, ее посещения заканчивались длительными размолвками с моей матерью.
Я не знаю, что произошло между ними, но помню, что мать во время скандалов припоминала все обиды, которые были нанесены ей много лет назад. Я мог понять только одно: шла борьба за отца. Борьба, в которой мать одерживала победу. Отец, невзирая на то, что бабушка была его матерью, непременно вставал на сторону жены и мог месяцами не видеться и не разговаривать с бабушкой. Мне было очень жаль бабулю. Я видел, что отец чувствовал свою вину перед ней, чувствовал, но ничего не мог поделать.
Мамины нервы
Меня отправили домой только на лето, на время капитального ремонта. Приближалась осень, и дед, как обычно надев свои ордена, поехал к главному врачу санатория, чтобы узнать, когда можно привезти внука. Мне необходимо закончить учебу, да и мать уже открыто выражала недовольство, что ей приходится ухаживать за мной. Однако никто в санаторий брать меня не хотел. Я чувствовал, что здорово мешаю своим близким, особенно матери. Многого в ее отношении ко мне я тогда не понимал, но хорошо понимаю теперь.
Когда наступало время купания, мать опускала меня в ванну, открывала горячую воду и уходила. Вода лилась, вот уже ванна заполнена больше чем на половину, становится горячее и горячее, мне не хочется шевелить ни рукой, ни ногой, потому что при шевелении чувствуется сильное жжение в том месте, где уже привыкшая к воде часть тела соприкасается с другим более горячим потоком. Тяжело дышать из-за пара, который заполняет все вокруг. Но самое страшное – вода продолжает прибывать, и вот над водой остается только лицо.
Я долго терплю, стараюсь дождаться, когда мать сама вспомнит обо мне и придет, но ее все нет. Я не хочу кричать, звать ее, потому что она дала мне кличку «паникер». После злосчастного «лечения» в Саратове мама все время называет меня так, когда подходит, чтобы перенести, и видит, как я напрягаюсь. Мне кажется, я этого не делаю, но в такие мгновения мое тело начинает жить независимо от меня.
Вода продолжает набираться.
– Мама, мама!!! – я не выдерживаю и кричу, но мать перед уходом закрыла дверь. Кроме того, ванная комната наполнена шумом льющейся из крана воды. Наконец, мать появляется. Она входит как раз в тот момент, когда дышать из-за пара становится невыносимо, а над водой остается только нос, и я с большим трудом удерживаю голову на поверхности.
Мать выключает воду, помогает помыться. После этого уходит, оставляя меня «поплавать». Я лежу и некоторое время стараюсь не шевелиться. Кожа понемногу привыкает к температуре. Теперь, очень недолго, я получаю удовольствие. В воде мое тело теряет вес, я могу двигать и руками, и ногами, совершать движения, которые мне не доступны в обычной обстановке, на суше.
Минут через двадцать появляется мать и вытаскивает пробку. Дождавшись слива воды, она включает душ, и я чувствую, как в ванну начинает бить холодная, почти ледяная струя. Мать быстро окатывает меня этой ледяной водой. Когда холодные струи касаются груди, дыхание у меня перехватывает, и теперь нужно время чтобы его восстановить.
– Мама, вода холодная, – говорю я срывающимся голосом и понимаю, она и так хорошо это знает.
– На, ополаскивайся, – мать протягивает мне душ.
Я стараюсь не дать ледяным струям снова коснуться груди. Стараюсь направить их за ноги, стараюсь, чтобы вода вообще не попадала на тело. Я никак не могу восстановить дыхание, начинается дрожь во всем теле. Зубы стучат, мышцы деревенеют.
Время тянется неимоверно долго. Минут через десять появляется мать. Она выключает воду, вытаскивает меня из ванной, переносит в спальню и укладывает на полотенце, расстеленное на полу, прямо под открытым окном. Рядом со мной падают трусы и майка.
– Одевайся, – говорит она и уходит. Я все еще стучу зубами. Наконец, мне удается немного унять дрожь, и я начинаю натягивать белье.
Подобный способ купания повторялся из раза в раз на протяжении всего времени, которое я провел дома. Тяжелее всего приходилось зимой, потому что, несмотря на минусовую температуру снаружи, мать все равно пристраивала меня, голого и мокрого после ванны, на полу перед открытой форточкой. Очень долгое время после этих процедур мне не удавалось прийти в себя и перестать стучать зубами.
Тогда я не понимал, почему все происходило именно так. А вот матери было хорошо известно, что воспаление легких может стать последним заболеванием в моей жизни. Можно только предполагать, что было у нее на уме, чего она добивалась, но в результате ее усилий я не только не загнулся, а практически перестал болеть и бояться сквозняков. Впервые я серьезно заболел спустя много лет, да и это была так называемая «больничная инфекция».
Как-то раз сестренка Таня подошла и неожиданно ударила меня по щеке. Внимательно посмотрела мне в глаза и ударила еще раз.
– Таня, за что? Что я тебе сделал? – было не больно, сил у девятилетней девочки немного, но от ее ударов у меня остановилось сердце. Сестренка увидела на моих глазах слезы, повернулась и вышла из комнаты.
– Ну, как он там? – это был голос матери.
– Плачет, – ответила сестренка.
Я не плакал. Я захлебывался.
Полгода дед обивал пороги кабинетов всяческих начальников областного и городского здравоохранений. После таких посещений он всегда приходил к нам докладывать о результатах. Наконец, уже в конце марта, дед принес долгожданное: «Антон, на следующей неделе ты едешь в санаторий». Голос у него был веселый – мать уже измучила старика упреками, дескать, не может сделать «простой вещи», вернуть внука в санаторий, чтобы тот доучился.
Я сам не ожидал, что так несказанно обрадуюсь его словам.
Я еду домой!
Я еду домой из «дома»!!
Я вернулся в санаторий, где меня все помнили, все знали. Вместо трех месяцев, как это ожидалось вначале, я пробыл у родителей десять. Пропустил год, во второй раз стал учиться в седьмом классе. И очень об этом жалел.
Время, проведенное дома, в семье, вылетело из памяти почти полностью, как будто этого года в моей жизни не было. Память, как правило, стирает все, о чем мучительно вспоминать. Это хорошо. Иначе жизнь становится кошмаром.
В то время моей самой большой мечтой была Семья. Не было ничего желаннее, чем жить в окружении родных и близких. Мечта жива и поныне. Однако вместо семьи Бог посылает мне друзей, которые заполняют образовавшуюся пустоту и поддерживают во мне ощущение полноты жизни. Временами, в минуты отчаяния, мне кажется, что мои чувства к этим посторонним людям намного шире и светлее, чем мои же чувства к «официальным» родственникам. На самом деле, как ни странно это осознавать, своих родных я всегда любил и продолжаю любить какой-то фанатичной, неистребимой любовью. Вопреки всему.
Ни грузчиком, ни математиком…
Хотя лечения мне никакого не предполагалось, тем не менее у меня был лечащий врач – Самсонов Герман Васильевич – плотный мужчина, с густой, почти рыжей шевелюрой и строгим взглядом. Был он хромоног и носил спецобувь. Все замечающие детские глаза разглядели, что подошва одного самсоновского ботинка сантиметров на десять толще другой. Хромал Самсонов после перенесенного в детстве заболевания. Его хромота и то, что он единственный мужчина среди работавших в нашем отделении, окружали Германа Васильевича ореолом таинственности. Это так будоражило детское воображение, что мы стали придумывать истории о том, что он воевал и был ранен на фронтах Великой Отечественной войны.
Откуда-то мы узнали о его прежней работе хирургом. Вокруг меня такие же, как я, дети поступали, лежали долго – год, два, больше, но все выписывались, выздоровевшие или с надеждой на выздоровление. Я, так же как и все, хотел выписаться исцеленным и втайне надеялся, что Герман Васильевич сможет помочь мне. Именно он – сможет.
Позже я понял, вылечить меня – задача непосильная никому. Однако втайне все равно надеялся, что, возможно, хирургическая операция изменит мое состояние к лучшему. Для меня профессия хирурга стояла тогда наравне с профессией летчика-космонавта, а может и выше. Я понимал, что никогда не стану летчиком-космонавтом. А вот стать хирургом мечтал. Это была моя первая мечта из разряда «кем ты хочешь стать, когда вырастешь». Я тогда не понимал, что мое заболевание предельно ограничивало перечень доступных мне профессий. И профессия врача-хирурга была в том самом «черном» списке.
Трудно определить, когда заканчивается беспечное детство и начинается взрослая жизнь. У каждого это происходит по-своему. В идеале – плавно и безболезненно. Про себя могу твердо сказать, что детства, как периода счастливой беззаботности, у меня не было. Время, которое я прожил в санатории имени Войкова, являлось моим детством только хронологически. Занятый своими непрекращающимися переломами, учебой, мыслями о родных, я не замечал, как «взрослые» проблемы неслышно окружали мою больничную койку. Не помню, когда именно, но еще задолго до последнего школьного звонка я начал задумываться над тем, как жить дальше? Уже тогда приходило понимание, что те жизненные этапы, которые преодолевал обычный гражданин СССР, такие как школа, институт, работа, могут оказаться для меня непроходимыми. И только лишь в силу того, что меня к ним просто не допустят. Не найдут возможности. Или допустят, но потом снимут с этапа по уважительной причине, которая обозначается примерно так: «Да на фиг надо транжирить средства и убивать время на этих инвалидов?»
Первый намек я уловил перед окончанием 9-го класса. В то время я познакомился с человеком, который обнаружил во мне некие математические способности. Это был старший брат моего сопалатника. Я не помню сейчас его имени. Помню только, он имел кандидатскую степень и преподавал в Ленинградском государственном университете. Как-то этот старший брат подошел ко мне и стал задавать вопросы, потом предложил решить несколько задач по геометрии и алгебре. Все предложенные задачки я решил без труда. Мы еще сыграли партию в шахматы, и он ушел. После его второго посещения у меня появилась небольшая библиотечка по высшей математике и теории шахмат. Тогда же он предложил мне поступать в ЛГУ, на механико-математический факультет, обещая при этом свою поддержку.
Из-за постоянно ломающихся рук делать письменные работы было очень трудно. Учителя снизошли и там, где это возможно, разрешали выполнять задания устно. Диктанты, контрольные по математике и русскому языку я писал, а все остальное – декламировал. Мне было достаточно прочитать один раз, и я мог отвечать на «пять». Ну и, конечно, приходилось внимательно слушать объяснения учителя на уроке. Алгебра, геометрия, физика – я очень любил эти предметы и, отвечая, чаще всего просто выдавал ответы к задачам и примерам. Учителя знали, если они потребуют, я воспроизведу и весь процесс получения ответа, поэтому не очень часто предлагали это делать. В моем свидетельстве об окончании восьмого класса красовались только «пятерки». Насчет «троек» не помню, а вот с «двойкой» за все время учебы мне так и не довелось познакомиться. Кости и мышцы подводили меня, и я мог рассчитывать только на свое серое вещество. Я рано осознал – карьера грузчика мне не светит.
Идея стать математиком очень понравилась. Я загорелся. Однако мой огонь быстро потух, как только стало известно, что ни на мехмате ЛГУ, ни на каких других механико-математических факультетах в университетах и институтах страны нет заочного отделения. Так, в список профессий, недоступных для меня, пришлось добавить и профессию математика. А жаль.
Шел 1982 год. Ни о какой войне официально не говорили, хотя минуло уже три года со дня введения советских войск в Афганистан. Но об этом и о цинковых гробах с телами моих ровесников, погибших неизвестно за что, шептались повсеместно, и даже мы в своей палате часто муссировали эту тему. В обществе, тем не менее, усиленно поддерживался миф о каком-то «интернациональном долге», но никак не о войне, на которой убивают и калечат восемнадцатилетних пацанов в угоду геостратегическим амбициям политических «дедов».
Как всякий гражданин Советского Союза, достигший шестнадцати лет, я был обязан встать на воинский учет по месту жительства, дабы по достижении восемнадцатилетия исполнить «священный долг» – отслужить в Советской армии два положенных года.
Честно говоря, эти мысли никогда не приходили в мою голову – ведь только в воспаленном мозгу могла возникнуть идея засунуть меня в кирзовые солдатские сапоги. Я пребывал в уверенности: если разговор о моем призыве в армию и может возникнуть, то лишь в том доме, где находятся на излечении люди с проблемной психикой. Как наивен я был!
Однажды ко мне пришла бабушка и с улыбкой, между прочим, рассказала, что домой пришла повестка. Мне предписывалось явиться в военкомат для прохождения медкомиссии. Мы с бабушкой немного пошутили на эту тему и тут же обо всем забыли. Мысль о моей армейской службе была абсолютным бредом и неосуществимым предприятием, даже если бы я этого сильно хотел. Однако в военном комиссариате придерживались иного мнения.
Примерно через два месяца бабушка пришла опять, что само по себе было невероятно. Обычно я видел родных только по «большим» праздникам, из которых в моих воспоминаниях остался лишь Новый год. Еще меня иногда посещали на мой день рождения, то есть предельно редко. Не каждый месяц, но практически каждый год.
Я был очень рад снова увидеть бабушку. Однако лицо ее на этот раз выражало тревогу.
– Что случилось, бабуля? – с ходу спросил я, понимая, произошло что-то «сверхъестественное».
– Помнишь, я в последний раз говорила о повестке?
– Помню. И что? Мы же договорились, что ты ее выбросишь. Это ведь мусор. Или ты считаешь, что я должен все же пойти на медкомиссию? – я уже научился язвить, особенно когда разговор заходил о моем заболевании.
– За это время пришла еще одна повестка. Я ее тоже выбросила, но вчера из ящика вытащила вот это, – она протянула мне листок.
Это тоже была повестка. На этот раз все было очень грозно. Мне предписывалось «явиться», а в случае неявки меня обещали привести с милицией. Забавно, я представил, как меня «ведут» в коляске два милиционера, но, посмотрев бабушке в лицо, решил не рисковать.
– Бабуля, сходи в ординаторскую, попроси там моего «лечащего», чтобы написал справку, что в армию мне идти никак нельзя. Сейчас нельзя, может быть потом… – я опять улыбнулся, пытаясь хоть немного приободрить бабушку.
– Хорошо, я сейчас пойду, – она даже не заметила моей шутки, вышла почти мгновенно.
Прошел еще месяц. Я лежал и делал вид, что сплю. Истекало время «тихого часа». Не могу понять, кто придумал это – принуждать людей спать днем. Спать днем я ужасно не любил тогда, не научился и до сих пор. Но у меня было десять лет отличной практики проведения «тихого часа» в бодрствующем состоянии, хотя со стороны казалось, будто я сплю крепким сном. Каждый маленький пациент после двух месяцев пребывания уже умел различать, когда медсестра проходит мимо, а когда она вот-вот должна зайти. Если «тихий час» предполагалось потратить на чтение книги, в тот момент, когда сестра заходила, в руках уже не было ничего, глаза закрыты, ребенок дышал ровно. Все говорило о крепком сне. Если медсестра сидела на «посту», расположенном недалеко от палаты, то читать не получалось. Шептаться тоже. Можно было только слегка подсматривать сквозь закрытые глаза. И думать-мечтать.
Я привычно симулировал сон, как вдруг услышал незнакомые осторожные шаги и почувствовал чье-то присутствие. Глаза открылись.
Надо мной склонился военный в накинутом на плечи медицинском халате.
– Я – твой военком. Вот пришел на тебя посмотреть.
– А-а, это вы хотите забрать меня в армию? В какие войска?
Он попытался улыбнуться. Вышло криво и ненатурально. Офицер явно испытывал шок, разглядывая меня.
– Понимаешь, – военком поправил фуражку и выпрямился, – очень много уклонистов… Не хотят призывники в армию идти. Порой на такие ухищрения пускаются, такие справки у врачей покупают, что впору их не в армию, а в инвалидные дома отправлять. Вот и приходится лично каждого проверять.
– Я уклонистом никогда не был. Вы мне верите? В какие войска вы меня призовете? И когда?
– Нет, нет, уже никогда, – он вновь попробовал изобразить улыбку. – Я пойду, ты спи.
Военный резко отвернулся и вышел.
Десятый класс
Уже заканчивая девятый, я знал, что в будущем мне придется учиться в иной ситуации. Если вообще придется. В конце учебного года меня предупредили: десятого класса и самой школы в том отделении, где я лежал, не будет. Теперь все обитатели нашей палаты, кроме меня, разумеется, могли передвигаться самостоятельно и со следующего года станут ходить в школу. Как раз для этого уже достроили на территории санатория новое здание. Оставалась маленькая проблема – как я смогу учиться в этой самой школе, будучи прикован к постели?
Решение витало в воздухе, «простое и гениальное» – меня нужно сделать мобильным. Но как? Где найти подходящий транспорт?
В санатории для перемещения лежачих больных использовались обычные каталки. Носилки на колесах. На этих каталках нас каждый день развозили, в том числе и по классам. Это был идеальный вариант. Однако минусом являлись громоздкость и неповоротливость больничных тележек. Возить меня в школу – значило каждый день, как минимум два раза, толкать эту тачку через двор, тащить громоздкое устройство по щербатым тротуарам. К тому же для управления требовались два человека, а в отделении все сразу решили, что возить меня в школу никто не станет – это не входило в обязанности персонала. Доверить перевозку моим друзьям, тем, кто лежал со мной? Нет, брать такую ответственность никто из врачей не хотел. Они прекрасно знали мою «привычку» ломаться на ровном месте, от сотрясения или от неудачного взятия на руки. А если неуклюжая каталка на очень неровном асфальте вздумает перевернуться и придавить хрупкого ездока?
Вариант «в школу на каталке» оказался непроходным, так что мой последний школьный класс превращался в большой вопросительный знак. Тем более, в санатории уже долгое время меня просто терпели и при любой возможности были готовы избавиться от «непрофильного» больного. Я давно уразумел, что в этом месте нахожусь только благодаря доброй воле главного врача. Он понимал, что возможности закончить десятилетку у меня больше нигде и никогда не будет, и «входил в положение». К тому же его «добрая воля» хорошо подогревалась подарками. Как я выяснил впоследствии, в санаторий мои родные приходили часто и регулярно, но в девяноста девяти случаях из ста – только для того, чтобы что-то принести главврачу. Обо мне речь не шла. Точнее, речь все время шла обо мне, но только в том смысле, что меня нужно держать в санатории. Позже отец бросил мне это в качестве упрека.
В общем-то, взрослея, я начинал понимать, что не все здесь делается по «зову сердца и долга». Я видел, как родители некоторых моих сопалатников, «подогревают» хорошее отношение медперсонала к своему ребенку всяческими подношениями. Это конечно же не делалось в открытую, но палата, в которой я лежал, находилась рядом с ординаторской – комнатой, где обитают все врачи, а дверь нашей палаты практически всегда оставалась открытой. Через нее хорошо просматривались родители, заносящие всякие сумки и свертки в ординаторскую и через некоторое время выходящие оттуда уже развьюченными в сопровождении улыбающихся врачей.
Итак, мне надо было добираться до школы, расположенной в нескольких десятках метров от моей палаты. Но как? Грустно. В стране, гражданин которой первым на планете взлетел до космических высот, в стране, владеющей ядерным оружием и гордившейся научными открытиями, театром, балетом и спортивными достижениями, в этой стране перед ребенком, лишенным возможности перемещаться самостоятельно, встала неразрешимая проблема: найти средство передвижения. Но такова была жизнь. Инвалидных колясок для детей в стране не производили.
А те коляски, которые выпускались для взрослых, были громоздки, неповоротливы и тяжелы. Все они лепились, как мне кажется, на одном заводе и являлись побочным производством этого предприятия. Ни о каком индивидуальном подходе, то есть изготовлении с учетом конкретных нужд и потребностей страждущих, кому этими колясками предстояло пользоваться, речь вообще не шла. И даже такую примитивную коляску нужно было ждать годами, стоя в очереди в городском отделе здравоохранения. На все в стране выстраивались очереди, инвалидные коляски не были исключением.
Положение казалось безвыходным, а мое образование грозило остаться незаконченным. И вдруг, совсем неожиданно, выход нашелся. Не помню, кому в голову пришла эта идея. Решение заключалось в том, чтобы в качестве средства передвижения использовать обычную детскую коляску – легкую и послушную в управлении подростку – кому-нибудь из моих одноклассников. Родные сумели раздобыть для меня только сидячую модификацию. Выбора, однако, не было. Не покупать же новую? Мне нужно закончить школу любой ценой, и цена предложена – год с небольшим мучений. Я был согласен платить.
В тот момент, когда бабушка принесла коляску в санаторий, я и предположить не мог, как долго и тяжело буду приспосабливаться к новому средству передвижения. В первую очередь требовалось понять, как мне расположиться в этом детском экипаже. Сидеть я не мог: тазобедренные суставы перестали работать очень давно. Это была «еще та» проблема. В случаях, когда при переносах мое тело перевешивало и опрокидывалось вперед, а в суставах я не сгибался – ломались бедренные кости. Таких случаев за год, пока я учился в десятом классе, было три, но даже сейчас, по прошествии многих лет, я не могу вспоминать о них без дрожи.
В результате путем подкладывания валиков, книжек, подушек, я смог кое-как устроиться поудобнее, но все же долго находиться в положении «сидя» не мог. Часто просил того, кто меня толкал, ставить коляску «на попа», то есть задирать передние колеса. Это происходило во время прогулок. А на уроке, в классе я только так и мог проводить время. Коляску наклоняли, ручку клали на сиденье стула, и таким образом я лежал на уроке. Писать в этом положении я не мог. Приходилось все запоминать.
Мое физическое состояние в то время оставляло желать лучшего. Внутренние органы пребывали в норме – результаты ежемесячных анализов показывали это, а вот кости, или то, что принято у меня называть костями, вели себя хуже некуда. Еженедельные переломы считались обычным делом, и врачебное «добро» самодеятельным поездкам на младенческой коляске становилось равнозначным решению удвоить, а то и утроить количество моих травм. Такое положение накладывало определенную ответственность на врачей, поэтому между ними и воспитателями отделения существовала договоренность – ограничить подобные выезды только школьными часами. Все остальное время врачи, воспитатели и медсестры старались никуда меня не выпускать.
Однако после первой же недели, после того как я немного приспособился к коляске, удержать меня в палате было очень сложно. Всеми правдами и неправдами, уговорами и мольбами, я добивался того, чтобы как можно больше времени проводить вне стен, неотступно окружавших меня на протяжении последних одиннадцати лет. Я упрашивал медсестер разрешать мне во время «тихого часа» находиться не в кровати, а в беседке или где-нибудь в гуще деревьев. Обретаться на улице в тридцатиградусную жару и подставлять лицо обжигающему ветру – удовольствие изматывающее и потное, к тому же с мухами, но я соглашался на все, только бы не чувствовать тяжести опостылевших стен. Я впервые за все годы, проведенные в санатории, мог осматривать его закоулки, иногда даже предпринимал попытки «выйти» за пределы, что было небезопасно.
В санатории наказывались многие вещи: походы за территорию, покупка продуктов в расположенных рядом магазинах, попытка проноса родителями домашней еды. И никто из врачей не знал, какую радость мы испытали, когда, выйдя первый раз за забор, в первом же маленьком магазинчике купили жестяную банку консервированной кильки с маслом. Килька была съедена в ту же ночь с хлебом, которым мы запаслись с ужина, а жестянка вылизана (не обошлось без мелких порезов особо жадных языков). Для нас в то время обычная килька казалась неописуемым лакомством.
Мне в то время многое доставляло радость. После долгих лет, прожитых по режиму, даже такая малость, как возможность поесть не то, что тебе дают, а то, что ты хочешь, была похожа на счастье.
Иногда у меня даже мелькали мысли приехать домой. Дом находился недалеко. Не раз во время наших нелегальных вылазок меня провозили по моей улице, и я видел окна квартиры, где жили мои родители и сестра. Но я тут же вспоминал, как они встретили меня в последний раз, и не решался показываться родственникам на глаза.
Тот год для меня был годом мучений. Несмотря на то что весил я не очень много, вес мой был все же более того, на который рассчитывалась коляска. Невозможно сосчитать сколько раз у нее отлетали колеса, трескалось дно. Трудно припомнить все переломы, которые я перенес, ежедневно влезая в этот чудо-транспорт и выбираясь из него. Переломы, которые я заработал от тряски при езде по не очень ровному асфальту санатория. Особняком стоят переломы, случившиеся при переворачивании коляски: либо тот, кто вез меня, ее не удерживал, коляска заваливалась набок, и я падал носом в землю; либо кто-нибудь, взявшийся помочь внести коляску по ступенькам, поскальзывался, и мы снова оказывались на земле. К счастью, полных переворачиваний или, как говорят моряки, «оверкилей» было немного, но нужно ли пояснять, что в этих случаях мои травмы оказывались весьма «множественными»? В таких ситуациях я радовался, если удавалось не сломать обе руки одновременно.
Тот год запомнился переломами, постоянными ремонтами коляски, болью, но главное – непередаваемым ощущением свободы и волнительной радости, ведь я почти ничем не отличался от своих школьных друзей-приятелей, потому что обрел способность перемещаться в пространстве вместе с ними.
Друзей у меня было много, но все они через некоторое время выписывались и выпадали из моей жизни. С некоторыми я пытался поддерживать связь: перед выпиской мы обменивались адресами, но писать было трудно. Поэтому, если я с кем-то и переписывался, то не больше одного, двух писем. С Сергеем произошло иначе. Он был младше меня на два года, но являлся таким же местным «долгожителем», как и я. Так же как в случае со мной, его пребывание в санатории не сопровождалось лечением.
В отличие от меня Сергей мог передвигаться. Единственной, но очень большой проблемой в его здоровье был маленький рост – такой вот грустный каламбур. Врачи ничего не могли сделать – он перестал расти в пять лет. В пятнадцать рост Сережи составлял один метр двадцать сантиметров.
Из-за своей низкорослости он не мог учиться в нормальной школе, где его превратили в объект постоянных насмешек и издевательств. Как-то он мне рассказал, что в школе его постоянно избивали, поэтому после третьего класса «нормальной» школы родители устроили маленького Сережу в наш санаторий, чтобы мальчишка мог спокойно получать образование.
Почему-то дети бывают исключительно жестоки в этом возрасте, особенно по отношению к тем, кто имеет физические недостатки, слаб или не похож на стандартное большинство. Если уж невзлюбили кого-то всей стайкой – заклюют. Что это? Биологическая память? Рецидивы «естественного отбора», потерявшего для людей свою кровавую подоплеку, но еще властного над неокрепшими мозгами? Видимо так. Я это тоже пережил, но не настолько остро, как Сергей, потому что большую часть детства провел в санатории, где у каждого ребенка имелось какое-нибудь заболевание. Помню, что самым серьезным оскорблением у нас было «обзывать по болезни». Это когда в качестве «дразнилки» использовались слова, так или иначе задевающее физические особенности больного ребенка. На подобное накладывалось строгое «табу», и если кто-то его нарушал, то всей палатой нарушителю устраивался бойкот.
И еще одним отличался Сергей от меня. Его любили. Каждое лето он уезжал домой, а по окончании каникул снова возвращался в санаторий. Я его ждал, и обычно в последних числах лета соседняя со мной кровать была свободна. Я знал, что Сергей скоро приедет, и как мог готовился к его возвращению. Поэтому последние четыре года наши кровати находились рядом.
Родители посещали его в обязательном порядке два раза в неделю. Отец Сергея работал шофером на большой грузовой машине и приезжал к нему каждую среду. Обычно Сергея вызывали, и он сидел часа по два с отцом в кабине. Когда возвращался, то обязательно приносил с собой что-нибудь очень вкусное, чаще всего это была жареная картошка с курицей или котлетами. Мы съедали это лакомство ночью: днем его могли отобрать медсестры, а заодно и наказать нарушителей режима.
Сергей очень любил технику. После окончания школы он собирался пойти по стопам отца – стать шофером. Как и для меня, для Сергея это тоже был выпускной год – он решил ограничиться восьмилетним образованием, решив, что для профессии водителя восьми классов ему вполне хватит.
Шоферской мечте Сергея не суждено было осуществиться: маленький рост стал препятствием на медкомиссии. Препятствием, непреодолимым для Сережи. Он стал сильно пить. И трагически погиб. Через два года после выпускного бала.
Выпускной бал
И был последний день.
Все двенадцать лет вместились в эти несколько часов. Двенадцать лет, с детскими радостями, переживаниями, проблемами. С надеждой в самом начале, что когда-нибудь смогу ходить, и с пониманием, что этого никогда не случится, с реальностью полной неподвижности в конце. Со сменяющимися вокруг меня такими же, как я, детьми. Многие лежали годами, почти все уезжали домой на лето и вновь возвращались осенью. В отличие от меня, все они были любимы, имели семьи, мам, пап, родственников, которые их посещали. Посещали даже приехавших из далеких сел и деревень, хоть и не очень часто, но дети были уверены – к ним обязательно приедут. В отличие от них я знал, что мама, папа и сестренка живут рядом, но мои ожидания всегда оставались напрасными.
Чувство стыда – это то, что переживал я все эти годы. Мне было стыдно, если кто-то подходил ко мне и протягивал яблоко или конфету. Мне было стыдно, когда кто-то из пришедших родственников просил своего ребенка передать мне какое-нибудь лакомство. Взрослые приходили не ко мне, но каким-то чутьем угадывали, что я – брошенный, и пытались по мере сил согревать и утешать меня, как оставленного на улице котенка. Чужие родители делились приготовленными для своего любимого ребенка угощениями со мной – маленьким инвалидом, никем не любимым и полузабытым. Я радовался гостинцам и страдал одновременно. Мне было стыдно. Это был стыд нелюбимого существа перед согретыми родительским вниманием товарищами. Стыд нищего перед богатыми, плохого – перед хорошими. Ко мне не приходят, значит, меня не любят, значит, я плохой. А если я плохой, то ко мне и не будут приходить. Вот только как стать хорошим, милым родительскому сердцу с моим заболеванием? С первых дней пребывания в санатории поселилось во мне совсем недетское ощущение одиночества, униженности и ненужности никому. Тоска по дому и постоянное ожидание, что кто-нибудь из родных вспомнит меня и придет, жили в моей душе все эти нескончаемые двенадцать лет. И все двенадцать лет родительскую ласку мне старались дарить совершенно посторонние люди.
После памятного урока в Саратове я никогда ничего не просил, хотя очень хотелось мне яблок, конфет, печенья – да мало ли чего хочется ребенку? Мое санаторное детство явилось причиной того, что я не люблю яблок, конфет, шоколада. У меня этого не было, и значит, я не люблю. Это все мне просто «никогда не нравилось». И с тех пор для меня стало естественным – если мне что-то недоступно, значит – я этого просто не хочу.
Я проснулся очень рано. Проснулся, как от удара, – это мой последний день в санатории. Я прожил здесь двенадцать лет, встретил совершеннолетие и вдруг – последний день.
Готовилась праздничная линейка: выпускников ожидали торжественные проводы. И хотя за год я намозолил глаза всем, до кого сумел «доехать», – в том смысле, что меня видели очень многие, но все равно не смог побороть стеснения и предстать в шеренге одноклассников на своей нелепой коляске. Мне тогда было не по силам долго выдерживать настороженно-брезгливые взгляды незнакомых людей.
Мы с Сергеем наблюдали за происходящим, скрываясь за углом школы, оставаясь невидимыми для любопытствующих глаз. Все выпускники, нарядно одетые, выстроились на площадке перед школой. Завуч и главврач сказали добрые напутственные речи, пожелали выпускникам здоровья и «успехов на жизненном поприще». Почему-то нелепое «поприще» гвоздем засело в моей памяти. Наконец, зазвенел последний звонок. Из своего укрытия я пристально вглядывался в лица своих одноклассников и чувствовал, как на глаза накатываются слезы: двенадцать лет жизни оказались спрессованными в грустных всхлипах бронзового колокольчика. Эпопея под названием «Школа» подошла к своему финалу. Санаторий закрывал передо мной двери. А дом? Откроет ли свои? Я рвался домой и в то же время очень боялся этого. Линейка заканчивалась. А с ней и моя школьная жизнь.
Мы попрощались с Сергеем – за ним приехал отец. За мной приезжать никто не собирался, но родных предупредили заранее. Главврач специально заказал машину. Оставлять меня в санатории даже на один час никто не хотел. Все, что для меня можно было сделать, врачи и педагоги сделали. Если б не последний класс, меня выписали бы раньше. Мои вещи мне помогли собрать дня за три. Было их немного. Все, что скопилось за эти годы и чем я дорожил, – подаренные книги.
Машина подъехала к подъезду, подходить к которому я панически боялся во время своих памятных прогулок. Шофер вышел позвонить. Пока мы ехали, он без умолку балагурил и даже высказал предположение, что сейчас мы приедем, а дома никого не будет, тогда он отвезет меня обратно. Парень шутил, а я всерьез «повелся», и где-то в глубине души затеплилась испуганная надежда: может быть мне удастся еще один день переночевать в санатории, который мне представлялся теперь чем-то вроде бомбоубежища, много лет укрывавшего меня от непредсказуемого контакта с родными.
Воспоминание второе Круговерть
Что делать?
Дверь открыла бабушка. Шофер помог ей занести меня в квартиру и положить на пол. Затащил мои вещи, коляску.
Квартира казалась какой-то очень маленькой. После огромной палаты на двадцать человек.
– Ну, вот ты и дома, – как будто издалека и не совсем понимая, о чем это и к кому, услышал я бабушкин голос.
Во мне так и сидел тот страх, который я почувствовал, когда меня заносили в машину, чтобы везти домой.
– Ты обедать будешь?
– Нет, спасибо, бабуля! Не хочу. А где все?
– Мать с отцом и Таней на даче, за городом. Ты разве не знал, что они купили домик?
– Ты имеешь в виду дачу? Я знаю.
– Там – дом, правда, маленький, мазанка, отец сейчас на том же участке большой дом строит. Оттуда же на суд ездит.
– Какой суд? – я ошеломленно посмотрел на бабушку.
– Ты разве не знал, что отца судят? – бабушка недоуменно посмотрела на меня и, немного поколебавшись, продолжила. – Сейчас суд идет. Судят большую группу людей, за воровство на комбинате. Отец ходит на суд как свидетель. Но, говорят, что его могут тоже причислить к той группе. Уже предложили искать адвоката. Каждый день ходит на суд сам, и дом строить тоже надо, потому живут они сейчас там, за городом. Иногда с суда заезжает, чтобы помыться. У него сейчас псориаз сильно обострился. Нервничает постоянно. Может быть, сегодня тоже заедет.
Все сказанное бабушкой куда-то увело мой страх. Он остался внутри, просто засел глубже. Я ничего не понимал. Отца и мать я не видел уже года четыре, с тех пор как побывал дома «на каникулах». После моего возвращения в санаторий ни мать, ни отец ко мне не приходили. Сестренку одну они, конечно же, не отпускали. Я жаждал и боялся их всех увидеть. Но этот суд… Что с нами будет?
С отцом мы встретились в тот же день. И мне внезапно захотелось сказать ему что-нибудь доброе, прямо сейчас, как сын отцу. И в то же самое время, я уже взрослый – как-никак семнадцать лет исполнилось, кому нужны эти «сантименты»?
– Ну, что, сын, домой приехал? – буднично спросил отец, и по интонации я понял, у него ничего ко мне нет. Я так ждал этой встречи. И вот я – дома. А что дальше? После нескольких лет разлуки первыми словами отца оказались эти, произнесенные бесцветным, лишенным всяких эмоций голосом. Не нашлось больше ничего. На что я надеялся? Что он кинется обнимать меня? Мне так этого хотелось. Хоть чуточку человеческого тепла, участия. Может быть, даже показного, но так необходимого мне тогда. Я надеялся, что хоть кто-то в этой жизни будет рад меня увидеть. После долгих лет жизни в казенных палатах я очутился дома, но атмосфера в нем была ничуть не лучше. Рассудком я понимал, что как не оправдавший родительских надежд вряд ли могу рассчитывать на нежность и любовь с их стороны, но сердце трепетало при мысли об этом.
– Папа, здравствуй! – мне все равно хотелось, очень хотелось, чтобы хоть что-нибудь… хоть кто-нибудь был у меня. Из родных.
– Чем заниматься думаешь, сын? – отец смотрел на меня уставшим взглядом, а я понимал, ничего ему не нужно. Да и не это сейчас держало его мысли.
– Папа, что с судом? Мне бабушка немного рассказала.
Отец посмотрел на меня, потом на бабушку. Когда она мне рассказывала, то попросила никому не говорить. А кому я скажу?
– Меня пока не судят, пока я как свидетель.
У отца был очень уставший вид. И круги под глазами. Всю жизнь он старался добиться чего-то, гордился тем, что, приехав в Астрахань, без всяких протекций, без связей стал директором такого важного предприятия. Предприятия по производству и переработке продуктов из рыбы ценных осетровых пород и той самой, знаменитой, русской «черной икры». И вот результат! Суд. Правда, пока как свидетель. Можно было только догадываться, что творилось в его душе.
Он почти не изменился. Только немного прибавилось морщин вокруг глаз, а может, они и раньше были, только я не замечал? Четыре года назад, во время моего последнего пребывания дома, мы мало общались – отец много работал и на меня почти не обращал внимания. Может только тогда, когда через окно вытаскивал?
– Так что ты собираешься делать дальше, сын? – он спрашивал второй раз. И я решился.
– Я хочу поступить в институт. Скорее всего, в педагогический.
Я думал об этом раньше, но вслух никому еще не говорил. Отец стал первым. Педагогический институт оказался единственным институтом в городе, имевшим заочное отделение, с приемлемым для меня факультетом – русского языка и литературы. Я понимал, что преподавать не смогу, но хотя бы стану грамотным. А у грамотного человека больше шансов обрести себя в жизни.
– А зачем тебе все это? Тебе назначат пенсию. Что тебе еще нужно? – отец был серьезен, почти суров.
«Зачем? А как же жить? Неужели я родился только для того, чтобы съесть отпущенные мне продукты, выдышать воздух, который мне предназначен, и умереть? Только для этого? – В тот момент я внезапно понял, что остаюсь один на один со своими проблемами. Сказанное отцом убеждало, что помощи ждать от него не имеет смысла. И от остальных тоже. – Но я хочу жить! Жить нормальной жизнью, быть кому-то нужным. А иначе зачем? Зачем я родился? Зачем перевожу кислород? Я хочу состояться как человек, как личность!»
Одна за другой эти мысли промчались в моем в мозгу и породили другие о том, что в этой семье я – лишний. Здесь никто не будет радоваться моим возможным успехам, да и будут ли они при такой «поддержке»? Все годы, пока я жил в санатории, родные могли не вспоминать обо мне. А теперь я дома, и всем реально начну мешать.
Отец строил дом за городом. Он, мать и сестренка жили там, а меня оставили на бабушкин досмотр. Ей предоставлялась возможность пожить в комфорте – ее собственное жилище удобствами не располагало. Бабушка лишь временами уезжала на ту квартирку, проверить все ли на месте. Мать и сестренку я увидел через месяц после своего появления дома. Отец заезжал чаще – он так и продолжал ходить каждый день на суд.
Вскоре он ходил на суд уже в качестве обвиняемого. Его все-таки «привязали» к той преступной группе и сразу исключили из партии. Дело принимало плохой оборот. Отец был коммунистом со стажем, даже окончил Высшую партийную школу. Исключение из рядов КПСС говорило о том, что над головой отца сгущаются тучи. Пришлось нанять адвоката. Так как отец уже больше года не работал – его отстранили от должности на время судебного разбирательства, – то денег на «защиту» не оказалось. Из квартиры потихоньку стал исчезать хрусталь, книги и все, что имело какую-то ценность…
Мое положение в тот момент тоже было, мягко говоря, не ахти. Я хотел поступать в ВУЗ, но для этого как минимум требовалось установить и поддерживать контакты с кем-нибудь из института. Ездить туда я не мог. Знакомых, имеющих возможность помочь, не было. Повсюду, со всех сторон в то время мне виделся только тупик.
Беззаботное время прошло (да было ли оно?). Нужно начинать жить. Жить, когда ничего нет, когда даже тело, похожее больше на обрубок, и то – постоянно подводит, когда работает только одна рука, а вторая используется для того, чтобы поддерживать ту, работающую, когда нет никого, кто мог бы помочь, хотя бы словом. А порой в такие моменты достаточно не слова, а просто взгляда. Или даже осознания того, что ты не один.
Но надо учиться жить самостоятельно. Жить без надежды на кого-то. Конечно, как-то общаться с внешним миром можно по телефону. Вот только телефона у нас не было. И это несмотря на то, что отец до недавнего времени занимал пост директора престижного рыбного предприятия. С телефонами в Астрахани, как и со многим другим, наблюдались большие проблемы, моя семья к тому времени уже года три стояла в очереди на его установку.
Итак, мне нужен телефон, средство общения. Это первое, но важнейшее условие. С этого нужно было начинать. А как?
У бабушки и отца были другие планы. Начинать, по их мнению, нужно с того, чтобы государство назначило мне пособие. Они, конечно, оказались правы. Я начинал жизнь в реальном мире, где никого не интересовали богатства моей души; окружающим было глубоко наплевать на то, о чем я думаю, на то, какой я, возможно, хороший и потенциально на что-то способный. Может, и будет от меня какая польза обществу, только вот когда я ее принесу? И принесу ли? А кормить меня необходимо прямо сейчас.
Как и четыре года назад, я поселился в зале на полу. Если к нам приходили посторонние, то я быстро уползал в комнату к сестренке и там лежал. Как будто меня не было. Мою постель из зала просто убирали, что не представляло никаких затруднений: вся постель состояла из покрывала, брошенного на ковер, и простыни, которой я укрывался. Меня все это вполне устраивало. Во-превых, я постоянно находился на полу и мог передвигаться в пределах квартиры. Во-вторых, я все время присутствовал в зале, где располагался телевизор. Так что, когда семья смотрела телепередачи, я как бы был со всеми, в теплом семейном кругу. Постель моя находилась как раз между телевизором и креслом, на котором любил сидеть отец.
Отцу тогда было не до проблем сына-инвалида – со своими бы разобраться – и вопрос о моей пенсии целиком лег на плечи бабушки Елены Антоновны. Всего за два месяца хождений по кабинетам медицинских начальников она сумела уговорить «дохторов» провести эту чертову комиссию по присвоению мне инвалидности у нас на дому.
В один из дней в прихожей раздался звонок.
– Елена Антоновна? – в прихожую вошли трое – две женщины и мужчина. Все были примерно одного возраста, где-то около пятидесяти.
– Проходите! Вы чай будете пить? – голос у бабушки был немного заискивающий. После бесконечных хождений по кабинетам ей хотелось, чтобы все закончилось здесь и сейчас.
– Нет, спасибо! Пока не будем. Может быть чуть позже. Где наш инвалид?
Одна из женщин, как видно главная, прошла в зал, где на полу лежал «наш инвалид». Вслед за ней последовали остальные.
– Садитесь, – бабушка указала на два кресла и принесла из кухни стул для третьего гостя.
– Да нам некогда сидеть, – сказала главная, усаживаясь. – Давайте, начинайте.
Ко мне приблизился мужчина.
– Я врач, окулист, – сказал он. – Тамара Сергеевна психотерапевт, – «окулист» указал на первую даму, – а Лидия Петровна хирург, – он кивнул на вторую. – С нами не пришел ортопед, заключение которого и будет главным в твоем случае. Он, возможно, придет сегодня или в какой-нибудь другой день. Ты знаешь, кто такой ортопед? – и, не дожидаясь ответа, заявил:
– Нужно положить его повыше. Я не смогу его осматривать на полу.
– А может быть, вы так посмотрите? Вы ведь не будете сейчас проверять мое зрение? – заволновался я.
С собой они принесли только папки с бумагами. Никаких инструментов не наблюдалось.
– Нет, я не могу проводить осмотр на полу, – «окулист» был непреклонен.
«Повыше» имелся только стол. Бабушке нельзя было поднимать тяжести, но никто из пришедших помощь не предложил. Бабушка наклонилась и с большим трудом стала меня поднимать. По ее лицу было видно насколько ей тяжело и больно. Из-за грыжи и прочих болячек ей категорически запрещались подобные «упражнения». Но у бабушки был Характер. «Окулист» бесстрастно смотрел на усилия шестидесятидевятилетней женщины. Бабушка осторожно опускала меня на стол. Я уже почти прибыл на место, как вдруг почувствовал, что нога повисла и ударилась о край стола. Перелом. Я вскрикнул.
– Ты что, что-нибудь случилось? – «окулист» подошел ко мне, посмотрел в глаза. Попросил поводить ими вслед за пальцем. Я проделывал все полубессознательно – в тот момент было уже не до комиссии, внимание заняли боль в только что сломанной ноге и мысли о предстоящем спуске на пол и возможных при этом новых переломах.
Психотерапевт задала мне пару каких-то глупых вопросов. Лидия Петровна пощупала мой живот. На этом осмотр закончился.
– Без ортопеда мы ничего тебе дать не можем, никакой справки. Когда у нас будет его заключение, тогда тебе начнут начислять пенсию. – Тамара Сергеевна говорила это уже от двери.
– А когда ортопед должен прийти? Нам нужно его вызывать? – я все еще лежал на столе.
– Завтра или послезавтра, – послышалось уже из подъезда.
Ортопед пришел через неделю. Это был мужчина, высокий и худой. Возрастом, может быть, чуть старше тридцати. С ним была и Тамара Сергеевна.
– Ну, что у нас здесь? – услышал я, когда он еще находился в прихожей.
Единственное, о чем я в тот момент думал, это чтобы они не заставили меня перемещаться опять «повыше». У меня и так очень болела сломанная нога.
– Как называется твое заболевание? Ты можешь мне написать название? – ортопед уже стоял рядом со мной. Видимо, из-за того, что я лежал на полу, он мне казался очень высоким. Да еще и лицо у него было удивлено-вытянутое.
– Если хотите, я продиктую по буквам. Писать я сейчас не могу.
Я продиктовал. Как я понял, ортопед о моем заболевании ничего не слышал. Он присел рядом на корточки и снял с меня простыню, которой я укрывался. Увиденное его удивило. До этого он никогда не встречал больных с ногами, вывернутыми в разные стороны и деформированными от переломов так сильно, что они больше напоминали колесо. «Дохтор» попытался рукой нащупать мои колени и никак не мог их найти: все время его рука проскальзывала то ниже, то выше.
– Можешь согнуть ногу?
Левая нога у меня давно не сгибалась, сустав не работал, а правая была сломана накануне. Гнуть ее я не собирался.
– Нет, не могу. Болит.
Я смотрел на него, пытаясь понять, что он еще может от меня потребовать и зачем. Я понимал, что к освидетельствованию его осмотр и вопросы сейчас никакого отношения не имеют. Сейчас он ничем не отличался от обычных людей с их опасливо-любопытными взглядами.
– Ладно, на этом все. Я напишу заключение, – ортопед накинул на меня простыню и выпрямился.
– Будешь получать пенсию, – сказала, выходя из комнаты, молчавшая до сих пор Тамара Сергеевна. Пока ортопед проводил осмотр, она стояла рядом, и я иногда ловил ее взгляды, очень напоминающие взгляд ребенка, рассматривающего тритонов в террариуме. Такие взгляды меня всегда выводили из себя. Но здесь деваться было некуда, приходилось терпеть.
– Да, не забудьте, через год нужно снова проходить переосвидетельствование, – произнесла Тамара Сергеевна, взявшись за ручку входной двери и готовясь ее открыть.
– Я не понял, что через год мне вновь нужно будет вызывать всех и все повторять сначала? Это что – шутка такая? – закричал я вдогонку уходящим «комиссарам».
– Никаких шуток, каждый год нужно проходить переосвидетельствование, потому что каждый год что-то меняется, – донеслось из коридора.
– Значит, комиссия полагает, что в следующем году я начну ходить? Спасибо! Это очень обнадеживает!
Тамара Сергеевна вновь вошла в комнату, пытаясь понять, что это такое я говорю.
– Значит, вы считаете, я могу надеяться, что в следующем году стану ходячим? – повторил я. На этот раз в моем голосе она услышала откровенную издевку.
Психотерапевт внимательно посмотрела мне в глаза, и, наконец, до нее стало доходить, какими глупыми и жестокими были ее слова.
– Я даже и не знаю… – тон ее заметно изменился. – Постараюсь сделать, чтобы через год тебя не нужно было переосвидетельствовать. У нас такие правила, каждый год инвалидность нужно подтверждать, каждый год люди проходят переосвидетельствование…
Об этом я слышал. Года три или четыре назад довелось лежать в областной больнице, в детской ортопедии, и познакомиться с парнем, у которого выше колена была ампутирована нога. Он мне рассказывал, что каждый год ему приходится проходить комиссию. Ногу, точнее то, что от нее осталось, – культю – меряют линейкой. Если культя меньше десяти сантиметров, то это одна группа инвалидности, если больше – другая.
Я не придал особого значения его рассказу, полагая, что меня подобное не коснется. Измерять-то у меня нечего. Ан, нет. Коснулось. Да еще как! У меня аж дух захватило. Оставалось только лопнуть от гордости за уникальную систему социального обеспечения, планомерно унижающую и без того униженных природой, искалеченных болезнями и несчастьями людей. Какие человекообразные придумывают такие подлые правила? Какие оцинкованные сердца следят за их неукоснительным исполнением?
Через два месяца мне все-таки дали первую группу инвалидности пожизненно. Видимо, Тамара Сергеевна нашла нужные слова, сумевшие убедить тех, от кого зависело решение. Признаюсь – не надеялся.
Мне назначили пенсию, целых 37 рублей. Эти деньги были первым в моей жизни взносом в семейный бюджет. А дополнительно к этому поставили на «довольствие». Я получил право один раз в месяц получать паек – покупать в магазине ограниченное количество продуктов по «государственным» ценам. Это странно звучало, потому что все цены во всех магазинах были государственными. Однако шла вторая половина восьмидесятых, в стране зрел продовольственный кризис, и магазинные полки пустели. Просто так купить продукты, входящие в паек, становилось все труднее, поэтому и существовала такая государственная льгота для «незащищенных слоев населения» – паек.
В эти льготные группы включали также инвалидов войны и труда. В мой паек входили два килограмма мяса, в основном кости, килограмм колбасы, пачка гречневой крупы, две банки сгущенного молока. Паек для инвалидов войны и труда был немного богаче. Нужно сказать, что даже этому мы радовались. Через пару лет, в разгар перестройки из магазинов исчезло абсолютно все, что в них все-таки иногда бывало. Появились талоны на продукты, и люди стали получать уже ограниченное количество продуктов по талонам. Льготные пайки к тому времени исчезли. Формально льготы остались, но продуктов уже по пайкам не распределяли. Их, продуктов, просто не было.
К моему большому удивлению с телефоном все устроилось относительно быстро. Наша семья стояла в очереди несколько лет и была в пятой сотне желающих. Если пустить дело на самотек, ждать пришлось бы столько же. Поэтому дед, как и всегда в таких случаях надев награды, полученные во время Отечественной войны, пошел в областную администрацию на прием к какому-то начальнику. Сумел убедить, что внуку-инвалиду необходим телефон. Нас продвинули в самый верх очереди. Как ни странно, и мать, и бабушка, да и отец считали, что телефон – это предмет роскоши и не может входить в категорию необходимых в квартире вещей, как, например, холодильник. Я придерживался иного мнения. Для меня телефон был единственной возможностью вырваться за пределы квартиры, превратившейся для меня в тюрьму, способностью пусть на уровне голосовой связи устанавливать контакты с людьми, не обременяя домашних, шансом начать движение к заданной цели – институту. Спасибо деду, он понимал меня лучше родителей и решил для меня просто фантастическую задачу. Я запомнил тот день, когда нам поставили телефон и мама сделала первый звонок. Правда, запомнил его еще и по другой причине.
Это было 16 января 1984 года, в понедельник. В 10 часов утра к нам домой пришел мастер, установил телефон, сделал контрольный звонок на станцию, сообщил нам наш номер и исчез из моей жизни навсегда. Но пока он возился с проводкой и установкой розетки, я разглядел его досконально и запомнил на всю жизнь – ведь он был для меня олицетворением надежды. Я смотрел, как мастер прибивает желтый телефонный провод к стене, и испытывал чувство облегчения, смешанное с гордостью: ведь, несмотря на свою беспомощность, я оказался полезным для семьи. Благодаря моей инвалидности нам без очереди поставили телефон, которым станут пользоваться все: и отец, и мама, и бабушка, и подрастающая сестренка. Ну, и конечно, я рассчитывал с его помощью начать решать свои проблемы. Жизнь начинала приобретать вполне определенный вектор движения.
Осталось дождаться отца и вместе порадоваться. Он ушел на суд как обычно утром, до прихода телефонных дел мастера. Мы знали заранее, что в тот день заседания судебной коллегии не планировалось. Ожидалось только оглашение приговора, и к полудню отец рассчитывал вернуться домой. Накануне вечером мы все собрались дома, вся семья. Говорили о том, что будем делать дальше, как станем жить после всех этих судебных мытарств. В тот вечер у меня внезапно появилось ощущение, что я живу в семье, среди родных и близких мне людей. Мать с отцом и сестренкой не уехали на дачу, и все остались ночевать в нашей городской квартире.
Мы жили верой – все закончится хорошо. Адвокатесса, которую нанял отец, гарантировала благоприятный исход. Максимум, что отцу грозило, это два года условно «за халатность». Как она объясняла, отделаться совсем безболезненно не удастся: за ту «банду», которая орудовала на комбинате в течение долгого времени, точнее, за их преступную деятельность, кто-то обязательно должен нести ответственность. А так как отец возглавлял комбинат, то он не может считаться невиновным, потому что не мог не замечать, как сотни тысяч рублей уворовывались у государства.
Сразу после подключения телефона мать набрала номер областного суда и попросила секретаршу, чтобы та, как только закончится заседание и зачитают приговор, передала наш новый номер отцу. Секретарша пообещала все сделать. Она знала отца. Этот судебный процесс гремел в то время на весь город, а может быть, и на всю страну. Мы стали ждать звонка, но в полдень звонок не прозвенел. Прошло полчаса. Звонка почему-то не было.
Мать сидела в кресле и нервно водила рукой по столику, на котором мы поставили телефон. Она то бралась за трубку, то резко отдергивала руку, боясь занять телефон и пропустить звонок отца. Я лежал на полу, в метре от кресла. Бабушка то уходила и гремела чем-то на кухне, то внезапно резко все бросала и выходила в зал. Это был один из тех редких моментов, когда между матерью и бабушкой был установлен мир. Их объединили мысли об отце и желание счастливого исхода дела для человека, служившего объектом их постоянных ссор. Больше делить им было нечего.
Наконец мать не выдержала, резко сорвала трубку и, глядя на бумажку, быстро набрала номер. Мне с пола казалось, что она пытается выковырять диск из телефонного аппарата. Я наблюдал за лицом матери, пытаясь понять, каков будет результат. После вопроса секретарше, когда она слушала ответ, лицо ее менялось. В первый момент на нем можно было увидеть надежду. По окончании разговора – безнадежность и отчаяние. Не нужно было спрашивать ни о чем, я и так все понял.
– Наташа, ну что там? – спросила бабушка.
Мать каким-то невидящим взглядом посмотрела в сторону, откуда прозвучал вопрос. Лицо ее так и оставалось окаменелым.
– Девять лет.
Она произнесла эти слова очень тихо, и я не понял, о чем она говорит, о каких девяти годах?
– Чего? Какие девять лет? Ты о чем? – бабушка уже держалась рукой за сердце и как-то тихо даже не садилась, а оседала в кресло.
– Девять лет… – медленно повторила мать. Казалось, в тот момент она сама пытается осознать, прочувствовать этот временной срок. Как будто в те мгновения она решала, как и что делать дальше? Как прожить эти свалившиеся на нее своей неподъемной тяжестью годы?
– Это все ты виновата! Ты! Ты!
Мать кричала с какой-то гнетущей злостью в голосе, повернувшись в ту сторону, где стояло кресло, с утонувшей в нем оглохшей и онемевшей бабушкой. В минуту помрачения мать хотела найти виновника всех своих несчастий. Им, как всегда, оказалась бабушка.
А для бабушки это горе было нисколько не меньшим ударом, чем для матери и всех нас. Может быть даже большим. Бабушка рано потеряла мужа, отцу было тогда тринадцать лет. На ее плечах оказалось двое детей, которых нужно было кормить, воспитывать, ставить на ноги. Отец и его старшая сестра Галя, по примеру своей матери, рано пошли работать. Отец – пятнадцатилетним пацаном. Они с сестрой работали и учились одновременно. На одну бабушкину зарплату прожить в те годы семье из трех человек было немыслимо.
Бабушка гордилась тем, что ее дети, мой отец и его сестра, тетя Галя, несмотря ни на что получили высшее образование. Тетя Галя после окончания педагогического института работала учителем. Не знаю, по какой причине она не вышла замуж, возможно, все силы отдавала работе. У нее получилось. В двадцать семь лет она была директором школы. А в двадцать девять ее не стало – рак желудка. Это был второй, тяжелый для бабушки, удар.
А теперь стряслась беда с ее последним ребенком. И это страшное известие принес только что поставленный «мой» телефон.
Все началось задолго до того, как моего отца назначили директором на астраханский рыбзавод имени Трусова. Как было установлено во время суда, «группа Астахова» действовала там с 1976 года. Астахов возглавлял одну из баз приемки – участок, куда рыбаки сдавали выловленную рыбу ценных пород: осетров, белуг, севрюг. Оттуда рыба шла на рыбзавод для переработки и производства, в частности, черной икры. Черная икра – дорогой продукт, особенно за границей, и не удивительно, что она стала объектом воровства и махинаций. Астахов и «сотоварищи» торговали неучтенной продукцией, а выручкой делились с самыми высокопоставленными областными чиновниками и партийными функционерами. Деньги и «черное золото» шли и на самый верх, в Москву.
Отца назначили директором в 1978 году. Тогда всеми подобными назначениями занимались партийные органы, и отказ от такого предложения мог в дальнейшем повлиять на карьеру. Да и не хотел отец отказываться от престижной должности, которую, как считал, заслужил. Он гордился тем, что ему удалось сделать свою жизнь «с нуля», стать директором престижного предприятия. Без интриг и подсиживаний. Он не покупал эту должность за взятки, не пользовался поддержкой высокопоставленных покровителей, которых, кстати, и не было: он приехал с другого конца страны.
Через год после назначения отца на трусовском рыбкомбинате «вдруг» обнаружилась преступная группа и вскрылись огромные масштабы махинаций. Безусловно, расхищение народных ценностей не могло остаться безнаказанным. Наказанию должны были подвергнуться не только «астаховцы», но и руководство рыбзавода.
Вся наша семья переехала в Астрахань незадолго до злополучного назначения. То, что отец был приезжим – «фраером» без местных «завязок», сыграло роковую роль в его судьбе. Своего человека заинтересованные силы вывели из-под удара, а на его место назначили того, кого легко можно было сдать. Как рассказывал мне отец, на суде Астахов много раз свидетельствовал и представлял доказательства, что он «кормил» все милицейское начальство Астраханской области. Как он выражался, «я дверь кабинета генерала Максимова (в то время начальник Отдела внутренних дел Астраханской области) открывал ногой, потому что руки были заняты». «Кормил» Астахов и всех нужных людей, как в областных, так и в московских кабинетах. В общем, репутация власть предержащих оказалась сильно подмоченной и потребовалась фигура, способная отвлечь на себя внимание общественности от партийных и милицейских чиновников. Фигура достаточно высокопоставленная и без связей, которой можно было без сожаления пожертвовать – в смысле наказать по полной программе. Директор проштрафившегося предприятия для этого подходил идеально. Отца сознательно подставляли под удар, и в приватных беседах с представителями астраханского обкома партии и областной прокуратуры ему гарантировали минимальный срок – два года условно, за халатность. Отец поверил. Он надеялся, что именно так все и произойдет. Конечно, реноме пострадает, но в тюрьме он сидеть не будет. То, что до последнего дня отец ходил на суд самостоятельно, в то время как все остальные подсудимые находились под стражей, его обнадеживало и успокаивало.
На то последнее, злополучное заседание суда он ушел из дома с мыслью, что после приговора вернется к семье. Увы. Судьба его была определена намного раньше. И совсем не в кабинете председательствующего судьи. Приговор оказался страшным и ни из чего не вытекающим – девять лет с конфискацией имущества. По статье «за халатность» два года и девять лет «за взятку в особо крупных размерах» должностному лицу. На суде всплыло, что отец, якобы, получил от Астахова взятку в виде холодильника. И еще два случая «взятки».
Мать мне рассказывала, что с холодильником получилось глупо. Однажды Астахов заехал к нам домой, а у нас в тот момент не работал холодильник. Аппарат был старенький, часто барахлил, и отец давно собирался купить новый, вот только из-за занятости постоянно откладывал. Когда в доме появился Астахов, холодильник сломался окончательно и все продукты из него, а также приготовленная еда в кастрюлях красовались на кухонном столе. Гость поинтересовался, что произошло. Мать рассказала. Через три часа после ухода Астахова раздался звонок в дверь: его люди привезли новый аппарат. Холодильник в то время был прибором относительно дорогим, но если даже моя бабушка смогла его приобрести на свою пенсию и зарплату дворника, то нашей семье холодильник тем более оказывался по средствам. О чем отец и сказал Астахову, когда встретил того на заводе. Деньги нечаянному благодетелю он вернул. Но судья этого факта решил не заметить. И сделал эпизод с холодильником первым случаем дачи взятки.
Потом «нашлись» свидетели, которые видели, как Астахов два раза клал в багажник отцовской машины свертки с рыбой. Позже я думал, может быть, это как раз и была та рыба, которую отец дважды завозил нам с бабушкой, но не помню, осетрина это была или судаки?
Даже если принять позицию судьи и допустить факты взяток, то прямой ущерб, «нанесенный» отцом государству, не превышал четырехсот рублей. Двести шестьдесят рублей холодильник и два десятикилограммовых свертка по пятьдесят рублей [2]. Если разделить образовавшуюся сумму на срок заключения, назначенный отцу, то один день его жизни живодеры от правосудия оценили в одиннадцать копеек. Или год заключения за сорок рублей. Это была откровенная «подстава».
Через год после окончания суда и вынесения приговора, когда утихли страсти, бывший директор рыбозавода имени Трусова, при котором сформировалась и расширяла преступную деятельность «группа Астахова», снова занял свое рыбное директорское кресло, а через несколько лет он стал мэром города.
Самого Астахова приговорили к расстрелу. Остальных восемь подсудимых к различным, от 11 до 15 лет, срокам заключения с конфискацией имущества. А генерала Максимова вскоре отправили на почетную персональную пенсию.
Настоящие же организаторы и участники рыбной мафии (Астахов тоже был «разменной» фигурой) живут и благоденствуют поныне. У судьбы щербатая улыбка.
После приговора
Вся нажитая родителями движимая собственность была описана судебными приставами. Однако практически ничего у нас не конфисковали. Самое ценное, чем владела наша семья, – это автомобиль, купленный отцом на деньги, заработанные им еще во Владивостоке. Когда пришли отнимать наш «Жигуль» в пользу государства, то перед судебными исполнителями предстал только остов кузова – все автомобильные внутренности растащили на запчасти соседи-автолюбители. Мать, зная, что все равно автомобиль заберут, выставила его во двор на разграбление. Государство, представленное сплоченной командой продажных чиновников, покладистых судей и партийных ханжей, отняло у нашей семьи отца, мужа и сына, так пусть хоть автомобиль не достается этой банде. Так решила мама, и я с ней совершенно согласен.
Девять лет. В один момент была изломана и исковеркана судьба отца. Да и вся наша семья вскоре прекратила свое существование. Узнав о приговоре, мать долго приходила в себя. Бабушка этот удар перенесла также очень тяжело. Я боялся, что к ее двум инфарктам может добавиться третий. На следующий день после приговора она пошла на свидание к отцу и… не узнала его: перед ней предстал абсолютно седой человек – ее сын.
Мы пытались что-то делать, как-то исправить ситуацию. В тот же день мать обзвонила всех, кого только смогла, пытаясь найти хоть кого-нибудь, способного помочь нашей беде. Вот только… Мы были чужими. Те наши знакомые, кто нам тогда сочувствовал, делали это в основном шепотом. Те, от кого что-то могло зависеть, в большинстве сами оказались замешанными в этом деле и даже говорить на опасную тему не хотели.
Через три дня, взяв взаймы денег, мать улетела в Москву. Вся надежда была на Генеральную прокуратуру. Все оказалось тщетно – ее не приняли. И единственное, что она смогла сделать, это написала письмо на имя Генерального прокурора и оставила в приемной. Даже этого в тот момент было много, она боялась, что если напишет письмо в Астрахани и пошлет по почте, то за пределы города оно не выйдет. Конечно же, боялась она не без оснований.
Мы все писали тогда письма. Я написал несколько писем лично от себя, постарался обрисовать нашу ситуацию, как можно доступнее. Я писал о том, что болею с детства и не могу ходить; что отец был единственной опорой нашей семьи; что сейчас нам надеяться не на что и не на кого. Я просил только одного – разобраться в деле «по справедливости». В то время я еще продолжал верить, что справедливость в конце концов должна восторжествовать. До суда я считал: если человека сажают в тюрьму, то это не может происходить без причины; я хорошо усвоил поговорку, что «дыма без огня не бывает». Как оказалось, в российском правосудии бывает все.
Бабушка писала письма от своего имени и посылала их одно за другим. Она рассказывала о себе, о своей жизни, о нас. Она тоже молила о помощи земных чиновников и ходила в церковь ставить свечки небесным.
Мы слали письма всюду, куда нам советовали «знающие» знакомые: в Генеральную прокуратуру СССР, в Верховный суд СССР, в Кремль, в ЦК КПСС, мы писали письма лично Генеральному секретарю ЦК КПСС. Наступило время, когда Генеральные секретари ЦК КПСС менялись почти каждый год [3], и я уже не помню точно, на чье имя мы писали и кого мы умоляли нам помочь.
А потом мы ждали ответов.
Бабушка и мать ходили к отцу на свидания. Носили передачи. Мы пытались найти людей, имеющих возможность передать отцу самое необходимое. Особенно тяжело было передавать мазь, ту специальную, самодельную мазь от псориаза, без которой его жизнь была невыносима.
Через некоторое время мы начали получать ответы.
Из Генеральной прокуратуры СССР нам отвечали, что наше письмо переправлено в Генеральную прокуратуру РСФСР и что нам обязательно должны оттуда ответить. И что дело отца будет внимательно рассмотрено. А из Генеральной прокуратуры РСФСР нам отвечали, что наше письмо переправлено в Астраханскую областную прокуратуру. И что оно обязательно будет внимательно рассмотрено.
Из Верховного суда СССР нам отвечали, что наше письмо переправлено в Верховный суд РСФСР, а оттуда дальше, в Астраханский областной суд. Что дело внимательно будет рассмотрено.
Из Кремля, из ЦК КПСС, из приемной Генерального секретаря, нам также ответили, что наше письмо, переправлено в Астраханский обком партии. И что дело внимательно будет рассмотрено.
Те, на кого мы жаловались, должны были рассматривать жалобу на самих себя. Что можно придумать циничнее в стройной и хорошо отлаженной бюрократической системе? Система работала безупречно: с равнодушием тупого животного день и ночь пережевывала судьбы людей.
Мы неожиданно узнали, что и отца, и Астахова из Астрахани увезли. Куда-то по этапу, а куда – неизвестно. А потом долго пытались выяснить, куда увезли отца, и вновь писали письма. Нам отвечали, что «дело внимательно рассматривается», и что осужденных увезли из Астрахани как раз в связи с этим рассмотрением. И мы получили письмо от отца, из колонии откуда-то из-под Ярославля. Он нам писал, что очень надеется, что все скоро разрешится к лучшему. И у нас появилась надежда.
Спустя полтора года мы узнали, что отца вернули в Астрахань. Из Астраханской областной прокуратуры пришел ответ, что помочь они ничем не могут, что дело пересмотрено и приговор оставлен в силе. А еще через некоторое время адвокат Астахова сказал матери, что его бывший подзащитный расстрелян…
Бабушка продолжала писать письма, носить передачи, ходила на свидание к отцу, делала попытки найти «нужного» человека, чтобы передать на «зону» лишнее письмо или пачку сигарет. Она продолжала ходить в церковь, ставить свечи. Она надеялась на помощь неба. Больше надеяться нам было не на кого.
Мать подала на развод. Они с моей сестрой переехали жить в пригородный поселок Осыпной Бугор, где находился дом, который отец строил, до того как оказался в тюрьме. Он так его и не закончил.
Когда-то отец рассказывал мне, что, будучи моряком, в австралийском городе Сиднее он познакомился с девушкой. Очень красивой и достаточно состоятельной. Они понравились друг другу. Джейн, как ее звали, предлагала ему остаться с ней.
– Но у меня дома родился сын, – так отец закончил свой рассказ. Не о жене он вспомнил в то время, о сыне. Если бы отец мог предположить, какое ждет его будущее…
На пути в институт
Помочь мне никто не мог. У меня не было ни знакомых, ни родственников, имеющих отношение к институту. Решившись поступать, я оставался один на один с проблемами, которые возникали и могли возникнуть. В этом меня еще раз убедил разговор с отцом. Он состоялся незадолго до того, как в нашей семье случилась беда. Как-то вечером отец стал рассказывать о своей жизни, как учился, как тяжело им было жить, потому что они с сестрой рано потеряли своего отца, из-за чего им пришлось совмещать учебу с работой. Как, несмотря на все это, он смог получить два высших образования, стал директором. Без всяких связей и протекций. Он рассказывал, как они с матерью ждали моего рождения, и как он радовался, когда, там, в плавании, на китобойном корабле в Арктике, получил телеграмму с долгожданной новостью. И как мечтал, что вместе с сыном будет ездить на рыбалку, на охоту. И все это, пока не узнал, что сын неизлечимо болен.
Отец говорил и говорил, давая понять своим рассказом, насколько я его разочаровал. Сколько его надежд я разрушил своей болезнью. Родиться то я родился, да вот что толку? Ни на охоту, ни на рыбалку со мной сходить он не может. Да что там охота – соседям показать меня стыдно.
– Так что, сынок, пенсию назначили, больше тебе ничего и не нужно, – я понял, что его монолог приближается к концу, и поторопился вставить:
– Я уже говорил тебе, что в институт хочу поступать, в педагогический.
– Зачем тебе это нужно? Чего тебе не хватает? – отец посмотрел на меня, словно впервые видел.
– Я не могу просто так жить, – я чувствовал, слова звучат как-то ненатурально, пафосно, но других у меня в тот момент не было.
– Ну, что ты можешь сделать? Ты что, думаешь, это кому-то нужно? – в голосе отца сквозило насмешливое удивление.
Он немного помолчал и, подводя черту нашей беседе, устало сказал:
– Ну, что же, давай, пробуй. Но, учти, никаких проблем бабушке не создавай. Она и так больна, я не хочу, чтобы ты ее нагружал. Твоими делами она заниматься не будет. То, что она бегала по кабинетам с этой твоей пенсией, и так добавило ей расстройств. Она за тобой ухаживает, это все, что она может тебе дать.
Отец отвернулся и, встав с кресла, подошел к телевизору, намереваясь прибавить звук. Я понял, что разговор окончен.
– Не буду. Я все понимаю, – в тот момент я очень пожалел, что вообще начал говорить.
Пришло время действовать. Один год уже потерян. Выписываясь из санатория, я планировал сразу же пытаться поступить в институт. Однако суд и последующие попытки помочь несправедливо осужденному отцу вынудили отложить задуманное. К тому же, обитая в санатории, я безнадежно оторвался от реальной жизни и даже не предполагал, что отсутствие телефона может стать практически непреодолимым препятствием. Теперь благодаря деду телефон у меня был.
В газете я нашел объявление, что приемная комиссия начинает работу. Все желающие должны были сдать документы с 15 по 31 апреля. Экзамены начнутся первого июня. Времени оставалось совсем мало, литературы для подготовки к экзаменам у меня не было вообще.
Первое, что я сделал, – нашел номер телефона ректора пединститута Валерия Александровича Пятина и намерился позвонить ему. Я решил начинать с самого верха, поскольку там и находятся люди, от которых что-то зависит. Ректору я пытался дозвониться в течение трех дней. То попадал в момент, когда его не было в кабинете, то, когда звонил, у него шло совещание. Существовала еще одна проблема, но это была исключительно моя проблема. В то время я очень боялся начать говорить. Пролежав двенадцать лет в санатории, я не имел элементарного опыта общения с людьми. Собираясь звонить, я сначала пытался проговорить про себя или, если был один, проговаривал вслух то, что хотел сказать. Но даже после этого я несколько раз набирал номер, слушал гудки, и как только раздавался голос секретаря, нажимал на «отбой».
Наконец, все сошлось. Секретарь переключила меня на ректора, тот был в своем кабинете, я не нажал на «отбой» и услышал «слушаю», сказанное густым объемным голосом.
– Здравствуйте! Я бы хотел поступить в институт, – меня била мелкая дрожь и бросало в жар.
– Нет проблем, сдавайте документы в приемную комиссию и поступайте, – голос был уверенным и постепенно я начал успокаиваться.
– Проблемы есть. Дело в том, что я не могу ходить. И живу я с бабушкой, она больна. Помочь она мне не может, – я вновь почувствовал неуверенность. Мне показалось, что он меня сейчас не поймет. Не поймет, какая помощь нужна. В чем бабушка мне помочь не сможет.
– Хорошо, я пришлю к вам кого-нибудь, – ректор меня понял. Попросил продиктовать ему номер моего телефона и адрес.
– Спасибо! – сказал я в трубку, в которой уже звучали короткие гудки.
На следующий день раздался звонок. Говорил очень приятный женский голос.
– Здравствуйте! Меня зовут Крылова Люба. Ректор попросил меня помочь вам с поступлением. Что вам нужно?
– Здравствуйте…
Я уже долгое время не разговаривал ни с кем, кроме своих родных, поэтому чувствовал себя очень неуверенно. Особенно после такого вопроса. Поскольку вообще не знал, что необходимо для поступления в институт. Мы договорились встретиться и все подробно обсудить.
И тут выяснилось, что проблемы у меня возникают из «ниоткуда». Когда о встрече с Любой я рассказал бабушке, оказалось, что она в это время уходит по своим делам. Ждать, пока придет Люба, бабушка не хотела, а когда я попытался ее уговорить, разразился скандал. Доступ к моему телу стал камнем преткновения. Пришлось перезванивать Любе и назначать встречу на следующий день. Перед этим я узнал у бабушки, какие у нее планы на означенное время. Планов не предполагалось.
Бабушка могла бы уйти и не запирать замок. Дверь была с маленьким секретом: кто знал, просто поворачивал ручку и входил. Когда приходящий звонил в дверь, обычно я кричал: «Кто там?» – и если знал пришедшего, то кричал, чтобы повернули ручку и входили. Иногда «поверните ручку» я кричал сразу, едва заслышав звонок. Этого бабушка и боялась. Квартира наша находилась недалеко от железнодорожного вокзала. Очень часто к нам наведывались с различными просьбами нищие, цыгане, пьяницы. Бабушка панически боялась, что нас обворуют.
Забавно, но брать у нас было нечего. Когда отцу вынесли приговор, мать вывезла из квартиры практически все вещи. Вывезла, хотя имущество было описано. Я спросил ее, а что нам делать, если придут судебные исполнители и спросят, где вещи, ответом было: «Скажи, что ты не знаешь». Когда судебные исполнители, наконец, появились, то, не найдя описанных вещей, без дальнейших разговоров уехали и больше не возвращались.
Теперь в квартире не было почти ничего, кроме старенькой кровати и очень древнего комода. Бабушка привезла их из своей каморки. Мы не имели даже телевизора. Телевизор для меня оставался единственным окном в мир. Бабушка понимала это, и мы на наши с ней очень скромные деньги, состоящие из двух пенсий, моей и ее, несколько месяцев брали телевизор напрокат.
Две квартиры – трехкомнатную, в которой жили теперь только мы с бабушкой, и однокомнатную бабушкину, было решено обменять на двухкомнатную. Если удастся, то с доплатой. Мы дали объявление в газету, и, кроме того, бабушка теперь каждую неделю, в среду и пятницу, ходила в бюро обмена. Где-то она узнала, что через бюро можно найти более выгодный вариант. Теперь моя эпопея с институтом напрямую зависела от бабушки, норовившей уйти из дома в самые неподходящие моменты. Иногда с большим трудом мне удавалось уговорить ее остаться до прихода Любы. Я очень боялся, что момент вступительных экзаменов может пересечься с каким-нибудь важным бабушкиным делом, потому что день и час экзаменов от меня никак не зависели. Я не мог позвонить и перенести час «икс» на день «игрек». В общем, несмотря на то что очень этого не хотел, я все же создавал бабушке проблемы. Она и так была слишком нервной: в то время все ее мысли занимал отец, который нуждался в ней больше меня. Между нами часто стали возникать ссоры.
Люба Крылова появилась в назначенный день. Это была среднего роста девушка, с приятным русским лицом. Возможно, «русскость» ей придавала длинная, ниже пояса, тяжелая коса. Люба была первым человеком из внешнего мира, которого я увидел за очень долгий период времени. В свой следующий приход она принесла учебники и возможные варианты экзаменационных вопросов. Потом Люба стала приходить каждую неделю. Она серьезно и очень ответственно помогала мне готовиться, а во время «перемен» мы говорили о жизни. Так продолжалось вплоть до вступительных экзаменов.
Это были первые экзамены в моей жизни. Я сильно переживал. Так получилось, что в санатории мы экзаменов не сдавали. На педсоветах было решено выставить нам годовые оценки в восьмом и десятом классах и этим ограничиться. Решение объясняли тем, что среди нас могли находиться дети-сердечники, поэтому врачи не хотели подвергать их этому очень нервному испытанию. Не знаю, кто из наших имел «слабое сердце», но только подобные постановления выносились два раза именно тогда, когда среди сдающих экзамены был я. В остальные годы выпускные экзамены проходили без каких-либо проблем.
Самым трудным представлялся письменный экзамен. Нужно было написать сочинение за определенный промежуток времени. За грамотность я не боялся. Причина переживаний заключалась в другом: к началу вступительных экзаменов моя правая рука, которой я в то время только и мог писать, была сломана в двух местах. Однако об этом я никому не говорил, да, в общем, никого мои проблемы и не касались. Я понимал, что никаких скидок на состояние моего здоровья никто мне делать не станет. За сдачу устных экзаменов я не волновался.
К первому июня, во многом благодаря Любе, я основательно подготовился к битве за институт. Со стороны бабушки проблем тоже не предвиделось. Дни экзаменов были известны заранее, и у нее на это время никаких дел не намечалось.
День моего первого вступительного экзамена я ожидал с огромным нетерпением и страхом. Я не боялся, что не сумею раскрыть тему сочинения или сделаю много ошибок. Был страх, что вообще не смогу писать. Правая рука почти перестала меня слушаться, а ведь ей я только писал. Все остальное делал левой. Точно зная день и час экзамена, я старался подготовить к нему руку: не напрягать, не нагружать, не шевелить без необходимости. Я уже решил, что буду учиться писать левой рукой – она покрепче, но к началу экзамена я никак не успевал стать левшой.
Но даже, несмотря на мои старания, у меня ничего не получилось. В день первого экзамена, проснувшись рано утром, я сразу вспомнил, что предплечье правой руки сломано в двух местах. Надо было искать выход. Преодолеть столько препятствий и завалить первый же экзамен из-за переломов… Надо что-то делать. Положив на пол, с правой стороны, книгу с листом бумаги, я попробовал написать пару бессмысленных строчек. Выводя слова, я мало обращал внимания на то, что пишу. Я старался понять, как сильно повреждена рука и в каком положении она болит меньше всего. С трудом найдя такое положение, я кинул взгляд на лист. На нем синели две строчки всего одного короткого предложения – «я смогу». Это не придало уверенности, но немного успокоило.
Держать свой первый экзамен мне предстояло в тот же день, что и другим абитуриентам. Назначенное время – одиннадцать часов дня. Оставалось только ждать. Когда в одиннадцать никто не появился, я сделал попытку позвонить в институт. Набрал номер и… положил трубку. Я боялся услышать, что мне в последний момент отказано в поступлении по причине моего заболевания.
Я ощутил, как мое измученное напряжением тело стало леденеть. Волнение от предстоящего экзамена уступало место судорожной тоске. Этому чувству есть хорошее определение – безнадёга.
Бабушка вдруг заявила, что если еще через полчаса никто не придет, она отправится по своим делам. У нее ничего не было намечено на этот день, но она вдруг решила, что какие-то дела еще успеет совершить. Моя попытка ее остановить ни к чему не привела. Если бабушка решала что-то сделать, то отговорить ее не мог никто. Мать ненавидела в ней это качество и называла его – «ваше борисовское упрямство». Впрочем, это качество она не любила и во мне.
Звонок у входной двери прозвенел в одиннадцать двадцать пять, и нервы к этому времени у меня были натянуты до предела. Принимать экзамен пришли две женщины. Я не могу сейчас ничего сказать ни об их возрасте, ни о том, как они выглядели. Помню только, что мне рассказали об условиях экзамена, что на сочинение отводится три часа и что оно должно быть объемом не меньше четырех страниц. После того, как я напишу сочинение, они должны забрать его и все черновики. Из предложенных тем я выбрал «Стихотворение М.Ю. Лермонтова „Бородино“ – как гимн русского патриотизма». Помню, что все то время, пока я писал, бабушка поила женщин чаем на кухне, дверь которой была закрыта.
Больше я не помню ничего. Ничего, кроме жуткой, невыносимой боли и страшной жары. Вентилятор, стоящий рядом со мной на полу, работал на полную мощность. Незадолго до прихода экзаменационной бригады я попросил бабушку перетянуть мою правую руку бинтом. Бинт немного зафиксировал сломанные кости и слегка успокоил боль. Это помогло, однако, надолго оставлять ее перетянутой было нельзя. Бинт сдавил сосуды, и рука стала деревенеть. С большим трудом мне удавалось держать авторучку. В конце концов, после того как было написано полстраницы, рука окончательно окостенела. Очень осторожно я размотал бинт. Полежав минут пять и ощутив, что пальцы вновь обрели полную чувствительность, я бережно начал поворачивать руку. Нужно найти удобное положение и продолжать сочинение.
«Хрусть!» – это было беззвучно, но я услышал всем телом. Еще один перелом. На этот раз сломалось плечо. Видимо, в предплечье ломаться было уже нечему. К боли добавилась боль. В тот момент мне захотелось закричать. На меня навалилось жуткое отчаяние. Наконец уразумев, что переживать уже бессмысленно, решил сосредоточиться на сочинении и постарался, насколько возможно, забыть про боль.
Когда через три часа женщины вышли из кухни, я минут пять как лежал, бессмысленно глядя в потолок. Черновиков не было. Обошелся без них. Честно говоря, на черновики сил в то время у меня не хватило.
После этого я сдал еще три экзамена. Какие – не помню. Не запомнились они ничем. Письменных больше не было. За сочинение получил «четыре». В итоге, две четверки и две пятерки. Поступил.
Я чувствовал, как в течение первой недели после поступления – этого незабываемого события, на моем лице время от времени непроизвольно появлялась вдохновенная улыбка. Я смог. Я провернул это, казалось безнадежное и ненужное никому дело. Никому? Пусть. Пока это необходимо только мне. Это гарантия того, что предстоящие пять лет мой мозг не будет деградировать и мне обеспечено редкое, но общение с серьезными преподавателями. Это был мой первый маленький триумф.
Дела житейские
С началом учебы в институте моя жизнь наполнилась смыслом. Для меня. Родные смотрели на мое студенчество как на бесполезную блажь. Мать и сестренка появлялись у нас очень редко. Бабушке было не до моих надежд и планов. Она все еще предпринимала попытки облегчить участь отца, писала письма во все инстанции и ждала ответов. Приходили ответы. Отрицательные. Она плакала, потом, успокоившись, писала снова. И ждала, ждала, ждала… Она надеялась и этим жила. С сердцем у нее становилось все хуже. Иногда по утрам она долго не могла встать. Выходя из дома, обязательно брала с собой нитроглицерин. Как-то проснувшись ранним утром, я увидел, что бабушка лежит на диване с запрокинутой головой и судорожно дышит.
Она не отозвалась. Почему-то я сразу понял – она без сознания. Была еще маленькая надежда, что она спит.
– Бабуля?!
Никакой реакции. Я набрал «03».
Пока «скорая помощь» спешила, нужно было сообразить, что делать дальше. Выглядело все хуже некуда. Я пребывал в легкой панике. Первое и самое главное: как впустить врачей. Дверь заперта, и я не могу ее открыть. Если разрешить врачам ломать замок, то лучшее, что меня ждет, – проживание в квартире с раскуроченной дверью неопределенно долгое время. У нас не было денег, чтобы ее починить. Второе: если бабушку сейчас увезут в больницу, с кем я останусь и на какое время?
Тут мне повезло. Днем раньше ко мне должна была прийти из института Люба, а бабушка собиралась уходить. Это вылилось в громкий скандал и полторы сотни обидных слов, но мне все-таки удалось уговорить бабушку оставить ключ от нашей квартиры у соседки-пенсионерки, которая обычно сидела дома. Люба, уходя, возвратила ей ключ. Бабушка вернулась поздно и не стала заходить к соседке за ключом, что оказалось сейчас очень кстати. Оставалось только докричаться до пенсионерки через стену. К счастью, та сидела дома и откликнулась очень быстро. Когда врачи из «скорой» позвонили в нашу квартиру, соседка уже открывала им дверь.
Давление у бабушки оказалось очень высоким. Ей сделали укол, и через три минуты она открыла глаза. Забирать в больницу ее не стали. Сказали, что заберут в следующий раз, если в ближайшее время повторится похожий приступ. Да и бабушка, как только открыла глаза, тут же стала говорить, что в больницу ей никак нельзя: она собиралась завтра ехать на свидание к отцу.
Все три дня ее отсутствия со мной должен был оставаться Виктор.
С Виктором бабушка познакомилась, когда работала дворником, зарабатывая свою квартиру. Он приходил помогать ей во всяких мужских работах по дому. Виктор был высоким, худым мужчиной с длинным лицом. Ему было за тридцать, и он имел инвалидность третьей группы. Лет пять назад, на работе его левая рука попала под диск циркулярной пилы. Оставшиеся четыре пальца оказались парализованными из-за серьезного повреждения нерва. Виктор воспитывал троих детей, и ему было трудно обеспечивать семью, что становилось причиной бесконечных скандалов и размолвок Виктора с женой.
Он приходил к бабушке поговорить – «отвести душу», попросить совета. Бабушка обращалась к нему за помощью все чаще и чаще. Она ухаживала за мной, но поднимать меня ей было тяжело. Почти всегда это делал Виктор. Когда посторонней помощи не предвиделось, бабушка надевала пояс, стягивающий ее грыжу, подкладывала мне под спину простыню, брала ее за оба конца и несла меня, как носят очень тяжелые сумки, мыться. Самым драматичным был момент, когда она поднимала эту ношу на уровень края ванны. Я очень боялся, что она меня уронит. На лице ее в это время отражалась такая боль, что мне становилось не по себе.
Виктор оставался со мной уже во второй раз. Трехдневные свидания полагались отцу каждые шесть месяцев. На таких свиданиях отцу очень хотелось видеть дочь и жену, но мать к тому времени уже не считалась его женой, а сестренку с бабушкой не отпускала. Так что бабушка была единственным человеком, кто мог и хотел навещать отца в колонии.
Целых три дня отец и бабушка жили на территории исправительного учреждения в специально отведенной для таких свиданий комнате. В ней можно было жить, не выходя, и готовить еду из продуктов, которые бабушка привозила с собой.
Перед свиданием, недели за две-три, бабушка начинала приготовления: закупала все необходимое и доводила до состояния «передачи», как предписывалось правилами учреждения, в котором отбывал приговор мой отец. Например, из сладкого можно было передавать только конфеты – карамель без обертки. Также было запрещено передавать целыми сигареты. Несколько вечеров перед свиданием мы с бабушкой разворачивали конфеты и ломали сигареты «Прима», высыпая из них табак.
Бабушка держалась из последних сил. Постоянные переживания за отца, призрачные надежды на то, что в его деле разберутся «по справедливости», и торжествующая мерзость реальной жизни сильно сказывались на ее физическом состоянии. Каждая передача отцу сопровождалась унижениями и грубостью со стороны работников исправительного учреждения. Возвращаясь домой после очередного посещения колонии, она долго приходила в себя, вспоминала, как ее обыскивали на контрольно-пропускном пункте, рылись в припасенных для отца вещах и продуктах, выискивая запрещенные вложения, как охранники грубо обращались с отцом.
Жили мы тогда с ней на наши две пенсии – мои тридцать семь рублей и ее семьдесят два [4]. И за каждую передачу, переданную отцу, надзиратели не гнушались вымогать деньги у старой женщины. Тяжелее всего было передавать отцу мазь, которую бабушка делала сама. Мазь не входила ни в один из списков предметов, разрешенных для передачи. Каждая переданная баночка стоила бабушке не только денег, вымогаемых всеми кому не лень: ей приходилось многие часы высиживать в очередях у кабинетов всяких маленьких и больших начальников.
Как-то раз она ушла на один из таких приемов к двенадцати дня и вернулась после пяти вечера. Вошла, сняла пальто, повесила в прихожей. Очень медленно прошла в комнату и легла на диван. Лежала весь вечер, не произнося ни слова. Только постоянно глотала нитроглицерин, с которым давно уже не расставалась ни на секунду. О том, что случилось, она рассказала утром. Не произошло ничего особенного.
Четыре часа бабушка просидела в очереди из пяти человек, ожидавших приема. Лишь в половине пятого вечера секретарша, которая все это время листала журналы, деловито перекладывала бумаги и болтала по телефону, наконец, сообщила всем ожидающим, что хозяин кабинета сегодня никого не примет, что он на совещании у своего руководства. И велела прийти в следующий раз. Начальник принимал посетителей один раз в месяц. Ожидающим оставалось только надеяться, что через месяц они все же смогут переступить порог заветного кабинета. А бабушке была нужна лишь подпись под разрешением передать отцу мазь. Это разрешение возобновлялось и подписывалось каждый раз, когда готовилась передача и для этого нужно было отсиживать в очереди к трем таким вот начальникам.
Я хочу жить!
Здоровье бабушки неуклонно ухудшалось. Я понимал, что рано или поздно, но все равно потеряю даже эту крошечную семью и останусь абсолютно один. Все чаще мысли о прекращении жизни стали посещать мою грешную голову. Но не только бабушкино здоровье было тому причиной. Меня толкало к этому собственное состояние – начали отказывать руки.
Уже на следующее утро после написания первого экзаменационного сочинения я начал учиться писать левой рукой. Тренировался каждый день от одного до полутора часов. В результате уже через три месяца довольно-таки прилично писал обеими руками.
Тогда же я сделал маленькое открытие. Перечитав множество детективов, я не раз встречал описания случаев, когда шпион, чтобы его не опознали по почерку, пишет левой рукой. Начав практиковать такой же метод, я обнаружил, что литераторы, описывающие подобные случаи, не ведают, о чем пишут. Почерк моей левой руки отличался от почерка правой только наклоном букв: у правой они клонились вправо, у левой – влево. Больше никаких различий не было.
На какое-то время я перестал беспокоиться. Правая рука продолжала ломаться, но ее переломы меня уже не расстраивали – левая-то действовала. Одну или две письменные работы я написал и сдал несколько зачетов за первый семестр. Радоваться, однако, мне пришлось недолго.
Учеба в институте сильно отличалась от учебы в санатории. Дело не в том, что учиться стало тяжелее. Материал давался без особых усилий. Тяжелее стало из-за возросших нагрузок на руки. Теперь я уже не мог не писать. Сдавать письменные работы требовалось обязательно, никто меня от них освобождать не собирался. Я и не предполагал, что, живя со своим заболеванием уже достаточно долго, стану тем не менее получать от него сюрприз за сюрпризом.
Когда врачи ставили мне диагноз, то, рассуждая о моем будущем, обещали, если я доживу до шестнадцати лет, – что, по их мнению, маловероятно, – то переломы прекратятся. Когда я окончил школу, мне стукнуло семнадцать, я с надеждой ожидал, ну если не окончательного прекращения переломов, то хотя бы некоторого замедления травматической активности организма. Однако не случилось ни того, ни другого. Напротив, мои руки стали ломаться с такой немыслимой частотой, что я, уже переживший за свою жизнь не одну сотню переломов, начал испытывать нешуточный страх.
Дело заключалось не в боли, которую приходилось переживать после каждого перелома. Руки (а к тому времени у меня действовала только одна, левая) были для меня гарантией самостоятельности и определенной независимости. Возможно, со стороны это выглядит болезненной иллюзией: «самостоятельность», «независимость», но мне, изнутри, мой быт виделся иначе, чем окружающим. За всю свою сознательную жизнь я припоминаю один-единственный период, когда меня кормили посторонние. Даже когда левая рука, последняя «рабочая», оказывалась сломанной в нескольких местах, даже тогда я делал все, чтобы самостоятельно есть, чистить зубы и так далее, и не представлял, что может быть иначе. Большую часть моей домашней жизни я оставался один. Если в таких условиях я не смог бы самостоятельно ни есть, ни пить, ни обслуживать себя после того, как схожу в туалет, мне оставалось бы только одно – не жить совсем. А я хотел жить. Я очень хотел жить, а не существовать подобно растению.
После того как нагрузки на единственную «трудящуюся» руку стали интенсивнее, она принялась «чудить». Дело доходило до того, что рука ломалась в моменты, когда я брал ручку, чтобы писать, или ложку, чтобы есть. Я пережил много переломов в своей жизни, однако, ничего подобного еще не было. Самым тяжелым становилось осознание, что улучшений ждать не приходится. Дальше будет только хуже.
Я начал понимать, что без операции, без хирургического вмешательства тут не обойтись. Оставалась лишь самая малость – найти врачей, готовых за меня взяться. Из своего больничного опыта я вынес убеждение: единственный, оставшийся для меня путь – заставить, именно заставить, медиков попробовать побороться с моим недугом. Как угодно, хоть на операционном столе, хоть под ним.
В то время любимой моей телепередачей была программа «Здоровье» – одна из редких на советском телевидении гуманных программа, не позволявшая страждущим, во всяком случае мне, окончательно пасть духом. Однажды в ней прошел сюжет о клинике доктора Илизарова. Об Илизарове и его методе лечения переломов и удлинения костей я, имея за плечами огромный стаж лежания в больницах, конечно же, знал и видел сам «аппарат Илизарова» в действии.
Я понимал, что лечение именитым прибором не для моих конечностей, но оставалась надежда, что, может быть, в курганской клинике мне смогут чем-то помочь. Несколько лет назад я познакомился с Ириной Локтионовой, у которой были врожденные вывихи бедер. Она передвигалась по коридору больницы, сидя на табурете, поочередно переставляя то левую, то правую его стороны. Позже я узнал, что в Кургане ей были сделаны операции, и она встала на ноги. На костылях, но – пошла. Мне же нужно всего лишь что-то сделать с моими руками. Я нашел номер телефона Ирины, мы возобновили знакомство. Подолгу разговаривали почти каждый день. Ирина укрепила во мне надежду. Я написал письмо в Курган и стал ждать ответа. В письме я даже не просил – умолял помочь хоть немного укрепить мои руки. Писал с каким-то двойственным чувством. С одной стороны, очень хотелось надеяться на положительный ответ. С другой, я понимал, что разработки, которые применяют в курганской клинике, настолько далеки от лечения моего заболевания, что надеяться на положительный ответ мне не стоит.
И все же очень хотелось надеяться. Потому что от этого ответа зависела моя дальнейшая судьба. Через два месяца, а может быть, немного больше, я получил ответ. В клинике ничем не могли мне помочь, потому что патологиями, подобными моей, вообще не занимались. Этот отказ я пережил спокойно. Во-превых, я психологически к нему готовился. А во-вторых, к тому времени у меня вновь появилась надежда. Я ждал помощи из другого места.
О ЦИТО – Центральном институте травматологии и ортопедии имени Приорова в Москве я узнал из «Комсомольской правды». В статье «Нетерпение жить» «Комсомолка» писала о девушке Тамаре Ткачевой из Мариуполя и ее жизни. Статья вышла годом раньше, и не помню уже, кто принес нам в дом эту газету. Заболевание у Тамары было не «моим», но так же характеризовалось ломкостью костей. И в статье рассказывалось, что Тамаре помогли. Девушке укрепили кости, вставив в них стальные спицы.
И тогда вновь появилась надежда. Это уже было ближе ко мне, более приемлемо для меня, для моих костей. Оставалась самая малость, нужно было попасть в ЦИТО. Я написал письмо и снова стал ждать.
Трехкомнатная квартира, в которой мы жили до ареста отца, матери стала не нужна. Для нас с бабушкой жилплощадь оказалась велика. После того как мать увезла из нее почти все вещи и мебель, квартира стояла полупустая. Мама хотела ее продать, но из-за меня дала согласие на обмен. Бабушка в течение восьми месяцев пыталась обменять эту и свою каморку на одну двухкомнатную квартиру.
Во-превых, она искала такой вариант, при котором в новой квартире не нужно было делать никакого ремонта. Для нас это являлось основным условием. У нас не было ни денег на ремонт, ни доброго человека, способного этот ремонт осуществить почти задаром.
Во-вторых, мы хотели, чтобы в нашей будущей квартире обязательно стоял телефон. Это являлось условием, на котором настаивал я. Бабушка считала, что телефон – роскошь. Сколько же скандалов возникало у нас, когда она готова была согласиться на обмен без телефона?! Сколько криков?! Только случай с вызовом «скорой помощи» смог убедить ее, что телефон в нашей с ней ситуации – жизненная необходимость.
В-третьих, она боялась остаться совсем без квартиры, потому что такое с ней уже случалось – она опасалась повторения. И бабушка тогда думала прежде всего об отце, о том, где он станет жить, когда выйдет на свободу. С матерью они договорились, что если обмен произойдет с доплатой, то деньги они разделят поровну, а квартира, которую получат в результате обмена, будет оформлена на бабушку.
Я видел, что между матерью и бабушкой шла борьба, чувствовал, как женщины боятся, что одна из них в истории с обменом окажется обманутой. Доверия в семье не было. Иногда мать и бабушка не общались между собой месяцами. Да и между матерью и ее отцом – моим дедом Андреем Аврамовичем – тоже возникали такие серьезные ссоры, что лучше и не вспоминать. В санатории я мечтал о семье, в которой царит любовь и доверие. А в реальности… В реальности я видел то, что было в нашей семье. Я хотел со всеми поддерживать хорошие отношения, а оказывалось, для того, чтобы поддерживать отношения с матерью, нужно было ей показывать, что я не очень хорошо отношусь к бабушке. Как я жалею сейчас, что поддакивал и сочувственно кивал, слушая мамины злые воспоминания об обидах, нанесенных ей бабушкой в далеком-далеком прошлом, малодушно соглашался с утверждениями типа «не повезло нам с родственницей». Самым подлым с моей стороны было то, что я продолжал при этом жить с бабушкой, и она единственная ухаживала за мной.
Впрочем, когда мать уезжала, начиналось то же самое. Только уже недобро о матери говорила бабушка, и также вспоминались прошлые обиды, а я снова – поддакивал, и соглашался, и кивал. Я хотел быть хорошим со всеми, а выходило, что предавал. До сих пор все это лежит на сердце тяжелым грузом. Понимаю, что ничего уже не исправить. От этого еще тяжелее становится. Я хотел, очень хотел иметь семью, жить в семье, хотя уже тогда понимал, что никому в семье я не нужен. Понимал, однако, все же пытался выстраивать какие-то отношения между мной и бабушкой, мной и матерью, мной и сестренкой. Меня очень пугало само название «Дом инвалидов». Пугало почти до смерти. Я боялся попасть в это место. Боялся и надеялся, что мои родные все же не допустят этого. Если бы человек имел возможность предвидеть свое будущее?! Впрочем, лучше не надо.
Непрерывные переживания, связанные с отцом, хлопоты по обмену квартиры, собственные болезни все это медленно, но верно подтачивало бабушкины силы. А тут еще я добавлял ей забот.
Постоянные стрессы и то, что происходило с руками, сильно отразилось на моем характере, во мне появилась озлобленность. Понимание, что я напрасно родился и непонятно зачем живу, вызывало приступы злобного раздражения всем, что меня окружало. В первую очередь я озлобился на самого себя: шальная мысль о самоубийстве, невзначай залетевшая в мою скорбную голову, как-то незаметно стала привычной. Я думал о самоубийстве, иногда часами рисуя в мозгу сопутствующие картинки и приходя в отчаяние от сознания, что моя смерть вызовет у родных только вздох облегчения. Я стал говорить об этом бабушке, чем конечно же расстраивал ее. Тогда же понемногу я начал курить. «Буду медленно себя убивать», – думал я, хотя бабушке сказал совсем другое.
Бабушка курила. Она курила всю жизнь. Несколько раз пыталась бросить, особенно в те периоды, когда лежала в больнице после инфарктов и сильных сердечных приступов. Закурив, я ей сказал: «Вот когда ты бросишь, тогда и я». Она не бросила, но и я серьезно курить не начал – побаловался примерно с месяц и прекратил. Ничего привлекательного в процессе вдыхания дыма я не нашел и не понимал, зачем бабушка курит, и при этом все время хватается за сердце. Это часто служило поводом для наших ссор. Я ее просил не курить, а она мне: «Ты не имеешь права мне приказывать».
Часто между нами начинался спор из-за ее веры в Бога. Вера ее, на мой взгляд, была более чем странная. Я не понимал такой веры. В Бога я тогда не только не верил, а демонстрировал бабушке самый ярый атеизм.
Как я мог верить в Бога? В Бога, который, по словам бабушки, «все это сотворил и всем руководит, всеми делами». За что же тогда со мной Он так? А с ней? Я смеялся над бабушкиной верой. Мне было непонятно, как можно молиться по написанным на бумажке молитвам; как можно считать святой доску с нарисованным на ней лицом – икону, которая висела у бабушки в комнате; как можно молиться молитвой, слов которой нельзя понять? Меня раздражала ее странная вера, основанная непонятно на чем, замешанная, как мне казалось, на элементарном суеверии. Бабушка прятала листочки с молитвами в одежду, когда отправлялась к отцу на свидание, «чтобы молитва охраняла». Я постоянно задавал ей вопросы, заранее зная, что ответов у нее нет. Понимал, что делаю ей больно, но все равно ерничал. Моя озлобленность ослепляла меня. Может быть, потому что бабушкино поведение часто направлялось малообъяснимыми для меня предрассудками?
– Антон, я ухожу, – как-то сказала бабушка. Мне не нужно было этого говорить. Она начинала одеваться, и я понимал, что она скоро уйдет.
– Куда, бабуля?
Вопрос был абсолютно невинный и, на мой взгляд, вполне естественный. В нем заключался не праздный интерес. Если бабушка уходила надолго, требовалось заранее попросить подать все, что мне могло понадобиться за время ее отсутствия: чашку с водой, предметы для туалета…
– Надо спрашивать не «куда?», а «далёко?» – ответила она вдруг со злостью в голосе. – А теперь ты мне всю дорогу «закудыкал»!
Она села и никуда уже не пошла. И весь день после этого со мной не разговаривала. Конечно же, во всем был виноват я. Сорвал своим неправильным вопросом все ее планы.
Это только один пример того, как она относилась даже к таким мелочам. Я откровенно этого не понимал. И почему-то связывал ее суеверное поведение с православной верой. Разницы тогда я никакой не видел.
Наконец, бабушке удалось найти вариант обмена, устраивающий всех. Обмен был какой-то тройной или даже четверной, то есть в этом обмене участвовало не две стороны, а больше. Я не вникал в тонкости. Помню только, мы переехали в дом, находящийся в том же районе, где мы жили. Люди, съехавшие с квартиры, оставили нам свой старенький телевизор. Телевизор был черно-белый, но с большим экраном. Я наслаждался. Почти год прошел с того момента, когда я последний раз смотрел телепередачи. Кроме телевизора съехавшие жильцы оставили нам свой кондиционер. Он был врезан в окно, и они не стали его вынимать. Иначе окно пришлось бы менять. Думаю, эти люди вошли тогда в наше положение. Я им был очень благодарен и тогда, и сейчас. Первый раз в жизни я жил в квартире с кондиционером. Только тот, кто хоть однажды парился летом в астраханской жаре, может понять, о чем я говорю.
Переезд отнял у бабушки последние силы. Приступы участились. Почти каждый день я набирал «03». Диспетчеры, принимающие звонки, меня уже узнавали. Как только я произносил: «Борисова Елена Антоновна», – мне тут же отвечали: «Высылаем машину».
А потом приходилось ждать врачей в течение часа. Они приезжали и все чаще перед тем, как уехать, говорили, что бабушке необходимо лечь в больницу. Во-превых, ее нужно тщательно обследовать. А во-вторых, ей просто жизненно необходимо отдохнуть от всего. Бабушка молча кивала головой. Единственное, что ее удерживало от больницы, – это я. Она не могла бросить на произвол судьбы беспомощного внука. Долго, однако, так продолжаться не могло.
Терпение врачей окончательно лопнуло в один из дней. После очередного звонка и приезда «неотложки» они пообещали, что, когда я вызову их в следующий раз, они заберут бабушку в больницу. Если же она не поедет с ними, то больше на вызовы они приезжать не будут. Бабушке ничего не оставалось, как согласиться. Требовалось только решить, что делать со мной.
К счастью, накануне я получил долгожданный ответ из Москвы из ЦИТО. Как и ожидалось, мне отказали. Причина отказа проста: Астраханская область территориально относилась к Саратовскому НИИ травматологии и ортопедии. Как раз к тому институту, в котором я уже лежал, когда мне было восемь, и где со мной ничего не стали делать.
Я решил попытаться попасть в эту клинику еще раз. Терять в то время мне было нечего. Но направление в Саратовский НИИ могли дать только в областном отделе здравоохранения. Для этого требовалось подробное описание состояния моего здоровья. Это могли сделать лишь в областной больнице. У меня, наконец, появился вполне легальный предлог лечь в клинику на то время, пока бабушка немного подлечится. За помощью мы обратились к деду.
Не было, наверное, ни одного кабинета в облздравотделе, где не побывал бы Андрей Аврамович. Не найдется ни одного тамошнего начальника, которому не удалось бы рассмотреть все дедушкины ордена и медали, прежде чем он смог получить для меня направление в ортопедическое отделение Астраханской первой областной клинической больницы. Дед, если он хотел чего-то добиться, обязательно этого добивался. Он умел быть настойчивым. Так получилось, что в один и тот же день, и я, и бабушка переселились каждый в свою больницу. Бабуля могла лечиться со спокойной душой – я был под присмотром врачей.
Перед тем как переехать в клинику, требовалось подобрать «хвосты» в институте. Напрягаясь и мучаясь от боли в сломанной руке, я сумел написать и сдать все необходимые за первый курс письменные работы и зачеты. Я ощущал себя настоящим студентом. В принципе мне было даже легче, чем всем остальным моим неизвестным собратьям по учебному процессу. Я не имел возможности предаваться соблазнам молодости, и учеба была единственным для меня занятием. Если бы не боль и страх остаться без рук, я мог бы сказать, что был счастлив.
Люба Крылова помогла мне оформить академический отпуск. Кто бы мог предвидеть, что он сильно затянется, что к учебе в институте я смогу вернуться только спустя пять лет, когда мои неведомые сокурсники уже готовились получать дипломы.
Воспоминание третье Шоумэн
Взрослая ортопедия
Я уже лечился в Первой областной клинической больнице. Мне было пятнадцать. Я упросил администрацию санатория направить меня в главную больницу области, рассчитывая, что кто-нибудь из ее врачей сумеет приструнить мою хворобу. В тот раз хрупкую надежду мне подарил Сергей Вячеславович Дианов. Он был заведующим отделением детской ортопедии и согласился попробовать что-то сделать с моими руками. Спустя шесть месяцев меня вернули в санаторий. Сергей Вячеславович так и не решился приступить к моему лечению.
Я знал, что в областную больницу попасть простому человеку, если он жил в городе, было очень сложно. Об этом мне говорил дед после нескольких первых безуспешных походов в облздрав. В областную больницу в основном привозили больных из области, а из города только редкие и срочные случаи. Большинство «городских» попадали сюда «по блату». Мой случай был, конечно же, не срочным, но все же редким. Редким и в том смысле, что «благодарить» нужных людей мне было нечем.
Палата взрослого отделения, где я на этот раз очутился, ничем не отличалась от палаты в детском. Моя кровать стояла возле окна, подоконник начинался прямо за спинкой. В палате лежало пять человек. Все мои соседи оказались намного старше. Со вчерашнего вечера – момента поступления, я плавно входил в курс дела. Задавал только «жизненно важные» вопросы, а всю остальную информацию получал, просто слушая разговоры сопалатников. От них я узнал, что наша палата считается «предоперационной», то есть в ней лежат больные, которых готовят к операции. Из этих же разговоров я уже составил свое предварительное мнение о лечащем враче.
Он появился на следующий день. Вошел и еще от двери посмотрел в мою сторону. Видел я его впервые.
– Меня зовут Фарит Джафарович! Я – лечащий врач этой палаты, – представился он. – Ты вчера поступил? Можешь продиктовать название своего заболевания?
Фарит мне понравился сразу. Высокий, моложавый, с благородной проседью в темных волосах. Его широкоскулое лицо оставалось серьезным. Меня это удивило – я находился в лучшем ортопедическом отделении областной больницы, врачи которой, по определению, должны были быть самыми квалифицированными специалистами. По крайней мере, на областном уровне. Впрочем, удивление было кратковременным. Не думаю, что случаи «несовершенного остеогенеза» встречались ему часто. К тому же мой случай был редким даже среди подобных диагнозов.
После общения с врачом потекли больничные будни. Я старался свести к минимуму общение с соседями. Во всех больницах я всегда был единственным, кого не посещали, кому не приносили продуктовых передач, единственным, кто питался, жил за счет других. Кроме того, я зависел от помощи соседей. Ежеминутно помнить, что ты обуза для окружающих – очень невеселое занятие.
Именно поэтому я старался никогда ничего не просить. Если у людей возникала потребность, они сами делились и предлагали помощь. По-другому в больничной палате нельзя в принципе. За все время, проведенное в лечебных учреждениях, мне очень редко попадались типы, которые пытались жить обособленно. Обстановка, когда рядом, на очень ограниченном пространстве, живет несколько человек, заставляла даже прожженного единоличника относиться внимательнее к соседям по палате. Вести себя иначе было невозможно.
После операции в состояние беспомощности впадал каждый: человеку требовалось что-то подать, кого-то позвать… Санитарки и медсестры, которые как раз и должны помогать больному в этот период, не всегда оказывались рядом. А если две медсестры и одна санитарка оставались наедине с более чем семьюдесятью больными, как это было в ортопедии в то время? Они физически не могли находиться рядом со всеми, кому была нужна их помощь.
Через три недели Фарит Джафарович обрадовал меня сообщением, что мои документы отправлены в Саратов. В ортопедии мне делать было больше нечего. Однако бабушка все еще находилась в больнице, и, кроме того, я не мог появиться дома сразу после ее выписки. Она была не в состоянии ухаживать за мной еще в течение долгого времени. Пришлось договариваться с заведующим отделением Михаилом Михайловичем Озеровым. Спасибо ему – он вошел в мое положение и согласился, хотя и с большим трудом. Мы договорились, что еще месяц я могу полежать: «А там – посмотрим», – прибавил он, отходя от меня. Я его отлично понимал. Очередь в отделение взрослой ортопедии в то время составляла три-четыре человека на одно место.
Был день, но в палате кроме меня все спали. Еще с санаторских времен я испытывал отвращение к так называемому «тихому часу».
– К тебе пришли, – заглянув в палату, негромко произнесла молоденькая медсестра Катя. На самом деле звали ее Карлыгаш – «ласточка» по-казахски, но, чтобы не осложнять нам и себе жизнь, она просила называть ее просто Катя.
– Сказал, что он твой дедушка. У вас есть здесь халат? – Катя спрашивала о халате, который надевали посетители. Халаты должны были выдавать при входе, но уже давно это не практиковалось, и гости либо приносили халаты с собой, либо заимствовали в какой-нибудь из палат. В нашей палате халат был. Висел он обычно на гвоздике, на внутренней стороне входной двери.
Через некоторое время дедушка Андрей Аврамович уже входил в палату. Я очень обрадовался, увидев его знакомое и такое родное лицо. Вообще, деда я обожал. Это был веселый, жизнерадостный человек. Дед любил посмеяться. Мне всегда казалось, что он меня тоже любит, как и свою внучку, мою сестренку. Дедушка исключительно много для меня сделал. Это он когда-то пристроил больного малыша в туберкулезный санаторий, дав возможность ребенку получить среднее образование, а теперь организовал повзрослевшему и никому не нужному внуку-инвалиду обследование в областной ортопедии, с чего, собственно говоря, и начались основные события моей жизни. Очень смутно, но я помнил, как дедушка возился со мной, когда я был маленький. Он и его жена, баба Аня.
Сейчас дед вел себя как-то странно: постоянно отводил глаза, что-то спрашивал, и почти сразу же, не дослушав ответа, задавал следующий вопрос и вновь не слушал. Я не понимал, что происходит.
– Дедуля, ты как здесь? – спросил я после того, как он стал оправдываться, что в этот раз ничего мне не принес.
– Мы к Тане пришли, – просто ответил дед и снова отвел глаза.
Оказалось, он и мать пришли к сестренке, которая одновременно со мной лежала в том же здании, но только на четвертом этаже. У нее воспалились гланды, и ей два дня назад сделали операцию. Мать сейчас у Тани, а дед, узнав, что я тоже здесь, решил навестить внука.
Слова дедушки оказались болезненными. В очередной раз мне давали понять, что я представляю собой нечто неприличное, отталкивающее, нечто такое, что даже родная мать избегает общения со мной, с рожденным ей же самой, разумным, но как бы и не человеческим существом.
Позже я узнал, что Таня лежала в больнице целую неделю. Каждый день к ней приходила мама. Ко мне она не зашла ни разу.
С утра до вечера
День в больнице начинался с утреннего обхода медсестры, с измерения температуры. После этого та же медсестра разносила на подносе лекарства в мензурках, с написанной на каждой склянке фамилией. У меня никаких назначений не было, поэтому я мог спать вплоть до прихода санитарки, которая выносила судна из-под кроватей лежачих больных, мыла полы. Просыпался я как раз к тому моменту, когда она подходила ко мне с чайником воды и небольшим тазиком для умывания.
Для меня тазик был большой, руки поднимать я не мог, тем более держать их над тазом, поэтому просил намочить часть полотенца. Полотенцем протирал лицо и руки. Попросив санитарку выдавить на щетку зубную пасту, я чистил зубы, прополаскивал рот и сплевывал в тазик.
На большой, в несколько этажей, тележке развозили завтрак. Как правило, это была каша, кусок хлеба с маслом и стакан чая, вкусом больше похожий на воду. Он и был водой, потому что чай для больных заваривали в пропорции: две чайных ложки на пятилитровый чайник. Только по цвету можно было догадаться, что это чай.
Обед начинался с той же самой тележки, на полках которой на этот раз теснились глубокие железные миски с супом и тарелки со вторым блюдом. После того, как алюминиевые сервизы собирали и увозили, проходило еще три – три с половиной часа и вновь раздавалось унылое дребезжание приближающейся «кормилицы». Это «ехал» ужин, состоящий из тарелки каши, стакана кофе и нарезанного кусками хлеба.
Я не могу описать, что это был за кофе или что нам давали вместо напитка с таким названием. В этой больнице я впервые в своей жизни попробовал настоящий растворимый кофе, который мой сосед приготовил, вскипятив воду в стакане самодельным кипятильником. Кипятильник был сделан из связанных обыкновенной ниткой двух лезвий для бритья, кусочка стекла между ними и прикрученных к лезвиям проводов с вилкой – больным запрещалось иметь в палате любые электробытовые приборы кроме бритв, и некоторые постояльцы, с богатым жизненным опытом, мастерили такие кипятильники.
Попробовав впервые тот самый, растворимый кофе, я испытал легкий гастрономический шок. До этого слово «кофе» означало для меня ту, непостижимого вкуса бурду, которой меня поили во всех казенных заведениях.
После ужина, который завершался, как правило, в шесть часов вечера день заканчивался. Больше ничего не происходило. Для меня. Для большинства же больных только после ужина и наступало время активности.
Если кто-нибудь со стороны решил бы поинтересоваться содержимым «обеденных» тележек, он бы обнаружил, что количество привозимой и увозимой еды было примерно одинаковым. К больничным харчам почти никто не прикасался. Разве что брали хлеб и масло. Я не входил в число этих счастливчиков, потому что рассчитывать мог только на те скудные и не аппетитные калории, которые предлагала мне бедная советская больница.
Многие сразу после ужина разъезжались по домам. Тех, кто не мог уехать, обычно навещали родные. В это время все и начинали питаться по-настоящему.
Когда наступал вечер и появлялись посетители, мне становилось очень неуютно из-за борьбы начинавшейся внутри меня. К лежачим больным нашей палаты приходили близкие и приносили поесть. Не знаю почему, но они всякий раз угощали и меня. Я, соблюдая приличия, конечно же отказывался. Но совсем не убедительно. За много лет кочевания по различным лечебным заведениям мне настолько опротивела казенная пища, что всем этим больничным кашам и «кофеям» я часто предпочитал элементарное голодание. А на пустой желудок не получалось всерьез отказываться от предлагаемой аппетитной домашней снеди. В противостоянии гордости и голода победу всегда одерживал последний. А я потом мучился угрызениями посрамленной гордыни. До очередного угощения.
В свободное от приема пищи время я откровенно скучал. Кроме еды и чтения делать было нечего. При больнице работала небольшая библиотека, но хороших книг там было немного. Большинство из них я прочитал еще пару лет назад, в то время, когда лежал в детском отделении.
Библиотекарь обходила палаты раз в неделю. В первый ее приход я заказал детективы, все какие есть. Несколько часов спустя она принесла двенадцать книг. Я взялся читать. Через пять дней все детективы были перечитаны и больше ничего интересного для меня в библиотеке не нашлось. Хотя, может, что и было. Я всегда очень жалел, что не мог добраться до библиотеки сам.
Телевизоры в отделении имелись, но всего два на семьдесят с лишним человек. Один стоял в женском крыле коридора, второй – в мужском. В палатах телевизоров не было, если только кто-то из больных не привозил телевизор из дома. У нас в палате таких владельцев не оказалось. Днем включать телеприемники не разрешалось, потому что «не положено». Заведующий лично ходил и проверял.
Учебное пособие
Самым популярным развлечением в палате были разговоры «за жизнь». Я в этих беседах участия не принимал. Моя жизнь, состоявшая в основном из путешествий по больницам, никого не интересовала. Больничный быт и обстановка окружали нас со всех сторон. Разговаривать старались на «внебольничные» темы.
Было у нас еще одно «развлечение». Отделение взрослой ортопедии служило практической базой для кафедры хирургии Астраханского медицинского института. Это означало, что каждый день, как минимум один раз, кто-то из врачей, совмещавших преподавательскую деятельность в мединституте, заходил в нашу палату с группой студентов, чтобы «не формально» закрепить в молодых мозгах будущих медиков вызубренные ими теоретические болезни. И тут выяснилось, что с моим редким заболеванием я – наиболее рассматриваемый, наиболее ценный «экспонат» этой ортопедической «выставки».
Мой нестандартный вид никогда не оставлял окружающих равнодушными. Ничего не поделаешь – все, что выбивается из нормы, неумолимым магнитом выворачивает глаза человеку. И я здесь не исключение. Сколько раз наблюдал за собой, как мой взгляд помимо воли возвращался к отсутствующему зубу в челюсти или какому-нибудь другому дефекту на лице нового собеседника. На несовершенства старых знакомых внимания уже не обращаешь.
В человеке, и во мне в том числе, сидит трудно объяснимая для меня тяга к неприродной эстетике. Когда я первый раз увидел аквариумных рыбок с чудовищно вытаращенными глазами – «телескопов», внутри меня что-то перевернулось. Я смотрел, и смотрел, и чувствовал, как их глаза «навыкате», жирные тела, судорожные движения в толще воды и отвращают меня, и притягивают одновременно. Но в какой-то момент они стали мне симпатичны, хотя и были «неправильными» рыбами. Вот только сами «телескопы», по моим наблюдениям, о своей ненормальности не думали, свой внешний вид считали совершенно естественным и жаловаться на кормежку, температурный режим и злую судьбу явно не собирались.
Так же как и эти странные рыбки, я никогда не считал себя природной аномалией. С раннего детства в моем сознании формировался и постепенно твердел, как гипсовая повязка, образ юноши – Антона Борисова – как образ совершенно нормального человека, у которого просто имеются проблемы, но они касаются только его. Отсюда и все мои сложности во взаимоотношениях с окружающими. Я и «они», мы по-разному рассматривали и оценивали мое состояние. «Они» всегда сначала замечают болезнь и часто не пытаются увидеть за ней человека. При виде моего тела люди прежде всего теряются. Растерянность оборачивается страхом, страх сменяется любопытством или брезгливостью, а иногда весь этот винегрет чувств неожиданно перерастает в дружбу.
Студенты, даже медики, тоже люди. Я, как огромная «рыбка-телескоп», лежал на больничной койке и фокусировал на себе их ошарашенные взгляды. Самым диким для них было видеть, что эта «рыбка» живет и очень неплохо себя чувствует на суше (хотя по всем природным законам этого быть не может), да к тому же обладает не «рыбьими» мозгами. В последнее они не верили и требовали доказательств. Ну, а когда вас постоянно оценивают на предмет «нормальный-ненормальный», у вас может испортиться характер.
Изменить ничего я не мог, поэтому всегда старался получить хоть какой-то эмоциональный капиталец от подобных учебных посещений. Попросту, валял дурака.
– А это Антон. У него очень редкое заболевание костей. Называется «несовершенный остеогенез», – говорит очередной экскурсовод.
Меня обступает группа из восьми молоденьких девчонок в белых халатиках.
– Как правило, при этом заболевании повреждаются только кости.
Доцент Анна Алексеевна, невысокая, миловидная женщина, продолжает объяснять студенткам, стоящим вокруг, особенности моего заболевания. Меня начинает разбирать смех, потому что в глазах всех девушек-студенток я опять вижу знакомое выражение – у них начинается приступ эмоциональной изжоги.
– Антон, можно я им покажу твои ноги?
Анна Алексеевна давно меня знает. Во всяком случае, я ее помню еще по детской ортопедии. Она поднимает простыню, прикрывающую мои нижние конечности, которые за ненадобностью дедушка предлагал попросту ампутировать. Ужас в глазах девушек перерастает в панику.
– Антон, ты можешь нам рассказать о себе?
Экскурсовод пытается показать студенткам, как я могу двигать этими ногами: она осторожно поднимает одну из них и отводит в сторону. Мне больно, но я пока не показываю вида. Вместо этого пытаюсь сделать свой взгляд как можно более тупым.
– Двадцать четыре.
– Что «двадцать четыре»? – Анна Алексеевна растерянно смотрит на меня.
Я тупо моргаю глазами и молчу.
– А он умеет читать?
– Он учился в школе? – эти два вопроса последовали почти одновременно. Меня они вполне удовлетворили. Я не хотел демонстрировать свой интеллект посторонним людям. Почему я должен развлекать незваных гостей?
Тем временем в глазах Анны Алексеевны недоумение нисколько не уменьшается.
– Он умеет читать. Я же сказала уже, что при этом заболевании повреждается только скелет. Все остальное, как правило, в полной норме, – Анна Алексеевна произносит это спокойно, но в ее голосе уже можно расслышать легкое раздражение: она начинает догадываться, что я валяю дурака.
– Хотя, – продолжает она задумчиво, – иногда могут встречаться исключения.
Все уже повернулись и готовы уходить.
– Я и считать умею…
На мгновение все вновь оборачиваются на мой голос. Некоторые смотрят заинтересованно. Я уже прикрыл ноги простыней, поэтому вместо ужаса в глазах студенток играет любопытство.
– …до ста, – прибавляю я немного громче. Во взглядах пришедших застывает недоумение. Раздаются смешки. Но это смеются мои соседи по палате.
Зачем я это делал? Из вредности. Обидно быть учебным чучелом для своих ровесников, тем более девушек. У меня поврежден только скелет, а все остальное в полном порядке – так утверждала Анна Алексеевна. Я могу подтвердить ее слова. Все в полном порядке, в том числе и гормональная система и связанные с нею эмоции. Сокурсникам этих, рассматривающих меня девчонок, я проигрывал только формой, а содержание «рыбки-телескопа» с этим никак не хотело мириться. Я вежливо хамил. Обычная человеческая слабость.
Профессорский обход
Спустя месяц пришел ответ из Саратовского НИИ травматологии и ортопедии. Отрицательный. Я надеялся, что за десять лет, прошедших со времени моего возвращения из Саратова, медицинская наука продвинулась вперед. Увы. Ничего нового за две пятилетки не придумали. В письме, полученном Фаритом Джафаровичем, значилось, что в их институте больной с таким заболеванием когда-то уже лежал и они ничем не могут мне помочь. Узнав об этом, я решил использовать последний шанс, который, как казалось, у меня имелся.
Еще в то время, когда я лежал в детской ортопедии, профессор Николай Петрович Демичев проводил ежемесячные, так называемые «профессорские» обходы. Как-то во время одного из них, возможно шутя, он бросил фразу, что если никто за меня не возьмется, он, профессор, будет думать, как мне помочь. Может быть, он и шутил, только мне после ответа из Саратова ничего не оставалось, как напомнить профессору о его обещании. Так же как и тогда, профессор и теперь каждый месяц совершал свой «титульный» обход.
От обычного, ежедневного обхода, проводимого лечащим врачом, этот отличался большей нервотрепкой и, может быть, большей помпезностью. За полчаса до обхода по отделению устраивала пробежки старшая медсестра, а ее пронзительный голос разносился по всему этажу. Она пролетала по палатам, заглядывая в тумбочки и в холодильники, по ходу делая замечания всем, кто попадался на ее пути. Зачем она проверяла холодильники, было непонятно – профессор Демичев, проводя обход, обращал внимание прежде всего на состояние здоровья больных и никогда не исследовал содержимое ни тумбочек, ни холодильников.
Когда начинался шум в коридоре и слышался легко узнаваемый голос «старшей», все понимали, что сегодня профессор осчастливит нас своим вниманием. Нервное состояние начинало постепенно овладевать всеми. На обходе каждому определялся ход дальнейшего лечения, назначались сроки операций, принимались решения о выписке.
Следом за старшей медсестрой по всем палатам начинали разносить и раскладывать на койки рентгеновские снимки. Снимки лежали в конвертах из плотной желтой бумаги. Больным не разрешалось их открывать.
Каждый из нас должен быть готов к осмотру – иметь на себе минимум одежды.
После шума и суеты, создаваемых «старшей» и медсестрами, наступало нервное затишье. В этот момент из палат начинали выглядывать больные. Чаще всего это были те, кто лежал ближе всех к двери. Вслед тому, кто выглядывал, неслись вопросы: «Идет?»
Делались попытки узнать, с какой стороны коридора движется обход и когда он подойдет к палате. Это было важно, потому что иногда обход мог затянуться надолго. Некоторые пытались выяснить, есть ли у них время, чтобы сходить в туалет, покурить или сделать что-то еще. Нервы были напряжены. Помню случай, когда одной пациентке во время такого ожидания стало плохо с сердцем.
Наконец, наступал самый ответственный момент – профессор и большая группа сопровождающих входили в палату. Первым – Демичев, за ним остальные, но ближе всех к профессору всегда находился лечащий врач палаты и медсестра, у которой в руках была вата или бинт, смоченные спиртом. Спиртом профессор протирал руки после осмотра больного. В хвосте этой длиннющей свиты теснились студенты. Некоторым не хватало места, и они находились вне палаты, то и дело заглядывая внутрь и пытаясь услышать беседу старших товарищей.
Меня положили в больницу для обследования и направления в Саратовский НИИ ортопедии и травматологии. Сразу после поступления у меня были взяты все анализы и сделаны рентгеновские снимки всего меня. Теперь пакет с этими снимками лежал на моей кровати.
Я был вторым на очереди. Первым, возле двери, лежал Виктор – мужчина с острейшим остеохондрозом. Переставляя дома мебель, он поднял что-то тяжелое и почувствовал сильнейшую боль в позвоночнике. Долгое время он пытался излечиться, применяя всякие народные средства, широкие ремни, охватывающие поясницу, разнообразные мази, ездил к целителям. В итоге в отделение ортопедии областной больницы его принесли на носилках.
Несмотря на сложный случай, возле этого больного Николай Петрович задержался ненадолго. Профессор уже давно разработал методику лечения таких случаев. Способ заключался в том, что на место раздавленного межпозвонкового диска ставился трансплантат, который брался либо от донора, либо откуда-то из бедра самого больного. Операцию на позвоночнике проводили через живот. Тридцать дней после такого вмешательства больной должен лежать, не вставая, и еще в течение года бережно относиться к своему позвоночнику, не поднимать никаких тяжестей. Виктору только назначили день операции, и все перешли ко мне.
Это был уже не первый обход. В предыдущие возле меня не задерживались, ограничиваясь лишь одним словом-вопросом: «Лежишь?». Я в ответ кивал, профессор улыбался, и все проходили дальше. Сейчас возле меня остановились.
– Николай Петрович, ему из Саратова пришел отказ, – мой лечащий врач старался быть кратким.
– Ну что ж, отправляйте домой, – профессор также был немногословен.
В этот момент я понял, что терять мне больше нечего.
– Николай Петрович, мне остается только повеситься? – казалось, я говорил очень тихо. После обхода мне сказали, что я кричал.
– Что ты от нас хочешь? – профессор говорил негромко и при этом смотрел мне в глаза.
– У меня ничего не осталось. Помогите мне, очень вас прошу. Мне нужно, чтобы хоть одна рука работала, – я умолял этого без преувеличения выдающегося врача. На тот момент профессор Демичев был единственным в Астрахани специалистом, который мог мне помочь.
Он взял конверт со снимками с моей кровати и, вынув их, стал разглядывать на просвет окна. Мои деформации были настолько обширны, что даже лечащий врач, осматривая меня в первый раз, затруднился определить, что и где у меня есть. Очень сильно деформированы были руки, и особенно правая. Она загнулась так, что ребро ладони упиралось в локоть. Поднимать ее, то есть отрывать от опоры, на которой рука лежала, я не мог.
Профессор убрал снимки в конверт. Подойдя ко мне ближе, взял правую руку и попытался отвести ее в сторону.
Это почувствовал только я. Боль. Перелом. Он, видимо, понял, увидев, как я вздрогнул.
– Хорошо. Сделайте ему еще раз снимки. Будем думать, – он посмотрел на меня, оглядел всех, потом опять посмотрел на меня.
– Готовьте к операции, – это было сказано уже моему лечащему врачу.
Если бы мог, я бы бросился целовать профессору руки.
После этого обхода я приобрел другой статус. До этого момента я находился в отделении, не имея к нему никакого отношения. И вот теперь все изменилось. Я воспрянул. Меня устраивал любой исход предстоящей операции.
Белый саботаж
У меня вновь взяли все анализы, сделали подробный рентген. Даже анестезиолог приходил меня смотреть, а это уже верный признак. Я находился в приподнятом настроении. Уже начал воображать, что и как буду делать после операции, если она пройдет успешно. Конечно, на первом месте стояла учеба в институте. Ну, а если не проснусь после наркоза, то в этом случае думать мне было не о чем.
Я наблюдал суету врачей вокруг меня и понимал, что этой операции, скорее всего, не переживу. Тем не менее страха не было – в моем положении мысль умереть в окружении белых халатов не пугала, а наоборот, все больше и больше мне нравилась. Заснуть на операционном столе, находясь в центре внимания, которого я был лишен последние четырнадцать лет, – это казалось естественным и наименее мучительным разрешением всех моих проблем. Заснуть и навсегда забыть свою жизнь, как нелепый сон. Меня устраивали оба варианта: и удачная операция, и незаметная смерть. О том, что операция может оказаться бесполезной, я не задумывался.
Как совершеннолетний, я подписал бумагу, которая снимала всю ответственность с врачей, если я не выживу. Я понимал – таков порядок. Эту бумагу подписывали все, кому предстояло оперативное вмешательство.
Однако время шло, а за меня никто не брался. На мои вопросы об операции и мой лечащий врач, и профессор отвечали очень уклончиво или не отвечали совсем, делая вид, что в этот момент они очень заняты, и мы можем поговорить в следующий раз. Однако следующего раза все никак не случалось. Если я начинал задавать вопросы, когда вокруг присутствовали люди, например во время обхода, то в ответ вновь получал короткое: «Мы думаем».
Прошел месяц после того памятного обхода. Я ждал. Однако ничего больше не происходило. Прошел второй месяц, и я начал подозревать, что врачи, так же как и в Саратовском НИИ, не хотят со мной связываться. Они также начинают саботировать мою операцию. Сначала это были только подозрения, но после того, как меня перевели в палату для послеоперационных больных, они стали свершившимся фактом. Стало ясно – от меня хотят избавиться, только пока не знают, как это сделать повежливей. Третий месяц, наполненный бесплодными ожиданиями, лишь окончательно утвердил меня в том, что я прав.
Опять моя жизнь была не нужна никому, даже медицинской науке. Если бы операция закончилась моей смертью, мой труп могли бы поместить с сосуд с формалином и таким образом расширять кругозор юных эскулапов в области патологий. Такая демонстрация была бы психологически наименее травматичной как для меня, так и для студентов. Для меня – понятно почему, а студенты, слушая лектора, не задавались бы отвлекающими вопросами типа «он еще живой? соображает? а какие у него половые органы? а как он…». Они бы просто смотрели на мой труп и знали, что бывают и такие болезни. Бред, но даже в качестве экспоната для научной кунсткамеры я был никому не нужен. Приехали…
После этого открытия я впал в депрессию. Мое желание жить исчезло абсолютно. Я еще не знал, что и как буду делать. Понимал лишь, что в ситуации, когда отказывают руки, когда никто не хочет мне помочь, нет смысла цепляться за жизнь. Зачем? Я почти подошел к рубежу, за которым маячила абсолютная беспомощность. Как раз в то время моя левая рука перестала отрываться от поверхности кровати. Я уже не мог поднять ее, не сломав при этом. Но даже в таком состоянии я продолжал делать этой рукой все необходимое, чтобы обслуживать себя. Пережить врачебный саботаж я еще мог, но вот отказ собственных рук работать был моим приговором.
Пальцы левой руки двигались, – это и выручало. Я двигал рукой с их помощью – «шагая» пальцами по поверхности и цепляясь за саму поверхность. Это было похоже на развлечение, как будто пытаешься пальцами руки изобразить идущего человека, и, передвигая ноги-пальцы, перемещаешь-подтягиваешь туловище-руку.
Ел я тоже пока самостоятельно, но с каждым днем это давалось все труднее. Лежа на спине, чуть припав на правый бок, я ставил тарелку справа. Не поднимая левой руки, просто «пришагав» ее на грудь, не двигая всей рукой, только неподвижно держа ее на груди, я брал ложку тремя пальцами – мизинцем, безымянным и большим. Мизинцем и безымянным нажимал на ложку, опорой для которой служил большой палец. Нажимая, поднимал ложку с едой и, двигая только кистью руки, подносил ее ко рту. Таким образом я себя и кормил. Опускалась ложка, подчиняясь закону сэра Ньютона. При этом изобретенном мной и только для меня методе поглощения пищи, я не затрачивал много усилий. А главное, я мог не двигать всей рукой. К тому времени она ломалась уже совсем немотивированно.
Этот метод я вынужденно изобрел, когда однажды, начиная есть, смог сделать только одно движение. Пробуя сделать второе, получил перелом. В тот обед я так и не смог съесть больше одной ложки. Зато на ужине уже бойко подносил ее ко рту, работая только пальцами. Я ел сам, и это было очень важно.
Я знал, пока могу самостоятельно есть, чистить зубы и выполнять другой минимум гигиенических процедур, буду крепко держаться за жизнь. Но с каждым днем мне становилось все труднее. Я чувствовал: вот-вот наступит момент, когда проснусь и не смогу ничего для себя сделать. Ну абсолютно ничего. Даже добровольно уйти из жизни. Этого допустить было нельзя. Я начал готовить «запасной выход». Первым делом попросил у лечащего врача назначить мне какое-нибудь снотворное, сказав, что у меня серьезные проблемы со сном. В то время я действительно очень плохо спал.
Я лежал у двери. По ночам свет в коридоре не выключался. Дверь на ночь оставалась открытой. Такими были негласные больничные правила. Это делалось на тот случай, если кому-то ночью могла понадобиться медсестра. Тогда он мог ее позвать в открытую дверь. Естественно, для этого приходилось кричать, беспокоить соседей. Куда разумней было бы установить в каждой палате кнопки вызова. Но этого почему-то не делали.
Моя кровать освещалось настолько, что без особого труда ночью можно было читать. Что я и делал теперь очень часто. Книга всегда лежала рядом со мной на кровати, поэтому мне не нужен был никто, чтобы дотянуться до нее. Проходящие по коридору дежурный врач или медсестра, безусловно, видели мои бдения. Моему врачу это служило еще одним подтверждением, что сон у меня разладился. Теперь каждый вечер, перед отбоем, медсестра приносила мне таблетку снотворного.
Я перестал читать по ночам, но дело было не в снотворном. Таблетки я не пил, а собирал. Для этой цели использовал небольшой стеклянный пузырек, в котором теперь и копились так нужные мне желтые кругляши. Мне необходимо было собрать штук двадцать, чтобы я мог успешно осуществить задуманное. Это стало моей основной задачей. Никто не должен был мне помешать, ни у кого не должно возникнуть подозрений, и я старательно делал вид, что безмятежно сплю, приняв на ночь снотворное.
Не от большого ума, но тогда же я опять начал курить. Курить серьезно, не так, как делал раньше, пытаясь убедить бабушку Елену Антоновну отказаться от убийственной привычки. Просто я, так же как и врачи, решил принять участие в саботировании моей жизни.
Хотя отчасти мое решение начать курить оказалось вынужденным. Дело в том, что по больничным правилам в палатах курить было запрещено. Только вот правила – это одно, а жизнь – другое. В палате, которая называлась «послеоперационной» и где я тогда лежал, из пяти обитателей четверо курили. Трое перенесли операции на позвоночниках и теперь должны были вылежать как минимум месяц, не вставая. Выходить они не могли, а бросить курить не хотели. Так и дымили в палате. Курили даже днем, особо не скрываясь. А по вечерам к ним присоединялся четвертый. При этом все курильщики очень боялись сквозняков, и окна из-за этого не открывались. Я, единственный, но очень недолго, оставался среди них некурящим.
Продержался только неделю. Уже на второй день у меня начались страшные головные боли. Медсестры, у которых я просил таблетки, стали от меня шарахаться, потому что таблетки я просил каждые четыре часа. Наконец, справедливо решив, что никотином все равно дышу, я попросил нашего ходячего купить мне пачку сигарет. Он мне не отказал, и я начал вносить посильный вклад в увеличение концентрации табачного дыма в отдельно взятой палате, но главное – в дело разрушения собственного здоровья. Как ни странно, после этого я совсем забыл о головной боли.
Прошло пять месяцев, я все лежал, и ничего не менялось. Профессор Демичев на обходе подходил ко мне, брал снимки, показывал студентам, как сильно деформированы мои руки-ноги, и на этом все заканчивалось. Со мной он больше не разговаривал.
В один из дней к нам в палату зашли медсестра и два студента с каталкой, которая является в больнице основным транспортным средством для перемещения больного на процедуры, предписанные врачом, и операции. Но в этот раз из нашей палаты забирать на операцию было некого.
Обычно вечером, который предшествовал дню операции, медсестра «готовила» пациента. Подготовка заключалась в обязательном выбривании мест предстоящих разрезов, а также в двух очистительных клизмах. Я точно знал, что в нашей палате никого таким процедурам не подвергали. Неожиданно каталку остановили рядом с моей кроватью.
– Вы Антон Борисов? – один из студентов, стоящий в «голове» каталки, уже тянул ко мне свои руки. Видимо, он не знал, как со мной обращаться, потому что уже готов был подхватить меня под плечи. В задачу второго, как я понимал, входил подхват меня под ноги. Ребята оказались неимоверно шустрыми. Я даже не успел рта раскрыть, как почувствовал, что мое, уже почти поднятое в воздух, плечо хрустнуло. Перелом.
– Ай-ай! Вы что, ненормальные?
Было очень больно. Обычно этой боли, кроме меня, никто не замечал. Но сейчас я заработал прелом в придачу к тому, что у меня уже был до прихода этих «налетчиков». И теперь мне грозило как минимум еще три или четыре перелома. Этого для одного маленького меня было слишком. Я решил показать, что мне больно.
– Нам нужно переложить тебя на каталку, – заговорила медсестра. Ее голос, а также мой вскрик приостановили чрезмерную активность начинающих костоправов.
– Я сам передвинусь. Не нужно меня трогать.
Боль в только что сломанном плече очень затрудняла движения, но лучше было перебраться на каталку самому, пока я еще в состоянии был это делать, при двух пока переломах. Опираясь попеременно то головой, то задней частью, на которой заканчивается позвоночник, я начал медленно переползать на каталку. Особенно трудно было передвигаться по мягкому матрацу кровати. Голова все время проваливалась. Для того чтобы передвинуться на мизерное расстояние, приходилось затрачивать очень много усилий. Но твердой поверхности каталки я все же достиг. Спустя еще минуту состоялся финиш.
– Куда вы меня везете?
Никто меня ни о чем не предупреждал, никаких процедур не назначали. О том, что меня везут в операционную, даже мысли не возникло. Без предварительной подготовки туда не возят.
– Нам сказали тебя не расстраивать, – очень тихо произнесла медсестра.
– И что, ты не можешь мне сказать, куда? – такая секретность была по меньшей мере странной. Пройдет несколько минут, и я все равно узнаю.
– Понимаю! – я уставился на медсестру и очень серьезно добавил. – Вы меня похищаете. Это круто! Тогда надо завязать мне глаза!
Она посмотрела на меня. Потом, видимо, поняв, что я шучу, улыбнулась, но как-то ненатурально. Мы продолжали движение. В этих местах я еще ни разу не бывал. Спустившись на лифте на первый этаж, мы оказались на улице. Впервые после нескольких месяцев, проведенных внутри непроветриваемого помещения, я вдохнул свежий воздух и увидел деревья, с которых уже опала листва. Декабрь в том году не был холодным, но зима все же давала о себе знать, а на мне кроме трусов ничего не было. Все время, пока я находился в больнице, я лишь прикрывался по самую шею простыней. Этого было достаточно, да и практично. Во-превых, не нужно лишний раз стирать белье, что, впрочем, некому было делать. Во-вторых, так удобнее передвигаться по постели. Если на мне была надета майка, двигаться самостоятельно было очень трудно, она постоянно тормозила мои движения. Периодически нужно было останавливаться и вытягивать ее из-под спины. Майку постоянно туда затягивало.
Мне стало холодно. Медсестра на ходу набросила на меня одеяло. Каталка двигалась «головой» вперед, и я не видел, куда мы направлялись. Это старое больничное суеверие – «вперед ногами» здесь возили только мертвецов, поэтому всех студентов учили, как правильно перемещать страждущих. Иногда это доставляло больным немного веселых минут. Особенно интересно выглядели ситуации, когда пациент ложился на каталку «неправильно», и из-за этого предрассудка транспорт пытались безуспешно развернуть в очень узком проходе, после чего просили больного лечь «правильно».
Наконец, меня ввезли в какую-то дверь. Затем справа и слева выросли высокие стены. Было ощущение, что мы находимся в туннеле с очень высоким потолком. Через несколько секунд я оказался… на сцене.
Да, это была сцена или что-то подобное, потому что справа я видел большой белый экран, а вокруг, расположившись амфитеатром, бледнели в полумраке зала лица, молодые лица. Девушки, парни – мои ровесники, все в белых халатах и в белых медицинских шапочках. Хорошо освещена была только площадка, на которой находился я. Рядом стоял Николай Петрович Демичев, профессор, подаривший мне надежду и с легкостью меня обманувший. Так вот, оказывается, что он «надумал» за месяцы моего ожидания.
Вместо операции он придумал это шоу, в котором мне отводилась центральная роль как фактического, наглядного материала, подтверждающего профессорские умозаключения. Мало, выходит, меня демонстрировали в палате мелким группам будущих врачевателей дотошные доценты. Демичев решил сделать это с профессорским размахом – максимальному количеству зрителей с соответствующей теоретической «аранжировкой». Шоу продолжалось. Я был для всех говорящей «рыбкой-телескопом», жутким курьезом и единственным актером поставленного профессором спектакля. Профессор зарабатывал на мне научный капитал, пользовался моим отчаянием и болью в первую очередь в собственных интересах, потому что, если бы он действовал в интересах науки, он бы меня прооперировал и независимо от исхода принес вполне определенную пользу этой «ученой даме»: или заспиртовал меня в качестве учебного пособия или в случае удачного исхода пополнил сокровищницу прикладной хирургии уникальным опытом.
Но профессор говорил не об особенностях хирургического вмешательства в мое тело, а о том, что с таким диагнозом, как у меня, больные долго не живут, и по его расчетам мне осталось жить год-два, не более.
Профессорское «год-два» означало, что нет никакого смысла меня оперировать.
Единственное, из-за чего я терпел все предшествующие унижения, – я ждал, с великой надеждой ждал, что кто-нибудь снизойдет до меня и хотя бы попробует помочь, прооперирует мои руки. Чтобы я мог этими руками самостоятельно есть, чистить зубы, листать страницы книг. Чтобы я мог в конце концов написать этими руками слова благодарности воскресившим их врачам, а не чувствовать себя существом, живущим растительной жизнью, в которой я сам не видел абсолютно никакого смысла.
– Антон, как ты себя чувствуешь? – голос профессора был громким. Его должны были слышать даже в самом отдаленном уголке зала.
Я молчал. Мне нечего было сказать. В этот момент на меня навалилась такая дикая усталость, как будто все дни ожидания операции в одно мгновение материализовались и придавили меня своей бессмысленной тяжестью. Передать словами всю гамму чувств, испытанных тогда, я не в состоянии. Пять месяцев я чего-то жду, мне обещают, а в результате «год-два, не более».
Я смотрел на лица, плывущие в полумраке амфитеатра, и мне хотелось кричать. Если бы уважаемый профессор хоть немного, самую капельку попробовал горечь моего отчаяния, почувствовал самую малость того, что чувствовал и переживал в тот момент я… Но у меня не было сил кричать. У меня ничего больше не осталось.
Если бы они только знали, как я хотел жить.
И как я ненавидел свою жизнь.
В течение сорока пяти минут, пока профессор давал свое представление, я так и не произнес ни слова.
Я часто задавался вопросом, почему профессор Демичев отказался меня оперировать, ведь в случае гибели пациента на операционном столе ему ничего не грозило: все было согласовано со мной, и, умерев, я не собирался предъявлять никаких претензий профессору… И вот к какому выводу пришел: профессор боялся. Боялся за свой авторитет. Профессор должен был одерживать победы и сочинять блестящие хирургические этюды. Смерть пациента от его рук – это пятно на репутации. Зачем портить свою профессиональную биографию смертью какого-то человекообразного существа, которое даже после успешной операции не прибавит профессору славы?
Зря тогда профессор струсил. Сейчас бы я его не упрекал.
Маленький переполох
На следующее после солирования в «академическом театре» утро я проснулся оттого, что медсестра сунула мне подмышку термометр.
Эта рядовая процедура была одинакова во всех лечебных учреждениях, где мне довелось находиться. За много лет я настолько к ней привык, что, когда очутился дома каждое утро, проснувшись, ждал, что кто-нибудь подойдет, чтобы измерить мне температуру. Не дождавшись градусника, соображал, что дома никто этого делать не будет, вновь закрывал глаза и проваливался в сон. На некоторое время я отвык от этого ежедневного ритуала, но, вновь очутившись в больнице, в первое же утро привычно поднял руку, когда почувствовал, что медсестра стоит рядом. Кажется, такое поведение называется рефлекторным. Надо признаться, что мои рефлексы в то время разнообразием не отличались.
Если тот, кому должны были измерять температуру, уже бодрствовал и при этом не находился под особым наблюдением, то медсестра довольствовалась ответом на вопрос: «Есть у тебя температура?». После отрицательного отклика она направлялась к следующему. Термометров на всех не хватало, и, предполагалось, что больной всегда в состоянии оценить, есть у него температура или нет.
Очень часто, если я просыпался еще до прихода медсестры, этим отрицательным ответом для меня все и ограничивалось. В то утро я чувствовал жуткую усталость, оставшуюся от предыдущего, кошмарного для меня дня. Поэтому привычно и очень осторожно начал двигать больной рукой, сломавшейся, когда меня тащили на шоу профессора Демичева. Немного отведя руку и почувствовав термометр в нужном месте, я несильно прижал его и снова отключился.
Я открыл глаза, не понимая, зачем медсестре понадобилось меня будить. Фаина, симпатичная черноволосая казашка, стояла рядом, пристально вглядываясь в градусник. В глазах ее сквозило то ли удивление, то ли непонимание.
– Давай еще раз померяй. Градусник, кажется, неисправен.
Она встряхнула термометр и опять сунула мне подмышку. Я закрыл глаза. Голова была какая-то чугунная, и непонятная усталость. Я ненадолго отключился. Мне показалось, прошла всего секунда, и снова раздался голос медсестры.
– Градусник неисправен, теперь уже точно. Померяй еще раз!
Фая всунула мне другой термометр. Закрыв глаза, я подумал о том, что с этими приборами все время происходит что-то. Еще я подумал о том, что, возможно, раньше они никогда не обращали внимания на мою температуру.
Уже давно и совершенно неожиданно для себя я обнаружил, что обычно температура у меня пониженная – 35,6 °C, то есть, на градус ниже, чем «нормальная» температура у среднестатистического жителя планеты. И окончательного вывода еще не сделал. То ли это моя «естественная» температура, то ли слабость организма тому причиной, то ли я не могу хорошо нагреть термометр, потому что, опасаясь переломов, недостаточно сильно прижимаю его. Я подумал, что медсестра именно на это обратила внимание, поэтому заставляет меня измерять температуру уже третий раз. Мне стало смешно. Я так и лежал с закрытыми глазами. Непонятно почему, но открывать их не хотелось.
– Что с тобой, Антон?
У Фаи было очень милое, улыбчивое лицо. Сейчас на нем отражался неподдельный испуг.
– Со мной все в порядке. Что, температура ненормальная?
– Ненормальная… Может, еще раз померишь? Ты хорошо, крепче держи термометр!
Фая долго выбирала из пучка градусников, торчащих из стакана, до половины заполненного прозрачной жидкостью.
– Я подожду…
Она как-то устало облокотилась на тумбочку рядом с моей кроватью.
– Что, не выспалась? – я знал, что вопрос ее смутит.
Медсестрам было запрещено спать на работе, и все же, если ночь выдавалась спокойная, никого не привозили на «скорой помощи», если не было срочных операций, они спали. Но старательно пытались это скрывать. Однако разве что-то может укрыться от наблюдательных пациентов? Из-за скуки больничной жизни они начинают замечать абсолютно все. И даже то, чего не было.
Мои соседи продолжали спать. Обычно на измерение температуры полагалось пять минут. Но кто-то мне сказал, что если температура у человека повышена, то градусник покажет это почти мгновенно. Медсестра, видимо зная это, вынула градусник, посмотрела на него, потом на меня.
– Я ничего не понимаю. Как ты себя чувствуешь? – она спрашивала, а сама продолжала внимательно меня рассматривать.
– Как обычно. Только усталость. А в чем дело? У меня температура все время такая.
– Какая – «такая»? Сорок один и четыре десятых? Ты что? – она смотрела на меня, как на сумасшедшего.
– Чего??? Покажи термометр!
Я проследил глазами путь ртутного столбика. Как и говорила медсестра, градусник показывал 41,4 °C. Я прислушался к себе, пытаясь понять, что со мной не так. Все было нормально, кроме вялой усталости и тяжести в голове. Медсестра ушла, встревоженная, но через пару минут вернулась уже не одна. Фарит Джафарович послушал мою грудь и тоже ушел. На меня вдруг навалилась полнейшая апатия. Хотелось закрыть глаза, ничего не делать и ни о чем не думать. Так я и поступил.
Постепенно вокруг меня поднялась какая-то непонятная возня. Суетились медсестры, с озабоченным лицом приходил и уходил лечащий врач, прибежал и убежал заведующий отделением. Появились какие-то новые лица. Они точно были не из нашего отделения. И все почему-то спрашивали, есть ли у меня кашель и насколько он сильный. И всем я терпеливо отвечал, что кашля у меня нет.
Наконец, к вечеру того же дня я узнал: у меня – пневмония – то самое воспаление легких, о котором когда-то врачи предупреждали мою маму. После чего мама, искупав меня в ванной, стала зимой регулярно укладывать меня перед открытой форточкой. Но в то время я даже насморка не заработал. А здесь, в больничной палате, пневмония меня и настигла.
О воспалении легких мне сообщил кто-то из «не наших» врачей, приглашенных для консультации. Это был специалист из пульмонологического отделения. Я понял, наконец, причину скорби, проступавшей на круживших надо мной лицах. Врачи понимали, что я обречен. В течение нескольких дней вокруг меня не прекращалась суета. Появлялись новые незнакомцы. С первого же дня меня начали лечить, кололи уколы, по вечерам обклеивали горчичниками, заставляли глотать таблетки пригоршнями. Я, наконец-то, почувствовал себя больным. В течение пяти месяцев я этого не чувствовал, а вот теперь я – больной. Причем – очень больной.
На второй день я, наконец, поверил, что у меня воспаление легких – начался сильный кашель. Хрипы в легких можно было слушать без стетоскопа. Все это время не удавалось сбить температуру, и это очень беспокоило врачей. Теперь мне измеряли ее каждые два часа, но самым «низким» моим достижением оказалось «тридцать девять и пять».
На второй день, сразу за открывшимся кашлем, начались переломы ребер. Кашлять становилось все тяжелее, но откашливаться было необходимо. Я лежал без движения. Застойные явления в легких и без пневмонии были моей проблемой.
На третьи сутки я уже не мог уснуть от душившего меня кашля, появилась проблема с дыханием. Всю ночь я пытался откашляться и при этом старался кашлять как можно тише из-за невыносимой боли в боках. Рентген показал, что сломано три ребра. А кашель становился все сильнее. Мои соседи стали жаловаться, что я не даю им спать.
Четвертое утро моей болезни началось с раннего прихода медсестры, которая пришла делать укол. Антибиотики мне кололи шесть раз в день, и для меня это вылилось еще в одну, серьезную проблему – на моем теле не осталось мест, пригодных для уколов. Первые уколы сделались в мышцу руки, но уже четвертый в это место сделать было невозможно – образовались мозолистые шишки. Оставались бедра. И на этом список заканчивался. Переворачиваться ни на бок, ни тем более на живот я не мог.
Сделав укол, медсестра посмотрела на меня. В этот момент, силясь преодолеть очередной приступ кашля, я начал задыхаться. Пытаясь вдохнуть глубоко, я почувствовал, как где-то в районе левой лопатки несколько огромных игл вонзились в мое тело. Вдохнуть не получалось, и последнее, что я запомнил, – это округлившиеся от страха глаза медсестры. Я покинул палату, растворившись в темной, ласковой, непонятно откуда взявшейся воде.
Все еще жив
Белый свет… белый цвет… белая стена… Нет. Стоп. Это потолок. Потолок? Да. Потолок. И от него вниз спускаются стены. Стены это привычно. Стены это знакомо. Стены окружали меня всю жизнь. Последний раз я лежал в больнице, тоже в окружении стен… А где я сейчас? Тоже в стенах, похожих на больничные, однако помещение как-то уменьшилось в размерах. Появились холодильник и расположенный сразу за ним умывальник с небольшим зеркалом. Других кроватей, кроме моей, не наблюдалось. Я лежал один. Рядом стояли тумбочка и стул.
В палату вошла медсестра. Лицо ее до глаз было скрыто марлевой маской. В ортопедии я таких глаз не видел. Это была не «наша» медсестра.
– Очнулся? Ну, здравствуй! – она говорила медленно, и ее красивый грудной голос, немного приглушенный повязкой, показался мне неземным.
– А где я? Что со мной?
Если это «мир иной» и он ничем не отличается от того, который я покинул, то извините…
– Ты? В пульмонологическом отделении, – ответила незнакомка и сдвинула маску со своего, очень миловидного, лица. Ей было около тридцати. Почему-то во всех больницах все медсестры казались мне очень милыми и обаятельными. Да так оно и выходило: молодые женщины в белых чистейших одеждах, прекрасно разбирающиеся в анатомии, в том числе мужской, относящиеся к тебе с повышенным вниманием, проявляющие заботу – все эти мелкие детали, собираясь воедино, заставляли чаще биться сердце. Но сейчас мне было не до фантазий.
Осмотревшись, я заметил, что рядом с моей головой лежит прозрачная кислородная трубка. Она явно выпала из моего носа. Трубка протянулась от металлического воздуховода, выступающего из стены. Правая рука была ощутимо стеснена в движениях. Я скосил глаза и увидел торчащую в ней, закрепленную лейкопластырем, иглу капельницы. Действительно, все указывало на то, что я был еще жив, но не очень уверенно жив.
– Меня зовут Света. Я сейчас приду.
Медсестра вышла, а через пару минут появилась снова, уже со шприцем. Пока мы вместе искали, куда бы она могла сделать очередной укол, Света рассказала, что после того, как я потерял сознание, было решено срочно перевести меня из ортопедии в пульмонологию. Здесь я все время находился под наблюдением специалистов. Оказалось, с тех пор как я потерял сознание, прошло три дня. Я то приходил в себя, то вновь впадал в забытье. Света рассказала, что все это время я пытался шутить, заигрывать с медсестрами.
Однако… Я ничего не помнил. Но, если судить по состоянию моих бедер, в которые мне делали уколы, можно было понять – все, о чем она рассказала, истинная правда. Мои бедра на обеих ногах имели вид огромных больших шишек. При попытке вколоть иглу шприца в одно из таких образований, игла согнулась, и Света посмотрела на меня взглядом, полным жалости. Наконец, игла с большим трудом вошла в тело. Девушка медленно ввела лекарство.
– Это антибиотик. Он сильнее тех, что тебе кололи раньше. Теперь тебя беспокоить будут реже – три раза в сутки. Еще у тебя в назначениях витамины, но это – один укол в день.
– А какое сегодня число?
Пока мое сознание проделывало всяческие фокусы, я немного заблудился во времени – помнил только, что до Нового года оставалось совсем немного.
– Сегодня – воскресенье, а послезавтра – последний день этого года. Ты уже решил, с кем будешь его встречать?
Она шутила, и я улыбнулся в ответ. Но мне было совсем невесело. Предстоял очередной, уже не первый Новый год, который я встречу в одиночестве.
На следующий день, рано утром, ко мне в палату зашла врач.
– Ну, как ты? Как спал?
Температура у меня немного понизилась. Но сильный кашель не проходил. Я уже не пытался считать, в скольких местах мои ребра оказались сломаны.
– Кашель душит.
– Я твой лечащий врач. Зовут меня Валентина Алексеевна. Ты знаешь, что с тобой произошло?
– Воспаление легких.
– Это так. Непонятно, как ты мог так серьезно простудиться. Скорее всего, у тебя то, что мы называем «больничная инфекция».
– А может все проще? Может это просто мои застойные явления? Я же без движения?
– Может быть. Но ты знаешь, что меня смущает?
– Ты болеешь уже больше двух недель. Мы тебя «вытаскиваем», но мне кажется, что ты сам не хочешь бороться.
– Вы о чем?
– Ты не хочешь жить.
– А зачем мне жить?
Вопрос, мне показалось, заставил ее задуматься. Но только на мгновение.
– Ты живешь… Знаешь, я не буду тебя ни в чем убеждать, переубеждать… Скажу только, что если живешь, значит нужно просто жить. Я так думаю. А в остальном – все зависит от тебя самого. Ведь это твоя жизнь.
Доктор была абсолютно права, но я еще не понимал этого. Понимание придет много позже, как и осознание того, что каждый человек хоть раз в жизни служит посланником Бога. В тот раз им оказалась Валентина Алексеевна. Она, возможно, сама того не заметив, бросила моей тонущей в волнах отчаяния душе соломинку, на которую, я, по правде говоря, сначала не обратил внимания. Забегая вперед скажу, что эта «соломинка» плывет рядом со мной до сих пор, одним своим присутствием не позволяя впасть в уныние.
…А тогда я лежал и пытался уразуметь, что же такое может от меня зависеть, если даже единственная действующая левая рука и та перестает меня слушаться?
Это – не жизнь
Много необычных праздников было в моей жизни, но тот – в пульмонологическом отделении – по-своему уникален. Это был первый (и, надеюсь, последний) Новый год, который я встречал с кислородной трубкой в носу. Никак, ну никак не удается выкорчевать из памяти доносящееся откуда-то телевизионное поздравление Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Его жизнерадостный, отеческий речитатив: «…советский народ…перестройка…наступающий год…прогрессивное человечество…» Тяжело хранить это празднословие в памяти и вздрагивать, вспоминая, как именно в тот возвышенный момент, трубка с кислородом выпадает из моего носа; как, пытаясь вставить ее обратно, я буду вынужден повернуть левую руку с большей резвостью, чем позволяло основное заболевание, и заработаю перелом как раз в ту минуту, когда куранты начнут свой величавый басовитый перезвон; как придется замереть от боли в полной неподвижности, но лишь на мгновение, и под новогодний бой главных часов страны снова пытаться двигать уже переломанной рукой, потому что двигать больше было нечем, а организм задыхался без кислорода; и после того как кислородная трубка от моих неловких движений свалится на пол, посвятить первые минуты Нового года отчаянным попыткам набрать в легкие побольше воздуха, чтобы не задохнуться; и отбиваться от удушающего кашля, замирая от боли в переломанных ребрах; и пытаться, безуспешно пытаться докричаться до дежурной, но из-за невозможности вдохнуть и громко крикнуть, замолчать, бессильно ожидая смерти, почти физически ощущая бег секунд; и совсем незаметно для себя потерять сознание и открыть глаза, когда струя кислорода из трубки не очень приятно охладит нос изнутри.
Это все, что осталось в моей памяти от встречи 1986 года. Не было ни елки, ни Деда Мороза, ни просто собутыльников. Были многократные потери и возвращения сознания. И такими же проблесками выхватываются первые три или четыре дня наступившего года.
Окончательно в себя я пришел только на пятый день. И потом сознание уже не терял. Организм победил. А может быть, потому и победил, что сознание было проблесковое? Жить тогда мне не хотелось.
Через четыре недели я вновь очутился в ортопедии, очень ослабленный, с многочисленными переломами. Переломы – это было привычно. Это была моя жизнь.
Профессор Демичев появился на третий день. Я увидел его улыбающееся лицо и, подумав, что сейчас услышу хорошие новости, понял, что могу простить ему все на свете.
– Здравствуйте, Николай Петрович! – я, так же как и он, улыбался.
– Здравствуй! Что ж ты нас напугал?
– Да я и сам не понял, как это так получилось…
Я отлично понимал, моей вины в том, что произошло, не было, но от его вопроса почувствовал себя виноватым.
– Мы здесь, пока тебя не было, решали, что с тобой дальше делать.
– И что? Операция все же будет? Когда? – у меня перехватило дыхание. Неужели?…
– Ты ведь знаешь, что после перенесенного воспаления легких, а особенно в твоем положении, операцию делать нельзя. Опасно.
– Не понял… – я ожидал не этого. Его улыбка в начале разговора обещала мне совсем другое.
– Чего ты не понял? Я тебе говорю, что оперировать тебя нельзя.
– Совсем нельзя? Вы отказываетесь?
– Я же сказал, что «пока» нельзя.
– И что мне делать?
– Ну, ты же понимаешь, здесь тебя держать мы не можем. Ты уже и так залежался. Знаешь, сколько дней больной может лежать в отделении?
– Двадцать один день?
– Правильно. Ты уже все сроки перележал, – он опять улыбнулся.
– Что мне делать?
– Мы тебя сейчас выпишем. Через восемь месяцев позвони мне или Озерову. Мы тебя положим.
– Так вы меня будете оперировать?
– Поезжай домой, подкрепись. Ты сейчас сильно ослаб. Потом приедешь, и будем думать.
Опять «думать»… Профессор явно рассчитывал, что за восемь месяцев меня не станет, а вместе со мной умрет эта назойливая проблема. Теперь я понял, почему он улыбался. Демичев прилюдно пообещал меня прооперировать, но связываться со мной не собирался, и все то время, пока я ждал операции, он искал благовидный предлог для отказа. Николай Петрович сохранял лицо. Я заболел просто к счастью. Очень удачно заболел. Отсюда и улыбка на лице профессора.
На следующий день подошла старшая медсестра и сказала, что они заказали машину. Завтра меня отвезут домой. Я ее попросил, чтобы она позвонила в нашу квартиру, узнала, дома ли бабушка. У меня не было ключа, к тому же, если она еще в больнице, жить мне не с кем. Я просто умру от голода. Через несколько минут «старшая» сообщила, что бабушка уже пять месяцев живет дома.
Для меня не было ничего необычного в том, что за полгода, проведенных в больнице, ко мне никто не пришел. Все так и должно быть в моей жизни. Может «не должно» так быть, но так – было, я привык. Можно было подводить итоги, но какие: окончательные или промежуточные?
Я всерьез рассчитывал на несостоявшуюся операцию. Это была моя последняя надежда. Всюду, куда я обращался, мне отказали. Пообещали здесь. Потом использовали как учебное пособие и под благовидным предлогом тоже отказали. Не умеют или боятся? Разницы для меня никакой. Руки почти не работают. Пройдет еще немного времени, и левая рука откажет окончательно. Рука, которой я хоть чуть-чуть, хоть что-то могу делать. Какой смысл от моей жизни? Кому она нужна? Родным не нужна, а больше у меня никого нет. Значит и мне не нужна.
Моя кровать освещалась лампочкой, горевшей в коридоре. Я думал о том, что это последняя ночь, которую я проживаю в этой больнице, в этом отделении и жалел, что не могу сделать так, чтобы эта ночь стала вообще последней в моей жизни. Сон не приходил. Я мог бы попытаться заснуть, приняв снотворное, – у меня уже скопилось несколько таблеток, но они предназначались для другой цели. Внезапная болезнь нарушила мой план. И хотя сегодня перед отбоем медсестра принесла очередной желтый шарик, для того, что я задумал, снотворных горошин было недостаточно. «Ничего, дома что-нибудь придумаю, с чем-нибудь смешаю», – утешал я себя. Лучше было бы умереть в больнице, чтобы не доставлять хлопот бабушке, но выбора не оставалось. – «Ну, подумаешь, три дня она похлопочет, зато потом никаких проблем. И отцу после освобождения не надо будет голову ломать, что со мной делать, куда пристроить», – обреченно думал я. Много мыслей роилось в моем мозгу, но все они сходились к одному: «Это конец?» – спрашивал я себя и сам себе отвечал: «Да, это финиш. Дорога жизни, по которой я, корчась, полз, преодолевая физическую боль и душевные муки, доставляя неудобства близким, эта моя дорога заканчивается бездонной пропастью, куда я вот-вот „ухну“ со всеми своими несбывшимися мечтами…» Внешний мир меня отторгал. Отторгал легко, с жизнерадостной профессорской улыбкой. Я был вопиющим нарушением всех биологических законов, как и странная рыбка «телескоп», но в отличие от аквариумного благоденствующего уродца я должен был умереть как не прошедший естественный отбор, как слишком нестандартный представитель Хомо Сапиенс. Я сделал все, что от меня зависело. Написал письма всюду, где, как я надеялся, мне могли помочь. Но отовсюду получил отказ. Хотя?…
Последнее письмо
Однажды меня посетила идея написать некое письмо. Правда, не совсем было понятно, чем мне там могут помочь, поэтому я отбросил идею как бесполезную авантюру. Теперь же в ночной палате, перебирая в памяти все, что было сделано мной для собственного спасения, я обнаружил, что она не такая уж и бездарная. Во всяком случае этот вариант показался мне более разумным, чем вариант со снотворным, которого все равно было мало.
Как хорошо, что накануне я упросил соседа подарить мне обычную школьную тетрадь в клеточку. В тот момент я не собирался ничего писать. Попросил так просто, на всякий случай. И вот случай подвернулся.
Прижав тетрадь подбородком к груди, я осторожно вырвал двойной лист и посмотрел на книжку, которую нужно было «взять» с тумбочки и подложить под бумагу. «Шагая» пальцами по тумбочке, я подтянул левую руку до книги и положил указательный палец на обложку. При этом мой мизинец как бы цеплялся за край тумбочки. Подумав, что одного указательного будет недостаточно, поднял еще и средний палец. Резко нажав на край книги, я проследил, как она слегка взлетела вверх, перевернулась и упала на кровать. Все прошло удачно. Здесь я могу ее достать. Книга была в твердой обложке – самая подходящая «подставка» для написания письма.
Писать предстояло левой рукой, которая была сломана в двух местах, но для письма мне нужна только работающая кисть и пальцы. С этим у меня все в порядке. Пальцы еще ни разу не ломались. Я развернулся так, чтобы свет из коридора падал на бумагу. Уцепившись за одеяло правой рукой, которая сейчас нужна мне только в качестве подпорки, я задвинул на нее книжку и положил сверху лист бумаги, стараясь при этом придерживать его мизинцем, чтобы он не соскальзывал.
Поза, в которой я сейчас находился, была очень неудобной. Чтобы видеть лист, лежащий на груди, голову приходилось до предела наклонять вперед. А наклонив ее, трудно было дышать. Процесс строился следующим образом: я делал несколько глубоких вдохов, затем задерживал дыхание, нагибал голову и начинал писать пока хватало воздуха, после чего откидывал голову назад, приводил дыхание в норму, вновь делал три-четыре вдоха, и все повторялось сначала.
Требовалось много усилий и времени, но в тот момент это была единственная поза, которую я изобрел для себя и в которой мог писать. А писал я следующее:
«Уважаемый, Михаил Сергеевич!
Меня зовут Антон Борисов. Я решил написать Вам после того, как использовал все возможности для того, чтобы получить помощь. Я понимаю, что мое письмо скорее всего до Вас не дойдет. Шансов на это у меня практически нет. Но я все равно решил написать, потому что больше никаких возможностей у меня не осталось.
Я хотел бы обратиться к Вам с просьбой. Может быть, для Вас то, о чем я хочу просить, совсем ничего не будет значить, но для меня сейчас это равносильно жизни или смерти.
Прежде чем осмелиться потревожить Вас своей просьбой, я сделал множество попыток добиться этого самостоятельно. Я написал много писем в те места, где мне могли бы помочь. Но в ответ на множество писем, отосланных мной, я получил столько же отказов.
Хотел бы написать немного о себе. Мне 21 год. Я закончил 10 классов и в прошлом году поступил в институт. Все вроде бы хорошо, но у меня есть одна большая проблема.
Дело в том, что я болен. Болен с детства, и болезнь неизлечима. Я не могу ходить, не могу сидеть. Я – только лежу и только на спине. Это моя реальность, но я к этому привык. Точнее, я с этим живу, и это уже не проблема для меня.
А самое главное – я не могу жить, ничего не делая. Я очень хочу приносить пользу. Но с некоторых пор это стало очень большой проблемой для меня.
После того как я поступил в институт, мои руки, которые и до этого доставляли мне хлопот, стали отказывать. Сейчас я с очень большим трудом могу писать левой рукой. И это все, что я могу делать сейчас руками. Потому что уже долгое время я не могу делать абсолютно ничего правой рукой.
Мое заболевание неизлечимо, я это знаю и смирился с этим. Но скоро, когда окончательно откажет моя левая рука, я стану растением.
Я не могу так жить.
Я много слышал за свою жизнь и продолжаю слышать, что у нас в стране все делается для человека. И я верю в это. Верю, потому что только верить мне и остается. Я знаю, что можно что-то сделать с моими руками или хотя бы попробовать. Но везде, куда бы я ни обращался, мне отвечают отказом. Я попробовал написать в Москву, в ЦИТО, оттуда мне ответили, что наша Астраханская область территориально относится к Саратовскому НИИ травматологии и ортопедии и что я должен обращаться туда. Для того чтобы получить направление в Саратовский НИИ, я лег в Астраханскую 1-ю областную больницу. Отсюда написали письмо в Саратов с описанием моего состояния, но оттуда я тоже получил отрицательный ответ. Я предполагал, что так и будет, потому что я уже когда-то лежал в Саратовском НИИ и мне ничего там не сделали. В конце концов мне пообещали помочь здесь, в Астрахани. Но теперь и это обещание так и осталось обещанием. Я понимаю, что ничего мне здесь делать не будут.
Уважаемый, Михаил Сергеевич, я Вас очень прошу, помогите мне! Я прошу только о том, чтобы помочь мне лечь на лечение в Москву, в ЦИТО. При этом я отлично понимаю, что сделать что-то для человека, имеющего мое заболевание, очень сложно. Но я прошу помочь мне попасть в ЦИТО, чтобы там просто попробовали что-то сделать. Я всю свою жизнь провел в больницах, и еще ни разу не лежал в больнице, чтобы при этом меня еще и лечили. Прошу Вас, помогите мне попасть в ЦИТО. Я согласен на все, что там может произойти. Это единственное, что мне необходимо, и единственное, о чем я осмеливаюсь попросить. Больше ничего мне не нужно.
Я прошу Вас, умоляю, помогите мне! Я не могу так жить! Жить и ничего не делать. Может это громкие слова, но я так понимаю. Пожалуйста, помогите мне!
Я не надеюсь, что письмо это дойдет до Вас. Если это случиться, то это будет что-то невероятное, но это единственный и последний шанс, который остался у меня. Я хочу его использовать.
Прошу Вас, помогите мне.
Очень прошу Вас, простите мне это сумбурное письмо.
У меня осталась последняя надежда. Помогите мне, пожалуйста.
С уважением и надеждой, Антон Борисов».
Я запечатал письмо и написал адрес: «Москва. Кремль. Михаилу Сергеевичу Горбачеву». Это было похоже на чеховское «на деревню дедушке», вероятность того, что письмо дойдет по назначению, была практически нулевой. Я это отлично понимал.
Но что мне с того понимания? У меня оставался единственный шанс, и я должен был его использовать. А иначе? Иначе не буду честен перед собой. В тот момент, когда мое решение уйти из жизни вступит в решающую фазу, на вопрос: «Все ли ты сделал?» – я хотел бы ответить: «Да, все! Возможное, невозможное, и даже попытался сделать невероятное».
Утром я попросил одну из медсестер, положить письмо в почтовый ящик. Она взглянула на адрес и посмотрела на меня с какой-то настороженностью. Я даже подумал, что сделал ошибку, обратившись к ней. Она могла подумать, что в письме я жаловался на сотрудников ортопедии.
– Пожалуйста, опусти его в ящик. Это для меня очень важно.
– Хорошо, сделаю.
Я ей поверил. А больше мне ничего и не оставалось.
После обеда я начал прислушиваться к разговорам, доносящимся из коридора. Обычно это срабатывало, и если добросовестно напрягаться, то можно было слышать все, что там происходило, и быть заранее готовым. Например, если кого-то в нашей палате должны были оперировать, мы всегда старались уловить громыхание приближающейся каталки или когда там, вдали, кто-нибудь произнесет его имя.
– За Борисовым машина.
Я уже был готов. Тяжело переживал лишь то, что долгие месяцы пролежал здесь впустую.
Дома все оставалось по-прежнему. Вот только в состоянии здоровья бабушки больших изменений к лучшему не произошло. В больнице ее немного подлечили, но по утрам, как и раньше, она чувствовала сильную слабость. Все чаще внезапно хваталась за сердце, садилась на ближайший стул, клала в рот таблетку нитроглицерина и после этого в течение получаса неподвижно сидела, думая о чем-то своем, приходила в себя.
Я понимал, надолго ее не хватит, и мне уже сейчас нужно решать, с кем придется жить дальше. Единственным вариантом оставался наиболее тяжелый – дом-интернат для престарелых и инвалидов. Когда я начинал об этом думать, меня охватывал не ужас, меня охватывало состояние, похожее на безвременную кончину. В моем представлении попасть в это место было равносильно смерти. Всю свою жизнь я и так провел в казенных домах. А теперь мое будущее навсегда и бесповоротно должно было связаться с этим страшным местом. Лучше – смерть.
С такими мыслями я и жил после выписки из больницы. Это было больше похоже на агонию. Нервы мои в то время сдавали по любому пустяку. Это конечно же отражалось на наших с бабушкой отношениях. Все чаще мы начинали ни с того ни с сего предъявлять друг другу претензии. Я упрекал ее, что она уделяет мне недостаточно внимания. Она тоже срывалась на меня ни с того ни с сего. Эти месяцы моего пребывания дома были, возможно, самыми тяжелыми. Я уже поставил точку на своей жизни. Понимал, что ничего дальше не будет. Даже о том, что учусь в институте, больше не вспоминал. А таблеток, чтобы все это прекратить, у меня было недостаточно.
В один из таких дней бабушка вытащила из почтового ящика конверт из Министерства здравоохранения СССР. Это был ответ на мое письмо Горбачеву! В письме разъяснялось, что меня направляют на лечение в Центральный институт травматологии и ортопедии имени Приорова, в ЦИТО! И что они ждут моего приезда на обследование 14 октября 1986 года!
Я понимал, что до Генерального секретаря ЦК КПСС письмо не дошло. Но мне было достаточно и того, что кто-то, возможно, в секретариате Горбачева, прочитал и переправил его в Минздрав. А уже оттуда я получил направление. Но это все частности. Главное другое – чудесным образом исполнилось то, о чем я просил. Не важно как, не важно кто. Важно, что у меня, наконец-то, появился шанс.
Через день раздался звонок в дверь. К нам пришел мой лечащий врач из Первой областной клинической больницы – Фарит Джафарович, которому поручили сделать описание моего состояния и написать направление, но уже в Москву, в ЦИТО. На этот раз они решили не класть меня в больницу. Как я понял, Минздрав СССР отправил копию письма в наш областной отдел здравоохранения. Для нашего облздрава это было больше, чем приказ.
До октября, до моего отъезда, оставалось еще три месяца, времени больше чем достаточно, но письмо из Минздрава оказалось таким стимулирующим, что уже через три недели после его получения все было готово. В облздраве даже оплатили стоимость билета на поезд до Москвы для меня и моего сопровождающего. Когда же я позвонил и сказал, что в моем состоянии необходим второй сопровождающий, просьба была выполнена молниеносно. На следующий день мне принесли третий билет. Я мог ехать хоть сейчас. Вот только с кем? И как?
Ситуация сложилась странная. Билеты для меня и сопровождающих приобретены. Но вот где я могу найти этих двух добровольцев? Кто согласится со мной поехать?
Знакомых практически нет. Родственников столько, что пальцев одной руки для них оказывалось много. Время шло, а ни одной кандидатуры на горизонте даже не маячило. И лишь за две недели до отъезда проблема решилась. Одним из моих сопровождающих вызвался быть Виктор, бабушкин знакомый, вторым – мой дед Андрей Аврамович. Мне долго пришлось его уговаривать, но конце концов дедушка согласился.
Теперь на первом месте стоял другой, не менее важный вопрос – как ехать? Я помнил свою давнюю поездку с мамой в Саратов. Только посадка и высадка из вагона закончились четырьмя переломами. Два ребра, нога и рука. Но сейчас я находился в состоянии намного худшем, чем тринадцать лет назад.
Самым болезненным для меня был проход через двери. Дверь в нашу квартиру, например, очень узкая. При входе, несущему приходилось крепко прижимать меня к себе. Без этого никак не обходилось. А в поезде двери и коридоры намного уже. Я рисовал в мозгу жуткую картину, как меня вносят в поезд, несут по узкому проходу, вносят в очень узкие двери купе… меня охватывал настоящий ужас. Надо было думать, как мне переместиться из Астрахани в Москву с наименьшим потерями, иначе в Центральный институт травматологии и ортопедии мог прибыть пациент с феноменальным количеством переломов или вообще доехать нечто уже непригодное для оказания какой-либо врачебной помощи.
Возможно, я бы обошелся минимальным числом переломов, а также столкнулся бы с меньшим количеством проблем, добираясь до Москвы самолетом. Но в облздраве и билеты на поезд оплатили с такими драматическими придыханиями, что я подумал – если попросить «переиграть» поезд на самолет, того, кто отвечал за выделение денег, может хватить удар. Не стоило испытывать судьбу. Следовало довольствоваться тем, что уже было в наличии.
Я напряженно обдумывал все детали предстоящего путешествия. И как-то вдруг в мозгу всплыли кадры из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»: санитары несут умирающую старушку, которая остается лежать на носилках даже тогда, когда нерадивые медбратья тащат носилки, повернув их набок. При этом хулиганы в белых халатах отпускают замечания типа: «хорошо держится бабулька». За точность фразы не ручаюсь, но этот эпизод и подсказал решение.
Я попросил Виктора, чтобы он соорудил носилки, небольшие, под мой рост – это чуть больше метра, и в ширину… Ширину носилок я попросил его выяснить самостоятельно. Он специально сходил на вокзал и сделал все замеры. В моей ситуации важен был каждый сантиметр, потому что от этого зависело, сколько переломов у меня обнаружится по окончании путешествия. Совсем без них я, само собой, обойтись не мог. Хотелось свести к минимуму.
Итак, размеры были. Настало время конструирования. Уменьшенная копия обычных носилок не годилась. Прогибающаяся поверхность могла стать причиной дополнительных переломов, поэтому я попросил Виктора где-нибудь найти подходящую доску. Фанера слишком тонка, и решили остановиться на куске ДСП, древесно-стружечной плиты.
Через два дня «носилки» – взятый на стройке кусок ДСП, размером сто десять сантиметров в длину и сорок три сантиметра в ширину, с прикрученными обрезками железных труб в качестве ручек – были готовы. Я так дотошно вспоминаю эти «носилки» и процесс их изготовления, потому что практически любая мелочь, необходимая мне (или человеку в ситуации, похожей на мою), становилась большой проблемой. А еще потому, что в тот момент, когда я впервые лег на эти носилки, я и предположить не мог, что отныне они будут сопровождать меня повсюду в течение последующих шести лет. И что благодаря этому простейшему сооружению из куска ДСП и двух железных труб в предстоящие годы я буду избавлен как минимум от сотни переломов. Итак, вещи собраны, носилки сделаны – все готово. Во всяком случае, я был в этом уверен.
Оставался день до отъезда. Мысленно я уже пребывал далеко за стенами дома. В этот день я старался говорить мало и силился запоминать все, что вскоре будет мне недоступно. Я понимал, что скорее всего теряю дом безвозвратно. И дело было даже не в том, что я не вернусь сюда, в эту квартиру. Могло случиться так, что я вообще не вернусь в Астрахань. Весь мой немалый опыт общения с врачами говорил об этом. Не знаю почему, но все врачи, пытающиеся лечить меня, точнее, даже не лечить, а обещать начать лечение, все они сходились в одном, что я не переживу операцию.
Самым грустным было то, что бабушку я больше никогда не увижу, поэтому я старался, чтобы в этот последний день между нами не возникало никаких ссор.
– Бабуля, ты завтра пойдешь нас провожать?
– Антончик, это очень рано. Ты ведь знаешь, как я себя по утрам чувствую. А ты решил, как доберешься до железнодорожного вокзала?
Ее вопрос сразил меня «простотой» – это было единственное, о чем я не подумал.
– Нет… Бабуля, как думаешь, что делать?
– Позвони деду. Может он что-нибудь подскажет.
Звонок деду ничего не дал. Наиболее пригодным для употребления был совет позвонить в облздрав.
В приемной облздравотдела долгое время никто не брал трубку. Наконец, раздалось долгожданное: «Алё!». Трубку взяла женщина.
– Здравствуйте! Меня зовут Антон Борисов. Завтра я должен ехать на лечение в Москву. Мне нужна ваша помощь.
– А чем мы можем вам помочь? Вы едете на лечение? Так езжайте и все.
После этих слов я не знал, что мне делать, плакать, смеяться, разговаривать дальше или немедленно повесить трубку.
– Дело в том, что в облздраве мне уже помогли – оплатили билеты на поезд для меня и двух сопровождающих, потому что я не могу ходить. Но сейчас я не знаю, как смогу завтра добраться до поезда. Понимаете, я только лежу, переносят меня на носилках, а с ними в такси я просто не влезу… (Да и не было у нас с бабушкой денег на такси.)
– И чем мы можем помочь?
– Мне нужна машина, наподобие скорой помощи.
– Нужна? Звоните в скорую и решайте все вопросы с ними.
Еще два часа общения по телефону с различными маленькими, средними и большими начальниками в скорой помощи дали, наконец, результат. Мне пообещали, что завтра, к восьми утра, автомобиль с носилками подъедет к нашему дому и довезет меня до железнодорожного вокзала.
– А дальше, как знаете, – закончил разговор человек, сообщивший мне эту приятную новость.
После такого «телефонного марафона» и общения с десятком разных людей думать о том, что может быть «дальше» совершенно не хотелось. Я был уверен только в одном – завтра я уеду.
«Переломное» путешествие
Как мне пообещали, на следующее утро водитель «скорой помощи» позвонил в дверь, и конечно же, все мы были готовы. Я лежал, наглухо прикрученный ремнями к носилкам, и рисовал в воображении пугающие картины, как мы идем по узким проходам. Но моим фантазиям оказалось далеко до реальности, с которой мне пришлось столкнуться.
– Бабуля, до свидания! – я очень внимательно посмотрел на нее, пытаясь запомнить родное лицо. Мне всегда говорили, что рот у меня очень похож на бабушкин. Конечно, у моего отца такой же рот, и мой рот похож на отцовский, но – «вначале была бабушка». Последний раз я общался с Еленой Антоновной. Моя дальнейшая жизнь сложится так, что больше я никогда ее не увижу.
Скорая привезла нас на вокзал. До посадки на поезд мы обретались в медпункте. Я очень хотел пить, потому что с самого утра не брал ни капли жидкости в рот и накануне постарался поесть лишь то, что ни при каких обстоятельствах не могло вызвать расстройства желудка. Во время моих перемещений в пространстве приходилось подвергать свой организм разнообразным воздержаниям: потреблять минимум жидкости, а пищи, самой простой, – микроскопические дозы. Жажда усиливалась, но было неясно, когда настанет момент, удобный для того, чтобы дедушка или Виктор дали мне обычную стеклянную банку, служившую писсуаром. Лучше было потерпеть. Не засохну.
Наконец, убегавшая куда-то медсестра вернулась со словами: «Берите его…» – и пояснила, что она договорилась с проводниками нашего вагона: меня впустят в купе еще до того, как начнут запускать на посадку остальных. Нам это было очень удобно, поэтому дед и Виктор взялись за носилки. Путешествие началось.
Конструируя носилки, я пытался предельно их минимизировать, чтобы в проходах они сильно не наклонялись. Однако то, что носилки были узкими, а ручки короткими, сильно мешало при ходьбе. Особенно доставалось деду. Он взялся нести со стороны «самой легкой моей части» – со стороны ног, но то и дело просил остановиться и передохнуть. Мы останавливались пять или шесть раз, пока шли по перрону. А когда, наконец, дошли до нашего вагона, и я увидел вход в него, меня охватила паника.
Вход был немножко, совсем чуточку уже носилок и, проходя в него, не надо было сильно наклонять их. Но сразу за входом следовало пройти в двери, ведущие в вагон, для чего носилки наклонили почти вертикально. Так и несли до нашего купе, которое оказалось самым дальним. При этом я кричал, чтобы «носильщики» постарались не прижать меня к стене.
Я кричал что-то еще. И от боли, потому что ко времени вноса моего тела в купе заработал пять переломов. Три ребра сломались оттого, что в момент переворачивания носилок набок, ремни, привязывающие меня, так сильно впились в ребра, что те только хрустнули. Нога сломалась после того, как повисла под собственной тяжестью, потеряв опору в момент наклона носилок. А вот перелом руки для меня так и остался загадкой. Может быть, я просто очень сильно пытался удержать ногу, падающую с носилок? Все мои самые кошмарные ожидания оказались далеки от реальности. Воображаемое померкло перед тем, что произошло на самом деле. И потому я кричал не только от боли, но и от страха.
Меня внесли в купе и положили на нижнюю полку. Я вздохнул с огромным облегчением – мои мучения наполовину кончились. Наполовину, потому что предстоял еще путь в обратном направлении, вынос меня из вагона. И о том, что меня ожидало в Москве, я начал думать сразу, как только меня освободили от ремней и все расположились в вагоне.
Мы ехали в поезде, который назывался «Лотос», это скорый фирменный астраханский поезд, курсирующий до Москвы и обратно. Я впервые находился в нем и пытался понять, почему он считался более комфортабельным по сравнению с другими. Каких-то особых удобств не замечалось. Впрочем, последний раз я ездил на поезде тринадцать лет назад и уже почти ничего не помнил. Сравнивать было не с чем.
Мои попытки уснуть ни к чему не привели. Дело было не только в боли. Хотя она сильно беспокоила, но после часа, потраченного на поиски удобного положения, я, наконец-то, нашел позу, в которой чувствовал боль только при потряхивании вагона на особо неровных стыках рельс. Я никак не мог уснуть от напряжения, бесконечного прокручивания в мозгу картины, как меня выносят из поезда и как, повернув голову на бок, я вижу пол вагона и ноги несущих меня деда и Виктора… Жуть.
В вагоне стояла жара, проводники топили так сильно, что в нем можно было находиться без одежды. Я попросил Виктора открыть окно. Оно было заклеено и приготовлено к зиме. Но появилась идея – в Москве меня можно вытащить через окно. Эта мысль настолько мне понравилась, что я начал понемногу уговаривать Виктора и деда, чтобы они попросили разрешения у проводников открыть наше окно. Увы, они не захотели.
Я смотрел на пробегающие за окнами деревья, пытался читать названия станций, мимо которых мы проезжали: знаком был только Саратов. Мы ехали, а я чувствовал, что не просто еду из одного города в другой, это начинается новый этап в моей жизни.
Впервые я ехал в больницу, точно зная, что со мной хоть что-то, но обязательно будут делать. На этот раз никто меня не обманет, я еду лечиться, меня будут оперировать, и, конечно, я могу не пережить этой операции. Это пугало меньше всего. Руки мне отказывали, и я ощущал себя в то время наполовину мертвым. Я не хотел больше жить в таком состоянии, но и умирать как-то не очень торопился. Особенно теперь, когда забрезжила надежда.
Через сутки мы подъезжали к Москве. Как только замелькали московские пригороды, дед пошел к проводнице и попросил, чтобы она сообщила, что едет человек, которому нужно попасть в Центральный институт травматологии и ортопедии, а передвигаться самостоятельно он не может.
Когда мы прибыли, на перроне нас уже встречали: медсестра вокзального медпункта и какой-то небритый мужик в фуфайке. Мужик толкал перед собой полуржавое инвалидное кресло на колесах. Кресло, конечно же, не пригодилось, в нем нужно было бы сидеть, чего я, естественно, не мог. Но помощью мужика мы попытались воспользоваться, попросили помочь вынести меня из вагона. Впрочем, он только добавил суеты. Пришлось еще раз пройти через кошмар, пережитый при посадке. К пяти переломам добавились еще два.
Какое-то время мы ожидали в медпункте Павелецкого вокзала, пока не подъехала машина, чтобы отвезти меня в ЦИТО.
Конечно же, когда меня затаскивали на моих маленьких носилках в машину, вокруг собралась толпа зевак. Люди о чем-то шептались, шушукались, и вдруг очень отчетливо я услышал:
– Смотри, мужику поездом ноги отрезало.
В этот момент, видимо ощутив, что все самое страшное позади, и ужас переезда, вноса и выноса, остался только в памяти, я испытывал дикое облегчение, а поэтому, услышав про «отрезанные ноги», неожиданно очень громко расхохотался.
– Он к тому же и с ума сошел, бедняга, – прокомментировал кто-то из толпы.
Мир тесен. Уже после того, как я оказался в ЦИТО и начал знакомиться с другими больными, один из них, которого положили днем позже в соседнюю палату, рассказывал, привлекая всеобщее внимание, что, когда он приехал на Павелецкий вокзал, все на перроне обсуждали жуткое происшествие: какой-то мужик только что попал под поезд. Ему отрезало ноги, а он хохотал как сумасшедший…
Так что, как бы там ни было, а мой приезд в столицу произвел определенный «фурор» и оброс слухами.
Воспоминание четвертое В Москве, или «Ортопедический интернационал»
«Оккупант»
В приемном покое Центрального института травматологии и ортопедии мужчина в белом халате скрупулезно изучил документы, описывающие мои проблемы. Среди них находилось и то самое, «рекомендательное» письмо из Минздрава СССР. Принимающий придирчиво посмотрел сначала на письмо, потом внимательно – на пациента и коротко бросил: «В шестое отделение», – после чего меня положили вместе с носилками на каталку и развернули, чтобы везти по больничному коридору к лифту. Увидев белые стены, длинный ряд дверей, я внезапно почувствовал, что «вернулся». Странно, здесь, в этом институте я не был никогда. И все же, я вернулся. Меня окружала знакомая, ставшая родной за годы моего «казенного» детства, больничная обстановка. Ноздри привычно выхватывали терпкий запах чего-то медицинского – запах вычищенного и продезинфицированного помещения. Он тоже был из моей коллекции «родных» обонятельных впечатлений. Я вернулся. Вернулся в свою привычную обстановку. Неожиданно мне стало легко и спокойно. Все сомнения, страхи и переживания последних месяцев оставались там, в приемном покое, вместе с дедом и Виктором, которых еще ждала дорога домой, в то время как я уже прибыл на место. Я начинал новую жизнь, а им предстояло вернуться к старой. И эта старая их жизнь, как и моя собственная, сейчас меня совершенно не интересовали. Главное – впереди. Прощание ограничилось куцым: «До, свидания!» Я даже не пытался проводить их взглядом, когда каталка разворачивалась, чтобы везти меня в неизвестность.
Это был последний раз, когда я видел моего деда живым. Он умер в 1991 году. Очень подвижный и веселый, мой дед Андрей Аврамович, так много для меня сделавший. Казалось, что все беды, валившиеся на него, он переносил играючи, без малейшего для себя ущерба. Он никогда не жаловался, во всяком случае при мне. Может быть напрасно? Я заметил: люди, переносящие удары судьбы без стенаний и нытья: «Ну, почему я такой несчастный?» – будто провоцируют все новые и новые испытания. Словно кто-то невидимый, специально к ним приставленный, методично прессует, давит, ломает гордецов, бьет со всех сторон, выявляя запас прочности, ожидая мольбы и жалоб.
Дед всегда держался молодцом, но не смог перенести смерти внука Андрюши. Андрей, мой двоюродный брат, мамин племянник. Мальчику едва исполнилось 13 лет, когда он умер от рака желудка.
Два внука – сначала я, а следом Андрей – были потеряны дедом при жизни. Смерть Андрюши стала страшным потрясением. У деда случился инсульт. Его парализовало. Он не мог не только двигаться, но и говорить, перестал узнавать родных. Но жизнелюбивый характер и воля взяли свое. Спустя некоторое время Андрей Аврамович пошел на поправку, даже начал интересоваться политической жизнью в стране. Как оказалось, напрасно. Потому что умер он возле телевизора. Последним словом дедушки было: «Фашист», – брошенное в ответ на самозабвенные националистические бредни Владимира Жириновского. Понятно, что Владимир Вольфович мастер самопиара и может как хамелеон менять окраску. Для него это игра. А кто-то ведь воспринимал его всерьез. К таким относился и мой дедушка Андрей Аврамович – ветеран Великой Отечественной, еврей по крови, русский по духу, у которого «коричневый бред» Вольфовича спровоцировал второй инсульт. И тут уже ничего не изменишь.
Лифт, в котором меня поднимали, остановился на четвертом этаже. Я увидел дверь с табличкой «Отделение костной патологии». В нее и втолкнули мою каталку.
Для меня это лечебное заведение ничем не отличалось от других больниц, в которых мне довелось полежать. Более того, когда меня закатили в палату, где отныне мне предстояло лежать, показалось, я вновь попал в астраханскую Первую областную клиническую больницу. Палата имела тот же размер и была рассчитана на четыре кровати, однако в ней, так же как и в астраханской, стояло пять. По две кровати располагались вдоль стен, и одна – прямо под окном – на нее клали новеньких.
Конечно, я не ожидал «европейского» уровня в общедоступном советском лечебном учреждении даже с гордым наименованием «институт». У меня уже был опыт лежания в подобном институте – саратовском. Московский мало чем отличался от своего провинциального собрата. Во всяком случае внешне. Меблировка, распорядок дня: время отбоя, подъема, приема пищи, различных процедур, операций, врачебных обходов – все было точной копией того, к чему я привык за время своих «больничных университетов».
Хотя… Одно отличие все же имелось. В названии учреждения присутствовало прилагательное «Центральный», и это кое о чем говорило. А именно: здесь лечились больные из всех республик Советского Союза и тех, в основном развивающихся, стран, правительства которых были лояльны политике СССР. Наша палата тоже оказалась «интернациональной».
Мой сосед, имени его не помню, был из Литвы. Как выглядел, тоже не помню – прожили мы вместе всего-то четыре неполных дня, однако в память он врезался поведением: заносчивой демонстрацией своего превосходства над всеми другими, нелитовцами, но только теми нелитовцами, кто был из Союза. С нелитовцами из-за границы он подчеркнуто любезничал, не теряя, однако, при этом чувства собственного достоинства.
Был конец 1986 года, но уже тогда литовский патриот в полный голос возвещал о том, что Литвы скоро не будет в составе Советского Союза и она вышвырнет из своих пределов всех «оккупантов». Поскольку в тот момент я оказался в палате единственным русским, то литовскую нелюбовь к России я сполна ощутил на своей шкуре.
Сначала, когда он, растягивая гласные, поприветствовал меня словами «Еще-о оди-и-инн окупаан-нт…» – я на время потерял дар речи. Я не понимал, что происходит и как на это надо реагировать. У меня лично никаких претензий ни к Литве, ни к этому только что встретившемуся мне литовцу не имелось. Но у литовца уже был заготовлен длиннющий список претензий, в основном к СССР, которые он начал почему-то предъявлять мне. Я наслушался по полной программе: и про пакт «Молотова-Риббентропа», и про советскую оккупацию, и про литовское сопротивление, и про депортацию, про пострадавшую литовскую культуру и про русскую «неотесанность» и «свинство». С его слов я понял, что в Литве русских ненавидят. Это было неприятное и болезненное открытие. Мое интернациональное воспитание давало себя знать. Ну как же, всю жизнь мне внушали, что Советский Союз – это дружная семья сотен народов. Пятнадцать братских республик плечом к плечу строили светлое будущее для себя и «торили туда дорогу» всему остальному человечеству. Я гордился тем, что живу в такой удивительной, многонародной стране, и у меня были тому веские основания. Астрахань – город многонациональный, и в санатории, где я прожил двенадцать лет, лежали дети разных кровей, но никаких трений на этой почве у нас никогда не возникало. Я был уверен, что так должно быть всюду, поэтому литовская ненависть ко всему советскому, а в особенности русскому, была для меня полной неожиданностью.
Зомбированный идеологами коммунистического общества, я не мог представить, что не всем нациям может нравиться жизнь в таком грубо сколоченном народном общежитии, каким, по сути, и являлся Советский Союз; что у каждого, не только народа, но и отдельно взятого человека, может быть индивидуальное, отличное от «генеральной линии КПСС» видение своего «светлого будущего», своего места в мире, что ни один народ не захочет жить и растить детей по правилам, придуманным для него иноплеменными «братьями».
Это для меня ясно теперь. А тогда я, обманутый пропагандой, простой русский парень морально маялся и откровенно злился на этого, закусившего этнические удила, обыкновенного литовского дядьку. Хотя от его националистических взбрыкиваний становилось тошно. Возникало такое ощущение, что в страданиях его народа был виноват я один.
Общий язык литовец находил лишь с нашим соседом-эстонцем. Айвару было двадцать три года, но выглядел он намного старше. Нужно сказать, что Айвар поломал у меня все представления об эстонцах, в смысле, как они должны выглядеть. Черноволосый и черноглазый, он больше походил на жителя южных широт и менее всего – на северянина.
Малоразговорчивый, медлительный Айвар во многом соглашался с литовским «братом-прибалтом», особенно когда тот без церемоний называл всех русских «оккупантами» или «фашистами». Но тем не менее, сам ни о чем «таком» не говорил, а иногда даже старался сдерживать разговорную агрессию «оккупированной стороны». После того как, подлечившись, радикал из Литвы покинул столицу ненавистного ему государства, Айвар оказался очень приятным соседом, с которым мы постоянно делили хлеб. Точнее, сдержанный на эмоции эстонец, щедро делился со мной – русским лежачим «оккупантом» – своими съестными припасами, потому что в моей тумбочке, кроме семидесяти пяти «оккупационных» рублей, выданных мне бабушкой на обратный билет, никогда ничего не водилось.
На следующий день после моего приезда с самого утра я ждал встречи с человеком, от которого теперь зависела моя жизнь. Но первой в нашу палату сразу после завтрака вошла стройная женщина, среднего роста, с темными волосами под белой медицинской шапочкой. Казалось, ее красивое, строгое лицо никогда не озарялось улыбкой – это была лечащий врач нашей палаты Тамара Николаевна Шишкина.
По пути ко мне она подошла к двум больным: литовцу, заканчивавшему плановое обследование, и молдаванину из Кишинева с перебинтованной рукой. Когда я узнал о его диагнозе, то какое-то время пребывал в изумленном состоянии – какие оказывается разнообразные формы может принимать болезнь. У жителя солнечной Молдавии была злокачественная опухоль одного из пальцев. Операция по удалению пораженной фаланги и замене ее искусственным трансплантатом прошла успешно, и теперь он готовился к выписке.
Наконец, Тамара Николаевна оказалась возле моей койки.
– Ты – Антон? – вопрос застал меня врасплох. Я не знал, как на него нужно отвечать, потому просто кивнул.
– Ну что нам с тобой делать? – она спрашивала, уже пытаясь смотреть и щупать то, что у меня называлось руками. – Будем решать с Сергеем Тимофеевичем.
Сказав это, она повернулась, подошла к Айвару и еще одному моему соседу по палате, афганцу Абдул Гани, задала им обоим по паре вопросов и, наконец, вышла.
Минут через двадцать после ее ухода к нам в палату не вошел, а влетел очень полный и очень лысый мужчина. Все его движения были настолько быстрыми, что не верилось, как человек с комплекцией откормленного медведя может двигаться так стремительно. И еще меня поразили его глаза. Они были необычайно живые и на удивление добрые, несмотря на подчеркнутую суровость голоса их обладателя.
– Это еще один, устроившийся к нам по «блату»? – «добряк» сердито «ломал» свои брови, но обращался при этом к вошедшей вслед за ним Тамаре Николаевне. Сначала я даже не понял, серьезно он это говорит или шутит таким «оригинальным» образом.
Немного помолчав и, видимо, поостыв, незнакомец, которого все называли Сергей Тимофеевич решил все же осмотреть мои руки: он попытался дотянуться до них через загораживающую меня спинку кровати литовца. Сделать это было очень трудно, и, окончательно рассвирепев, добрый доктор мощным рывком выдернул мою койку почти на середину палаты.
– Переложить его на другую кровать, – раздраженно бросил он Тамаре Николаевне и, так же стремительно как вошел, покинул палату, не удостоив меня больше ни взглядом, ни словом. Я обиженно тогда подумал: «А костоправ то у нас с „изюминкой“». Непонятно было, за что он на меня взъелся.
На следующий день меня переложили на кровать, стоящую у двери. С этого момента я лежал, настраиваясь на операцию. При этом старался внимательно всматриваться и вслушиваться во все происходящее, чтобы узнать как можно больше об этом новом месте моего больничного обитания. Правда, настроение у меня тогда было не ахти. Неважно встретило меня это лечебное заведение: с одной стороны литовский охотник на оккупантов, с другой – лечащий преследователь блатных. Травматология, одним словом. Надо терпеть.
Позже я узнал, что профессор Сергей Тимофеевич Зацепин не любил тех, кто устраивался в ЦИТО по так называемому «блату» – по знакомству, родственным и дружеским связям. А таких здесь лежало много. Клиника считалась лучшей в Союзе, и каждый больной с более или менее серьезным заболеванием костей старался попасть сюда всеми правдами и неправдами. Бороться с ползучим хроническим протекционизмом Зацепин не мог, потому и делал то единственное, что было ему доступно – демонстрировал свое отношение к «блатным». Я попал в институт по письму Минздрава СССР, и это обстоятельство было для него лучшим доказательством моей «блатной» сущности. Примерно месяц я ощущал на себе зацепинскую демонстративную неприязнь. Постепенно он убедился, что никакой «мохнатой лапы» в высоких кабинетах у меня нет, а моим покровителем, фигурально выражаясь, является моя упертость. И мы, можно сказать, подружились.
Несмотря на «блатную колонну», в ЦИТО лечилось много людей с серьезными патологиями, истинных больных, для которых и создавался этот институт, которым больше нигде не могли помочь. Однако простые люди чаще всего попадали сюда на последней стадии заболевания, когда спасти их было уже практически невозможно. Показательна судьба моего товарища по несчастью – Александра. История его была, можно сказать, типична для тяжело болеющего тогда советского здравоохранения.
Он жил в Подмосковье. Как-то, года три назад, почувствовал онемение ноги. Присел, и резкая боль в бедре едва его не свалила. На следующий день Александр пошел на прием к врачу, который посмотрел-пощупал бедро и направил парня к хирургу. Тот послал его на рентген. Снимок сделали, но ничего особенного хирург не увидел, только, как он выразился, «небольшое увеличение на бедренной кости». Посчитав, что ничего страшного в этом нет, «дохтор» назначил лечебные процедуры типа прогревания, электрофореза, лекарственных натираний. На какое-то время Александру стало легче, но через три месяца боль вернулась.
Хирург вновь послал его сделать рентген. На снимке было видно, что «увеличение на бедренной кости» стало больше. Хирург назначил повторную физиотерапию. На этот раз сразу же после третьего сеанса Александр почувствовал, как нога, начиная от бедра, на мгновение потеряла чувствительность. Это случилось, когда он выходил из физиотерапевтического кабинета. Он вновь пошел к хирургу, тот послал его к невропатологу. Невропатолог постучал по коленкам, поколол иголками пальцы и послал Александра… на те же самые процедуры, которые уже назначал хирург.
В походах по кабинетам врачей прошло два года. Александру становилось только хуже. В конце концов, устав от всего этого, он занял у знакомых денег и элементарно дал взятку владельцу какого-то кабинета в районном отделе здравоохранения. Тот помог ему получить направление в ЦИТО.
Здесь, на первом же осмотре, доктор Виктор Николаевич Бурдыгин определил, что у Александра опухоль кости – саркома. Единственно возможное лечение – ампутация правой ноги, причем ампутировать нужно очень высоко, захватывая при этом часть таза. Никакой протез после такого «отсечения» уже невозможен. Но даже и этот вариант не давал гарантии, что опухоль перестанет расти.
Случай Александра типичен. По моим наблюдениям, около семидесяти процентов больных попадали в ЦИТО уже после того, как их «залечивали» в районных, городских и областных больницах. Как нам потом рассказывала Тамара Николаевна, ни в коем случае нельзя опухоль лечить прогреванием или электрофорезом. Если бы тот самый первый рентгеновский снимок Александра посмотрел грамотный специалист, жизнь, да и нога молодого парня были бы спасены. Можно было бы заменить бедренную кость стальным эндопротезом. Такие операции в ЦИТО успешно проводили.
Но теперь помочь Александру не мог никто. Его прооперировали, ампутировали ногу вместе с частью таза. Через три месяца после выписки он приехал в институт для осмотра и зашел на костылях в нашу палату. Вид у него был потерянный. После осмотра выяснилось, что опухоль вновь возобновила рост в нескольких местах. Уже были поражены оставшиеся кости таза. Его осмотрели и сказали, что больше в клинике ему помочь ничем не могут. Жить ему оставалось от силы год.
Впервые чужая беда подошла ко мне так близко. Александр, молодой сильный парень, которому едва перевалило за тридцать, говорил о том, что не надо никогда сдаваться, и при этом смотрел на нас каким-то остановившимся, уже неживым взглядом. Он понимал, что едет домой умирать на глазах молодой жены и двух маленьких дочек, и ничего не мог с этим поделать. Запланированная смерть несла несчастье близким и душевные муки самому Александру. Стоило только представить себя на его месте и хотелось выть от бессилья и проклинать плохо образованных, бездарных врачей, ставших причиной этой трагедии.
Чуть позже, это станет… нет, привычным это стать никак не могло, просто «этого» станет так много, что реагировать на каждый такой случай всей душой будет невыносимо тяжело. Я лежал в отделении, которое называлось «отделением костной патологии». А рак кости – был, как раз одной из таких патологий. От этого никуда невозможно было скрыться. Смерть все время витала рядом.
Сириец Исмаил приехал в Союз из Дамаска. Это был очень худой, невысокий, длиннолицый парень. В первое время невероятно живая мимика его лица способствовала взаимопониманию. При поступлении Исмаил не знал ни одного слова по-русски и, общаясь с окружающими, энергично помогал себе лицом и жестами.
В нашу палату его перевели из другой, где он за два дня пребывания что-то не поделил с соседями. После его подселения у меня появилось занятие. Мы с Исмаилом буквально на пальцах смогли договориться: я буду учить его русскому, а он меня арабскому.
С самого начала я предложил обучать его русскому языку «просто так», потому что мне хотелось проверить себя – смогу ли я соответствовать диплому, который рассчитывал получить по окончании астраханского пединститута (в ЦИТО я снова стал строить планы на будущее).
Но мое предложение Исмаил сразу отверг, потому что, как он долго объяснял жестами, не хотел чувствовать себя должником, потому что он очень гордый и независимый человек, потому что он мужчина и воин, и привык за все платить соответствующую цену. Поэтому учить русский он готов только в том случае, если я стану учиться у него арабскому. Такой вот сложный пациент… А проще говоря, Исмаил рисовался. К «халяве», как выяснилось позже, он относился точно так же, как любой «не воин», но стремление постоянно выставлять себя в лучшем свете было у него в крови – обыкновенное мужское индюшачество, расцвеченное перьями национальной самобытности. С кем не случалось?
Первыми словами, которым Исмаил попросил его обучить, были части речи из словаря ненормативной лексики. Я поинтересовался, почему такой странный выбор. В ответ он опять что-то очень долго говорил жестами. Из его размашистого монолога я понял, что молодой араб не хочет попасть в ситуацию, которая может больно ударить по его самолюбию. Позже, уже начав немного объясняться на русском, он мне рассказал, что с ним нечто подобное уже произошло.
На следующий день после прибытия в клинику у Исмаила очень сильно заболел зуб. По-русски он не знал ни слова и что делать – тоже. Промучившись целый день зубной болью, вечером он побрел к медсестре. Та сидела на своем так называемом «медсестринском посту» и что-то писала. Исмаил встал сбоку, помычал, пытаясь обратить внимание медсестры на себя. Чтобы это произошло быстрее, страдалец решил тронуть девушку за плечо.
Медсестра была молоденькой. Работая в мужском отделении, она уже устала от внимания больничных донжуанов. Прикосновение араба было воспринято более чем прохладно. Резко отдернув плечо, она повернулась к Исмаилу.
– Чего нужно? – тон ее был очень сердитый, но, посмотрев на скорчившегося от боли молодого человека и догадавшись в чем дело, она смягчилась. – Что, зуб болит?
Исмаила словно ударили. Он отскочил от девушки, повернулся и побежал звонить в посольство Сирии.
Приехавший сотрудник посольства быстро разобрался в недоразумении. Исмаила успокоили и отвезли к зубному врачу, купировать боль. Оказалось, слово «зуб» на арабском языке означает крайне неприличное, оскорбительное понятие, то же самое, что и наше трехбуквенное заборное слово. Во всяком случае, Исмаил объяснил мне все таким вот образом. Именно этот случай подстегнул сирийца изучать русский язык, особенно его нецензурную часть.
Процесс обучения был по-первобытному прост. Исмаил показывал пальцем на что-нибудь и называл предмет по-арабски. Я в ответ говорил ему, как это называется по-русски. Исмаил повторял. Произнесение очередной словарной единицы продолжалось до того момента, пока я и мои соседи по палате начинали ясно разбирать слово, произносимое арабом. Надо сказать, что эпизоды, связанные с изучением пограничной и «далеко-за-пограничной» лексики, доставляли нам всем массу веселья. Сначала, правда, было неловко.
Кроме табуированной лексики Исмаил очень интересовался словами и фразами, подходящими для знакомства с девушками. И едва освоив произношение, тут же пытался использовать лингвистические силки для ловли молоденьких медсестричек. Узнав, что он иностранец, многие из них начинали проявлять к смуглому ухажеру определенный интерес. Однако, выяснив, откуда парень родом, девушки тут же остывали. Среди больничных невест Сирия, как вариант второй родины, успехом не пользовалась.
Исмаил был очень хорошо известен всем медсестрам нашего отделения, поэтому особое внимание он уделял практиканткам – молоденьким девушкам восемнадцати-двадцати лет. Почти с каждой из них, посещавшей нашу палату, Исмаил старался познакомиться: он был совсем не прочь найти себе русскую жену.
И не исключал возможности остаться в Советском Союзе. Как раз контингент практиканток-медсестер идеально для этого подходил – почти все они имели московскую прописку.
Несмотря на свою очень хрупкую внешность, Исмаил воображал себя неотразимым мужчиной, перед обаянием которого не устоит ни одна женщина. Я не знаю, как оно было в Сирии, только попытки Исмаила флиртовать с кем-нибудь из россиянок, попадавших в поле зрения пламенного бедуина, обычно заканчивались его рассуждениями о странностях женской психики.
…К чему я об этом? К тому, что даже в такой невеселой ситуации, как пребывание на лечении в отделении, где рядом часто гостила смерть, ничто не могло стать помехой всепроникающим чувствам: люди искали любви, встречались, влюблялись, создавали семьи.
Из всех уроков арабского я помню только одну фразу, и то только потому, что сам Исмаил очень часто ее повторял: «Ля уриду патата, уриду фатаат». Я как-то спросил его, как это переводится на русский язык. Оказалось очень просто: «Нэ хачу картошка, хачу дэвушка».
Я в то время скучал больше по картошке. Как-то в обед Исмаил, принявшись за еду, вдруг отставил свою тарелку и встал на костыли. Подошел к моей кровати и заглянул в тарелку со вторым блюдом. Рассмотрев в ней что-то, он подошел к Абдулу Гани и заглянул в его тарелку. Вернувшись, он взялся за свою тарелку, поковырялся в ней вилкой и вдруг, оттолкнув ее от себя, повернулся ко мне и громко произнес: «У вас русских очень странный куриц. Все время на обед дают руука, да руука. А где – ноога?»
Некоторое время я пребывал в тугой задумчивости, озадаченный его фразой, пока не раздались отдельные смешки, переходящие постепенно в громкий хохот. Смеялись все кроме Исмаила, который смотрел на нас, ничего не понимая.
Я практически всю свою жизнь провел в больницах. Везде кормили плохо и почти одним и тем же. Еще хуже стало во время перестройки. В 1987 году в Центральном институте травматологии и ортопедии, в Москве, в столице космической державы, больничный рацион выглядел очень скромно. Основой вторых блюд были картофель и макароны. Сначала их пытались чередовать, но со временем остались только макароны и кусочек курицы, всегда почему-то крылышко.
Вот именно это и возмутило Исмаила, над чьим неподдельным негодованием мы смеялись. В глазах молодого араба пульсировал возмущенный вопрос: «Кто поедает нижние конечности и остальные вкусные части советских куриц?» Но это была великая государственная тайна, и за все полгода, пока он лечился в Москве, Исмаил ничего другого кроме пресловутой «рууки», покоящейся на макаронном холмике, в своей тарелке так и не увидел. Потому и прозвал это блюдо «руукой Москвы». Неоригинально, но всем понравилось.
Красавица и «чудовище»
Девушка была высокая, красивая с невыразимо обаятельными карими глазами. Она вошла в нашу палату, держа в руках небольшой поднос, на котором лежали шприцы и марлевые тампоны.
– Меня послали сделать вам укол, – важно сказала она мне.
Голос у нее тоже был очень красивый, грудной. Я хотел спросить… но меня опередил Исмаил.
– Дэвушка, а как вас зовут? – он влез в наш «интим» почти без акцента.
«Дэвушка» только смерила его взглядом и, не удостоив ответа, повернулась ко мне. Она явно знала себе цену и давала всем понять, что размениваться на каких-то больных, даже иностранного происхождения, не будет.
– Куда вам обычно колют? – спросила она меня.
– В бедро – обычно. Только там уже все исколото.
– Не переживайте! Я делаю уколы очень хорошо.
Она была красива и от этого самоуверенна. Даже у опытных медсестер возникали проблемы, когда дело доходило до моих уколов. Красавица приподняла простыню, которой я укрывался, и стала щупать бедро. Через некоторое время я почувствовал, что поглаживания прекратились. Видимо, подходящее место было найдено.
Тампоном, смоченным в спирте, она сделала несколько широких движений.
– Дэвушка, а почему ви не хотите свой имя сказать? – на этот раз акцент Исмаила усилился.
Однако сириец не заслужил даже взгляда. Сестра-красавица бросила использованный тампон на поднос. Обхватив двумя пальцами кожу на моем бедре, она слегка приподняла ее и очень быстро вонзила шприц. Я стиснул зубы от боли, а девушка повернулась и как-то странно посмотрела на меня. Стало ясно – что-то пошло «не так».
– Иголка согнулась, прошу прощения… – сказала смутившаяся медсестра тем же красивым, но слегка дрогнувшим голосом и показала шприц. Иголка завернулась в крутую дугу. Колоть такой было уже нельзя, и, растерявшись, девушка сначала попыталась ее выпрямить пальцами. Иголка стала похожа на букву S. Наконец, кареглазая сообразила, что делает что-то не то. На подносе лежали еще несколько шприцев: после меня она должна была идти с уколами в соседние палаты. Девушка быстрым и уверенным движением заменила иглу. Похоже, действительно, хорошо знала свое дело.
Второй подход к моему бедру был проделан в том же порядке, но с вариациями. Я почти прокусил губу от боли, однако, попытался сделать вид, что ничего особенного не произошло.
– Что там?
Девушка обратила ко мне свое красивое лицо. Оно было слегка побледневшим, носик, напротив, порозовел, а прекрасные карие глаза потемнели от влаги.
– Игла опять согнулась. Иглы какие-то ненадежные… – пробормотала она.
– Дэвушка, а ви к нам еще приходите будите? – опять подал голос озабоченный Исмаил. И весьма неудачно, потому что в ответ получил такой испепеляющий взгляд, что смог только произнести: «О-о-о…» – и закрыться глупейшей улыбкой.
Красавица, вооружив шприц новой иглой, пошла на третий заход.
– Что же это такое? А?
Несколько мгновений она смотрела на очередную параболу, в которую превратилась игла. Потом решительно сжав губы, обезглавила третий шприц. Мне стало не по себе.
Готовясь к четвертой попытке, уже протерев кожу спиртом и занеся шприц, девушка посмотрела на меня. В ее глазах читалось: «Я понимаю, как вам больно, но… Это кошмар какой-то… Я не нарочно…» У меня непроизвольно вырвалось: «Ничего, ничего. Главное, чтобы тебе хорошо было».
Я произнес эти слова без задней мысли. Просто желая поддержать терявшуюся красавицу, дать ей понять, что я спокоен и вообще – все нормально.
Но, видимо, бес меня за язык тянул. Услышав реплику, медсестра остановила занесенную руку. Потом опустила ее. Затем швырнула инструмент на поднос. Из ее глаз брызнули слезы. Она схватила свои гремящие инструменты и выбежала из нашей палаты.
«Вот те на! – только и успел подумать я. – Это я без укола остался, что ли?»
– Ти страшный мушчина, Антон. Зачэм дэвушку заплакал. А? – неожиданно подал голос притихший было Исмаил.
– Она меня самого чуть не «заплакала».
– Э-э-э, ти хитрий змэй! Хочишь, чтоб она к тибе извиняться приходиль-э-э-э?
– А вот в следующий раз ты сам попробуй таким образом заводить знакомства.
Сириец погрустнел и снова замолчал. Я попал в точку – Исмаил не то что знакомиться – смотреть не мог на тех медсестер, которые вгоняли иглы в его арабские ягодицы. Парень был очень гордый и всякий раз терял интерес к тем, кто видел его лежащим со снятыми штанами задницей к небу.
Не прошло и минуты как к нам в палату почти вбежала старшая медсестра. От волнения лицо ее было, ну, если не красным, то изрядно порозовевшим. Прямо от дверей она направилась в мою сторону. Красавица, до этого ломавшая об меня иглы, войти в палату не осмелилась – так и осталась стоять в дверном проеме.
– Ты что это над девчонкой издеваешься? – голос у «старшей» был очень грозным. Она жаждала справедливости.
– Вы что, Валентина Григорьевна? Я? Да никогда такого не было. Я ее, наоборот, старался всячески поддерживать, – я говорил, а сам едва сдерживал смех. Смеяться в тот момент было никак нельзя. Тогда бы это точно сочли за издевательство.
– Валентина Григорьевна, вы же сами знаете, какая у меня кожа, особенно в тех местах, в которые мне уколы делают, – я чувствовал, куда надо было сейчас выворачивать, моя собеседница сама неоднократно делала мне уколы.
– Да, знаю, знаю… – произнесла она все еще громко, но уже со снисходительной строгостью и обратилась к заплаканной медсестре. – Да, девочка. У него кожа такая. Принеси мне шприц с его лекарством. Я сама его уколю. Он у нас очень толстокожий, – закончила Валентина Григорьевна, уже улыбаясь. Морально пострадавшая красавица оптимистично хлюпнула носом и отправилась за инструментом.
Дело, конечно, было не в коже. Просто из-за малого количества «укольного» места кололи постоянно в одно бедро. После серии уколов оно превращалось в сплошную мозолистую шишку. Проколоть это образование было очень сложно.
После выяснения анатомических особенностей моей кожи можно сказать, что инцидент был исчерпан. Вот только никакого знакомства, а тем более – близкого, с этой девушкой у Исмаила не случилось. Все обольстительные фразы, которые мы с ним старательно разучивали, и которые он с вдохновением попугая произносил во время моей укольной экзекуции, ему не помогли. Красивая медсестра после всего произошедшего панически боялась заходить в нашу палату. Мы даже имени ее не узнали.
В конце декабря 1986 года меня стали готовить к операции.
– Мы с тобой начнем Новый год профессионально, – сказал Сергей Тимофеевич. Если бы он только догадывался, как много для меня значили его слова.
– Понимаешь, – продолжал он, – я не знал, что с тобой делать. Сказать честно, я и сейчас не до конца это понимаю. Ситуация осложняется тем, что твои кости продолжают ломаться и никто не скажет, как они поведут себя после операции. Поэтому сначала я прооперирую одну, правую руку. Она у тебя хуже, чем левая, и в случае, если нас постигнет неудача, ты ничего не потеряешь. Ты ведь видишь, в каком она состоянии? Понимаешь, как все сложно?
Пока он это говорил, я вспоминал, как Сергей Тимофеевич отнесся ко мне при первом знакомстве, когда решил, что я – один из тех ненавистных ему «блатных», попавших в ЦИТО благодаря связям или взяткам; как по мере общения менялось его отношение ко мне. И это было так явно, что не могло остаться незамеченным. Несколько раз соседи по палате задавали мне вопрос, в чем причина того, что Зацепин так не любит меня? Потом те же самые люди спрашивали, что такое я «презентовал» Сергею Тимофеевичу, что он переменил гнев на милость?
В последние перед операцией дни Зацепин часто заходил в нашу палату, подходил ко мне и говорил. Пытался объяснить, что он намеревается делать с моей рукой и как это опасно. Становилось понятно, что он просто не уверен в исходе операции. Потому что такая операция – у него первая.
А, может быть, для настоящего врача, любая операция – «как первая», потому что от нее зависит чья-то жизнь и врач переживает ее, словно каждый оперируемый им больной – его близкий человек. А Сергей Тимофеевич Зацепин – врач, не просто хороший. Для меня он – лучший врач. Я думаю, к моему мнению присоединятся тысячи тех, кого он когда-либо касался. Кого касались его ловкие, подвижные, осторожные и очень чуткие пальцы.
Пока я думал, Сергей Тимофеевич продолжал говорить. Я смотрел в его добрые глаза, и неожиданно мне вспомнились рассказы одного из бывших больных, которого оперировал Сергей Тимофеевич лет пятнадцать назад. Оказывается, будучи немного помоложе, профессор Зацепин любил повеселить пациентов необычными выходками, «коронной» из которых был вход в палату на руках во время обхода. Вот и сейчас, навещая больных в канун Нового года, он стоял возле меня в красной шапке Деда Мороза, подтверждая тем самым свою репутацию неординарного человека. Если бы он знал, какой новогодний подарок он мне делал тогда, говоря, что моя операция уже назначена.
– Мы немного понаблюдаем, как все сложится. Потом станем думать, что делать с твоей левой рукой, – он продолжал говорить, а мне хотелось в ответ сказать ему какие-нибудь необыкновенные, необъятные слова благодарности. Если бы только я их знал!
– Я все понимаю, Сергей Тимофеевич.
Я, правда, все понимал. Более того, понимал и то, о чем он мне еще не сказал. А может быть, просто не хотел говорить? Все эти дни, почти весь декабрь, мое сердце проверяли самым тщательным образом. Анестезиолог, невысокий мужчина, в очках и с усами, подходил ко мне в декабре больше десяти раз. Он пытался рассчитать, сколько наркоза я смогу выдержать. Впервые он сталкивался с ситуацией, когда нужно оперировать взрослого человека с телом и весом, как у четырехлетнего ребенка. Он что-то считал, рассчитывал, а в конце концов на нашей последней встрече сказал: «Мы пригласим лучшего специалиста-анестезиолога из детского отделения. Не переживай, все будет нормально». Я не переживал, потому что терять в тот момент мне было уже нечего. Это я настаивал на операции. Она была нужна мне и только мне. В то же время я понимал, с какими трудностями приходится сталкиваться профессору Зацепину и всем врачам, пытающимся хоть как-то мне помочь.
Как и полагается, в ночь перед операцией мне помогли искупаться. «Под нож» нужно было ложиться чистым. Медсестра побрила мне правую руку, там, где смогла. Конечность была скрючена так, что кисть прижималась к локтевому суставу. И конечно же я прошел через очистительный процесс. Две клизмы, объемом чуть меньше моего роста, очистили меня почти до стерильного состояния. Перед отбоем подошла медсестра и предложила успокаивающее. От таблетки, которую она мне принесла, я не отказался.
Что тогда происходило со мной, хотел я жить или нет, я даже сейчас, спустя много лет, не могу четко определить. С появившейся уверенностью, что операция будет сделана, изменилось и мое отношение к жизни – я вновь захотел жить. Но в то же время в моей судьбе кардинально ничего не изменилось, более того, уезжая из дома на лечение в Москву, я предполагал, что назад пути не будет. Почему? Потому что кроме бабушки у меня никого не оставалось. А ее состояние неуклонно ухудшалось. Уезжая, я понимал, что бабуля больше не сможет ухаживать за мной. Не сможет, да и не захочет. Ей во что бы то ни стало нужно дождаться освобождения отца, чтобы передать ему квартиру. А если я опять свалюсь ей на шею – она просто не выдержит.
Так что угроза оказаться в страшном месте – доме-интернате для престарелых и инвалидов, становилась реальной, как никогда. Поэтому рассмотрение дела о прекращении моей жизни всего лишь откладывалось, и уповал я, как обычно, только на какое-нибудь необыкновенное стечение обстоятельств.
Я взял у медсестры таблетку и спрятал ее в свою «коллекцию». Думать и жить я продолжал будто по инерции. Я очень хорошо знал, что могу не вынести предстоящую операцию, но почему-то был уверен, что ничего страшного не случится. Операция пройдет успешно. Я верил в руки того, кто собирался меня оперировать.
Как ни странно, мне удалось заснуть, выбросив из сознания все мысли о жизни и смерти. Меня интересовало только одно – «что дальше?», и я хотел увидеть это «дальше».
Дело в том, что вплоть до третьего января 1987 года мне назначали операцию несколько раз. Однажды я даже прошел «весь курс подготовки» с полным очищением. Но все предыдущие операции по разным причинам отменялись. Однажды на меня просто не хватило времени: предыдущая операция длилась дольше запланированного. Второй раз накануне операции ко мне прибежал Сергей Тимофеевич и просто сказал, что он пока к операции не готов. Потом случилось так, что Сергей Тимофеевич заболел и позвонил из дома, чтобы меня не трогали, так как он хотел оперировать только сам. Однако все операции, назначаемые мне ранее, по каким-то причинам НЕ ДОЛЖНЫ были состояться. Откуда такая уверенность, я не знаю, но в тот день, в начале 1987 года, я чувствовал, что эта операция обязательно произойдет.
Проснувшись очень рано, я начал ощущать какую-то не понятную дрожь. Я не мог ее контролировать. Медсестра, пришедшая измерять температуру, заметила это. Она подошла и, прежде чем дать градусник, положила на мою голову руку. Дрожь внутри меня резко пошла на убыль.
– Спасибо большое, Лена, – я был ей очень благодарен.
– На, держи! – улыбаясь, она протянула мне термометр. – Может тебе дать успокаивающую таблетку? Тебе можно сейчас выпить глоток воды, – и добавила: – Пока можно.
– Нет, не нужно.
Мне, правда, стало намного спокойнее. Однако по мере того, как стрелки на часах приближались к назначенному времени, во мне разрастался страх. К половине девятого этот страх заполнил все мое существо. Попытавшись выяснить его причины, понять, что же так пугает меня, я совсем неожиданно поймал себя на мысли, что боюсь не смерти на операционном столе, а того момента, когда меня станут перекладывать на каталку, потому что тогда буду еще без сознания, под действием наркоза, и те, кто возьмется за это, переломают мне все кости.
Обнаружив причины страха, я немного успокоился. Но все же страх оставался. Я решил обязательно объяснить, как нужно меня перекладывать, тем, кого встречу в операционной. Пытаясь отвлечься от тревожных мыслей, я начал прислушиваться к тому, что происходит в коридоре. Наконец, послышалось долгожданное характерное постукивание движущейся каталки, и я увидел двух девушек: повыше и пониже. Их лица скрывали марлевые повязки так, что видны были только глаза. Но я все же смог определить их. Это были студентки. Вслед за ними вошла наша дежурная медсестра со шприцем в руке. Мне полагался успокаивающий укол.
– Куда колем? – весело спросила вошедшая.
Я подставил бедро. Она медленно, но уверенно ввела лекарство и отошла немного в сторону.
– Девушки, у него под простыней носилки. Нащупайте ручки через простыню и прямо на носилках переложите его на каталку. Не переживайте, он не тяжелый.
– Смотря для кого! – я пытался шутить.
Носилки, на которых я приехал в Москву, теперь были постоянно со мной – я все время лежал на твердом, только простыня закрывала их – это успокаивало и страховало от переломов. Но я знал, что с носилками меня на операционный стол класть не станут. Операционная – помещение стерильное. Там не место моему самодельному паланкину. А как меня сонного будут без него транспортировать – это был вопрос вопросов. И никаких гарантий, что после успешной операции на руке я не скончаюсь от случайного перелома позвоночника.
– Везите его! – медсестра дала студенткам указание и вышла из палаты.
Каталка двинулась.
– Пух, перья! – неожиданно воскликнул Исмаил, переиначив на свой манер традиционное русское «ни пуха, ни пера».
– А, пошел ты… – я послал его, как и полагалось в таких случаях. Только не уточнил, куда. Девушки вытолкнули каталку, и мы двинулись к лифту.
– Всем – пока! – крикнул я в открытые двери палаты, мимо которой в тот момент меня провозили.
Видимо, сказывался успокаивающий укол. Под действием лекарства все происходящее вокруг воспринималось несколько отстраненно. Это была смесь чувств. К ощущению, что все окружающее я вижу в последний раз, добавлялась огромная радость оттого, что меня после многолетних обещаний наконец-то начали лечить. Я пытался прислушаться к тому, что происходит внутри меня, пытался отыскать страх и, к своему удивлению, не находил его. Кроме того, сознание мое как будто бы заволакивало чем-то.
Мои глаза понемногу начали тяжелеть. Я попробовал напрячь мышцы руки или просто шевельнуть ей, но мышцы не слушались. Я лишь слегка дернул пальцем. Тем не менее, радость и желание говорить только усиливались. Мне захотелось заговорить с теми, кто меня вез, однако я побоялся, что, так же как и мышцы руки, язык меня не послушается, и я произнесу что-то невнятное. Не хотелось позориться перед девчонками. Самым интересным было то, что, несмотря на мышечную расслабленность, мое сознание становилось ясным как никогда. Но с особенностями. Очень ясно и четко я видел только что-то одно. Я мог сосредоточиться лишь на одной мысли или ощущении. Радость, радость, всепоглощающая радость переполняла мою грудь и настойчиво требовала общения. Я прислушался к тому, о чем говорили студентки.
«…у бабушки на Урале», – донеслось до моих ушей.
– А что такое «Урал»? – неожиданно спросил мой язык. Не знаю, о чем подумала студентка, но все же решила ответить.
– Урал – это горы, – бросила она как бы нехотя, видимо, просто рассчитывая отвязаться, и в то же время, не желая показаться невежливой.
– Урал, так еще и река называется, – вставила вторая.
– А что такое – «горы»?
Этот вопрос я задал по инерции. И внезапно увидел, как изменились лица девчонок: они стали испуганно-внимательными, как на похоронах, а взгляды – слащаво-жалостливыми, какими они становятся у большинства чувствительных людей, когда тем приходиться общаться с безобидными, наивными недоумками. Ну, конечно, все правильно. А на что я рассчитывал? На то, что, огорошив собеседниц предельно глупыми вопросами, стану объектом их восхищения? Да нет, разумеется. Но и, понятное дело, я не ожидал, что они так быстро и глубоко разочаруются в моих умственных способностях.
– Горы – это… – медсестра что-то говорила дальше, но я не слушал. Мне стало очень весело. Что ж, идиот так идиот!
– Извините, а что такое река?
Я задал очередной вопрос, не дослушав до конца объяснения относительно «гор». В ответ получил такую порцию «глазастой скорби», что мне стало бы самому себя жалко до слез, не находись я в то время под воздействием лекарства.
Они поверили мне. Точнее, поверили в мою интеллектуальную несостоятельность. Вторая девушка бросилась на помощь подруге и стала объяснять, что такое река. Дослушать не удалось. Девчонки ввезли меня в какую-то дверь и передали каталку другим медсестрам. Я тут же забыл и о девушках-студентках и о том, что происходило на пути в операционную.
Наконец, я оказался в огромной комнате с несколькими столами. Здесь я вспомнил о своих страхах, связанных с перекладыванием моего бессознательного тела со стола на каталку, и решил найти знакомое лицо, чтобы объяснить, как со мной нужно обращаться после «того как», но все лица скрывались за марлевыми повязками. Я осмотрелся. Одна стена оказалось стеклянной, и через нее можно было видеть умывальники, за одним из которых стояла Тамара Николаевна. Кто-то встал у нее за спиной и стал завязывать ей маску.
В операционной было очень светло, и комната мне казалась огромной. Меня поразил высокий прозрачный потолок. Каталку подвезли к одному из столов. Медсестра, стоявшая в головах, так и осталась стоять, вторая подошла справа.
– Ну что? Давай мы тебе поможем? – она готовилась подложить руки под мои ноги.
– Я сам! – мне казалось, я говорил тихо, однако в комнате с идеальной тишиной это прозвучало вызывающе громко. Кроме того, мой голос отвратительно хрипел.
«Переступая» с головы на «зопу», я боком переполз на операционный стол. Подошла Тамара Николаевна – я увидел ее глаза совсем рядом.
– Тамара Николаевна, вы после операции поможете меня переложить осторожно? Я боюсь, что ничего не буду соображать, после того как вы мне дадите ваше волшебное средство и я засну.
Я старался говорить тихо, но лекарство, введенное мне в палате, действовало так, что даже голосовые связки меня не слушались.
– Не кричи. И не переживай, – Тамара Николаевна подчеркнуто успокаивала меня, отчего мое беспокойство только усиливалось.
– А где Сергей Тимофеевич? – Я обращался уже ко всем, кто был в операционной.
– Он сейчас подойдет. Ты не переживай, он нам не разрешил начинать без него, – эти слова раздались откуда-то слева, и одновременно я почувствовал прикосновение к левой руке. Я повернулся на голос. Говорила медсестра, которая при этом что-то делала с моим предплечьем. Почувствовав легкое прикосновение иглы, я понял, что мне вводят капельницу – значит сейчас пойдет наркоз.
– Ну что? Готов спать? – По голосу я узнал нашего анестезиолога.
– Да я уже почти сплю, – я попробовал улыбнуться.
– Поехали? – услышал я, уже почти проваливаясь куда-то. Голос принадлежал Сергею Тимофеевичу, и это меня окончательно успокоило. Впрочем, что-либо изменить я уже был не в состоянии. Только постарался напрячься и открыть глаза, которые вдруг сами собой стали закрываться.
Последнее, что я увидел, – это расположенный за стеклянным потолком операционной балкон, на котором стояло много-много людей, наблюдающих за операцией. Такое шоу меня вполне устраивало.
Постоперационный синдром
Я медленно поднял набрякшие веки, и увидел глаза Сергея Тимофеевича – все остальное было закрыто марлевой маской.
– Ну, ты как? – в его голосе слышалась тревога.
– Что, уже все? – я пытался понять, где нахожусь. Мое зрение не давало никакой информации, потому что дальше глаз Сергея Тимофеевича я ничего не видел. Его лицо находилось прямо надо мной. Не нужно было делать никаких усилий, чтобы увидеть его. Но я чувствовал такую невероятную слабость, что опять закрыл глаза.
– Смотри на меня! – произнес Сергей Тимофеевич голосом разгневанного генерала. Это было очень убедительно.
– Тяжело, Сергей Тимофеевич, – меня хватило только на то, чтобы прошептать это. Тем не менее, я не мог его ослушаться. Четыре месяца общения с моим дорогим доктором убедили меня в том, что он умел добиваться своего. Если он просил, то отказать ему было невозможно. Тем более, если он приказывал. Я вновь попытался открыть глаза и некоторое время удержать их в таком состоянии.
– Ты что же это? Умирать вздумал? – в его голосе слышались озабоченность и добрая насмешка.
– Кто, я? – я не понимал, о чем он говорит. Мозг работал с большим скрипом. Усилия, затраченные на открытие глаз и короткие реплики, отнимали очень много энергии. На то, чтобы еще и соображать, сил не оставалось.
– Ты! Но мы тебя «оттуда» достали. Станешь еще такие фортели выбрасывать, больше оперировать не буду! – Сергей Тимофеевич шутил, тем не менее, я воспринял его «угрозу» вполне серьезно.
– Не-е, больше не буду. А где я?
– В реанимации, – профессор оставался рядом, однако его лицо медленно уплыло из поля моего зрения.
– В реанимации? А чего я здесь делаю? Сколько времени сейчас? – я попытался сориентироваться, чтобы понять, сколько длилась операция и каков результат.
– Почти десять вечера.
– А чего вы не дома?
Профессор исключительно редко задерживался в институте. За почти четыре месяца, что я здесь лежал, таким запозднившимся на работе мне видеть его не доводилось.
– Вот, решил посмотреть, как ты будешь себя вести.
– Я хорошо буду себя вести, – я пытался поддерживать взятый им тон разговора. – Сергей Тимофеевич, как прошла операция?
– Нормально. А ты сам не видишь? – в голосе профессора слышалась игривая гордость.
Только после его вопроса до меня дошло, что о результатах операции можно узнать просто: достаточно немного скосить глаза вправо. Я увидел кокон марлевой повязки, нижняя часть которой была красная от крови. Только сейчас я начал чувствовать волнообразное нарастающее движение боли.
– Я ничего не вижу.
– Ты очень много крови потерял, потому что пришлось делать сразу всю руку. Крови мы тебе много влили. Почти что обновили всю, – он помедлил. – Руку я тебе все-таки выправил. Вот только боюсь, что нерв задел. Невозможно было по-другому. Ты же помнишь, в каком состоянии она была? Сложена вдвое, пополам. Теперь ты ее не узнаешь.
Зацепин говорил и говорил. Я впервые видел его в таком состоянии. Видно было, что он неимоверно устал и в то же время очень доволен.
– Я помню. А она ломаться больше не будет?
– Ты знаешь, что собой представляют твои кости? Это что-то вроде хряща у курицы. Я тебе в руку железные штифты вставил. Не думаю, что они сломаются, – он улыбнулся. – Попробуй, пошевели пальцами!
– Не могу, – я сделал несколько попыток. У меня ничего не получилось, только рука стала болеть еще сильнее.
– Пальцы тоже не чувствуешь?
– Нерв восстановится. Придется потрудиться, но он обязательно восстановится. Как только из реанимации переведут в палату, начнешь заниматься с физиотерапевтом, – говорил он очень уверенным голосом. Я верил ему.
– Больно очень.
– Сейчас попрошу медсестру вколоть тебе обезболивающее.
– Спасибо, вам, большое, Сергей Тимофеевич!
– Я пошел домой. Смотри мне, больше не умирай.
– Не, больше не буду. Постараюсь, – разговор отнял у меня последние силы. Я в изнеможении закрыл глаза. Лишь на мгновение почувствовал укол, который сделала медсестра.
В ту ночь я то приходил в себя, то погружался в состояние, когда сознание полностью отключалось. Мне казалось, что времени с момента моей операции прошло очень много. Когда я пришел в себя окончательно, то оказалось, что прошло всего лишь несколько часов.
Я открыл глаза и увидел стоящую рядом медсестру. Она что-то делала, при этом я ощутил, что бедро правой ноги чем-то сжимается.
– Что вы делаете? – я говорил очень тихо, потому что вокруг стояло глубокое безмолвие, нарушаемое только едва слышимым жужжанием и пиканьем каких-то приборов. Впрочем, я был настолько слаб, что даже при всем желании не смог бы говорить громче. Вдобавок мое горло болело, как будто совсем недавно его потерли наждачной бумагой.
– Я тебе измеряю давление.
– На ноге?
– Да, на ноге. А где еще это возможно у тебя? – она как будто улыбнулась.
Я много раз видел, как больным измеряли давление, при этом манжету тонометра всегда накладывали на руку. Мне давление практически никогда не измеряли. Заболевание не позволяло. Попытки были, но как только в манжету накачивали воздух, она начинала сжимать и давить мои кости. Я кричал от боли, и все заканчивалось тем, что манжету снимали, так ничего и не измерив.
Я ощутил, как сдавливаются мышцы ноги. Было больно и страшно, вдруг манжета все-таки расплющит мое бедро.
– Сколько сейчас времени?
– Два часа ночи.
– Мне вчера операцию делали?
– Да. Уже вчера.
– Значит, я выжил? Пережил операцию?
Она посмотрела на меня с усмешкой.
– Ну, если бы не те, кто тебя оперировали, то и не выжил бы. Тебе Сергей Тимофеевич рассказывал, что случилось?
– Он что-то шутил о том, что я умирал и что-то еще…
– Он совсем не шутил. Можешь считать, что ты во второй раз родился. Он из-за тебя здесь надолго задержался, ждал, пока ты придешь в себя, – она снова улыбнулась. – Ладно, спи. Тебе обезболивающее нужно колоть?
Я попытался понять, болит ли у меня рука. Рука болела, но боль была где-то очень глубоко: тупая, нудная, раздражающая.
– Угу. Уколите меня, и я посплю.
– Вообще-то два часа назад я тебе уже делала укол. Так что еще не время. Но так как ты после операции, то – уколю. Чтобы ты успокоился.
– Хорошо. Вам же лучше. Я засну, и вас дергать не буду.
– Да ты и так не сильно дергаешь.
Через некоторое время она подошла со шприцем и впрыснула содержимое прямо в трубку с капельницей, которая была введена в мою вену. Я опять провалился.
В эту ночь я еще несколько раз приходил в себя и вновь терял сознание. При этом постоянно ощущал рядом какую-то суету, люди что-то говорили, я слышал обрывочные фразы.
– Как давление?
– Дефибриллятор!
– Давление в норме.
– Пока жива.
Приходя в себя и вновь проваливаясь во тьму, я думал о том, что, как только мне станет немного лучше, нужно непременно узнать причину этого шума. Я понимал, что кто-то слева от меня умирает и этого «кого-то» пытаются спасать, но открыть глаза и попытаться выяснить, что же там происходит – не было сил.
Очнулся я оттого, что кто-то прикасался чем-то очень холодным к моей левой руке. Я повернулся. Та же самая медсестра, с которой я как будто совсем недавно разговаривал, пыталась укрепить во мне термометр. У нее это не особо хорошо получалось.
– Уже утро?
– А как ты это определил?
– Вы же только по утрам температуру меряете.
– Я тебе ее каждый час измеряю, – она улыбнулась. – Да, сейчас утро. Скоро врачи на работу придут. Как ты себя чувствуешь? А то профессор уже несколько раз звонил, о тебе спрашивал.
– Я? Хорошо. Передайте ему, что я скорее жив, чем мертв, – в этот момент я вспомнил подвернувшуюся откуда-то цитату. Я, правда, чувствовал себя совсем неплохо. Если бы только не слабость.
– Шутишь? Значит, чувствуешь себя хорошо. Так и передам.
Она отошла. Силы опять меня покидали. Слабость была такая, что малейшее действие, требующее не очень большого напряжения, даже простой разговор, вгоняли меня в забытье.
В очередной раз открыв глаза, я увидел профессора Зацепина, стоящего прямо надо мной.
– Ну, как ты сейчас себя чувствуешь?
– Хорошо. Только слабость.
– А что ты хочешь? Мы тебе вчера столько крови влили… Но температура у тебя почти нормальная. Посмотрим, когда тебя можно будет перевести в палату. Понаблюдаем пока здесь.
Он вышел. Комната, в которой я находился, была ощутимо больше моей палаты. В ней стояло несколько кроватей, отгороженных ширмами. Слева ширмы не было. Левосторонний обзор всегда представлял для меня проблему. Для того чтобы хорошо видеть, я пристраиваюсь так, чтобы объект наблюдения находился справа от меня. В результате этой многолетней привычки я без труда могу повернуть голову вправо. Но если возникает необходимость повернуть ее влево, то я могу это сделать с большим трудом, и то лишь до половины – мышцы шеи не позволяют. Все же я попробовал. Было интересно узнать, кто тот, за чью жизнь боролись врачи во время моего полубеспамятства? Видимо движение получилось очень резким. Рвущая боль пронзила плечо. Я вскрикнул и поспешил вернуть голову в исходное положение. Немного успокоившись, пригляделся к прооперированной руке. Марлевая повязка наполовину была коричнево-рыжего цвета. Я понял, это высохшая кровь намертво приклеила меня к носилкам и не давала повернуться.
Однако, что там слева, очень меня интересовало. Учитывая предыдущий опыт, теперь я поворачивал голову крайне осторожно. Заняв подходящую позицию, скосил глаза и стал осматривать открывшееся пространство. На расстоянии примерно метра находилась ширма, но она ничего не загораживала. Еще дальше располагалась кровать, на которой лежала молодая женщина. Она была совершенно голая. Я такого никогда не видел, поэтому мгновенно оробел, быстро отвел глаза и… столкнулся взглядом с Зацепиным, входящим в комнату.
– Ты что это делаешь? – профессор усмехнулся и встал, загородив женщину. Впрочем, я туда особо и не смотрел. Не скажу, что мне было не интересно, но рядом с профессором я чувствовал себя «не в праве».
– Скучно, Сергей Тимофеевич, – я очень слабо и виновато улыбнулся ему, при этом, конечно засмущался, как будто он поймал меня на чем-то постыдном.
– Скучно? Значит, переводим тебя в палату, чтобы не скучал.
– А что с женщиной? – я спросил, не надеясь на ответ. Медики неохотно посвящали пациентов в больничные тайны. Врачебная этика и «все такое».
– Попала в аварию вместе с сыном. На автомобиле. Сын – погиб. Пять лет, – коротко, он мне все же ответил. О шансах этой женщины на жизнь я спрашивать не стал. Она не имела никакого отношения к нашему отделению. Я решил спросить о ней у медсестер, работающих здесь же. Они более словоохотливы. Как оказалось, шансов у моей соседки не было. Она умерла на второй день после роковой аварии, так не придя в сознание и, к счастью, ничего не узнав о судьбе своего сына.
– Сейчас мы тебя отсюда переведем в палату. Но сначала на перевязку, – профессор уже был почти у двери.
– Сергей Тимофеевич, я здесь присох. Приклеился! – я попытался говорить громко, насколько мог.
На миг Зацепин остановился.
– Не переживай, отклеим! – он явно был в хорошем настроении.
Через пять минут я увидел пришедших за мной вместе с каталкой наших медсестер. Их сопровождала Тамара Николаевна. Меня повезли в перевязочную.
Там уже ждал Зацепин. Марля присохла, и чтобы ее снять, Тамаре Николаевне пришлось сначала намочить бинты фурацилином. Вспомнилось мне, что в санатории это лекарство обычно назначали при лечении ангины. Одну таблетку разводили в стакане воды, а потом давали полоскать этим раствором горло. Типа «гр-р-р-р».
– Отвернись! – строго приказала Тамара Николаевна. Ослушаться ее я не мог. Мне ужасно хотелось посмотреть на «новую» руку, но если нельзя – то нельзя. Я понимал, что еще успею. Профессору тоже было интересно. Он внимательно следил, как Тамара Николаевна делает перевязку.
– Кажется, все очень хорошо? – как-то полуутвердительно– полувопросительно произнес Зацепин. – Посмотри, что мы с твоей рукой сделали! – это уже мне.
– Не поворачивайся! – еще более строгим голосом предостерегла Тамара Николаевна.
– Пусть посмотрит, – Сергей Тимофеевич уже не настаивал, а, как бы шутя, упрашивал ее разрешить мне посмотреть на мою же руку.
– Успеет еще, – Тамара Николаевна была непреклонна.
Она опасалась, что я надышу какую-нибудь заразу в свежую рану и добавлю всем головной боли. После операции организм мой сильно ослабел, и всякие инфекции были ему категорически противопоказаны.
Я перемещался в палату и был безмерно счастлив. Впервые за много лет бесполезного кочевания по больницам меня, наконец-то, лечили, мне что-то делали, пытались помочь…
Меня переложили на кровать. После реанимации, а особенно после перевязки, я чувствовал себя уставшим. Попросил сделать обезболивающий укол и лежал, ощущая, как режущая, разрывающая руку боль постепенно съеживалась, становясь все меньше и меньше. В эти короткие периоды мозг, находящийся в непрерывной болевой блокаде, получает передышку и может позволить себе думать о чем-нибудь еще кроме боли. Об этом все знали и в такие минуты пытались создавать как можно меньше шума. В палате стояла практически мертвая тишина, и я закрыл глаза, рассчитывая заснуть. Уже почти растворившись в сладком забытье, я внезапно услышал чей-то шепот. Кто-то находился очень близко. Я открыл глаза.
Рядом стояли две девушки. Лица их были незнакомы. Вот только эти глаза я уже где-то видел, но не мог вспомнить где.
– Привет! – сказала та, что находилась ближе. Вторая стояла позади. Обе были симпатичными, высокими, правда, одна чуть пониже. На вид лет по двадцать, но я понимал, что они как раз в том возрасте, когда им могло быть и по двадцать пять и по шестнадцать.
– Привет, – я мучительно пытался вспомнить, где я их видел.
– Ты нас не помнишь?
Я помнил только глаза, где-то я их видел, вот только где? Соседи по палате, насторожились. Исмаил смотрел на девушек, словно собирался броситься к ним с поцелуями. Несмотря на скромную комплекцию, он думал о себе как о мужчине с неотразимой внешностью, при виде которого все девушки должны были впадать в ступор. Забавно было наблюдать за ним в подобных ситуациях.
– Мы тебе вчера так и не успели объяснить, что такое «горы».
Я вспомнил!
– Нет, про горы вы мне объяснили, – я улыбался, радуясь подаренной определенности. – Вы мне про реки ничего не успели объяснить.
– Меня зовут Лена, а ее Оля, – девушка, стоящая ближе ко мне, кивнула на подругу за своей спиной.
– Меня зовут Антон.
– Да, да, – заговорила Оля.
– Мы знаем, – прервала свою подругу Лена. – Ты что же нас вчера обманывал?
– Я не обманывал. Я отвлекался от тяжелых мыслей.
– У тебя хорошо вышло. Мы сначала поверили. Потом решили узнать о тебе побольше.
– Тебе в институте разве не объясняли, что такое «реки»? – Лена улыбалась.
– Нет. Я учусь на литературном факультете, а не на естественно-географическом, – я тоже улыбался, понимая, что девушки отнеслись вполне дружелюбно к моему розыгрышу.
– Мы здесь еще две недели будем на практике. Мы еще к тебе зайдем.
Потом они часто приходили в палату и даже приезжали ко мне, после того как практика закончилась. Жили девушки где-то в Подмосковье. Они приносили мне книги, несколько раз вытаскивали меня гулять на улицу и возили на каталке по двору института. Оля и Лена оказались замечательными девчонками. Я до сих пор вспоминаю их с теплотой. Мы разговаривали о многом. Они пытались у меня выяснить, почему так легко попались на мой нечаянный розыгрыш. Для меня тоже не все было понятно, почему это произошло. Может быть потому, что раньше они практически не сталкивались с миром, в котором живут люди с физическими ограничениями? Они сами подвели меня к этой мысли, честно рассказав, что, когда встретились со мной в день операции, то сразу, не сговариваясь, решили, что я – «дурачок», «ущербный». Стоило им только бросить взгляды на мое крошечное, страшненькое тело и становилось понятно: человек с таким заболеванием, неподвижный, не имеющий возможности для интенсивной учебы и всяческого культурно-духовного развития, не может быть интеллектуально «содержательным». Лишенный способности передвигаться, маленький, кособокий, он и в умственном отношении навсегда останется таким же скрюченным. Даже если мозги у него с рождения были нормальными, все равно неполноценность физическая станет тормозом во всем, в том числе для развития ума. Неполноценный – он неполноценный всюду: и в быту, и в учебе, и в общении. Так они думали до встречи со мной. И не только они. Так считали 90 процентов тогдашнего населения СССР.
Жесткая тоталитарная государственность Страны Советов, его воинствующая идеология, способствовали именно такому отношению простых людей к гражданам с ограниченными возможностями. Последних как бы не существовало. Их не было на улицах, в магазинах, в кинотеатрах, в библиотеках, на стадионах. Их не было нигде. Семьи, имеющие дома детей с инвалидностью, мало отличались в этом отношении от моей семьи. Психологические, материальные, бытовые трудности у всех были одинаковы. Семьи, имевшие близких, нуждавшихся в опеке, оказывались предоставленными сами себе и несли это как крест, который следует нести незаметно и не мешать другим, неограниченным в возможностях людям, идти с поднятой головой к светлому будущему.
В последующей жизни я много раз оказывался в ситуации, когда очередной новый знакомый признавался: «Знаешь, Антон, а я сначала был уверен, что ты того, – с тараканами, – и смеясь крутил пальцем у своего виска. Я тоже смеялся. Иногда.»
В этот же день после посещения меня Леной и Ольгой пришла физиотерапевт. Начались сеансы лечебной гимнастики. Нерв, задетый на операции, требовал срочного восстановления. Я не чувствовал прооперированную руку, и физиотерапевт сама сгибала и разгибала пальцы, возвращая, как говорят специалисты, функциональную подвижность моей бесчувственной конечности.
Бедро Воротилина
– Воротилин Анатолий Иванович, проездом из Тольятти, – представился он, зайдя в палату и небрежно кинув дорожную сумку на пол возле кровати, на которой еще день назад лежал выписавшийся Исмаил.
– Можно просто Толя, – добавил он, явно рассчитывая сразу «вписаться» в коллектив. Был он крепко сбит, лысоват и жизнерадостен: классический сангвиник, на вид – около пятидесяти. Он казался совершенно здоровым, если бы не сильная хромота и трость, на которую он опирался.
Сразу заприметив неровность походки, я покосился на его ноги и поразился: правое бедро Анатолия Ивановича было значительно толще левого. Оно выглядело таким объемным, что казалось, брючина вот-вот с треском лопнет по швам.
Большинство из перележавших в нашем отделении пациентов попадали сюда, пройдя через необъятное поле врачебных ошибок, неправильных диагнозов и бесполезных процедур. С Анатолием Ивановичем было по-другому. Он являл собой яркий пример русского головотяпства: постоянно откладывал поход к врачу, оправдываясь то нехваткой времени, то неотложными делами.
Такое наплевательское отношение к собственному здоровью характерно, как я убедился, для многих жителей России. В поликлиниках, стационарах, в родильных домах пациенты очень часто сталкивались с равнодушием, профессиональным цинизмом, переходящим в хамство, некомпетентностью, приводящей к диагностическим ошибкам, и чаще частого с необходимостью субсидировать из своего кармана «бесплатную» медицину – все это не вдохновляло рядового гражданина на заботу о собственном здоровье. В массе своей простые люди старались держаться подальше от районных объектов здравоохранения и откладывали поход к врачу до последнего: «Поболит и перестанет, а с врачами только свяжись», – часто можно было услышать в ответ на совет посетить поликлинику.
В итоге, когда Анатолий Иванович впервые обратился в свое районное медучреждение, ошалевшая от вида распухшего бедра дама-терапевт сразу послала его на… обязательную в то время для каждого жителя СССР диспансеризацию. Две недели Воротилин сдавал все положенные в таких случаях анализы, проходил флюорографию, проверял зрение и слух… После изнурительного забега по непрофильным специалистам, терапевт, наконец, дала ему разрешение посетить ортопеда. Тот сразу поставил диагноз – саркома бедренной кости.
– И на хрена я двенадцать дней в очередях сидел? – посмеивался впоследствии Воротилин. – Я от рака загибался, а они у меня яйца глистов искали…
С этим Анатолий и попал в ЦИТО. Диагноз был, конечно же, еще тот – практически приговор. Но Анатолий Иванович вел себя, как ни в чем не бывало. Любимой и единственной темой разговоров у него были женщины. О них он мог рассказывать много, длинно, очень романтично и всегда с неизменной мечтательной полуулыбкой. Надо полагать, что он женщинам тоже нравился, потому что очень часто его вызывали к телефону, а приходя с подобных телефонных «свиданий», он постоянно упоминал женские имена. Причем всегда разные.
Для Сергея Тимофеевича диагноз, поставленный Анатолию, был большой неожиданностью. Уже на первом обходе Зацепин сказал, что такого не может быть – симптоматика не та.
На втором обходе было решено, что кость необходимо удалить целиком и заменить ее эндопротезом, с двумя суставами – коленным и тазобедренным. Сложность операции заключалась в том, что кость сильно разрослась и могла «обнять» бедренную артерию. Поэтому бедного Анатолия Ивановича в течение полутора месяцев исследовали вдоль и поперек, даже вводили в кровь радиоактивные препараты – для глубокого рентгенографического исследования.
Вторая сложность – природа опухоли. Узнать это до операции не представлялось возможным. Обычно больным делали биопсию, брали на анализ кусочек ткани и проводили исследование. В случае с Анатолием Ивановичем это было связано с риском непрогнозируемых осложнений. Поэтому до операции Зацепин не был уверен в ее благополучном исходе.
Утро, когда Анатолия Ивановича увезли в операционную, ничем не отличалось от обычного. После завтрака каждого ждали определенные процедуры. Ко мне, как это происходило теперь каждый день, пришла физиотерапевт Татьяна Владимировна и минут сорок заставляла меня сжимать и разжимать пальцы на прооперированной руке. Небольшие достижения у меня уже имелись. Понемногу пальцы начинали обретать чувствительность, и я пытался ими работать. Хотя все это вызывало боль и достигалось неимоверными усилиями.
В первые дни Татьяна Владимировна сама сгибала мои пальцы, чтобы в них сохранялась гибкость, и суставы не застаивались. Суставы имеют такое нехорошее свойство: если в течение какого-то времени они не работают, то в них образуется контрактура. Они зарастают хрящевой тканью, и после этого заставить их работать становится еще сложнее.
Сергей Тимофеевич, когда подходил ко мне, первым делом спрашивал про мои пальцы. Было видно, что он переживает из-за поврежденного при операции нерва. Мне очень хотелось его обрадовать, и поэтому, когда Татьяна Владимировна уходила, я продолжал работать с этой рукой самостоятельно. В начале занятий мне принесли маленький кусочек обыкновенной губки. Она теперь постоянно находилась у меня под ладонью, и практически все время я пытался мять эту губку. Сначала я давил ее всей ладонью, потом постепенно начал сминать пружинящий кусочек пальцами.
Так, в ожидании Анатолия Ивановича подошло время обеда. Мы услышали грохот тележек, развозящих еду. Обед был в самом разгаре, когда в коридоре раздался какой-то непонятный, совершенно не больничный шум. Кто то стремительно и увесисто перемещался по направлению к нашей палате. Мы оторвались от тарелок и повернулись на звук. Происходило что-то неординарное.
В дверном проеме внезапно мелькнуло разгоряченное зацепинское лицо. Не останавливаясь, он подлетел к моей кровати.
– Смотри, что я удалил у твоего друга! – профессор резко вытащил из-за спины что-то очень большое, завернутое в зеленую пеленку. Такого цвета пеленки были только в одном месте – в операционной.
Он приблизил сверток к моему лицу и откинул ткань, закрывающее НЕЧТО.
Еще не успев понять, что он мне такое протягивает, я вдруг услышал звук, похожий на бульканье. Абдул Гани, кровать которого находилась прямо напротив моей, как-то нехорошо всхрапнул и наклонил голову к полу.
В пеленке пряталось что-то розовое, очень большое, с похожими на бахрому, отвисшими кусочками, которые имели красный и белый цвета.
– Что это, Сергей Тимофеевич? – я призрачно догадывался, но как-то не верилось, что это действительно «то самое».
– Это? Бедро Воротилина! – отчеканил он очень торжественным голосом. По его лицу было видно, как он доволен.
Абдул Гани вывернуло еще раз. Наш сосед Виталий, поступивший два дня назад, был близок к обмороку.
– Сергей Тимофеевич, значит, все удачно прошло? – я спрашивал, но по очень довольному лицу Зацепина понимал, что мой вопрос можно было и не задавать.
– Удачно? Все прошло отлично! – Зацепин просто ликовал.
– Это не злокачественная опухоль? – я понимал, что ответить точно он мне вряд ли сможет, но тем не менее…
– Мы отдадим частички на анализ, но, судя по ткани, не думаю, что опухоль злокачественная. У твоего друга теперь новое бедро с двумя суставами – из железа.
Сергей Тимофеевич, даже не посмотрев на несчастного Абдула Гани и находящегося в полубессознательном состоянии Виталия, накрыл краем пеленки то, что было недавно бедром Анатолия Ивановича, очень быстро, как танк на гусеничном ходу, развернулся и почти мгновенно исчез из палаты.
– А это – в наш музей! – услышал я его голос, доносившийся уже из коридора.
Я испытывал и радость, и гордость, и замешательство, оттого что операция над Воротилиным прошла успешно, и что Сергей Тимофеевич своим профессиональным успехом поделился именно со мной. Хотя почему? Кто я ему? Частный случай в его профессиональной биографии, проблемный пациент без каких-либо шансов на эффективное излечение. Но все равно было очень приятно, как может быть приятно такое высочайшее внимание человеческому существу, привыкшему совсем к другому отношению.
Исторгнув из себя начало обеда, впечатлительный Абдул Гани не притронулся и к ужину. Весь остаток дня афганец подавленно молчал. Душевное равновесие вернулась к нему лишь на следующее утро.
На меня происшедшее не повлияло ничуть. За всю мою жизнь, проведенную в лечебных учреждениях, я бывал в разных ситуациях. В санатории, в палате на двадцать лежачих больных, ежедневно случалось так, что во время обеда кому-то приспичивало в туалет. Терпеть у нас было не принято, стесняться – тоже. Ты вкладываешь в рот ложку с едой, а твой сосед в это время испражняется в судно, а сделав дела и наполнив комнату кишечными «ароматами», спокойно берет ложку и приступает к еде. В таких условиях я находился с пятилетнего возраста, когда во мне еще не сформировалось чувство брезгливости и все происходящее воспринималось как норма. Теперь я понимаю, какое это было скотство, а тогда мы – дети – совершенно не задумывались, правильно ли это, культурно ли оно и насколько подобное эстетично. Мы жили в мире, придуманном и созданном для нас взрослыми, и считали его единственно возможным. Тем более, что правила в нем были жесткие. Пришло время обеда, значит надо есть, что бы вокруг ни происходило, потому что никого не интересует, поел ты или нет – заберут посуду, даже если ты не притронулся к пище.
Такая жизнь приучила не терять аппетита в любых условиях и уж тем более не испытывать особого дискомфорта при лицезрении и обонянии всевозможных физиолого-анатомических мерзостей, в число которых бедренная кость моего дорогого Анатолия Ивановича уж никак не входила.
Боль и алкоголь
После того как с руки сняли повязку, я сначала не мог поверить, что это моя рука. Никогда она не была такой ровной. Если честно, то сначала я даже не знал, что с ней делать. Всю жизнь я жил с рукой, которая ломалась от малейшего напряжения. К той изломанной, сильно деформированной, я привык. Я знал, как с ней обращаться, как ее поднимать, как брать и держать ею предметы. Все было обустроено в моем организме для жизни с той рукой.
Мне сняли повязку, и я растерялся. Ровная, по-своему красивая, но от этого пугающе незнакомая конечность не принималась даже зрением. Когда я смотрел на нее, глаза начинали непроизвольно обшаривать поверхность простыни рядом с новой «чужой» рукой, пытаясь обнаружить привычную «старую». Ситуация усугублялась тем, что новая рука из-за поврежденного нерва только-только начала шевелить пальцами, слушалась плохо, требовала огромной болезненной и утомительной работы. И так трудно, а тут еще надо зрительные стереотипы перенастраивать… Я и предположить не мог, что простое изменение формы руки будет связано для меня с такими «нервическими» переживаниями. Что же интересно испытывают люди после пластических операций, кардинально меняя себе лицо?
Но я сам этого добивался многие годы и знал, что не только сумею привыкнуть к новой руке, но также овладею всеми ее возможностями. В той ситуации вдохновенная самоотверженность профессора Зацепина выбора мне не оставляла, короче, не мог я его подвести, и, закрыв глаза, чтобы не отвлекаться, в многотысячные разы сжимал и разжимал маленький резиновый мячик, пришедший на смену кусочку поролоновой губки, ставшему для меня слишком мягким.
Теперь я уже не боялся, что мои пальцы останутся неработающими. Когда я впервые рассказал о своих успехах профессору, на его лице проступило такое удовлетворение, что мне показалось, он обрадовался этому больше меня.
Вторую операцию мне сделали через два месяца после первой. На этот раз оперировали плечо левой руки. Её предстояло восстанавливать в два этапа. Ничего не было известно о том, как поведут себя прооперированные кости. Зацепин решил «исправлять» руку постепенно и для укрепления ее ограничиться только аллотрансплантатами – кусочками костей, взятыми у донора. Как правило, уже не живого донора.
Левую прооперировали при неработающей правой… И сразу начались трудности. Абсолютно во всем. Я вдруг понял, как много я имел и как много потерял. Практически я стал безруким.
Через несколько дней после моей операции Анатолий Иванович Воротилин выписывался домой. С его отъездом я терял не только доброго соседа по палате, веселого собеседника, но еще и «кормильца». Впервые в жизни я оказался в ситуации, когда не мог самостоятельно делать ничего.
Первые два дня я обходился без еды, аппетита не было совсем. Только пил из чашки, которую мне когда-то привезла с курорта мама. Это была даже не чашка, а плоский, сдавленный с боков сосуд с носиком, идущим с самого низа. Из таких на советских черноморских курортах отдыхающие пили минеральную воду.
Чашка стояла рядом со мной и днем, и ночью. Чтобы начать пить, достаточно было повернуть голову и достать губами «носик» чашки. Ну, и еще заботиться о том, чтобы вода в этом сосуде не кончалась.
Достоинства моей чашки я по-настоящему оценил, когда оказался «без рук», точнее, с двумя прооперированными руками. А вот проблема с едой оказалась серьезнее. Я не мог есть самостоятельно. Вот как раз в этом Анатолий Иванович мне и помогал.
Первые два дня после операции я мог вполне «легально» отказываться от еды. Есть мне, действительно, совсем не хотелось. На третий день на пищу, которую привезли нам в обед, я смотрел уже совсем другими глазами. Заметив это, Анатолий Иванович быстро управился со своим обедом, подошел ко мне и сел на стул, стоявший рядом. Садился он очень осторожно и на стуле сидел больше левой ягодицей.
– Что, болит? – спросил я его.
– Нет. Но сгибать до конца и опираться полностью на эту ногу я все же побаиваюсь.
– Анатолий Иванович, иди ложись, отдыхай, – я не понимал, что он собирался делать, сидя рядом со мной.
– Давай, поешь немного, – он взял тарелку с супом, стоявшую на моей тумбочке.
– Вы о чем? – я так и не смог называть Воротилина иначе, чем по имени-отчеству, хотя он и просил называть его просто Толей.
– Давай, я тебя покормлю.
– Я не хочу, Анатолий Иванович, – я отказывался не только потому, что был не голоден. Как раз наоборот. Но с едой у меня была связана еще одна проблема. Она называлась «туалет». После обеда рано или поздно нужно было придумывать что-то и в отношении «этого самого». А это было посерьезнее, чем – кушать. Если я мог переломить себя и попросить меня покормить, то, что можно было придумать, чтобы сходить в туалет, я не представлял. Впоследствии и самое непродолжительное время с этим мне помогали управляться нянечки. Но это доставляло мне массу душевных страданий.
Анатолию Ивановичу все же удалось почти насильно затолкать в меня немного второго блюда. От супа я отказался, опасаясь быть облитым.
А через день Анатолий Иванович уезжал. Утром в палату с обходом зашла Тамара Николаевна. Первым на ее пути находился Воротилин.
– Ну что, готовы ехать?
– Так точно!
Накануне Анатолий Иванович только о том и говорил, чем займется в первый же вечер по возвращении домой. Ничего необычного: он решил напиться. Не до поросячьего визга, а так, «слегка». С многопитием он решил «завязать», потому как, по разумению Воротилина, жить с двумя чужеродными металлическими суставами это не то же самое, что жить с «родной» привычной опухолью.
После Анатолия Ивановича настала моя очередь. Тамара Николаевна пощупала повязку на левой руке. Посмотрела, как сгибается в локте правая. Мышцы на ней были очень слабы. Но я уже пробовал поднимать руку. Я мог сгибать ее, чувствуя при этом, как что-то упирается в локоть. Точнее, что-то давило на локоть изнутри.
Я рассказал об этом Тамаре Николаевне. Она ответила, что так и должно быть, потому что моя кость нанизана на металлический стержень, и, когда я сгибаю руку, он упирается в кожу изнутри.
Такие подробности меня не пугали, наоборот. В очередной раз услышав, что кость в моей руке твердо «сидит» на металле, я только радовался – рука не должна была больше ломаться.
Тамара Николаевна вышла. Анатолий Иванович исчез сразу после ее ухода: ему нужно было оформить бумаги.
Прошло часа два. Я все еще отходил от недавней операции и чувствовал себя довольно скверно. Слабость и все время тянуло в сон. Но заснуть было нелегко, донимали послеоперационные боли. Прошлой ночью обезболивающий укол действовал всего часа три. После чего оставалось только лежать с закрытыми глазами и терпеть. По этой причине утро я встретил в состоянии полной разбитости. Теперь нужно было снова терпеть целый день, до следующего укола.
Я уже не надеялся увидеть Анатолия Ивановича, полагая, что он уехал не попрощавшись. Это немного расстроило меня, но не очень. Я понимал, что ему не терпелось вернуться домой. В предыдущий вечер он энергично интересовался расписанием поездов, идущих из Москвы в Тольятти. Один из поездов уходил в час дня, и, как я понял, Воротилин очень хотел успеть именно на него. Поэтому, увидев Анатолия Ивановича, вошедшего в палату, когда часы показывали двенадцать, я был очень удивлен и обрадован подвернувшейся возможностью поблагодарить его и сказать «до свиданья».
– Анатолий Иванович, Вы еще здесь?
– А где же мне еще быть?
Он снял со своей кровати белье и свалил в одну кучу. Санитарка должна была забрать грязное и застелить кровать чистым для следующего больного.
Сделав все, что положено перед выпиской, Анатолий Иванович сначала оглядел всех, окинул взглядом палату, потом подошел ко мне и сел на стул, приняв ту же позу, в которой сидел когда меня кормил.
– Ну что, за отъезд? – он заговорщицки подмигнул. Тут я заметил в его руках маленькую плоскую бутылочку, в которой было налито что-то такое… по цвету напоминающее крепко заваренный чай.
В клинике было строго запрещено употреблять алкоголь. Замеченному в распитии спиртных напитков грозило выдворение из лечебного учреждения с резолюцией в документах – «выписан за нарушение режима». Для тех, кто работал на производстве, эта запись означала потерю денег, получаемых по больничному листу. Семейный человек хорошо подумает, прежде чем решится «остограммиться» в больничной палате. У Анатолия Ивановича семьи не было, точнее, была, но часто менялась. Выписка тоже лежала в кармане. Ему предстоящая выпивка ничем не грозила. А я боялся по инерции.
Я понимал, что в бутылочке что-то горячительное. Было похоже на коньяк, но коньяк, насколько я знал, стоил дорого. А у Анатолия Ивановича денег с собой было немного. Как-то в разговоре Воротилин пожаловался, что ему может не хватить денег на билет. У меня было 75 рублей, которые я взял из дома, это то, что мне смогла выделить бабушка. Сумма была в два раза больше, чем моя пенсия. Бабушка дала такую кучу денег с условием, чтобы я не тратился на пустяки и чтобы писем с просьбами о деньгах домой не присылал. И конечно же, эти деньги я берег, понимая, что мне самому неизвестно как, но нужно будет добираться домой. Тем не менее я предложил Анатолию Ивановичу взаймы, с условием, что он вернет долг почтовым переводом. Анатолий Иванович денег у меня не взял категорически. И вот он сидит передо мной и держит в руках стеклянную интригу.
– Что это?
– Как, что? Конечно коньяк! – Воротилин сказал это с такой непринужденностью, словно совместные выпивки были для нас делом ежедневным. Внезапно я вспомнил, что мой «собутыльник» когда-то спрашивал меня, какой напиток из категории спиртных мне больше нравиться.
Спиртное пробовать мне доводилось. Несколько раз. Чувствовал себя очень пьяным и засыпал прямо там, где лежал. Такое произошло со мной в четырнадцать лет, когда я единственный раз со своей семьей встречал Новый год дома. Семья сидела в зале за праздничным столом. Я лежал, если можно так выразиться, на праздничном полу, возле ножек праздничного стола. Помню, как отец налил водку в небольшую рюмку, поставил передо мной, как я ее выпил, как через некоторое время почувствовал себя очень хорошо. Так хорошо, что начал петь. Пел я долго и самозабвенно все песни, какие знал. Не помню точно тот пьяный новогодний репертуар. Однако помню, что, открыв глаза, я не обнаружил рядом никаких других слушателей кроме отца, который лежал, положив лицо на стол, и мерно похрапывал. Таким образом он «смотрел телевизор». Матери и сестренки ни рядом, ни в квартире не было, хотя я точно помнил, что они начинали встречать Новый год вместе с нами, в узком семейном кругу.
Я конечно же расстроился, но досада моя не была ни глубокой, ни очень долгой. По телевизору, как и каждую новогоднюю ночь, показывали «Голубой огонек». Посмотрев его несколько минут, я благополучно заснул. Проснувшись утром, я обнаружил себя на полу родительской спальни. Выше, на кровати сопел отец.
Мать рассказала, как, вернувшись от соседей, куда она с моей сестренкой пошла, продолжать встречу Нового года, застала нас с отцом спящими, после чего отвела старшего в спальню и попросила младшего перебраться вслед за родителем. Я ничего не помнил.
После этого я пил спиртное еще несколько раз, но это было уже вино. Все эти несколько раз мои «пьянки» заканчивались одним и тем же: выпитое выходило наружу, доставляя большие неприятности моему желудку и голове. Учитывая этот горький опыт, я сделал вывод, что мой организм не совместим со спиртным. После чего принял решение не испытывать больше судьбу и не употреблять вина в будущем. На водке я также поставил большой и жирный крест.
Однако для коньяка было сделано исключение. Не скажу, что получал какое-то особое удовольствие от употребления этого напитка, но отвращения, подобного «водочному», я от него не испытывал. И запаха клопов, о котором говорили «знающие люди», в коньяке я не ощущал. Скорее всего потому, что до сих пор не знаю, как пахнут эти постельные кровососы в раздавленном состоянии.
Вот об этом своем, весьма небогатом, алкогольном опыте я и рассказал когда-то Анатолию Ивановичу. А он запомнил. Такое проявление внимания к моей персоне подкупало.
– Ну, налейте мне тоже… Только совсем немного.
Я по-прежнему чувствовал сильную слабость, к тому же с утра почти ничего не ел, если не считать маленького кусочка хлеба и стакана сладкого чая. Анатолий Иванович налил мне немного жидкости в «чашку» и поставил ее рядом. Затем, оценив ситуацию и поняв, что ему одному оставшегося в бутылке напитка будет более чем достаточно, он еще раз оглядел всех находящихся в палате.
– Кто со мной выпьет за то, чтобы, если и встретиться, то – лучше не здесь?
Однако на его призыв никто не откликнулся. Абдул Гани посмотрел на Воротилина с некоторым сожалением.
– Я не пью крепкие напитки. Нам нельзя.
Это вовсе не означало, что Абдул Гани не пил совсем. Гани не был слишком правоверным и, когда угощали, не отказывался. Видимо, в тот момент он решил, что коньяк для подобной ситуации – это слишком.
Мы выпили. Анатолий Иванович, посмотрев еще раз на то, что осталось в бутылке, вылил почти все в свой стакан.
– А это, я тебе долью. Здесь совсем немного. Не хочу пить один. Как алкоголик выгляжу, – говоря это, он выплеснул остатки коньяка в мою чашку.
Высосав из нее все содержимое, я почувствовал, как радостное тепло разливается по моему ослабленному операциями телу. Я начал прислушиваться к тому, что происходит внутри меня, совсем перестав вникать в то, о чем говорил Анатолий Иванович.
– Ну ладно, я поехал, – вдруг услышал я его слова.
– Чего? Куда? – в первое мгновение я даже не понял, о чем он говорит и куда собирается ехать. Потом сообразил.
– Спасибо вам, Анатолий Иванович!
Я искренне жалел, что человек, с которым я сблизился за последнее время, уезжает, и вряд ли когда-нибудь мы сможем свидеться. Он был не первым, с кем у меня складывались доверительные отношения, и, увы, не последним, кого я терял. За много лет подобных приобретений и потерь в моей жизни накопилось много, и все же каждый раз это оставляло очень глубокий след. Каждый раз это было по-новому грустно и больно.
Обход с английским уклоном
Я совсем забыл, что нахожусь в клинике, где под страхом принудительной выписки категорически запрещалось пить спиртное. Более того, я напрочь забыл, что именно на этот самый день, когда Анатолий Иванович устроил «отходную», назначен очередной профессорский обход.
Вспомнил я об этом, только когда заметил характерное оживление в палате.
– Тумбочки, тумбочки! – услышал я голос старшей медсестры. – Проверьте все тумбочки. Все продукты из тумбочек убрать. – Она приближалась с пугающей неотвратимостью цунами.
Открывать глаза мне не хотелось: яркий дневной свет причинял сильную боль и ослеплял.
– В холодильниках чтобы пропавших или старых продуктов не оставалось! – загремело надо мной.
Почему-то ее голос был настолько громким и отвратительным, что я сморщился.
– Что с тобой?
– Антон, что с тобой?
Вопрос был обращен ко мне. Глаза открывать не хотелось, однако пришлось. Коньяк действовал. Электрический свет ослепительным кипятком вливался в зрачки. Расслабившиеся глазные мышцы утратили способность работать синхронно. В результате маячащий передо мной силуэт старшей медсестры противно дрожал и двоился. Сделать изображение четким никак не удавалось. В другое время я бы испугался, но мозг, одураченный алкоголем, был беспечен.
– Что с тобой? – опять прогремело вверху.
– Нн-ничего. Голова немного болит, – я старался произносить фразы четко, но язык тоже… Тоже мне, Брут…
– Таблетку принести от головной боли? – выражение тревоги на ее лице не исчезло.
– Нн-нет. Спасс-сибо.
– Хорошо. Если будет нужно, скажи – я принесу, – она отвернулась и, обращаясь ко всем, скомандовала: «Готовьтесь к профессорскому обходу!»
Думалось с большим трудом. И это было плохо. Все предыдущее – возня в палате, наведение порядка, крики старшей медсестры, ничто не смогло натолкнуть меня на мысль, что сегодня должен состояться профессорский обход. «Догадался» я об этом только после слов медсестры.
Я понял, что выпил сегодня совсем некстати. Что сейчас меня могут заметить. Такое мое «нелегальное состояние», может быть, ничем и не грозило, однако скандала очень не хотелось. Я приоткрыл глаза и посмотрел на Гани. Он с выражением любопытства наблюдал за мной.
Абдул Гани говорил по-русски достаточно бегло, но с выраженным национальным акцентом. Когда он начинал волноваться или если приходилось поддерживать с длинный разговор, в котором трудно было контролировать речь, акцент Гани становился очень сильным. Сейчас Гани тоже волновался, потому что на предстоящем обходе должна была решаться его судьба. Когда-то он сломал ногу, перелом долго не заживал. Несколько раз кость срасталась неправильно, ее ломали и исправляли. До конца все же правильно срастить так и не смогли. А ко всему прочему на ноге у Абдула Гани появилась незаживающая рана. Сегодня он ждал своего «приговора».
В ответ добросердечному афганцу я промямлил нечто в том смысле, что чувствую себя нормально, вот только боюсь, как бы во время обхода профессор не заметил мое «неадекватное» состояние.
– А ти гавари им, что у тибя галава балит, – улыбнулся Гани.
– Угу… Попробую.
Шум, рожденный профессорским обходом, приближался. Наконец, в дверях нашей палаты появились белые силуэты молодых людей. Как правило, профессор обходил больных не только в компании врачей, но и в сопровождении большой толпы студентов. Для некоторых студентов, оказавшихся в самом конце длинного хвоста этой свиты, в палате не хватало места, и они топтались в коридоре. Скорее всего, это были двоечники.
Профессор влетел в нашу палату, как всегда, двигаясь быстро и делая резкие движения. Иногда казалось, что вот сейчас его массивная фигура снесет с ног тоненькую Тамару Николаевну. По ритуалу обхода она как лечащий врач палаты должна находиться рядом с профессором.
Я наблюдал за происходящим, слегка приоткрыв глаза, делая вид, что очень слаб. Через несколько секунд я закрыл их окончательно. Во-превых, резь становилась все сильнее. Во-вторых, я успел заметить, что на меня вытаращились все студенты профессорской свиты. Делали они это так нагло, что мне стало не по себе. Они даже не слушали того, что говорила Тамара Николаевна, рассказывая о больном, возле которого остановился профессор.
Больного звали Михаил. Летчик гражданской авиации. Заболевание у него было почти такое же, как и у выписавшегося Анатолия Ивановича. Ему тоже должны были заменить бедренную кость, но имплантировать только один искусственный сустав. Предварительно Тамара Николаевна познакомила его с образцом. Увидев этот железный заменитель, Михаил едва не упал в обморок. Трудно было представить, что через некоторое время эта «железяка» будет размещена в его ноге. Сама операция Михаила не пугала. Он боялся другого.
– Сергей Тимофеевич, а я смогу летать после замены сустава? – услышал я голос Михаила сразу после доклада Тамары Николаевны.
– Я не знаю, как поведет себя ваша нога после операции, – просто сказал Зацепин. – Все будет зависеть от того, как организм примет новый сустав…
Сергей Тимофеевич никогда не приукрашивал истинного положения дел и общался с пациентами предельно откровенно в плоскости того, что касалось их здоровья. Иногда это звучало жестко, иногда сочувственно. Градус эмоциональности зависел от показаний какого-то его внутреннего душевного барометра.
– И еще. Я не могу дать никаких гарантий в отношении вашей летной медкомиссии! – эти слова Зацепин говорил, уже направляясь к кровати с лежащим на ней Абдулом Гани, который заметно волновался.
Впрочем, зря. Подойдя к нему, Зацепин взял в руки пакет, вынул поочередно два рентгеновских снимка и несколько секунд разглядывал.
– Ну, с этим мы будем решать чуть позже, – произнес он с некоторой задумчивостью. – Нужно думать, что нам с этим делать.
Зацепин быстро вложил снимки в конверт и, не дожидаясь вопросов Абдула Гани, навис над моей кроватью. Я ждал этого момента, но все произошло так стремительно, что я сразу не сообразил, что делать. Притворяться спящим дальше было бессмысленно. Шум в палате стоял такой, что мог разбудить кого угодно – Зацепин говорил очень громко.
Но, видимо, сказалась моя «коньячная» заторможенность. Я так и остался лежать с закрытыми глазами. Выглядело это глупо.
– Антон! Ты спишь? – громко позвал Зацепин. По голосу можно было понять, что у него хорошее настроение. Даже если бы я в тот момент спал, мне обязательно следовало бы проснуться.
Что я и сделал: поднял веки, посмотрел в улыбающееся круглое лицо Сергея Тимофеевича, и тут же их опустил. Это получилось невольно. Противный свет продолжал раздражать глаза.
– Что с тобой? – в голосе профессора появились тревожные нотки.
– Нн-ничего. Нн-норр-рмально… – бормотнул я и подумал: «Язык! Язык – мой враг!»
– Ты чего с закрытыми глазами? – Зацепин продолжал свой допрос.
– Слабость, Серр-ргей Тимофеевввич. И гг-голова болит, – я говорил и при этом старался дышать в сторону.
– Как у тебя с рукой? – профессор еще ближе придвинулся ко мне. Заметив это, я сделал глубокий вдох и начал молча показывать присутствующим, как работают мои пальцы и локтевой сустав.
– Так как твоя рука?
– Хорошо, – я ответил очень коротко и еще энергичнее заработал пальцами правой руки. Однако ошибся: Зацепина интересовала левая рука, которую он недавно прооперировал.
– Я делала вчера перевязку. Рана заживает нормально, – Тамара Николаевна пришла мне на помощь, и только тогда я сообразил, что Сергей Тимофеевич спрашивает о другой руке, а не о той, которой я усиленно и бесполезно двигал.
– Боль есть, но совсем немного, – я, наконец, ответил.
– Пальцы в норму пришли?
На этот раз я точно знал, о какой руке идет речь, потому что профессор взял ее в свои большие ладони и попытался согнуть пальцы без моего участия. Вернув руку на место, он задал неожиданный вопрос.
– Ты чем занимаешься по вечерам?
– Чч-читаю…
– Что читаешь? – профессор начал оглядываться, пытаясь найти какое-нибудь материальное подтверждение моим словам.
– Что это? – он взял книгу, лежащую на моей тумбочке.
Это был первый том известного учебника английского языка автора Н.А. Бонк. Его мне подарили Оля и Лена – девушки, которые везли меня на первую операцию. Книга лежала на тумбочке уже долгое время и, каждый раз глядя на нее, я обещал самому себе, что вот, как только появится возможность, я сразу начну заниматься.
– Английский изучаешь? – весело спросил Зацепин, победно оглядывая своих многочисленных спутников.
– Ну и какие результаты?
Вопросы задавались совершенно не по теме. И это напрягало. Мой мозг в тот момент работал со страшным скрипом. В каждом, очень простом вопросе профессора я искал подвох. Свита, сопровождающая Зацепина, с нарастающим интересом следила за нашей беседой.
– Я спросил, как успехи? – Сергей Тимофеевич продолжал улыбаться. – Ты спишь, что ли?
– Что – «нет»?
– Не сплю.
Я постарался улыбнуться, но, видимо, получилось что-то, больше похожее на гримасу.
– Ты чего кривишься?
– Голова болит…
– Я тебя уже в который раз пытаюсь спросить, как у тебя успехи с английским языком? – профессор был настойчив до неприличия. – Do you speak English?
С английским у меня было «никак». В школе я изучал немецкий, и у меня по этому предмету стояла твердая «пятерка». Английский я решил выучить самостоятельно, сам не зная зачем. Шансов им воспользоваться не было (разве мог я тогда рассчитывать, что когда-нибудь отправлюсь в США?). Но что-то толкало меня на это. Может быть, желание еще раз доказать себе и окружающим, что интеллекта мне не занимать? Изучать английский я собирался все время, но из-за операций просто физически не мог взять учебник в руки. Поэтому единственным результатом такой вот моей целеустремленности было знание, как раз того самого вопроса, и «ответа» на него.
– Ду-ю, ду-ю, но мало… – я натужно улыбнулся и застыл, ожидая реакции профессора.
Шутку он оценил.
– Мало, говоришь? А в чем проблема?
– Да, вы понимаете, Сергей Тимофеевич, самостоятельно чужой язык очень тяжело изучать, – плаксиво промямлил я и добавил в надежде, что профессор от меня наконец-то отцепится. – Я в школе немецкий учил…
– Да, самостоятельно – тяжело… – Зацепин наглядно демонстрировал, что не даром носит свою фамилию. Он о чем-то подумал и, внезапно воскликнув: «Подожди!» – неестественно быстро ввинтился в толпу, выскочил за дверь и исчез в глубине коридора.
В палате, и до этого очень тихой, вообще прекратились всякие звуки. Казалось, люди перестали даже дышать, пытаясь понять, что же такое происходит. И при этом все взгляды сфокусировались на мне. Почему-то сразу вспомнилось зажигательное стекло, которым мы в санатории делали в белых листах бумаги красивые дырки с обугленными краями. Моим ушам становилось нестерпимо горячо. Я внезапно почувствовал, что трезвею, и закрыл глаза.
Ситуация образовалась презабавнейшая. Профессор, проводивший обход, исчез в неизвестном направлении, не дав никаких указаний. Что делать и сколько это будет продолжаться, никто не знал. Нелепая, безмолвная неопределенность сгущалась минуты три. Наконец, послышались быстрые шаги возвращающегося Сергея Тимофеевича и еще более быстрые, шелестящие – его спутника. Через несколько секунд они появились в палате: улыбающийся профессор и маленькая полная женщина, лет пятидесяти с перебинтованной и привязанной к шее рукой. От быстрого темпа, предложенного ей энергичным профессором, она задыхалась. Все, сопровождающие Зацепина на обходе, расступились, давая им дорогу. Профессор, ничего не говоря, пронесся сквозь толпу и подвел женщину к моей кровати.
Дальше все происходило так, словно в палате, кроме меня, самого профессора и этой женщины, никого не было.
– Вот. Это – Антон, – Зацепин показал пальцем на меня, обращаясь при этом к приведенной женщине. – Антон, это – Татьяна Викторовна.
Я с недоумением смотрел то на профессора, то на Татьяну Викторовну. Сложно было понять, какое отношение имеет эта женщина к профессорскому обходу?
– А-а! – закричал вдруг Зацепин. – Извините, вы садитесь, Татьяна Викторовна.
Он только сейчас заметил, что приведенная им женщина до сих пор никак не может отдышаться. Галантный Сергей Тимофеевич указал ей на стул, стоящий возле моей кровати. Татьяна Викторовна села. На ее лице был написан немой вопрос: «Объясните мне, что все это значит?»
– Татьяна Викторовна теперь будет учить тебя английскому! – торжественно произнес профессор. – Она преподает английский язык в Московском государственном университете и будет с тобой заниматься.
Профессор взял паузу, наслаждаясь эффектом.
От неожиданности на лице у бедной Татьяны Викторовны обозначилось такая растерянность, что мне показалось, еще немного, и она расплачется. «Англичанка» не понимала, как реагировать на сказанное профессором: как на своеобразную шутку или как на руководство к действию?
Профессор не собирался входить в ее положение. Он был категоричен: «Пока Борисов не начнет говорить на английском, я вас оперировать не буду», – с этими словами он протянул ей учебник английского языка. Она безропотно взяла книгу и машинально открыла на первой странице.
– Ладно. Не будем им мешать, – обратился профессор ко всем и, довольный собой, очень быстро устремился на выход. Свита последовала за ним.
Ошарашенная Татьяна Викторовна осталась сидеть на стуле. Если бы в тот момент я не был пьян, то просто улыбнулся бы и попросил бедную учительницу вернуться в свою палату, сведя все произошедшее к шутке. Но я туповато молчал и смотрел на женщину, которая сидела рядом в полной прострации. Она не могла понять, как вдруг очутилась в такой нелепой ситуации, когда надо было делать не менее «дурацкий» выбор. Ослушаться одного из лучших профессоров, который к тому же должен ее оперировать? Как на такое решиться? Или все же учить незнакомца?… Но это какой-то бред получается…
Видимо, она была хорошим учителем. Вид учебника, который всучил ей профессор Зацепин, быстро привел ее в чувство. Я увидел, как, выражение растерянности, сменилось сосредоточенностью.
Еще мгновение, и передо мной сидела строгая классная дама.
– На, читай! Посмотрим, что ты умеешь.
Она протянула мне книгу, но ее рука остановилась на полпути, потом медленно вернулась. Татьяна Викторовна, наконец, заметила, что на обеих руках у меня были повязки.
– Ладно. Я подержу сама. На какой странице ты остановился?
– На первой.
Ответ был глупым, но правдивым. С того момента, как эта книга стала моей, я ни разу ее не открыл. Я чисто физически еще не мог держать книгу своими руками.
Татьяна Викторовна открыла учебник на первой странице и, развернув так, чтобы я мог видеть листы, приблизила к моему лицу. Она держала подрагивающую книгу одной рукой – вторая висела на перевязи. Я вперил взгляд в страницу и понял, что читать не могу: строчки текста не только дрожат, их было значительно больше, чем рассчитывали полиграфисты. Коньяк продолжал действовать. Я заморгал глазами, пытаясь привести зрение в норму и «навести резкость». Однако это не помогло.
– Что с тобой? – Татьяна Викторовна заметила мои активные моргания.
– Что-то с глазами, – я не оставлял попытки привести зрение в норму. – Я что-то плохо вижу.
– Так лучше? – она придвинула книгу еще ближе и попыталась положить руку на кровать, отыскивая опору, при этом сделала неловкое движение и поморщилась.
– Больно? – я посмотрел на ее повязку.
– Да, – медленно ответила Татьяна Викторовна. – Чувствуется временами. Она пристально посмотрела на меня и пододвинула слегка дрожащую руку с учебником к моему лицу: «Так лучше?»
Я внезапно представил наш «дуэт» со стороны. Один – после операции, к тому же пьяненький и скрывает это, другая – готовится лечь по нож и нервничает. Оба страдают от боли. На двоих только одна рука. Минуту назад мы даже не догадывались о взаимном существовании и вот по капризу профессора очутились на уроке английского. Хотя наши состояния и местонахождение этому способствовали в наименьшей степени. Урок английского превращался в грустный фарс.
– Может так лучше? – Татьяна Викторовна немного подвинула руку в сторону. Она старалась найти удобную для меня позицию. В этот момент я снова вспомнил о запахе, который она могла почувствовать.
– Что-то с глазами у меня, – повторил я, незаметно отодвигаясь и стараясь не дышать в ее сторону. Она была для меня не опасна, но все же я не мог показать ей, что нахожусь «под мухой» и потому не в состоянии прочесть несколько строчек. Надо было заканчивать комедию. Но открыто проигнорировать указание Зацепина было бы неправильно.
– Слабость у меня… – я пытался найти причину, чтобы как-нибудь, очень тактично, сыграть финальную сцену. – Мне два дня назад операцию сделали. К тому же голова болит.
Мне показалось, что этот последний «довод» достиг, наконец, цели. Татьяна Викторовна закрыла книгу и выпрямилась на стуле.
– Так что будем делать? – спросила она.
– Может быть, в следующий раз? – я говорил, надеясь, что «следующего раза» не будет.
– А как же Сергей Тимофеевич? – спросила она. Англичанка стала понимать, что это наш с ней первый и последний урок. Но оставить без внимания приказ Зацепина она, как и я, естественно, не могла.
– Не переживайте, я ему скажу, что все у меня нормально… с английским.
– Тогда, до свидания, – Татьяна Викторовна встала и направилась к выходу. – Может быть, я завтра зайду, – добавила она, навсегда исчезая из моей жизни.
Спустя минуту после ее ухода в палате раздался громкий смех. Смеялся Абдул Гани, который все это время с большим вниманием наблюдал за происходящим.
Я посмотрел на него и тоже улыбнулся. После этого с огромным облегчением закрыл глаза. Стало понятно, что на этот раз – пронесло. И с обходом. И с английским.
Очевидно, сказалось сильное напряжение. После ухода Татьяны Викторовны у меня снесло крышу. В течение последующих двух часов я громко смеялся, пытаясь рассказывать какие-то истории. Во мне вдруг снова проснулись «недюжинные» певческие таланты. На шум приходили люди, и я что-то им пытался объяснять заплетающимся языком.
Ближе к вечеру, начав понемногу приходить в себя от влияния «благородного» напитка и вспоминая все, что произошло, я спрашивал у Абдула Гани, не наговорил ли я в том «невменяемом» состоянии чего-нибудь «не того»? Он мне и рассказал, что произошло после окончания моего урока. Рассказал, как он успокаивал приходившую на шум дежурную медсестру. Мое «приподнятое» настроение он объяснил тем, что «у меня перестала на какое-то время болеть рука», а также тем, «что я начал учить английский язык». А я в это время ему поддакивал, и, как выразился Гани, «очин правилна гаварил „да – нэт“, кагда эта был нужэн».
Френкель и «душман»
Еще в Астрахани я познакомился с удивительным человеком – Евгением Александровичем Френкелем. Когда он внедрялся в палату, то первое, что появлялось в дверях, – это борода. Голову он всегда держал очень ровно, слегка отклонив назад, так что казалось, широкая, окладистая борода его пронзает пространство, расчищая дорогу хозяину.
Евгений Александрович, или, как он представлялся, Женя, был довольно молод, чуть старше тридцати. Там, где он появлялся, мгновенно начинался разговор о всяких чудодейственных методах исцеления, которыми он, якобы, блестяще владел. Это происходило всегда одинаково.
– Ну, как вы тут все? – он влетал в палату и начинал лихорадочно метаться от окна к двери. Иногда мог остановиться около незнакомца и начать бесцеремонно его разглядывать.
– Ты с чем здесь лежишь?
То, что он видит человека впервые и обращается на «ты», Евгения Александровича не смущало. И, как всегда, ответа он не ждал.
– Ты про психотерапию слышал? – спрашивал он вдруг.
– Ты знаешь, что у тебя грязная аура? – с этими словами он начинал водить руками вокруг головы человека, с которым в тот момент «беседовал».
– У тебя грязный энергетический хвост, – неожиданно заявлял он. – Ты из-за этого и болеешь.
Никаких ответов, ни отрицательных, ни положительных, он не принимал.
– Я могу тебя вылечить, – заявлял Френкель с потрясающей самоуверенностью. И добавлял: – Хочешь? Прямо сейчас начнем.
Заканчивалось это тоже почти всегда одинаково. Если человек, с которым он разговаривал, имел терпение, то за этим следовало не начало «лечения», а рассуждения о том, столько еще вокруг всего непознанного, что Человек еще не до конца знает свой потенциал. Потом начинался длинный рассказ об индийских йогах и о том, что они умеют делать.
Иногда кто-нибудь вступал с Френкелем в полемику, и начинались язвительные вопросы. Женю спрашивали, если он владеет такой «чудодейственной» методикой, то почему до сих пор не смог вылечить себя самого. На это Женя отвечал, что его заболевание очень загадочное, и что ни врачи, ни он сам до сих пор никак не могут его определить. А поскольку он не знает ничего о своем заболевании, то, значит, и вылечить себя самого он пока не может.
Говорил он всегда очень громко и длинно. Его нисколько не интересовало, какое мнение о нем складывается у собеседника.
При всем этом он был совершенно безобиден. Мужики, лежавшие со мной в палате, называли его «балаболом» и терпели. Терпели ровно до того момента, пока от его невероятно длинных монологов не начинали плавиться мозги. Тогда Евгения Александровича очень откровенно посылали по-русски… После такого «посыла» Френкель уходил, так же как и входил, гордо подняв голову и устремив вперед бороду. На следующий день он возвращался, и все повторялось снова.
После каждого такого посещения в палате начинались разговоры о евреях. Как правило, все было безобидно и сводилось к пересказам анекдотов. Но иногда начинались и очень нехорошие пересуды, пропитанные необъяснимой злобой.
Женя очень любил поговорить о своем заболевании. Как он уверял, его позвоночник с какого-то времени начал терять гибкость, в нем идут странные процессы, похожие на «остекленение», а между позвонков появляются наросты, которые доставляют ему невыносимую боль. Женя почему-то очень любил поговорить о своей боли. Боль, его таинственное заболевание, всякие чудодейственные методы лечения и нераскрытые возможности человека были постоянными темами Жениных монологов.
Теперь его лицо внезапно появилось в проеме двери моей московской палаты.
– Антон, привет! – На лице радостная улыбка. – Антон, ты меня узнаешь?
Это был он. Евгений Александрович Френкель собственной персоной. Нисколько не изменившийся. Так же, как он это делал всегда, Женя влетел в палату и заметался. Больницы строились везде по однотипным проектам и были похожи одна на другую. Евгений Александрович, так же как и я, много покочевал по лечебным заведениям и в палатах, схожих между собой, у него имелся свой, хорошо протоптанный маршрут.
Он прошелся от двери до окна раз семь. Мои соседи по палате были несколько обескуражены его активностью, и мы вчетвером с недоумением наблюдали за бешеной ходьбой этого человека. Я уже знал, во что обычно выливаются Женины посещения. И очень опасался неприятных сюрпризов. В нашей палате в то время лежал Вячеслав Михайлович – мужчина за пятьдесят. Он был высокого роста, с очень густой черно-седой шевелюрой.
Это случилось в тот день, когда его положили в нашу палату. Было время обеда. После того как раздали тарелки с едой, все принялись за еду. Вячеслав Михайлович посмотрел сначала на «безрукого» меня, потом на тумбочку, на которой стоял мой обед. Потом еще раз – на меня. Потом встал со своей кровати и подошел ко мне.
– Знаете, я сейчас сыт, дома поел. Давайте я вас покормлю, – сказал он мне и, сев на стул, взял с тумбочки тарелку с супом.
Честно говоря, я в тот момент чуть не расплакался. Это было время, когда я не мог себя вообще обслуживать. А мой дурной характер создавал своему хозяину дополнительные проблемы. Мне трудно было просить, и, если я мог перетерпеть, я терпел. В тот период я ел только тогда, когда кто-то подходил ко мне и предлагал помощь. Иногда меня кормили медсестры. Иногда это были студенты, приходившие на практику. Всегда было по-разному. К тому моменту, когда Вячеслав Михайлович взял в руки мою тарелку, я не ел уже почти два дня, не считая пары ложек каши, которую мне скормила студентка на завтрак в то утро. В предыдущий день я не ел вообще. Видимо, Вячеслав Михайлович сумел что-то рассмотреть в моих алчущих глазах.
И весь тот короткий период, пока он проходил обследование, я питался нормально. Помощь он предлагал сам. Я ни разу его не попросил. Также он делился тем, что ему приносили иногда из дома. Он был единственным москвичом в нашей палате.
Вячеслав Михайлович был еще и атеистом. Об этом почему-то он сообщил почти сразу, в момент своего знакомства с нами. Он с негодованием отзывался о всяких сверхъестественных явлениях и о людях, заявлявших о себе, что они могут лечить все заболевания, исправляя ауру, или уходят в астрал и тому подобное.
Вот как раз об этом я и вспомнил, глядя на бегающего по палате Евгения Александровича. Я с некоторым волнением думал о том, на кого сейчас может пасть его выбор.
Внезапно Евгений Александрович остановился возле кровати Абдула Гани.
– Ты кто? – резко спросил он. Это стало для застенчивого афганца такой неожиданностью, что он вдруг закашлялся.
– Ви о чем спрашиваэшь? – Абдул Гани начал говорить с очень сильным акцентом – он заволновался.
– Я спрашиваю, ты кто по национальности? Откуда ты? – Женя разговаривал, как будто знал парня всю жизнь. И с каким-то непонятным чувством превосходства.
– Я приехаль из Афганистан. А вам зачем?
– Мне просто интересно. Ты там воевал?
– Я там жиль… – Гани смотрел на Евгения Александровича, и лицо его темнело.
– А, ну ладно, – Женя внезапно взмахнул рукой и отскочил от кровати Гани. Пробежавшись пару раз по своей «тропе», он внезапно, как и появился, выбежал из палаты.
На следующий день Евгений Александрович возник после обеда. Заскочив в дверь, он сделал всего две пробежки.
– Привет, душман! – бросил он фразу, повернувшись к Гани и лишь на мгновение остановив на нем свой взгляд.
Ответа не ждал. Как и всегда, подбежал на этот раз ко мне и начал рассказывать о том, как и какими путями он попал в ЦИТО. Рассказал, в каких кабинетах облздрава пришлось ему побывать, прежде чем достать направление в Москву. Он был как раз из тех, кого не любил Зацепин. Потом Френкель начал рассказывать, на какой стадии находится сейчас его заболевание, что говорят врачи.
Ничего обнадеживающего. Диагноз ему до сих пор так и не поставили. Заболевание прогрессировало. Единственное, в чем врачи были уверены, так это в том, что ему в скором времени может грозить полная неподвижность. Оставалась надежда, что в ЦИТО, наконец, обнаружат причину заболевания.
– Но я не сильно рассчитываю, – закончил он. – Здесь врачи в основном специалисты по костям и по патологиям кости, а мне недавно сказали, что это может зависеть и от нервной системы тоже. В общем, они ничего толком не знают.
– А ты как? – неожиданно спросил он.
Это было в его стиле. Днем раньше он совсем не поинтересовался мной. Сейчас спросил. Очень коротко я рассказал, что мне уже сделали и что собираются делать.
Все то время, пока мы говорили, Абдул Гани, смотрел в сторону Жени. Мы перекинулись еще парой ничего незначащих фраз, и Френкель исчез. Секунд через тридцать Женино бородатое лицо внезапно появилось в проеме двери.
– Пока, душман, – бросил он от двери и тут же исчез. Ушел окончательно.
Примерно то же самое теперь происходило каждый раз, когда Евгений Александрович решал заглянуть в нашу палату. Каждое его посещение начиналось с одного и того же.
– Привет, душман, – весело кричал он Абдулу Гани. А покидая нашу палату, Женя почему-то всегда, уже выйдя из нее, вновь возвращался, бросал из проема: «Пока, душман!» – и исчезал.
Все это время Абдул Гани демонстрировал настораживающую терпимость. В ответ на такие обращения он только кидал раздраженные взгляды. Длилось это все недели полторы.
Как-то вечером в нашу палату, как и обычно, ворвалась «борода».
– Привет, душман, – бросил Евгений Александрович еще на входе.
Абдул Гани встал с кровати и взял в руки палочку, с которой ходил после операции. Нужно сказать, что ничего необычного в его поведении не было. Я подумал, что, так же как и все последнее время, он решил уйти из палаты при появлении суматошного Френкеля.
На этот раз Евгений Александрович сделал только два шага по направлению к окну. Сделать третий не успел. Абдул Гани поднял палочку и обрушил ее на голову улыбающегося Жени. Евгений Александрович, не снимая с лица улыбки, начал падать, но удержался, схватившись за спинку кровати. На его лице постепенно улыбку заменяло выражение испуганного недоумения.
– Душман, душман, – с ненавистью в голосе выкрикнул Гани. – Надаельо! – и быстро вышел в коридор.
Женя молча «истек» из палаты спустя пару минут. Он не горел желанием снова встречаться лицом к лицу с вооруженным афганцем. Когда Френкель выходил, выражение на его лице оставалось все тем же. Недоуменным и непонимающим.
Абдул Гани вернулся спустя два часа. Его лицо, как и всегда, было непроницаемым. Он осторожно поставил палочку, прислонив ее к кровати, и лег.
– Ты куда ходил, Гани?
– В посольство звонил, – сказал он, посмотрев на меня. – И погулялся нымного.
На следующий день Евгений Александрович осторожно заглянул в дверь, потом вошел.
– Я пришел попрощаться, – сказал он, обращаясь ко мне.
– Как, попрощаться? – не понял я. – Что, обследование закончили?
– Нет. Поеду в другую больницу, – сказал он, бросив при этом быстрый взгляд в сторону кровати, на которой лицом к стене лежал Абдул Гани. На приход Евгения Александровича тот не обратил абсолютно никакого внимания.
В тот же день Френкель выписался, и больше я его не видел. Позже от одной из медсестер мы узнали, что на следующий день после случившегося, рано утром, Евгения Александровича вызвали в кабинет главного врача института. Там ему было сказано, что его выписывают за нарушение дисциплины: из посольства Афганистана в Москве позвонил консул и заявил – если они не хотят международного скандала, то должны что-то делать. Потому что он, консул, не допустит, чтобы гражданина Афганистана обижали, когда тот находится на лечении в другой стране.
Спустя лет пять, уже вернувшись в Астрахань, я узнал, что Френкель погиб. Незадолго до гибели Евгений Александрович убеждал всех своих друзей в том, что он сможет данной ему энергией остановить поезд. Он верил, что сверхъестественные возможности человека могут раскрываться только в критических ситуациях. Он оставил записку и выскочил на полотно перед мчащимся груженым составом, вытянув перед собой руки. Машинисты были бессильны. Во время экстренного торможения застопоренные колеса поезда проскользили по рельсам более двухсот метров.
Африканский «тамтам»
Свободных мест в отделении не было. На место выписывавшихся больных поступали новые страждущие. Поток их со всего Союза был неиссякаем. Да и не только из Союза. Как-то, проснувшись утром, я увидел, что прямо напротив нашей двери, в коридоре, стоит кровать, на которой лежит человек. Когда он повернул в мою сторону свое лицо, я ошалел, потому что никогда в жизни до этого не видел таких черных лиц.
Конечно, я знал, что есть такая раса – африканская. Но до этого никогда мне не приходилось встречать ее представителей.
Парня звали Фрэнк. Он прилетел ночью на самолете из Анголы. С ним прилетела большая группа «соратников по борьбе». Они все были покалечены войной, которая шла тогда в этой африканской стране. Это были те, о ком мне как-то говорил Исмаил: «Вы продаете нам оружие, а взамен лечите тех, кого это оружие калечит». Советский Союз, несмотря на внутренние экономические трудности, продолжал «экспортировать» революцию.
У Фрэнка была ампутирована нога, и в ЦИТО его привезли, чтобы он полежал здесь, пока ему сделают протез. Я не знаю, какой протез изготовили Фрэнку. Уже много позже 1987 года я встречался с людьми, которым довелось носить отечественные протезы. По их утверждению на этих грубых и тяжелых конструкциях ходить было невозможно. Все мои собеседники пытались выехать за рубеж, где качество протезов было неизмеримо лучше.
Фрэнк не знал по-русски ни слова. Всю группу прилетевших с ним раненых разбросали по разным отделениям. В наше отделение попали трое, и все они лежали в коридоре. Как только в палатах освобождались места, на них перебирались пациенты из Анголы. К нам в палату никто из них не попал. Но с Фрэнком мы, как бы это сказать, приятельствовали на уровне улыбок и киваний головами. Три дня он лежал напротив нашей палаты и приходил к нам по утрам умываться.
Он выучил несколько русских слов. Конечно же это были все основные слова, которые иностранцы почему-то обязательно разучивают самыми первыми – набор нецензурщины, а также «мама» и «водка». Не знаю, как ребята, лежавшие с Фрэнком в палате, общались с ним. Скорее всего тоже жестами.
Помню, был День Победы – 9 мая. Те, кто чувствовали себя покрепче, похрабрее и не опасались, что их могут выписать без продолжения лечения, как и полагается, отмечали праздник крепкими напитками. Я после того случая с Анатолием Ивановичем больше не пил. Во-превых, пообещал сам себе. Очень неприятно вспоминать о своем пьяном раздолбайстве на следующий день. А во-вторых, мне никогда не нравился вкус спиртного.
К счастью, представители нашей палаты не были склонны к неуместной алкоголизации своих организмов. Поэтому все отмечание у нас свелось к тому, что мы все спокойно легли спать. Разбудил нас странный, не сравнимый ни с чем больничным, топот. Это было похоже на то, как кто-то, очень тяжелый и большой, шагает по коридору. Это не были шаги человека, потому что человек переставляет ноги чуть быстрее при ходьбе. Из коридора раздавалось: бум-бум-бум, с частотой, примерно, один «бум» в секунду. Для обычного человека это слишком. Так наверное прессовали свои шаги гомеровские одноглазые циклопы или грохочут в африканской непроглядной ночи басовитые тамтамы.
«Бумы» пробомбили мимо нашей палаты и затихли в стороне коридора, где у нас находились туалеты и душевая комната. Спустя минут пять «бумы» пробарабанили в обратном направлении. Спустя пятнадцать или двадцать минут весь процесс повторился снова. И так еще шесть раз в течение той праздничной ночи. В коридоре стояла полная темнота, что было необычно. Как правило, там всегда горел свет. Узнать, что происходит за стеной, не было никакой возможности, а знать очень хотелось.
Утром все объяснилось. Ребята из соседней палаты, куда положили Фрэнка, решили отметить праздник и купили водки. Фрэнку предложили сразу. Он сначала отнекивался. Но его приглашали выпить «за Победу» и этот аргумент сработал безотказно. Фрэнк сам только что вернулся со своей войны и просто не мог остаться в стороне от такого важного и серьезного ритуального мероприятия. Тем более что выпивка дармовая.
Он согласился выпить один… стакан. Более мелкую посуду в больнице найти трудно. Ну, а после выпитого стакана все пошло значительно легче. В общем, после того, как трое собутыльников «уговорили» все, что было куплено – четыре бутылки, почти сразу после этого замечательного события Фрэнк пошел общаться с унитазом. А поскольку у Фрэнка для ходьбы имелась только одна нога, то это самое «бум-бум-бум» и означало шаги Фрэнка на одной ноге. Выпитая африканцем водка произвела на него такое сильное впечатление, что Фрэнк для своих спонтанных свиданий с унитазом решил обойтись без лишних спутников – костылей, с которыми в обычном состоянии он никогда не расставался.
Боль матери
Все время находиться в палате было невыносимо скучно. Телевизор стоял в коридоре. Поэтому по вечерам или в выходные дни я почти все время проводил на каталке вне палаты.
Так было и в тот раз. Я блаженствовал у открытого окна. В Москву приходило лето. День стоял теплый, солнечный. Деревья покрылись молодыми листьями, такими зелеными, что хотелось их съесть. Среди этого зеленого блаженства прыгали, чирикали и посвистывали невидимые птички. Начало лета, начало жизни. Настроение у меня было распрекрасное.
Я увидел идущую по коридору группу парней и девушек, и это так хорошо соответствовало тому, что было там, снаружи. Красивые, слегка опьяненные молодостью и надеждами, они прошли мимо. Я заметил у них две гитары. Только тогда я понял, что это выпускники. Они зашли в одну из многочисленных палат. Помнится, я удивился, как они смогут все разместиться в маленькой комнате.
Вдруг минут через пять из этой палаты вся в слезах выбежала женщина и встала у открытого окна. Я смотрел на ее дрожащие плечи. Никогда до этого я не видел, чтобы так, навзрыд, плакали люди. Мне стало страшно.
Из «сестринской» комнаты подбежала одна из наших медсестер и быстро увела плачущую женщину к себе. Ее плач уже больше походил на мучительный стон. Я расслышал только одно слово, которое она произносила снова и снова. Сквозь рыдания до меня доносилось «Почему?»
Позже, вечером, я спросил у медсестры, кто эта женщина и почему она так рыдала. То, что рассказала медсестра, меня поразило. Женщина была мамой шестнадцатилетнего парня, лежавшего в палате, в которую зашла группа выпускников – его одноклассников. Оказалось, я видел его раньше. Высокий красивый парень. С пушком на губах. С мягким, еще мальчишеским, лицом. Сейчас он лежал после операции, и врачи установили точный диагноз – саркома.
Операция прошла успешно, об этом я тоже слышал, потому что его оперировали лучшие хирурги страны. Лучшие хирурги, которые когда-либо проводили операции на позвоночнике. Бурдыгин Виктор Николаевич и Зацепин Сергей Тимофеевич. Лучшие. Но… было уже поздно.
Сейчас он лежал, без надежды когда-нибудь встать. Опухоль уже начала делать свое дело. В тот момент у него была парализована нижняя часть тела.
Узнав об этом, я понял, что впервые увидел то страшное, что сопровождает смерть. Отчаяние матери, переживающей своего юного сына. Он еще жив, но мать уже должна привыкать к мысли, что скоро его не станет. И как же тяжело ей было видеть тех, кто учился в школе вместе с ее сыном. Видеть, как одноклассники, цветущие, смеющиеся у которых впереди вся жизнь, пришли к ее сыну накануне выпускного бала. Видеть и сравнивать. Улыбаться пришедшим гостям, зная о неминуемой смерти сына. Что может быть страшнее?
Мальчик умер через два месяца после выпускного бала, на котором не был…
В июне 1987 я неожиданно узнал, что каждый год, на один месяц, практически все отделения ЦИТО, в том числе и отделение костной патологии, закрываются на ремонт и дезинфекцию, а все сотрудники уходят в отпуска.
Настроение у меня сильно испортилось. Я понимал, что если уеду домой, то вернуться назад мне будет очень сложно, точнее невозможно. «Ремонт» моих рук не был доведен до конца, и промежуточные результаты не очень радовали. На левой прооперировано было только плечо, и предстояла еще одна операция. Правая рука только-только, совсем немного начала подниматься. В локте она сгибалась. Но при этом я ощущал, как будто там, внутри, что-то натягивалось и двигалось. После того как мне сделали рентген, обнаружилось, что стержень, на который нанизывались мои костяшки, обрел подвижность.
– Что с тобой делать? – он подошел ко мне с очень серьезным выражением лица.
– Вы о чем, Сергей Тимофеевич?
– Отделение закрывается.
– Я знаю. Мне уже сказали об этом.
– Но мы с тобой еще не закончили.
– Да, я понимаю.
– Мы долго думали, куда тебя на этот месяц отправить, и решили… тоже отправить тебя в отпуск, – на его лице появилась улыбка. – Ты был когда-нибудь в отпуске?
– В какой отпуск? Куда? Нет, не был…
– Мы нашли для тебя небольшой санаторий в Подмосковье, – продолжал Сергей Тимофеевич. – Но туда берут только детей, до шестнадцати лет.
– Но мне ведь больше. Меня туда разве возьмут?
– Мы дадим справку, что тебе – шестнадцать. Сможешь изобразить шестнадцатилетнего? – Зацепин спрашивал и улыбался.
– Я попробую. Думаю получится. Рост-то у меня подходящий.
В конце концов, все что от меня требовалось, это в течении одного месяца изображать из себя мальчика шестнадцати лет. Если меня будут оценивать по моим внешним данным, то выходило, что мне совсем ничего делать не нужно. Ну а в разговорах просто не надо умничать.
– Паспорт свой никому не показывай, – инструктировал профессор. – У тебя его не спросят, а сам не высовывайся. Все остальные справки о том, сколько тебе лет и о твоем диагнозе, мы дадим. А после твоего возвращения будем думать, что делать с твоей правой рукой. Левая – само собой. Меня сейчас больше тревожит, что делать с правой. То, что этот стержень начал двигаться, не очень хорошо. Совсем плохо, если уж конкретно. Но – об этом будем думать осенью.
Сергей Тимофеевич вышел. То, что он сказал, мне совсем не понравилось.
В начале июля я совершил короткое путешествие, на машине в Подмосковье. Санаторий, в котором я должен был переждать закрытие ЦИТО, находился в двух часах езды от Москвы. Сейчас я даже не могу вспомнить название населенного пункта, в котором находился санаторий. Помню, это где-то в Рузском районе. Запомнилось, что санаторий располагался в лесу. До революции некоторые здания санатория, так же как и вся земля и лес вокруг, принадлежали какому-то известному графу или князю. Это было его усадьбой, которую конфисковали большевики. Позже здесь открыли санаторий. Поражал архитектурный контраст. Здания, построенные позже, выглядели как-то нелепо и уродливо в сравнении с теми зданиями, которые какой-то граф или князь строил для себя.
Природа Подмосковья потрясла меня своей красотой: вековыми деревьями, необыкновенно чистым воздухом.
Для меня, больше двенадцати лет проведшего в лечебном учреждении в окружении песков и камышей, с воздухом, наполненным запахом болотных испарений, этот уголок природы казался чем-то запредельно прекрасным.
В санатории лежали дети, перенесшие операции и проходящие реабилитацию. Среди них были также и лежачие больные. Каждый день полагалось вывозить детей на прогулку. Я просто наслаждался лесом, в котором находился впервые. Воздух умиротворял меня как хорошее обезболивающее. Он был какой-то очень чистый, легкий, настоянный на хвое – умопомрачительном запахе, бледное подобие которого в Астрахани я обонял только один раз в год, когда в нашем санатории устраивали новогоднюю елку.
Проблем с моим «впадением» в детство не было никаких. Может быть, за исключением одной небольшой детали – общения к медсестрам и санитаркам, многие из которых были на пару лет моложе меня. К работникам санатория, ко всему персоналу, обязательно нужно было обращаться на «вы». Иногда я забывался и к некоторым из них, особо молодым, обращался на «ты». В итоге несколько раз получал выговор. На меня смотрели широко раскрытыми глазами, в которых читалось неподдельное удивление: «Как ты смеешь?»
Однажды это случилось примерно через неделю. Меня вывезли на кровати в парк. Все было как обычно, я наслаждался природой и воздухом. Приближалось время обеда, и за мной пришли две молоденькие медсестры. К одной из них я как-то обратился на «ты», на что она грозно свела брови на переносице.
– Не смей нам «тыкать», – было сказано очень строгим голосом. – Подружек себе нашел!
– Вы тогда меня тоже, пожалуйста, на «вы» и Антон Михайлович, – улыбнулся я, однако быстро сориентировался. – Извините, пожалуйста! Больше не повторится. Я обещаю.
Теперь те же самые сестры везли меня обедать. Они как-то очень странно переглядывались и непонятно чему улыбались.
– Ты где живешь? – неожиданно спросила одна из них.
– Я из Астрахани.
– Так, сколько тебе лет? – это было что-то новенькое, но отвечать честно я не мог. Врать тоже особого желания не было.
– Шишнадцать.
– Угу-угу, – улыбаясь широкой улыбкой, закивала одна из девчонок.
– В общем, ты к нам обращайся на «вы», только когда вокруг дети, – произнесла вдруг вторая из моих «извозчиц». – Чтобы другим дурного примера не подавать. Нехорошо, если они с нами на «ты» будут. Ты ведь понимаешь?
Я кивнул головой, однако ничего не понимал. Почему это вдруг они заговорили со мной о возрасте, и почему вдруг начал обсуждаться вопрос, к кому, когда и как надо обращаться.
Все объяснилось тут же. Одна из них призналась, что, вытирая от пыли мою тумбочку, подняла лежащую на ней сумку, из которой выпал мой паспорт и студенческий билет.
Она мне рассказывала, а я кивал головой. Кивал и думал, что моя сумочка была закрыта на застежку-«молнию». Документы из сумочки выпасть сами никак не могли. Если конечно, им не помогли.
Но тогда я об этом ничего не сказал. Впрочем, позже – тоже смысла не было. Я не понимал одного, почему они решили покопаться в моих вещах. У меня из сумочки ничего не пропало и хорошо. Неприятно, но не смертельно.
За полтора года, проведенные в ЦИТО, я лишь однажды получил весточку из дома. Бабушка писала, что ее здоровье становится все хуже и хуже. Стало понятно, что мое возвращение домой не состоится. По той причине, что возвращаться мне некуда. Бабушка не писала об этом открыто, но все содержание письма говорило об одном – «я за тобой ухаживать больше не могу». Мне отказывали от дома. То, что все в конце концов к этому придет, я понимал и раньше. Отличие состояло в том, что раньше эта проблема не была так конкретна и осязаема.
Если говорить честно, то, уезжая в ЦИТО, я надеялся, что домой больше не вернусь. Я не рассчитывал пережить «рандеву» с хирургами и на операции настаивал, смутно надеясь, что она поможет мне в том, в чем сам себе я помочь не решался.
Из всего предыдущего опыта общения с медиками я вынес твердую уверенность: мой организм не перенесет наркоза. Однако неожиданный звоночек прозвучал, когда я очнулся после первой операции. Конечно, случилось то, что случилось, вот только я никак не рассчитывал на опыт и мастерство врачей, вернувших меня «оттуда». Вторая операция и второй наркоз прошли еще лучше… Было похоже, что провидение не торопилось с моим переходом в мир иной. Я снова начал задумываться о том, что делать дальше. Как жить так, чтобы в проживаемой мной жизни был смысл, чтобы не просто тупо переваривать еду, а все же попытаться пристроиться к токарному станку цивилизации и выточить на нем пару собственных деталей?
В случае, если я попаду в приют для инвалидов и стариков, надежды на осмысленное существование превращались в ничто… Я понимал – это для меня равнозначно смерти, но в то же время другого выхода не было, необходимо было где-то жить. А единственный оставшийся вариант – жить в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Это – кошмар.
Но у меня оставался еще один год, и нужно было заканчивать то, чему уже отдано много сил и терпения – приводить в порядок руки, потом думать обо всем остальном. Я написал письмо домой, чтобы окончательно выяснить: согласится ли мать принять меня. Она была моей последней надеждой, последней возможностью избежать попадания в дом-интернат для инвалидов. Я понимал, насколько мала эта крупинка земли в море охватывающего меня отчаяния, но даже такой малости не хотелось лишаться. В то же время необходимо было окончательно расставить все точки. Я написал письмо и стал ждать.
Вскоре мне сделали последнюю операцию. Она была точным повторением первых двух. Я также открыл глаза в реанимации и если бы тогда верил в Бога, то мог бы сказать, что Он хочет, чтобы я еще жил, что Он оставляет мне шанс что-то сделать в этой жизни.
На следующий день меня привезли в палату. Состояние мое было, мягко говоря, нехорошее. Кроме общей слабости я чувствовал еще и какой-то внутренний упадок. На все вопросы медсестер я старался отвечать и улыбаться, но что-то все равно пробивалось наружу. Видимо, это было заметно, потому что все, кто говорил со мной, старались поднять мое настроение. Одна из медсестер, зайдя в палату, присела ко мне на кровать.
– Ты чего такой невеселый?
– Я? Нет, все как обычно. Слабость только во всем теле. Поспать, наверное, нужно.
Я говорил, стараясь как можно тактичнее намекнуть, что меня следует оставить в покое. Мне почему-то ни с кем не хотелось говорить. Медсестра поняла. Она встала с кровати, собираясь уходить, и вдруг обернулась.
– Я совсем забыла. Вчера, пока ты был на операции, тебе пришло письмо.
– Письмо? Откуда?
– Я только сейчас вспомнила. Оно у нас там, на столе в «сестринской» лежит. Сейчас принесу.
Девушка ушла и быстро вернулась. В руках был конверт.
– Тебе его открыть?
Я лежал с перевязанными руками.
– Открой и подержи, пожалуйста, я прочитаю.
Она развернула лист бумаги, буквами в мою сторону и постаралась держать его ровно. Письмо было из дома, от матери. Я прочитал: «Здравствуй, сын!» А дальше… Дальше были несколько слов, которые я ждал, и которых очень боялся. Я знал, что когда-нибудь мне придется прочитать или услышать что-то подобное, но мне очень не хотелось, чтобы это произошло.
Однако сейчас выведенные маминой рукой эти слова были перед моими глазами: «Домой не приезжай. Ты никому здесь не нужен, и ухаживать за тобой некому». Вот и все письмо. Надо было начинать приучать себя к мысли, что дома у меня больше нет. Нет совсем.
– Спасибо! Я прочитал!
– Ну что? Хорошие известия?
– Долгожданные, – сил на улыбку у меня уже не осталось.
– Я посплю, хорошо? Можно мне обезболивающий укол сделать? – я постарался «перевести стрелки» с темы, на которую мне сейчас не только не хотелось говорить, но и думать.
– Да, да. Я сейчас, – она вложила лист бумаги в конверт. – А куда это положить?
– В тумбочку, в верхний ящик.
Через несколько минут она вернулась со шприцем в руках. Сделав укол, сестра посмотрела на меня, видимо еще о чем-то собираясь спросить. Я опередил.
– Я посплю? Слабость жуткая.
Оставшись один, я некоторое время думал о том, что мне теперь делать. После письма, после этих «долгожданных» слов. Однако обо всем этом думал я очень недолго. Сил у меня к тому времени не осталось. Я провалился в сон, на некоторое время избавившись от боли и пыток вопросами, на которые не находил ответов.
«Принц датский-2» и гегемон
Он смотрел на всех свысока, не отличаясь при этом высоким ростом. Свое превосходство над другими он объяснял тем, что принадлежал, как он сам выражался, к «рабочему классу – гегемону советского общества».
Иван приехал из Тюмени, где работал на буровой. К нам его положили после того, как он рассорился с ребятами из соседней палаты. Причин он не называл, однако отзывался о своих бывших соседях очень презрительно. С ними он прососедствовал два с половиной дня. И за это время сумел достать всю палату своим агрессивным занудством. То кто-то, выходя в коридор, не закрыл за собой дверь. Потом кто-то из соседей открыл окно без консультаций с Иваном. Гегемона-работягу раздражало все: громкий смех, оживленный разговор, храп, кашель, чужие костыли, прислоненные к спинке его кровати, неплотно закрытый кран. Был бы хоть малейший повод, а уж Ваня, как хороший дизель, моментально заводился и начинал тарахтеть, раздражая окружающих.
Так продолжалось два дня. На третий, рано утром, Иван пошел жаловаться на своих соседей заведующему отделением. Заведующий пообещал что-то предпринять. Иван ушел. А через час заведующему пришлось рысью бежать и разнимать дерущихся.
Инициатора потасовки перевели в нашу палату. При этом заведующий пригрозил ему, что в случае, если и здесь будут возникать какие-либо недоразумения, он не станет даже искать зачинщика, просто выпишет Ивана без продолжения лечения и без выдачи больничного листа. Угроза подействовала. Во всяком случае, хамить он перестал.
Иван боготворил деньги. Наличность была для него главным показателем ценности человека. Объем кошелька собеседника был решающим в определении его значимости и места, которое тот занимал в этой жизни по сравнению с самим Иваном. Себя же он оценивал исключительно высоко, потому что, как он выражался: «Я – рабочий и я создаю все богатства в этом государстве». Соответственно этому утверждению «гегемон» требовал почтительного отношения к себе со стороны всех остальных.
Нужно сказать, что я впервые столкнулся с человеком, имеющим такое отношение к деньгам и к жизни. Он откровенно презирал всех, о ком говорил, в том числе пренебрежительно отзывался о лечащих его врачах. Понимание того, что он на своей буровой вышке зарабатывал значительно больше, чем врачи института, делало его отталкивающе чванливым и заносчивым.
Впервые увидев меня, Иван как-то странно хмыкнул и, оглядев остальных, неожиданно спросил.
– А чего его так обрезали? – и снова хмыкнул.
Мои соседи – двое молодых парней Алексей и Юрий, аж привстали от такого «черного юмора». И быть бы скандалу, но я их опередил.
– Меня зовут Антон, – представился я.
– А-а-а, так ты еще и разговариваешь?
В его голосе слышалась угроза. Было непонятно, чего он хочет, и совсем не хотелось, чтобы все начиналось так нехорошо. Более чем пятнадцатилетний больничный опыт научил меня находить общий язык почти с каждым, с кем приходилось жить в одной палате. Я знал, что ни в коем случае нельзя начинать знакомство с конфликта.
– Разговариваю. Даже иногда на вопросы отвечаю, – я улыбнулся, показывая, что нисколько не обиделся.
– Меня Иваном зовут, – буркнул он. И, подойдя к своей кровати, бросил на нее принесенные вещи.
Вечером второго дня Иван сидел на своей койке. Ребята играли в шашки. Я, как и всегда в последнее время, занимался тем, что было для меня важнее всего: сгибал и разгибал в локте правую руку и разрабатывал кисть, сжимая маленький мячик.
– А вы столько денег видели? – совершенно неожиданно спросил Иван, обращаясь ко всем. С этим он полез в свою тумбочку и вытащил оттуда маленькую сумочку, извлек из нее бумажник и достал увесистую пачку денег.
Ребята, отвлекшись от игры, повернулись на голос. Я тоже посмотрел в сторону Ивана.
– Пятьсот рублей! – с каким-то совершенно непонятным торжеством в голосе сказал он. – Я это за месяц зарабатываю.
Не могу сказать, чтобы я когда-нибудь видел столько денег одновременно. Пачка, которую он держал в руке, равнялась сумме моей и бабушкиной пенсий за полгода. Ребята тоже были не из состоятельных. Было непонятно, какой реакции ожидал Иван. Восхищения? Удивления? Зависти? А оно того стоит? Поэтому и я, и ребята, посмотрев на деньги, почти сразу же вернулись к прерванным занятиям. Лишь Алексей что-то очень коротко буркнул.
– Чего ты сказал? – взвился Иван.
– Заработаем, я говорю, когда надо будет, – Алексей окончательно отвернулся, и решительно сделал свой очередной ход шашкой, давая понять Ивану, что для него тема исчерпана.
Я повернулся в сторону Ивана. Он увидел мое движение и стал перебирать деньги в руках. Закончив считать, медленно начал впихивать пачку купюр в бумажник. При этом продолжал бросать на меня короткие взгляды.
С этого дня он стал опасаться за сохранность своего богатства. По вечерам, а также в выходные, Иван куда-то надолго уходил, как он выражался «смотреть Москву». В эти часы мы просто отдыхали. Все же очень утомительно постоянно находиться в обществе человека, который относится к тебе с подозрительностью, граничащей с ненавистью. Самым обидным было то, что у него не было для этого никаких оснований.
Возвращаясь в палату после прогулок, он обязательно подходил к своей тумбочке, вытаскивал бумажник и, улегшись на койку, пересчитывал деньги, изредка бросая на нас взгляды. Мы находились под подозрением.
У Ивана было что-то с плечом правой руки. Врачи подозревали опухоль и положили его на обследование. Как и полагалось в таких случаях, нужно было ждать результатов. Боли в плече Иван ощущал постоянно. Но прошло уже две недели, а диагноз так и не был установлен. Все шло к тому, что нужно делать биопсию больной кости. Эта процедура проводилась под общим наркозом. И вот как раз на наркоз Иван соглашаться не хотел. Кто-то когда-то сказал ему, что наркоз влияет на сердце.
Временами Иван вел себя абсолютно нормально, тогда с ним можно было поговорить. Когда он говорил о семье, о своей жизни, его широкое скуластое лицо становилось совсем другим. В нем не было ни презрительности, ни подозрительности. Каким-то образом с лица слетала маска грубияна, и оказывалось, что перед тобой обычный парень с очень нелегкой жизнью за плечами. С жизненным опытом, немалым для его двадцати восьми лет, знавший нужду и много работавший. Становилась понятной его воспаленная любовь к банковским билетам и привычка оценивать всех и все только в денежном эквиваленте.
Иван родился где-то в Калужской области, в небольшом селе. Там же закончил восемь классов, но в техникум или училище идти не захотел. Его можно понять. Мать одна растила его и младшую сестру. Отца в семье не стало очень рано, а почему так случилось, Иван не рассказывал. Некоторые темы он вообще отказывался обсуждать. Было, однако, понятно, что отца Иван помнил.
После окончания восьми классов он пошел работать, и работу выбирал самую тяжелую, потому что за нее и платили тогда хорошо, но чтобы получать еще больше денег, он уехал в Тюмень. Тогда с экранов телевизоров «сходил» в народ образ рабочего, осваивающего самые отдаленные уголки Советского Союза. Иван рассказал, что как-то увидел по телевизору передачу о тюменских нефтяниках. Один из них поведал в интервью про хорошие заработки и тем самым «благословил» Ивана на решение ехать в Тюмень. Правда, сведения насчет зарплаты Иван все-таки перепроверил. Убедившись, что деньги там действительно светят большие, парень со спокойной душой уехал осваивать нефтяные месторождения. Так сказать, «присосался к недрам».
И не пожалел. Потому что, во-превых, он теперь зарабатывал достаточно денег. Достаточно для того, чтобы иногда отсылать их матери и сестре. Во-вторых, еще и потому, что встретил в Тюмени девушку, на которой женился. Что «во-превых», что «во-вторых», эти акценты расставил сам Иван. Видимо, для него, помнившего нужду, вылезти из нее, зарабатывая достаточно средств, чтобы содержать не только себя, но и семью, эти акценты и были – истинными.
После свадьбы Иван совсем недолго жил с женой в общежитии. Ему повезло, потому что квартиру они получили еще до рождения своего первенца. А теперь у него четверо детей: три дочки и сын. Своей семьей Иван очень гордился, это хорошо было видно по его лицу. Когда он говорил о «своих», оно становились непривычно добрым.
Иван лежал на кровати, делая вид, что увлечен газетой. Вообще, видеть его читающим, было непривычно. Книг он не признавал совсем. Газеты иногда оказывались в его руках, но, как правило, он рассматривал страницы с объявлениями. По вечерам он обычно уходил из клиники на прогулки по Москве, однако в этот вечер никуда не пошел. Утром Иван узнал, что его опухоль не представляет никакой опасности. Пока не представляет. Опухоль не была злокачественной, но могла ей стать в будущем. А могла и не стать.
Как-то Сергей Тимофеевич немного рассказал нам об опухолях, как они могут появляться. А также о том, что доброкачественные опухоли могут превращаться в злокачественные. Врачи предложили Ивану решить, удалять опухоль сейчас или отложить на «потом». В этом случае он должен будет приехать в клинику через полгода для обследования.
Кроме нас, в палате никого не было. Оба наших соседа ушли. Даже в больнице жизнь продолжала бить ключом. Два дня назад они обнаружили в соседней с нами женской палате присутствие девушек и вот отправились на встречу.
Я в тот момент занимался своим обычным делом, разрабатывал руку. В какой-то мере делал я это еще и оттого, что больше ничего делать был не в состоянии. Иван иногда отвлекался от «чтения» бросая взгляды в мою сторону. Он явно хотел поговорить, только что-то его останавливало.
– Как думаешь, мне соглашаться на операцию? – он приподнялся на кровати, опершись на локоть.
– Это ты сам должен решать.
– Не хочу я ложиться под наркоз. Мне ведь сказали, что я могу жить с этой опухолью еще очень долго.
– Но ты же сам говоришь, что боли сильные.
– Последнюю неделю боли почти пропали.
– В любом случае, решать должен только ты, – повторил я, ставя точку в разговоре. Это было только его дело.
– Я знаю. Все равно под наркоз сейчас ложиться не хочу. Вполне может быть, что опухоль больше не будет расти.
– Может быть, а может и не быть. Может проще перетерпеть сейчас и потом быть спокойным, – мне этот бессмысленный разговор был неприятен. Все слова произносились впустую. Если он принял решение, то зачем спрашивает? Ну, а если решения до сих пор нет, то я ничем ему помочь не могу. Брать на себя ответственность за чье-то здоровье? Извините…
– Если сам не можешь решить, позвони жене. Спроси ее, что она об этом думает, – я надеялся, что он, наконец, отстанет от меня – своих проблем выше крыши.
– Завтра она мне должна позвонить. Завтра и спрошу.
Иван откинулся на подушку и снова взял в руки газету.
Я, так же как и он, вернулся к прерванному занятию. Однако заниматься своей рукой долго не пришлось. Минут через пять «чтение» газеты Ивану наскучило. Или, скорее всего, у него не было больше сил сдерживать свое мрачное любопытство.
– Зачем ты живешь? – совершенно внезапно спросил он.
– В каком смысле?
– Почему ты живешь?
– Я не понимаю?
– Ну, вот какая от тебя польза?
Вопрос был конкретный и застал меня врасплох. Не потому, что я никогда не задумывался над этим. Напротив. Как раз ответы на подобные вопросы я мучительно искал, когда стал осознавать, что окружающие не воспринимают меня всерьез, потому что видят во мне болезнь и ничего кроме болезни. Но в тот момент простых и ясных ответов у меня не было. Конечно, я понимал, что делать что-либо нужное, приносить пользу людям – все это не является непосильной задачей для меня. Даже если я не имею возможности передвигаться, и даже если мои руки не работают в полную силу, все равно можно найти себе занятие, плоды которого будут востребованы окружающими. Это было понятно мне, но выразить свои чувства и мысли словами я еще не мог.
– Что ты предлагаешь?
– Почему ты не удавишься? Ну-у, это… Почему не повесишься?
– А почему ты об этом заговорил?
– Потому что, вот смотри, ты – живешь. На твое лечение тратят деньги. Государство тебе платит пособие. А в то же время кому-то, кто может передвигаться, у кого нет проблем со здоровьем, может не хватать денег. На еду или на квартиру.
Он уже сидел на кровати, говорил горячо, при этом размахивая руками. Но что-то в его логике не связывалось.
– Если у человека нет проблем со здоровьем, и он может ходить, то, очевидно, он сможет сам заработать деньги? Вот, как ты, к примеру.
– Да, конечно, может. Но вот пока ты живешь, на тебя, сколько всего расходуется? В то же время у кого-то это все забирается.
– Я понял. Но вот что ты предлагаешь?
– На твоем месте я бы давно повесился. Зачем жить? – он смотрел на меня, очень внимательным взглядом.
– Знаешь, не дай тебе Бог, оказаться на моем месте, – я искренне не желал кому бы то ни было пережить хотя бы малую толику того, что довелось пережить мне. Было непонятно, почему Иван вдруг заговорил об этом.
Ему-то, на своей буровой, в окружении жены и четырех детей, какое дело до моей жизни и смерти?
– Я бы, правда, не смог так жить. Семьи у тебя быть не может. Работать нормально ты тоже не сможешь никогда. Никакой пользы. Зачем?
Высказавшись, он облегченно вздохнул, всунул ноги в ботинки, стоявшие рядом с кроватью, и вышел в коридор, оставив меня наедине со своими мыслями. Злости в его словах не было. Обидеть он меня не смог. То, о чем говорил Иван, я сам тысячекратно прокачивал через свое сознание.
Так, жить или не жить? Вряд ли кто-нибудь еще столько раз задавался гамлетовским вопросом, ответом на который были не аплодисменты зрительного зала, а вполне конкретная – моя – жизнь. Иван не знал, сколько раз я был на грани, сколько раз я приходил к решению о том, что жить дальше нет смысла. И столько же раз что-то останавливало меня, и я продолжал жить.
Почему? Боялся ли я умереть? Трудно сказать. Точно знаю, что физическую боль – эту одну из составляющих страха – в расчет я не брал. Натерпелся и притерпелся за всю жизнь и был вполне согласен еще немного помучиться, чтобы навсегда избавиться от плотских страданий, переполнявших мое тело.
Может быть, сердечные человеческие отношения, финансовое процветание и заманчивые планы на будущее останавливали меня? Тоже нет. Друзей у меня не было, родные от меня отказались, а в ближайшем и оставшемся будущем меня ожидали тридцатисемирублевая пенсия по инвалидности и казенный дом-интернат с казенной едой, казенными одеялами, казенными отношениями, казенным милосердием и казенными похоронами. Ужасное место, оказаться в котором для меня было все равно, что заживо лечь в могилу. Мысли об интернате, одиночестве и постепенном погружении в трясину слабоумия вызывали ответные мысли о самоубийстве, которые время от времени заполняли все мое существо.
Вот только в самый последний момент, в самые черные минуты отчаяния что-то удерживало меня от рокового шага. Так что же? Может быть гамлетовский «страх чего-то после смерти»? Не знаю. Если вдуматься, то мое земное существование, лишенное всего самого дорогого для человека: общения с друзьями и женщинами, плодотворной работы, рождения и воплощения идей, знакомств, открытий, путешествий… лишенная подвижности, а значит, и всего с ней связанного, замурованная в четырех стенах, моя жизнь мало чем отличалась от Вечной Безмолвной Пустоты – того что, как мне казалось, ожидало меня за порогом бытия. Так чего мне бояться? Загробного одиночества? Это слишком… Я был бесконечно одинок и несчастен сейчас, и, конечно же, не боялся, что стану еще более несчастным, перейдя в мир иной. Мое атеистическое мышление категорически отвергало маловразумительное горение в адском пламени, которое полагалось мне как самоубийце и которое на фоне неутихающей боли от переломов воспринималось чем-то вроде детской страшилки на ночь.
Нет, не страх «чего-то после» удерживал меня от рокового шага, не страх был спасителем моей жизни. Спасителями и хранителями ее были Иллюзия и Надежда. Великая Иллюзия, что, несмотря на болезнь, я такой же, как другие люди, что я имею право на достойную жизнь, и Великая Надежда, что когда-нибудь так произойдет. Но это будет возможным только в том случае, если я буду жить.
Я живу – пытаюсь нащупать свой путь, рвусь использовать любую возможность, малейшую лазейку, чтобы добраться, доползти до своей цели. Но почему даже в такой малости мне отказывают? Сам же Иван, прежде чем крепко встать на ноги, прошел через много чего, нахлебался трудностей под завязку, полной ложкой, от души. Уж он-то, казалось, должен воспринять мои усилия, как нормальную человеческую потребность. Но не воспринимает. В его сознании сформировался свой собственный мир, где для успеха нужны крепкие кости и мышцы, нахрапистость и всегдашняя готовность драться за свои интересы, и в этом мире нет места таким, как я. Почему? Ведь я не стою на его пути, на многое не претендую, многого мне просто не надо – я всего лишь пытаюсь найти свою дорогу в жизни, преодолеваю, как могу, трудности и терплю. Я хочу всего лишь, так же как Иван, жить, осознавая нужность своего существования. Всего лишь найти возможность самому себя обеспечивать, а не прозябать на подачках государства, питаться не тем, что оно положит в мою миску, а тем, что я сам себе смогу позволить и сам выбрать. Потребуется сидеть на хлебе и воде? Буду сидеть. Главное, чтобы это был мой хлеб, а не казенный. Я хочу жить осмысленной жизнью, своей, а не той, которую навязывает мне безликое государство. Но Иван предлагает мне умереть. Почему? Потому что видит во мне не человека, а исковерканное болезнью тело, от которого обществу нет никакой пользы. Но ведь это же не так, Ваня!
Может быть, добровольная смерть – это выход. Может быть. Если она добровольная. Но меня к ней насильно подталкивали жизненные обстоятельства. Толкали усердно, не отвлекаясь. Они непрерывно сжимали вокруг меня пространство, вынуждая подвести, наконец, последнюю черту. Они давали мне понять, что здесь, в этой жизни я лишний, ненужный, никчемный и несчастный, обреченный на постоянные физические и моральные мучения, на абсолютную зависимость от опекунов. Когда же я не понимал намеков, мне предлагали вот так прямо, без дипломатических ухищрений, взять и «повеситься».
Но я не люблю, когда меня берут за горло. Да, я организовал для себя «запасной выход». Но потому он и запасной, что может не пригодиться. Никогда. Потому что мой сознательный выбор всегда был один – жизнь, а «неприкосновенный запас» – это на случай катастрофы. Которой пока не было.
Мою смерть вряд ли кто заметит. Для родных я уже мертвый, а государству вообще «по фигу», хотя, когда пришел срок идти его защищать, не только завалило меня повестками, сам военком, поеживаясь, прибежал в санаторий проведать «хитрожопого инвалида». Так какой резон мне умирать? У Смерти вариантов нет.
Зато они есть у Жизни. Жизнь еще дает мне шанс на успех. И я очень хочу попробовать его на вкус: оказаться в гуще событий, участвовать в них, влиять на них, помогать другим людям и, по возможности, ни от кого не зависеть. Не хочу быть жалким недочеловеком, сваленным в вонючую лужу на обочине – не для этого я родился.
И главное: жить мне или умереть – буду решать только я сам. Советчиков прошу – не беспокоить.
Через неделю Иван выписывался. Поговорив с женой, он определился. Операция пока она не являлась жизненно необходимой, откладывалась на «потом».
Ему дали направление приехать через полгода, на обследование. Окончательно поняв, что едет домой, парень очень обрадовался.
Все произошло примерно так же, как и в тот вечер, когда Иван решил поговорить о целесообразности моей жизни. Мы были в палате одни, когда совершенно неожиданно Иван встал и подошел ко мне.
– Мне нужно с тобой поговорить, – сказал он, садясь на мою кровать.
Это меня удивило.
За все время, проведенное вместе с нами, я успел заметить, что Иван брезговал мной. Подавая мне что-нибудь по моей просьбе, он всегда старался сделать это так, чтобы ни в коем случае не коснуться меня. Тем более, он старался не приближаться ко мне, если в этом не было крайней необходимости. На мою кровать он сел впервые.
– Я хотел у тебя занять денег, – голос у него был просительный. Сделав небольшую паузу, он добавил: – На билет до Тюмени.
– У тебя же есть деньги?! – удивился я.
– Нет. Я все растратил.
Вообще-то, это было не мое дело, но об одолжении он просил меня, поэтому я все же решил спросить:
– На что ты мог это растратить? У тебя же было несколько сотен. Ты же сам показывал нам.
– Было. А сейчас нет, – в голосе его появилась злость.
– У меня есть немного денег. Но это все что у меня есть и взять мне больше неоткуда.
– Я знаю. Ты не переживай. Я, как приеду домой, сразу тебе деньги вышлю, – он говорил уверенно, и я проникся ощущением, что проблем с возвращением не возникнет.
– А ты что, не мог жену попросить тебе деньги выслать? – отдавать последнее, что у меня было, не очень-то и хотелось. Что-то меня напрягало. Но Иван просил о помощи, и отказать значило еще раз подтвердить его рассуждения о моей «бесполезности».
– Пока она мне пришлет, пройдет дня два или три. К тому же, когда я с ней разговаривал, она сказала, что сейчас в семье с деньгами проблема. Я не работаю. Уезжая, я оставил ей денег, но за полтора месяца она все потратила. Дети все же.
Он меня убедил. В конце концов, чем я рисковал? Не могло же случиться так, чтобы он меня обманул. Он ведь прилично зарабатывает.
– Возьми у меня в сумочке, – я указал на тумбочку. – В верхнем ящике. Только, у меня всего семьдесят пять рублей, и больше нет.
– Да, да! Я знаю, – он открыл ящик и вытащил из сумочки все деньги, которые у меня были.
– Ты мне, правда, пришлешь? – еще раз я переспросил, надеясь, что по моему вопросу он поймет, насколько это для меня важно.
– Конечно, пришлю. Не переживай!
– Пожалуйста, пришли! Не обмани! Мне взять не у кого. А мне тоже скоро домой нужно будет ехать. Я и так за эти два года ни копейки не потратил, – я вдруг обнаружил в своем голосе умоляющие нотки. Видимо то же самое заметил и Иван.
– Ну, что ты ноешь? – раздраженно поморщился он. – Конечно, верну. Для меня это – копейки. Ты что думаешь, я из-за копеек стану кого-то обманывать?
После его слов я окончательно успокоился. В конце концов, он был мужчина, нефтяник, северянин, глава большой семьи. Мужики слово держат.
Иван уехал. Перед тем как распрощаться, он оставил мне свой домашний адрес. На тот случай, если понадобится написать ему письмо с напоминанием о долге. «Но ты не переживай. Писать письмо не придется. Деньги я пришлю без напоминания», – заверил он на прощание.
С правой рукой, несмотря на регулярные тренировки, не все ладилось. Чувствительность полностью восстановилась, но мышцы были очень слабы. Кость, которая держалась благодаря металлическому стержню, не давала ощущения надежности. Когда я пытался поднимать руку, то ясно чувствовал неприятное движение внутри.
Как-то вечером, разрабатывая непослушные мышцы, я внезапно вздрогнул от резкой боли в локте. Это было похоже на укол очень большой иголкой. Одновременно что-то знакомо хрустнуло в плече.
С трудом повернув руку, я осмотрел «место происшествия» и… чуть не потерял сознание. Мой локоть выглядел неестественно острым, к тому же он «вырос» сантиметров на пять. Кожа на конце была сильно натянута и побелела.
Не на шутку испугавшись, я позвал медсестру. Та, осмотрев локоть, только забинтовала руку и посоветовала вообще не шевелиться. Я и сам это отлично понимал. Кожа на конце локтя была натянута практически до предела – одно неосторожное движение, и то, что выпирало, могло прорвать тонкую оболочку… можно было только гадать, что произойдет дальше. Срочно нужен был врач.
Профессора Зацепина ожидали только к утру, и все то время, которое предстояло провести, дожидаясь его, рисовалось в очень мрачном свете. Так оно и вышло.
Всю ночь я не мог заснуть. Дело было даже не в боли, которой тоже хватало, главное – я боялся задремать и пошевелить рукой. Переместить руку даже на миллиметр по кровати казалось непосильной и опасной затеей. Именно поэтому боль в руке, которая не отпускала меня, оказывалась в некотором роде спасительной болью. Она не давала мне заснуть.
Наконец, утром появился Сергей Тимофеевич. Бросив быстрый взгляд на мой локоть, он, не сказав ни слова, стремительно вышел из палаты. Спустя три минуты в коридоре послышался грохот каталки. Приехали за мной.
– Куда едем? – спросил я у медсестры, стараясь улыбаться.
– В операционную, – ответила она очень буднично.
– Как, в операционную? Меня ведь не готовили к операции.
– Ты со своей рукой всех на уши поставил.
В операционной меня уже ждали. Все были в масках, но узнать присутствующих не составляло труда. Кроме Сергея Тимофеевича и Тамары Николаевны здесь находилась операционная медсестра. Самым загадочным было то, что анестезиолога не было видно.
– Здравствуйте, Сергей Тимофеевич! – произнес я, стараясь, чтобы приветствие прозвучало весело.
– Я тебя уже видел десять минут назад. – Зацепин был сосредоточен, но тревоги в голосе не было, и я успокоился.
– Да, а что я здесь делаю?
Вопрос мой прозвучал почти с такой же обезоруживающе наглой интонацией, как и у любопытного мальчишки-пионера в знаменитом советском фильме «Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен!»
– Сейчас я тебе удалю этот штифт, – Сергей Тимофеевич не поддержал мой шутливый тон. – Не хотел я этого делать, но выхода нет. Он сам просится наружу.
– А я уже поел утром. Меня от наркоза стошнить может.
– Мы без наркоза обойдемся.
– Отвернись! Быстро голову в противоположную сторону! – Строгий приказ Тамары Николаевны я услышал в тот момент, когда повернулся, стараясь рассмотреть, что там с моим локтем. Единственное, что удалось разглядеть, это как мою руку в районе локтя густо обмазывают йодом, да еще я увидел Сергея Тимофеевича со скальпелем в руке и Тамару Николаевну – со шприцем. Спустя пару секунд я ощутил укол в руку – мне сделали местную анестезию.
– Подождем немного, – это говорил Зацепин.
Я скорее услышал, чем почувствовал, как под скальпелем потрескивает кожа. Мой локоть разрезали, и, судя по тупой, очень тупой боли, разрезали как раз в том месте, куда уперся этот злосчастный штифт.
Затем я снова услышал, а не почувствовал, как позвякивает металл о металл.
– Ах! – боль была очень резкая. Казалось, что у меня выдергивают руку.
– Не кричи, уже все закончилось, – спокойно произнес Зацепин. – Можешь повернуться.
Повернувшись, я увидел, как Тамара Николаевна втыкает в мой локоть иголку с ниткой. Колола она там, где только что разрезали кожу. Разрез был совсем маленький, и шов накладывали только один. Зацепин держал в руке что-то хирургическое, похожее на пассатижи. В «пассатижах» был зажат металлический стержень, сантиметров пятнадцати длиной.
– На! Возьми! Это тебе на память. Только что из тебя вытащил. Это все равно твое, – он протянул мне тот самый стержень. – А, подожди немного! Помойте его. Спиртом тоже немного протрите! – он отдал стержень медсестре. – Потом ему верните.
– Спирт – лучше внутрь.
Я шутил, стараясь унять дрожь во всем теле. Все же не каждый день у меня «выдергивали» руку.
– Я тебе покажу – «внутрь», – нарочито строго произнес Зацепин. Операция была закончена, и он расслабился. Впрочем, он всегда готов был пошутить.
– Сергей Тимофеевич, а как же моя рука? На чем она держаться будет?
Спустя секунду он ответил как бы сам себе.
– Не знаю. Скорее всего, ни на чем. Хотел укрепить тебе плечо вот этой железкой, – он кивнул, указывая на штифт. Но, как видишь, пришлось его вытащить. Не захотел он в тебе оставаться. Я постараюсь что-нибудь придумать.
Зацепин будто извинялся передо мной.
– Но, честно говоря, никаких идей у меня нет. Еще немного мы тебя здесь подержим, а потом поедешь домой. С тобой мы все закончили.
Я и так знал, что скоро придется ехать. Наступало время для подведения кое-каких итогов.
Откровенно говоря, ехать «домой» не хотелось. Некуда мне было ехать. Озвучивая слово «дом», я имел в виду лишь конкретное географическое место, точку на карте с названием Астрахань. Чего-то более определенного в моем распоряжении не было.
Что же касается рук, то…
С правой все обстояло плохо. После того как из нее удалили металлический штифт, скреплявший кость, она должна была «рассыпаться». Я знал об этом, но когда она сломалась, очень расстроился, потому что было понятно – этот перелом никогда не срастется. Со временем на его месте образовался, так называемый, «ложный сустав» [5].
А вот левая… Сможет ли кто-нибудь представить мои восторг и радость, когда после снятия повязки я начал пробовать поднимать эту руку? Первые несколько дней я делал все с большой осторожностью, опасаясь переломов. Потом – смелея с каждым новым движением. Наконец, настал момент, когда мои труды были вознаграждены – я смог оторвать руку от простыни.
Если я скажу, что испытал радость, это будет равнозначно молчанию. Разве можно в словах выразить чувство слепого, совершенно внезапно прозревшего и увидевшего солнечный свет, зелень деревьев, радугу, про которую ему так много рассказывали, и лица, заочно любимые лица не предавших его людей?
Я ощущал что-то подобное, неописуемое. Впервые я перемещал руку, не цепляясь пальцами за простыню или майку. Впервые я поднимал ее и не боялся, что от напряжения мышц она сломается. Впервые я мог есть ложкой, перемещая ее рукой, а не пальцами. Итак, моя борьба оказалась не напрасной. Результат был не триумфальный, но это была победа. Уверенная и надежная работа левой руки гарантировала мне определенную самостоятельность и независимость. А с этим уже можно жить. Вот только где?
В конце июня ко мне подошел Сергей Тимофеевич и сказал, что через две недели они меня выписывают. При этом он спросил, приедет ли за мной кто-нибудь? Что я мог ему ответить? Только правду: что я никому не нужен, и приезжать за мной некому. Зацепин пообещал подумать, как отправить меня в Астрахань.
Еще одной неприятной проблемой оказалось отсутствие денег. После того как Иван выписался, я целый месяц ждал, что он вернет долг, но не дождался. Попробовал написать ему письмо. Но письмо вернулось. С адресом он меня тоже обманул. Я, конечно, мог узнать его настоящий адрес из истории болезни, которая хранилась в институте, но решил этого не делать. Что проку? Он все равно бы не ответил.
Мне было тяжело осознавать этот незаслуженный обман. Но его надо было осмыслить. Я припомнил наши откровенные беседы и понял, что Иван, несмотря на заверения, и не собирался возвращать долг. Иван, почти религиозно относящийся к деньгам, считал унизительным, что его божество будет принадлежать, пусть даже в мизерных количествах, такому, по его убеждению, бесполезному для государства человеку, как я. Ведь по Иванову разумению я – тунеядец. Это он – рабочий, трудяга, пахарь – нужный гражданин. Он добывает энергоресурсы и создает все ценности в этом государстве. Он полезный человек, а я бесполезный. Так вот, он, как полезный пролетарий, имеет право не возвращать деньги бесполезному инвалиду, на которого государство и так изрядно тратится из богатств, созданных Иваном. Да что там говорить, заняв у меня деньги, он просто «вернул свое». Ведь это он всю жизнь вкалывает и платит налоги на мое содержание. Я же ни одной минуты не трудился, значит, задолжал ему за всю его рабочую биографию.
Подобные соображения, в той или иной форме, Иван постоянно высказывал в наших разговорах, и с моей стороны было наивно рассчитывать, что он вернет долг. Но, хоть я и не испытывал к нему нежных чувств, тогда, в тот памятный вечер, он просил меня о помощи. О помощи! Он – сильный, меня – немощного. Этим Иван словно признавал меня равным. И как бы я не хорохорился, но на тот момент эмоции заглушили во мне все. До него никто не просил меня об одолжении, о помощи, помогали всегда мне. А я мечтал быть нужным. И хотя было страшно, откровенно страшно – отдал последние деньги. А что делать теперь? Я решил оставить это на его совести и успокоился. Только признался Сергею Тимофеевичу и Тамаре Николаевне, что у меня нет ни копейки денег. И что ехать домой мне не на что.
Сотрудники отделения скинулись мне на билет, на самолет до Астрахани. И на билет для медсестры. Валентина Александровна работала в нашем отделении и вызвалась ехать со мной в качестве сопровождающей.
…Я прожил два года там, где впервые в жизни меня лечили. Впервые мне прооперировали руки и помогли. Два года были прожиты не зря. Впервые я встретил людей, которые отнеслись ко мне как настоящие Медики. Они помнили и чтили данную в юности клятву Гиппократа. Они заботились обо мне так же, как о прочих больных, и за моим исковерканным болезнью телом разглядели меня самого.
Я был безмерно благодарен этим людям за то, что мог теперь действовать рукой. Это была только одна, левая рука, но я не боялся ею работать. Теперь, поднимая руку, отрывая ее от простыни, беря ложку, чтобы есть, или ручку, чтобы писать, я не трепетал в ожидании того страшного для меня «ххррууста» и следующей за ним жгучей боли. Уже ради этого стоило лежать два года в отделении костной патологии ЦИТО. Ради этого стоило ожидаемо умирать под наркозом и незапланированно оживать, благодаря профессиональному мастерству оперировавших меня врачей.
До сегодняшнего дня я не могу выразить всей признательности, переполняющей меня при воспоминании о врачах и медсестрах ЦИТО, о том, что они для меня сделали. Невозможно передать то чувство благодарности, которое было у меня тогда и живет во мне до сих пор.
Я понимал, что, покидая Москву, возвращаюсь туда, где у меня нет никого и ничего. Отныне я вынужден буду жить там, куда больше всего боялся попасть. Значительная часть моей жизни прошла в так называемых «казенных» заведениях. В местах, где едят по расписанию, спят по расписанию. В общем, где по расписанию живут. Только умирают вне расписаний. Я жил в больницах и в санатории. Но я верил, что это – не вечно и что – рано или поздно я смогу выписаться оттуда домой.
Теперь, возвращаясь в Астрахань, я знал, что с момента моего попадания в так называемый государственный дом-интернат для престарелых и инвалидов я стану собственностью государства, полностью зависящей от произвола его служащих, лишенный малейшей возможности хоть на короткое время отдохнуть от его круглосуточной, равнодушной, губительной опеки. Самое страшное – у меня исчезнет надежда когда-нибудь заиметь дом, семью, друзей. У меня не будет ничего. Возвращаясь в Астрахань, я получал то, чего больше всего боялся.
Но другого выхода не было. Я понимал – шансов вырваться из этого заколдованного круга практически нет. Вероятность того, что я смогу осуществить свою мечту – жить не только для себя, но и быть нужным людям, не абстрактному обществу, а конкретным людям, близка абсолютному нулю. Надежда, этот маленький, склеенный моим воображением кораблик, перевозивший мечту о том, что я смогу прожить свою жизнь не зря, тонула в пучине реальной жизни. И помощи не было.
Выбор – был. Была еще возможность прекратить эту жизнь и ничего больше не пробовать и не мучаться. И все же я решил попробовать. Прекратить я мог позже, в любое время. Сдать все позиции без попытки переломить упрямство судьбы – слишком бездарный вариант, чтобы на нем остановиться. Я буду пытаться. Пока что-то мне удавалось, но чего-то я и лишался. Закончил школу в санатории и оказался без будущего, получил телефон – лишился отца, поступил в институт – отказали руки, вымолил у Горбачева направление в ЦИТО – лишился дома, восстановил подвижность левой руки, обрел уверенность в будущем – направляюсь в место, где никакой перспективы нормального человеческого существования у меня нет, а есть альтернатива: медленная интеллектуальная деградация и физическое умирание или быстрая избавительная смерть. Оба варианта меня не устраивали. Я лихорадочно пытался искать еще какой-нибудь и не находил. «На месте… на месте… решать надо на месте… не надо забегать вперед… на месте… будем смотреть на месте…» – твердил я себе, пока самолет летел из Москвы в Астрахань.
Мы с Валентиной Александровной попрощались, когда она привезла меня из аэропорта в астраханскую Первую областную клиническую больницу.
Я вновь попал в то самое отделение, где провел восемь долгих месяцев в напрасных ожиданиях: сначала – направления в Саратовский НИИ травматологии и ортопедии, потом – операции, легкомысленно обещанной уважаемым профессором. Все тут было знакомо. И все меня знали. И я знал, что на этот раз надолго здесь не задержусь. Областная больница была просто пунктом «пересылки» меня дальше.
Я был потрясен количеством врачей, которых требовалось пройти, и обилием справок, которые нужно было собрать, чтобы попасть в предназначенное мне «убогое» заведение. «В космос они меня запускать собрались что ли, гады», – обреченно думал я, приезжая в очередной кабинет. Кроме врачей, исследовавших все мои органы, слух, зрение и прочее, я должен был пройти осмотр у психиатра. На мой непроизвольный вопрос: «А зачем?» – получил твердый и мотивированный ответ: «Чтобы направить вас в учреждение по профилю». Я проникся ответственностью момента. Наивный.
Это была женщина лет сорока, не помню, как выглядела, помню только умный и внимательный взгляд, который она устремила на меня, сев рядом на стул.
– Я – психиатр.
– Можно я с вами поговорю.
– Конечно, вы же для этого пришли.
– Можете ли вы читать?
– Учился когда-то…
– Прочитаете вот это?
Она дала мне книгу с уже открытой страницей. Не помню текста, помню только, что книга почему-то была перевернута, что называется, «вверх ногами». Я удивленно посмотрел на психиатра, тем не менее, прочитал несколько вывернутых строк. Потом демонстративно перевернул книгу.
– Извините, мне так удобнее…
– Все. Нормален.
– Спасибо.
Она при мне написала какую-то справку и расписалась. Это был самый запоминающийся осмотр, самым запоминающимся специалистом, все остальное проходило заурядно и неинтересно.
В то время пока я морально готовился перейти к другому образу жизни, в мир, так сказать, иной – «государственно-патронажный», в больнице собирались справки, которые нужны были для этого перехода. Как говорится – «без бумажки ты букашка, а с бумажкой…» Кстати, ощущения мои тогда напоминали именно букашкины страдания. Я постигал полную свою ничтожность перед заглатывающей меня государственной Системой социального обеспечения.
Из бабушкиной квартиры я выписался. Медсестра, которая занималась этим, принесла мой паспорт, где красовалась печать, удостоверяющая мое «выбытие», там же в паспорте находилась какая-то бумажка. На ней было написано и заверено печатью, что я действительно более не проживаю в той квартире, в которой проживал. В общем, просто еще одно подтверждение того, что я превратился в бомжа.
Итак, во всеоружии, как мне казалось, то есть со всех сторон осмотренный, утвержденный и проштампованный, – я приготовился к финальному эпизоду своей несложившейся жизни.
Happy birthday to you!
По странному совпадению мое переселение в «другой мир» было назначено и предпринято в день моего рождения. Мне исполнялось двадцать три, и происходило это 23 августа 1988 года. Вместо поздравлений и именинного пирога меня ждала дорога в мой ад.
Август в Астрахани – жаркий месяц. А ехали мы часа два с половиной. Самое ближайшее для меня место «по профилю» оказалось в сельской местности, в Камызякском районе, и называлось «Волго-каспийский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Поездка получилась мучительной, с двумя паромными переправами. Если учесть то, что в том году я перенес две операции и еще не вполне от них оправился, если учесть, что дороги в Астрахани оставляют желать лучшего до сих пор, а тогда это было… Каждый толчок на кочках и ухабах отдавался болью. Если добавить августовскую жару… В общем, поездка была настоящей пыткой.
Доехали мы к полудню. Жаркое солнце прокалило насквозь машину. Все мое белье было мокрым от пота, кожа невыносимо чесалась, от тряски ныл позвоночник, вдобавок разболелась голова. Медсестра, сопровождавшая меня, пошла искать, кто бы меня принял. Минут через пятнадцать вернулась. Врача не было. Никого не было. Дом-интернат находился в сельской местности и, как раз в это время, все разошлись по домам, на обед. Нужно ждать.
Прождав часа полтора, медсестра пошла снова. Вернулась она на этот раз уже через полчаса.
– Едем назад. Не принимают.
Нет справки психиатра. Точнее – она есть, но нет печати удостоверяющей, что ты нормальный.
– Едем. Она сказала, так положено.
«Она сказала» и «так положено». Ключевые выражения. Спорить бесполезно. Мы поехали назад. Тем же путем, по тем же ухабам и кочкам, по той же жаре. Никто, пока мы находились на территории дома-интерната, даже не вышел к машине, чтобы посмотреть на новосела, предложить воды – жара все-таки. Да в общем-то я и не хотел воды. Может быть, и хотел, но в то время уже не мог думать о воде. Ни о чем я думать не мог. Было пусто. Пусто, как будто что-то выгорело и в душе, и в голове. В больницу мы вернулись часам к пяти дня. В общей сложности в этот день я восемь часов провел в раскаленной машине.
Нас встретили с недоумением. Уже заканчивался рабочий день, и, отправляя меня утром в путь, увидеть меня вновь никто не рассчитывал. Вообще в больнице я был нежеланный пациент. Во-превых, просто занимал койко-место, которое было нужно другим. Во-вторых, не очень хотелось врачам вообще видеть меня, после того «лечения», которое они учинили мне два года назад. Но я вернулся.
Печать поставили на следующий день, и я предпринял вторую попытку перемещения на свое новое, и как я верил, последнее место жительства. На этот раз я летел вертолетом. Это была государственная премия. Не мне, конечно, а той растыке, которая забыла поставить печать на злополучной справке. Из-за капли чернил сжечь тонну керосина…
Меня на машине довезли до аэропорта, через заднюю дверь загрузили в брюхо этого железного насекомого. Я впервые летал на таком «чуде техники». Вертолет был небольшой, предназначенный для перевозки больных из сельских районов в областную больницу. Так называемая «Санавиация». Шум стоял дикий и заглушал не только слова, но даже мои собственные мысли. Я лежал на носилках, которые стояли на полу вертолета, и каждой клеткой ощущал вибрацию двигателя.
Погода в этот раз стояла облачная, и летели мы значительно меньше, чем накануне тряслись в машине. Приземлились метрах в пятистах от того самого дома, куда целеустремленно и последовательно помещали меня то ли обстоятельства, то ли государство, которое таких, как я, предпочитало содержать в медико-социальных резервациях. Через некоторое время к вертолету подошла машина и меня «перегрузили».
Минут через десять, после того как медсестра пошла показывать мои документы в «приемный покой», она вернулась.
– Возвращаемся.
– Как?! – я был близок к истерике. Я не стремился в это место, но хотел, очень хотел, чтобы, наконец, закончилось это одуряющее состояние неопределенности. Чтобы можно было начать думать о том, «что дальше»; чтобы можно было осмотреться на новом месте, осмыслить ситуацию и пытаться, пытаться искать какие-нибудь пути к спасению, ну а в случае неудачи, когда придет ощущение окончательной катастрофы, – воспользоваться «запасным выходом» и уснуть навеки, осознавая, что сделал все, что было в моих силах.
– Возвращаемся, – повторила медсестра. – Нет справки о том, что ты действительно выписан из квартиры.
– Какой справки?!
В тот момент я совсем забыл о бумажке, которую вложили мне в паспорт. Машина двинулась к вертолету. Я ничего, абсолютно ничего уже не понимал. Мозг лихорадочно работал и заставил меня залезть в сумочку, где лежали документы.
– Может вот это – та самая справка? – я вытащил из сумки и протянул медсестре бумажку с печатью.
– Да, наверное…
Машина остановилась, потом развернулась. Подъехали. Медсестра исчезла и быстро вернулась, довольная.
– Да, это она. Приняли.
Носилки извлекли. Рядом с машиной стояла женщина в белом халате.
Я заметил ее ошалелый взгляд и услышал: «А-а-а… если б я знала, что он в таком состоянии, я бы приняла его еще в первый раз…»
Ну, не… Стоп! Лучше помолчать.
Меня внесли. Я огляделся. Стены, выкрашенные грязно-голубой краской, низкий пожелтевший потолок с длинной, молниеобразной трещиной, пролетевшей от двери к окну. Маленькая тесная палата. Три койки. Соседи. Один – по виду ему за семьдесят – непрерывно и пристально смотрит на меня малоосмысленным взглядом и беззвучно шевелит губами. У него старческий маразм. Второй, вроде немного моложе, все время лежит на койке, зовет няню и разговаривает сам с собой. И зачем, спрашивается, меня осматривал психиатр? В воздухе разлит запах застоялой мочи. Он смешивается с запахом готовящейся на кухне пищи и наполняет пространство вонью разлагающейся жизни…
Маленький сельский дом-интернат, куда свозили немощных и брошенных стариков доживать последние дни – Нараяма [6] районного масштаба. Это был конец. Я чувствовал, что теряю способность рационально мыслить, что меня затягивает, заглатывает черно-красный вихрь эмоций. Перед моими невидящими, залитыми чем-то горячим, глазами бешеным хороводом понеслись картины недавнего и далекого прошлого, чьи-то знакомые лица, ученические тетради, трубки капельниц, спинки больничных коек, фигуры в белых халатах, стены, потолки, каталки… После всего перенесенного, после операций, отчаяния, борьбы и надежд я оказался там, куда больше всего боялся попасть. Какой непостижимый подарок преподнесла мне судьба на двадцатитрехлетие! Палата, в которой я очутился, казалась мне чудовищной ямой, бездной, глубочайшей в мире могилой. Я лежал на дне ее, и глубже было только мое отчаяние: у меня не осталось ни единого шанса выбраться наверх, туда, где свет, где свежий ветер гоняет облака по голубому небу, где люди общаются, дружат, любят, делают работу, воспитывают детей и не знают о том, что существуют такие вот отстойники государственного милосердия, оказавшись в одном из которых, я мгновенно лишился всех своих иллюзий и призрачных надежд на будущее.
Чего ради я морочил людей, правдами и неправдами втягивал их в орбиту своих проблем, вынуждал идти мне навстречу, помогать мне, вкладывать в меня энергию, тратить на меня свое время, чтобы вот так в одно мгновение и моя жизнь, и их труды оказались бездарно замурованными в сельском доме призрения, откуда вырваться можно было только на кладбище? Итогом всех моих усилий и попыток жить «по-настоящему» оказалось койко-место в тесной, пропахшей мочой комнатке убогого социального учреждения. Я делал все возможное, чтобы не попасть в приют, и все же оказался в нем. Для чего надо было бороться на пределе возможностей, если такой печальный результат просчитывался с самого начала моего заболевания? Одержимый наивностью, я надеялся переломить предначертанное, но потерпел полное поражение. И вот, раздавленный, валяюсь со своими носилками на койке и с ужасом понимаю, что лишился всего. Теперь уже никогда у меня не будет друзей и просто добрых знакомых, а значит, никогда не будет человеческого общения, не будет поздравлений с днем рождения, Новым годом, не будет образования, не будет никакой работы, и я никогда не стану нужным хоть кому-нибудь во всей Вселенной. Я не хотел в это верить, но действительная жизнь доказала. Я чувствовал, как воля покидает меня, а вместе с ней уходит и желание что-то делать для своего спасения. Я обречен. У меня не оставалось будущего. Это было написано на стенах и потолке моего нового жилища, это отпечаталось на безучастных, невменяемых лицах моих соседей, это читалось в любопытствующих глазах нянечек, их деловито-прискорбных вздохах: «Бедненький»; это витало в тяжелом, разлагающемся воздухе. Я чувствовал, что даже без помощи снотворного долго здесь не протяну. Просто зачахну. Очень скоро. Неделей раньше, неделей позже – значения не имело. Как уже не имела значения моя жизнь – маленький комок беспомощной человеческой плоти неумолимо затянутый в этот ужасный канализационный сток СОБЕСа – районный дом-интернат для престарелых и инвалидов.
«В какой гроб они меня положат: в стандартный или сделают маленький „на заказ“»? – тупо думал я, подводя итог своей жизни. Я сломался. Сил не было. Внутри меня что-то скулило и подвывало: хотелось плакать навзрыд и одновременно во все горло выкрикивать грязные ругательства в адрес непонятно кого. Меня лихорадило. Я чувствовал, что начинаю бояться большого гроба, и решил обязательно упросить администрацию интерната сделать для меня гроб маленький, по мерке, вроде как именной, чтобы в последний путь уйти как можно более пристойно – раз ничего в жизни не получилось, то хоть в этом…
В первый, самый страшный день поселения в доме-интернате у меня, кажется, «поехала крыша». Было от чего: из столичного лечебного заведения, в стенах которого во мне еще теплилась надежда на будущее, я практически мгновенно переместился в одно из самых бедных сельских госучреждений для умирания. Я ожидал от коротенького, оставшегося мне будущего только плохого, плохого и еще более худшего. И уж конечно не знал, и даже мое воспаленное, полусумасшедшее на тот момент сознание, питавшееся последние годы одними иллюзиями, даже оно не могло предположить, что события уже начинали разворачиваться в обратном направлении, что скоро я все-таки смогу вырваться отсюда, что ровно через одиннадцать лет – в 1999 году, 23 августа (бывают же такие совпадения!) – на свое тридцатичетырехлетие я получу очередной подарок – письмо из американского посольства, которым меня уведомляли об открытии визы и о разрешении на въезд в США. Потерявший волю к жизни, готовящийся к близкому концу, я и вообразить не мог, что проживу еще как минимум одиннадцать лет и что эти одиннадцать предстоящих лет окажутся наполненными такими головокружительными для меня событиями, что воспоминания о них потребуют, пожалуй, другого места и дополнительного времени. А то, что у меня было, – истекло.
Эпилог 13 сентября 1999 года
…В порывистый поток моих воспоминаний ворвался громкий голос бортпроводницы.
– Уважаемые пассажиры! Мы подлетаем. При выходе у вас будет запрошена таможенная декларация и въездные документы. Сейчас я всем раздам анкеты, которые вы должны обязательно заполнить.
Закончив объяснения, она разнесла листочки по креслам. Напоследок подошла ко мне и протянула пару листков.
– Сможешь заполнить?
– Нет. Не смогу.
Я вообще не любил писать, а связавшись с компьютером, последние несколько лет брался за авторучку только, когда требовалось поставить свою подпись. Чаще всего это случалось во время получения пенсии или зарплаты. Однако в тот момент это был не каприз, я не мог писать, потому что лежал в коляске, наглухо прикрученный к ней ремнями. Оставалось просить.
– Вы сможете мне помочь?
– Конечно, помогу, – на лице ее в тот момент отразилось какое-то непонятное для меня облегчение. Видимо, она была довольна тем, что хоть что-то может для меня сделать.
Задав пару вопросов и вписав ответы, стюардесса дала мне ручку и помогла подписать анкету.
– Я сама поставлю дату.
Все это заняло не больше пяти минут. Я ничего с собой не вез, поэтому в большинстве граф анкеты значились прочерки.
– Это все. Возьмешь с собой и отдашь офицеру в аэропорту, – она протянула мне только что заполненные листы. – Скоро будем садиться. Мы уже почти на месте.
Через минуту прозвучало долгожданное: «Пристегните ремни. Мы заходим на посадку в аэропорту города Сиэтл». Я облегченно закрыл глаза (к коляске я был прикручен наглухо, волноваться о ремнях не имело смысла) и открыл их только когда услышал аплодисменты. Все пассажиры, находящиеся в салоне, приветствовали мягкую посадку и отличную работу экипажа. Это была традиция. Не знаю, как она зародилась, но мне понравилась. На внутренних линиях наши люди не хлопали.
Все начали выходить из салона, и через несколько минут в нем остался только я. Бортпроводницы ходили мимо, и, казалось, обо мне забыли.
– А как меня выносить будем? – изобразив на лице улыбку, спросил я у проходившей мимо меня девушки.
– Мы уже сообщили в представительство «Аэрофлота» здесь в Сиэтле. Сейчас придет сотрудник авиакомпании и поможет вам. Вас кто-то встречает?
– Вообще-то, должны встретить друзья, – сказал я, стараясь говорить очень уверенно. При этом на мгновение в голове промелькнула мысль: «А вдруг они не смогли?» Мысль покрутилась в сознании лишь пару секунд и была мгновенно отброшена как весьма нехорошая.
– А сколько времени? – спросил я и после некоторого раздумья уточнил. – Здесь.
– Одиннадцать утра, почти.
Я посмотрел на часы и сообразил, что разница с нашим российским, московским, астраханским временем составляла одиннадцать часов. Я перевел часы и подумал, как это здорово – улететь откуда-то в двенадцать дня, находиться больше одиннадцати часов в полете и прилететь куда-то в одиннадцать часов того же самого, календарного дня.
Прошло еще минут пять, и я начал немного нервничать, но на этот раз уже от жары. Самолет стоял на земле, в иллюминатор светило яркое солнце. Я был открыт для его обжигающих лучей. Вдобавок на мне лежало покрывало, и в тесной коляске мне стало очень жарко. На лбу выступила испарина, одежда на спине намокла. Казалось, еще немного, и под коляской начнет образовываться лужа.
– Он здесь, – услышал я наконец голос бортпроводницы. Ее сопровождал плотный мужчина, лет сорока, в форме «Аэрофлота», одетый в светло-голубую рубашку с черным галстуком. Форменный пиджак он держал в руках. Видимо, жарко было сейчас не только мне.
– Ну и как мы тебя отсюда будем вытаскивать? – дружелюбно спросил он и улыбнулся.
– Видимо, точно так же, как и затаскивали, – ответил я, возвращая ему улыбку.
– Сейчас, я позову на помощь. Один я не вытащу, – сказал он и уже собрался уходить. Его движение сильно меня напугало. Терпеть эту жару даже одну минуту было уже невыносимо. Видимо, испуг нарисовался во все мое лицо, потому что внезапно вмешалась бортпроводница.
– Я могу помочь, – сказала она, и я с огромной благодарностью посмотрел в ее зеленые глаза.
– Я не тяжелый. Спасибо, вам!
Мою коляску вместе со мной подняли выше кресел и понесли сначала по проходу, потом спустили по трапу. Наконец, коляска встала на четыре колеса, и я почувствовал под ними твердое покрытие.
– Вот я и на американской земле.
– Это еще не американская земля, – улыбаясь, но серьезно, поправил меня сопровождающий. – Это все еще территория России.
Он толкнул коляску и сделал пару шагов.
– До свидания! – попрощался я с бортпроводницей стараясь выразить в улыбке всю благодарность, на которую был способен.
– До свидания! – она улыбнулась в ответ.
Работник «Аэрофлота» покатил коляску одной рукой. Второй подхватил мою сумку. Он вез меня по длинному узкому коридору, в котором с обеих сторон были окна, отчего он казался невероятно светлым. Пол, по которому катилась коляска, представлял собой абсолютно ровное покрытие, без единой щелки или неровности. Казалось, я перемещаюсь по льду. Длинный коридор был абсолютно безлюден.
Неожиданно мы въехали в огромный зал, который также был наполнен светом, но в отличие от коридора освещался искусственно. По обеим сторонам тянулись желтые канаты. Коляска катилась по ограниченному ими пространству. За канатами с обеих сторон стояли люди. Много людей. Как я понимал, это были провожающие, встречающие, прилетающие и улетающие. Вокруг меня бурлила обычная жизнь большого аэропорта.
– Сейчас пройдем таможню и пограничный контроль, – сказал мой сопровождающий, – а потом будем искать тех, кто тебя должен встречать. У тебя есть какие-нибудь их телефоны?
– Есть, – легкомысленно ответил я, понимая, что вопрос задавался как бы «на всякий случай». Однако у меня появился повод вновь впустить в сознание мысль о том, что произойдет, если встречающие не обнаружатся. Номер Пашиного телефона я знал, но этот телефон находился в Портланде, а я сейчас пребывал в Сиэтле. Мысль была впущена и мгновенно выброшена за ненадобностью. Я убеждал себя, что предполагаемое мной – весьма невероятно.
Сопровождающий пристроил коляску в хвост огромнейшей очереди пассажиров, проходящих таможенный и пограничный контроль. Мой, не очень большой опыт стояния в очередях подсказывал, что даже при очень быстром продвижении ожидание может вылиться как минимум в получасовое томление. Однако здесь я приятно ошибся. Менее чем через минуту к нам подошла женщина в форме полицейского или охраны аэропорта. В них я еще не разбирался.
– Please. Follow me, – сказала она и показала жестом, чтобы мы следовали за ней. Мы пошли вдоль длинной линии стоящих и ожидающих. Я, как и всегда, начал ощущать на себе любопытные взгляды, но не стал на этом концентрироваться. Пусть смотрят.
Женщина подвела нас к длинной стойке, верхняя часть которой состояла из окошек, за которыми маячили офицеры таможни или пограничники. У каждого стояли люди, но то, к которому подвела нас женщина-полицейский, оказалось свободным. За ним стоял мужчина с погонами на плечах и в белой рубашке с галстуком.
Сопровождающий протянул офицеру мой паспорт и анкету, которую мы заполняли в самолете с бортпроводницей. Чтобы увидеть меня, тому пришлось наклониться и высунуть голову из окошка наружу. Таможенник улыбался. Он посмотрел на сумку, которую мой сопровождающий продолжал держать в руке, и о чем-то его спросил.
– Ты везешь с собой какие-нибудь продукты? Фрукты? Еду? – перевел мне вопрос мой помощник.
– Нет, – я отрицательно покачал головой, стараясь сделать свой ответ понятным офицеру.
Он открыл мой паспорт.
– Two months?
В ответ я судорожно глянул на моего сопровождающего. Английский я учил. Честное слово. Но непосредственный контакт с его официальным носителем меня испугал.
– Ты прилетел на два месяца? – перевел мой сопровождающий.
– Yes. Yes. Two months, – произнес я внезапно на английском. И из-за этого испугался еще сильнее. Испугался, что он не поймет моего произношения. Стараясь сделать свою английскую речь более понятной для американского офицера, я, произнося фразу, сопроводил ее отчаянными утвердительными кивками.
– Ok. Good Luck, – произнес офицер, улыбнулся и протянул паспорт моему сопровождающему. Контроль был пройден. Мою сумку никто не проверил. Мне поверили на слово. Отметив это про себя, я вспомнил, как «шмонали» уезжающих в нашем родном «Шереметьево-2», в том числе и меня.
– Где тебя должны встречать? – спросил мой помощник, который в тот момент стал мне почти родным, поскольку оказался единственным в этой стране, чье лицо мне было знакомо и кто говорил со мной на одном языке.
– Не знаю, – очень неуверенно произнес я и пожал плечами.
Мы направились вдоль канатов, которые закончились через несколько метров. Передо мной распахнулся огромный зал с высоченным потолком и невероятным количеством проходящих друг через друга людей. Рассмотреть в этой толпе знакомых я не смог бы даже и при очень хорошем зрении. В придачу к моей близорукости, я лежал в коляске и видеть человека мог, когда тот стоял недалеко от меня или надо мной, что было вообще идеально. Я уже начал нервничать и судорожно соображать, что же предпринять, и как мне лежа найти тех, кто меня, по идее, должен встречать. У меня уже возникла сумасшедшая, но способная принести результат, идея – начать двигаться вдоль и поперек зала и осматривать людей. Еще секунда, и я бы ее высказал.
– Антон!!! – внезапно раздался мужской голос.
Я посмотрел в ту сторону и почувствовал, как бешено заколотилось сердце. Ко мне почти бежали такие родные, уже немного забытые, но мгновенно узнанные фигуры. Это были мои друзья Паша и Лида.
Лида не изменилась совсем. А Паша? Пашка был все тот же, только его кудрявая шевелюра стала немного пореже. А еще? Немного располнел. А в остальном – это был все тот же Паша, балагур и весельчак. Он и сейчас улыбался во весь рот. Тот самый Паша, который, одним из первых когда-то посетил меня в доме-интернате и впервые за много лет вывез в своей машине на природу. А потом – привозил к себе домой. А потом возился со мной, как с собственным ребенком, несмотря на то, что тогда своих детей у него было уже пятеро, и старшему исполнилось всего семь или восемь.
Лида. Все та же самая Лида, с неизменной ласковой улыбкой на лице. Но, несмотря на улыбку, всегда очень собранная.
– Ну, спасибо вам! – Паша взял коляску у сопровождающего меня мужчины.
– До свидания! – попрощался со всеми нами «аэрофлотовец». – Удачи! – добавил он, глядя на меня. Затем развернулся и потерялся среди толпы людей в огромном зале аэропорта.
– А это Люба! – сказала Лида и указала на женщину, очень похожую на саму Лиду. Та стояла немного позади и потому оставалась вне поля зрения. – Любку-то, помнишь? Сестру мою?
Любу я конечно же помнил. И Сашу, мужа ее, которого все называли, не иначе как Шурка, не способного без шутки продержаться и десяти минут, я тоже отлично помнил. Я даже несколько раз гостил у них дома, в Астрахани.
– А это кто, узнаешь? – Паша вытолкнул из-за своей спины двух, уже почти взрослых девушек, черненькую и светловолосую. Казалось, они были одного возраста. На вид – лет четырнадцать.
– Это – твои? – спросил я.
– А ты что, не узнаешь? – в Пашином голосе расцвела гордость за своих дочурок. – Это – Галя, а это, – он указал в сторону светловолосой девочки, – Таня. Вот ведь, моложе Гали, а ростом меня уже почти догнала. Они говорят, что тебя тоже помнят.
– Помним, – скромно подтвердила Таня. Девочек его я даже при всем желании, все равно бы не узнал. Когда они уезжали, Гале исполнилось восемь или что-то вроде того, а Таня на два года младше.
– А мы здесь у всех спрашиваем. Самолет прилетел, а тебя нет. Мы прямо сюда прошли, прорвались. – Паша катил коляску и говорил. – Девчата попросились со мной, помогают мне с переводом.
Пока он говорил, я смотрел на него и думал: вот прошло семь лет, как я видел его в последний раз. Время пролетело быстро и незаметно. Дети его выросли так, что и узнать невозможно. А он? Все такой же. Какой? Энергичный, остроумный – за словом в карман не лезет, с хамом – дерзок, с друзьями душевен, авантюрист, но с головой дружен. Паша всегда вызывал в моем воображении образ гусара Дениса Давыдова. Только без стихов и вредных привычек.
– Слушай, ты же столько летел, наверное, есть хочешь? Или вас там кормили хорошо? В самолете? – Паша остановил коляску. Вместе с ним остановились все, идущие в нашей группе.
– Кормили. Только я не ел, – я многозначительно посмотрел на Пашу, надеясь, что он поймет. И почему я не ел, и все остальное.
– Я есть не хочу. Только пить. Ужасно.
Сказал это и внезапно почувствовал: если мне не дадут воды в течение следующих пяти минут, я умру от жажды. Прямо здесь, на первых метрах американской земли. Оказывается, голос мой хрипел и сипел, как у больного ларингитом. За радостью встречи я совсем забыл обо всем. Попытался сглотнуть слюну, но во рту ничего не было, и горло раздирало от сухости. Желая еще раз проверить, как звучит мой голос, я добавил: «Ужасно пить хочу. Дайте мне попить, а? Ничего больше не нужно. Только – пить».
Про «остальное» я сказать постеснялся – с нами были женщины. Я надеялся, что Паша и сам догадается. Он всегда очень хорошо «просекал» мои затруднения.
– Я сейчас найду, – Лида приготовилась бежать. – Тебе чего, пепси или кока-колы?
– Лучше – воды. Но если нет воды, то – хоть что-нибудь. Я уже больше суток ничего не пил, – сказал я, подсчитав в уме, когда в последний раз мои губы касались края стакана. – И не ел столько же. Но сейчас я хочу только пить.
Лида исчезла и появилась через пару минут. В руках она несла бутылку с темной жидкостью. «Пепси» оказалась сладкой, шипящей и холодной. Я жадно начал глотать жидкость, но после трех или четырех глотков резко остановился. Я не знал точно, сколько времени может пройти, прежде чем у меня появится возможность освободиться от выпитого.
– Что, уже напился? – удивилась Лида.
– Угу, – я утвердительно кивнул.
– И зачем ты старую женщину бегать заставлял? – она шутливо нахмурила брови. – Я-то думала…
Аэропорт в Сиэтле раскинулся на огромной территории. Чтобы попасть туда, где ребята оставили машину, нам пришлось прокатиться на неизвестном мне виде транспорта, напоминающим небольшой поезд. Это «что-то» в движение приводилось электричеством, бойко бежало по рельсам и работало очень тихо, практически бесшумно. Эдакий внутренний трамвай, который обслуживал территорию необъятного аэропорта, объезжая все автостоянки, где встречающие и провожающие, прилетающие и улетающие, оставляли свои машины.
Место, где оставляют машины, в Америке называется Parking. Эмигранты используют русифицированное слово – «парковка». Parking в аэропорту Сиэтла огромный, многоэтажный, с подземными боксами. Несмотря на неимоверное количество машин, свои авто ребята отыскали очень быстро. Паша приехал на микроавтобусе, Dodge Caravan, – достаточно большом, темно-серого цвета.
– Когда я его покупал, почему-то думал, что тебя буду возить, – сказал мне Паша, заметив, что я разглядываю автобус. – Сбылось.
– Кто мог подумать, что меня впустят в Америку, – задумчиво ответил я. – Я вообще не понимаю, как мне дали визу.
– Слава Господу! – воскликнули почти одновременно все, кто меня встречал. Это было правдой. Случайностей быть не могло: то, что я оказался здесь, в Америке, такое возможно только Ему.
Паша открыл боковую дверь автобуса.
– Помогите мне! – подозвал он Лиду с Любой.
Окружив меня, они дружно приподняли коляску и легонько втолкнули внутрь автобуса. В этот момент я услышал негромкое «ох» с Пашиной стороны и сразу вспомнил, как еще в России, узнал, что в Америке, на работе, он надорвал позвоночник. Все закончилось операцией.
– Слушай, может быть тебе не нужно этого делать? – спросил я Пашу.
– Ты о чем?
– Я о твоем позвоночнике.
– А-а, ладно, тебе! – махнул он рукой. – Ты не тяжелый. Больше ведь некому, – добавил он после небольшой паузы. – Все нормально. Не переживай.
Он улыбнулся. Я понимал, что Паша храбрится. То, что ему очень больно, против его воли отражалось на лице. Но что я мог ему сказать? Перед тем, как рассесться по машинам, Паша подошел к Любе.
– Ты поезжай впереди, а мы – за тобой. А то я дорогу не очень хорошо знаю.
Мы тронулись в путь, и минут через двадцать были у Лиды дома, где нас встречал ее папа Евстафий Иванович. Дядя Сташа, как его называли все, кто его знал. Он совсем не изменился со времени нашей последней встречи, оставался бодр и разговорчив, несмотря на свой солидный возраст – ему было почти восемьдесят. Сколько я помнил, всегда дядя Сташа выглядел представительно, двигался степенно, без легкомысленной суеты. И дело тут не в возрасте. Таким он был всегда.
Вот и сейчас Евстафий Иванович чинно вышел из дверей своего дома.
– Приветствую, путешественник! – произнес он своим бархатным голосом. – Ну, как долетел?
– Спасибо, Евстафий Иванович. Все нормально.
– Ну, и Слава Господу!
Дом, в котором жили Лида и дядя Сташа, представлял собой длинное невысокое сооружение, напоминающее вагончик.
– Узнаешь, – спросил Паша.
– Нет. А что? – я вопросительно посмотрел на него.
– Мы в России в таком же жили.
– А что, это, правда, вагончик? Расскажи!
Паша начал объяснять, а Лида стояла в стороне и с легкой улыбкой наблюдала за нами.
– Это называется Mobile Home – передвижной дом. Находишь только место, на которое можешь его поставить. Многие хозяева, у кого есть земля, специально отводят ее под такие вот мобильные дома. Подводят к этому участку воду и электричество, а человек привозит такой домик, подключает его и, соответственно, пользуется и платит. Плюс платит еще за аренду земли. Но это выходит дешевле, чем покупать свой дом или даже арендовать квартиру, или, как здесь говорят, – «снимать в рент». Но в общем-то это почти то же самое, что и вагончик-бытовка, в котором я жил в России. Ты же помнишь?
Я помнил. Паша Бондарчук, еще за год до отъезда из России, не имел своей квартиры. Они жили в строительной бытовке: он, жена и пятеро детей. Паша несколько лет стоял в очереди на получение жилья. В конце концов какая-то добрая душа подсказала ему, что в их недавно построенном доме есть пустующие квартиры, которые долгое время никто не заселяет. Паша, набравшись храбрости и наглости, въехал в одну из них – трехкомнатную без разрешения. Самозахват обернулся многомесячной борьбой, в которой государственные чиновники, применяли все доступные им методы для выселения Паши из занятой квартиры. У многодетной семьи отключали электричество и воду. Приходила милиция. Весь тот год все Бондарчуки от мала до велика прожили в страхе, что в любую минуту их всех могут вышвырнуть на улицу. Дома постоянно дежурил кто-нибудь из взрослых – знакомых, друзей, чтобы власти не смогли выселить детей в отсутствие родителей. В итоге Паша победил, но это случилось почти перед самым отъездом. Жилплощадь закрепили за ним, и в конце концов он смог ее продать. Жить в государстве, с головой уходящем в трясину дикого рынка, такой большой семьей становилось небезопасно. В первую очередь для здоровья и будущего детей. Деньги, полученные за российскую квартиру, здесь, в Америке, помогли Паше немного встать на ноги.
Грустно, но мне иногда кажется, что сама Россия не любит себя в русских. Тем более в честных, не способных к воровству.
– Пойдемте внутрь? Я вас накормлю, – Лида всегда была гостеприимной хозяйкой.
Мы зашли в дом, и здесь наконец-то я смог сделать все, что хотел сделать очень давно, еще с момента посадки в самолет.
Есть не хотелось, однако, как только со стороны плиты, у которой «колдовала» Лида, донесся запах жареной картошки, я вдруг осознал, что о-очень голоден.
Пока Лида накрывала на стол, я начал понемногу осматриваться.
Несмотря на то что дом являлся тем, что у нас называли «вагончик», помещение изнутри не казалось тесным. Здесь было достаточно уютно. Конечно, отсутствовала дорогая мебель, но все напоминало обычный дом. В «гостиной» стоял небольшой стол, такой же когда-то красовался у нас дома. Стол был круглый, но его раздвинули, чтобы усадить всех. С одной стороны пространство было отгорожено невысокой стойкой – это кухня. С другой – виднелась дверь, узенький коридор и еще одна маленькая дверь. Дальше коридор вел в небольшую комнатку, которая служила спальней.
Из-за меня Лида наготовила всякой всячины, и по тому, что стояло на столе, легко было определить, что это стол, за которым привыкли сидеть люди с нашими, «русскими», вкусовыми пристрастиями: селедочка, соленые помидоры, огурчики, картошечка, короче – все привычное и не пугающее экзотичностью. Было просто, скромно, но очень аппетитно.
Перед трапезой дядю Сташу, как самого старшего среди нас, попросили прочитать молитву. Все встали.
– Господь и Бог наш. Мы благодарим Тебя за эту пищу, которую Ты нам послал сегодня. Мы знаем, что Ты не оставляешь своих детей и посылаешь нам все необходимое. Мы благодарим Тебя за то, что Ты помог нашему гостю в его долгом пути и благодарим Тебя за охрану на этом пути. Благослови всех, кто за этим столом, и помоги нам всегда оставаться верными Тебе.
– Аминь! – сказали все следом за дядей Сташей.
Тронуло то, что дядя Сташа в своей короткой молитве не забыл и про меня. За столом почти не разговаривали. Несмотря на то, что повод, по которому мы собрались вместе, был радостный, – мы не видели друг друга больше пяти лет. Но даже это радостное событие не очень располагало к веселью. За столом я спросил, знают ли они, что произошло в Москве в то утро, когда я улетал. Они не знали. Телевизионные новости здесь мало кто смотрел – сказывались проблемы с языком.
Я рассказал, что буквально за четыре часа до того, как мой самолет оторвался от земли, в Москве прогремели взрывы. Это уже была вторая серия террористических актов. Девятого сентября произошел взрыв в доме на улице Гурьянова. В результате погибли восемьдесят семь человек. А в утро моего отлета был взорван дом на Каширском шоссе. Погиб сто двадцать один человек. Конечно, Москва, Россия отсюда из Америки казались далекими и немного неправдоподобными. Но мы оставались теми, кем всегда себя ощущали – русскими. У каждого оставались в России родственники и знакомые. Просто невозможно не думать и не переживать за них. Происходящее в стране, откуда мы все приехали, пугало. Никто не знал, во что это может вылиться, к чему привести.
Каждый за столом думал о чем-то своем. Все сидели молча. Даже девчонки, обычно улыбчивые и смеющиеся, сидели сейчас сосредоточенные и помрачневшие.
– Ну, что мы будем делать? – Лида потихоньку убирала со стола, девчонки ей помогали. Она посмотрела на меня. – Ты, наверное, устал после долгого перелета? Может быть, отдохнешь?
– Я не устал. А что вы собирались делать? – это казалось невероятным, но я нисколько не лукавил. В тот момент усталость не ощущалась совершенно. И это несмотря на то, что уже больше восемнадцати часов я не спал. Да, и, сказать о том, что предыдущая ночь, которую мы провели в Москве, на квартире у Коли Сосновского, была спокойной, как-то язык не поворачивался. Тогда за разговорами, мне удалось поспать только часа три, не больше.
– Мы хотели в горы поехать. Здесь недалеко горы – красивейшее место. Даже снег можно увидеть.
– А что, можно поехать? – я вопросительно посмотрел сначала на Лиду, потом на Пашу.
– Поехали! – Паша был краток.
Около двух часов заняла поездка в горы. Дорога, петляющая по склонам, была на удивление ровной. Машина шла как по гладкому паркету. Я с непонятным чувством смотрел в окно. Возникало ощущение, что все происходящее со мной сейчас за гранью реального. Я, проведший тридцать четыре года в четырех стенах, находился за много тысяч километров от тех стен, в которых, казалось, навсегда замурован. Нет, конечно, последние несколько лет моей жизни были наполнены событиями. Я жил, как считал, полнокровной и плодотворной жизнью, но она протекала в четырех стенах. Происходящее со мной сейчас, казалось невозможным и фантастическим.
Около полутора часов мы осматривали места, куда нас завезла неугомонная Лида. Поражали горы, поражала буйная зелень, которой в нашей Астрахани нет в таком огромном количестве. Здесь перемешивались и лиственные и хвойные деревья. Поднявшись повыше, мы увидели снег. Потом поехали в гости к нашим – астраханцам. Здесь опять был стол и разговоры, и воспоминания. Вечером мы возвращались к Лиде домой, чтобы переночевать у нее, а назавтра ехать в Портланд, в гости к Паше.
На протяжении всего дня меня не покидало чувство нереальности происходящего и невероятности изменений, произошедших в моей жизни. Мне постоянно хотелось протереть глаза и проснуться. Потому что все это очень походило на сон, все сильнее заключавший меня в свои объятия. Я не спал уже больше суток. Странно. Еще вчера, учитывая разницу во времени, я находился в своей квартире, в своих, ставших родными и ненавистными, четырех стенах. И вот я в Америке. Мчусь по прекрасной горной дороге и улыбаюсь неизвестным мне радостным предчувствиям.
Уже находясь в Лидином вагончике, проваливаясь в сон, я почему-то вдруг вспомнил о первой ночи, проведенной в палате московского ЦИТО. Между той далекой, полной страхов, надежд, неизвестности и этой, умиротворяющей меня, ночью было что-то неуловимо родственное. Одна породила другую. Без недружелюбной, московской, вымученной у чиновников, не было бы сегодняшней американской в окружении друзей. И еще. В отходящем ко сну сознании всплыл силуэт незнакомой женщины в белом халате, которая четырнадцать лет назад сказала мне, мечтающему о смерти маленькому инвалиду, фразу, много раз удерживавшую меня от рокового шага. Глубину этих слов я постигаю до сих пор: «Если живешь, значит нужно просто жить. А в остальном – все зависит от тебя самого. Ведь это твоя жизнь».
Россия, Астрахань, 1999 – США, Портланд, 2007.
Примечания
Жизнь – это не выбор. Жизнь – это шанс (англ.).
По свидетельству бывшего директора одного из астраханских рыбных магазинов, в 1980 году в государственной торговле свежий осетр стоил 5 рублей один килограмм, белуга и севрюга – 4 рубля. Девятисотграммовая банка зернистой икры, в зависимости от сорта – 22–25 рублей, паюсной – 10–12 рублей, ястычной – 5 рублей. – Примеч. А.Б.
1964–1982 – Брежнев Леонид Ильич; 1982–1984 – Андропов Юрий Владимирович; 1984–1985 – Черненко Константин Устинович; 1985–1991 – Горбачёв Михаил Сергеевич.
Для сравнения. Средняя зарплата в СССР в 1984 году составляла 180–220 рублей, черно-белый телевизор стоил 360–380 рублей, цветной – 650–700.
«Ложным суставом» называется место перелома кости, которое не срастается. Рука в этом месте может быть согнута в любую сторону. Даже в совершенно неестественном направлении. – Примеч. А.Б.
Нараяма – гора в Японии – по преданию, место добровольного суицида стариков, ставших обузой своим семьям.

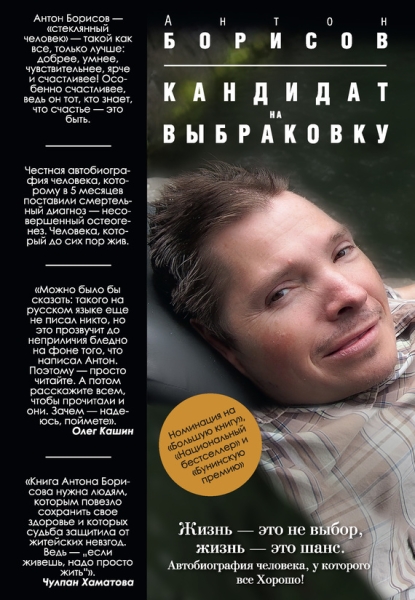
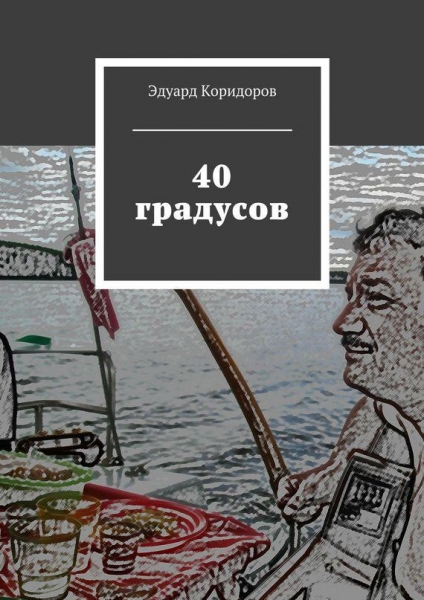
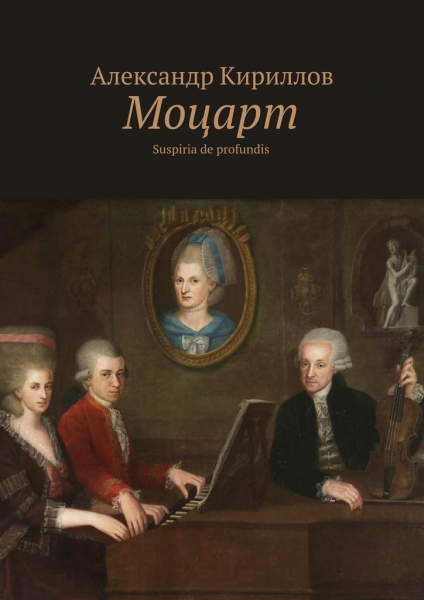

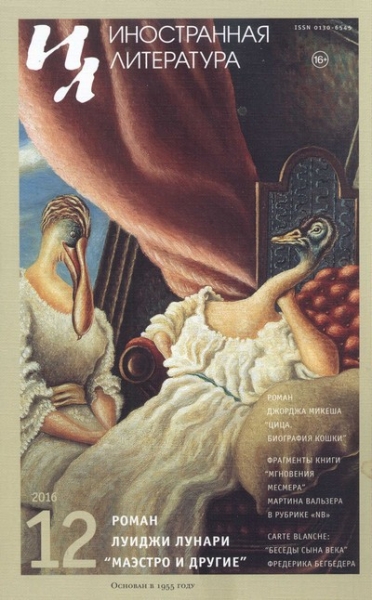
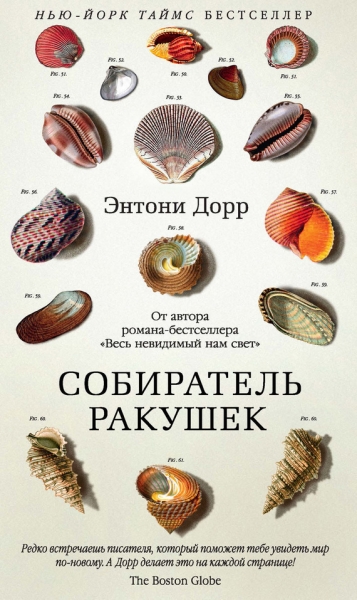
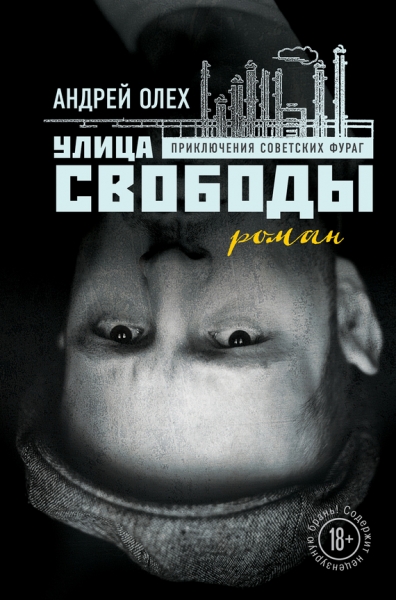
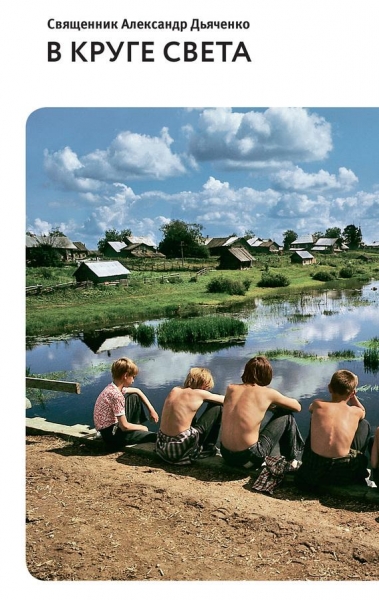
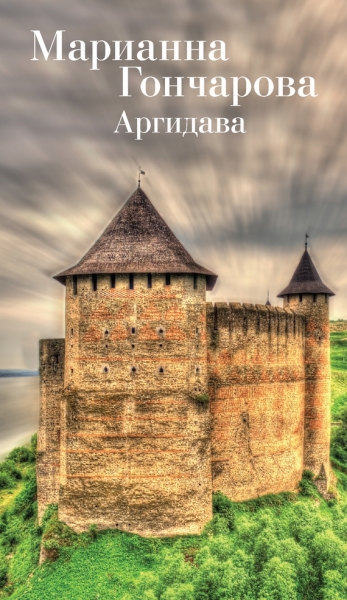
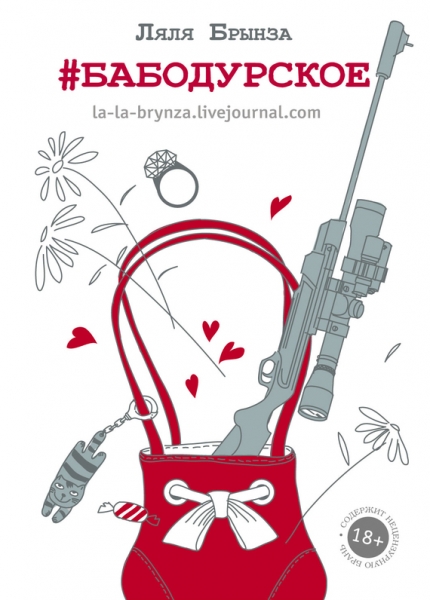
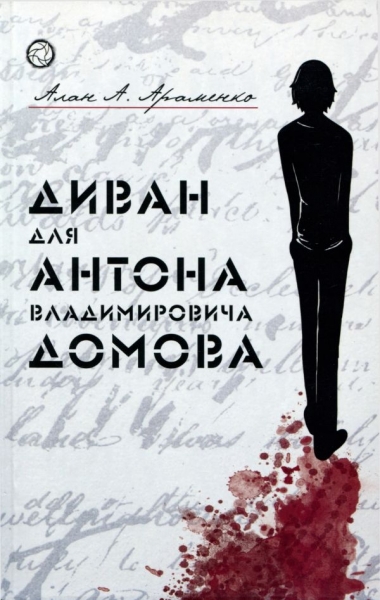
Комментарии к книге «Кандидат на выбраковку», Антон Борисов
Всего 0 комментариев