Артемий Леонтьев Варшава, Элохим!
© ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2019
«Строгий юноша» Артемий Леонтьев
Я с большим уважением отношусь к Артемию Леонтьеву и его работам. «Много званых, но мало избранных». Артемию Леонтьеву 27 лет, и он настоящий писатель, поверьте моему 56-летнему опыту пребывания в советской, антисоветской и постсоветской литературе, где я навидался всякого и всяких – от подлинных гениев чистой красоты до отъявленнейших графоманов, дураков и негодяев.
Впервые я узнал о его существовании в прошлом году, в Иркутске, где, кстати, обсуждался совсем другой его объемный роман о современной Москве, заставивший меня вспомнить первый неподъяремный труд Василия Аксенова под названием «Ожог», написанный моим старшим другом, товарищем и братом в 1969–1975 годах безо всякой оглядки на цензуру.
«Московский» роман Леонтьева еще только ждет своей публикации, и она, я уверен, будет столь же заметна, как и эта попытка напомнить миру о восстании в Варшавском гетто. Попытка расставить точки над «i» в истории, что до сих пор не осмыслена до конца со всеми ее высокими и низкими подробностями. То ли от ужаса перед случившимся, то ли от хитрованства власть имущих разных стран, гордящихся чистотой национальных риз, то ли от идиотически понятой «политкорректности», когда и этого не трожь, и этого не замай.
«Строгий юноша» Леонтьев работает, сознавая полную ответственность за то, что он делает. Полагаю, он сам расскажет в грядущих интервью о своем отношении к мировой и русской классике, о том, что думает о литературе ему современной, о том, как и почему он, русский парень из Екатеринбурга, взялся за эту неподъемную «еврейскую» тему, перелопатив массу материала, чтобы добиться эффекта авторского присутствия в разрушенном Второй мировой войной городе на Висле, где «вязкая, чернильная вода молчала, нервно подрагивала волнами-разводами, топорщилась, словно хмурилась, стараясь запомнить, собрать в свои летописные воды-страницы всю людскую многоголосую горечь, все опеплившиеся судьбины и мерзлые слезы». За год нашего знакомства я с радостью обнаружил, что он не только писатель, но и читатель, ученик, постоянно открывающий новые для него книги и имена, порой малоизвестные, но которые обязан знать каждый начинающий свой литературный путь вне зависимости от того, учился он в Литинституте или вырос самоучкой.
«Варшава, Элохим!» Артемия Леонтьева – читаемое доказательство того, что русская литература, создаваемая нашими современниками, и сейчас способна на такой серьезный разговор, который предлагает нам юный автор. И не все в этой новой литературе хихоньки да хахоньки, попса, «креатив», недомыслие, «чернуха», постпостмодерн, не вся она утратила связь с реальностью, историей, землей, на которой мы существуем и продолжаем существовать, редко задумываясь о том, что «тысячи, миллионы взрослых, сильных и умных людей осознанно живут пугающей, жестокой жизнью, убивают и заставляют голодать других по своим надуманным политическим причинам».
И о том, что как под земной корой бушует расплавленная магма, так и тонкий слой человеческой цивилизации и культуры «просвещенных народов» имеет под собой жуткий массив изначальной дикости, которую язык не поворачивается назвать «звериной». Ибо не звери изобрели атомную бомбу, ГУЛАГ или описываемую в романе Леонтьева фабрику смерти Треблинку, где «отсортированное имущество уничтоженных евреев зондеркоманда комплектовала по степени ценности и укладывала в пустые грузовые вагоны, которые длинными сытыми эшелонами отбывали в Бремен, Ахен или Швайнфурт». Это сделали НЕЛЮДИ, глубоко убежденные в том, что «… все люди дрянь и редкостные шкуры. Недаром допрашиваемые почти всегда так красноречиво и с достоинством, даже свысока начинали отвечать на вопросы, а затем в течение нескольких часов оборачивались в пресмыкающееся, окровавленное отребье, готовое исполнить любую прихоть гестапо».
Все, да не все. Гольдшмит (подлинная фамилия великого педагога Януша Корчака) принял смерть в газовой камере вместе со своими воспитанниками, вовсе не думая о том, что его имя станет легендой, а просто потому, ЧТО НЕ МОГ ПОСТУПИТЬ ИНАЧЕ.
И поляк Яцек, который «прихватил у товарищей из Людовы два автомата, свою охотничью двустволку и окончательно перебрался сюда, чтобы разделить последние минуты гетто с евреями».
И гауптман охранного батальона Франц Майер, фашист, неожиданно для самого себя спасающий подпольщиков Отто Айзенштата и Эву Новак, «как если бы все трое были частью единого целого».
«Варшава, Элохим!» – жуткое чтение. Но не читать эту книгу нельзя.
Ирише посвящаю
Сосны. Осенние луга.
Горное селенье. Тропа в горах.
5702 год. Нисан. Варшава – поникшая и сутулая: беспокойные голубятни, плачущие окна, влажные крыши. Март 1942 года по григорианскому календарю. Окостеневший и ломкий город с прокопченными кровлями, избитыми в труху стенами – рыхлыми, какими-то предобморочными, осевшими. Авианалеты и артобстрелы сентября 39-го истерли в пыль, растрепали почти половину столицы, расцарапали ее контуры. Залатанные прямоугольники домов казались полупрозрачными, призрачными – сумеречные блики, привидевшиеся в темноте образы. Рассветный город стоял во вретищах. Завалы давно разгребли, руин не осталось, но присыпанные бетонной крошкой пустыри и надкушенные углы напоминали о недавнем прошлом – свежие рубцы города, свежие пепелища и страх – страх, еще не отстоявшийся до осадка и не слежавшийся в однородную массу. Настороженные дворники в фартуках вываливались из тумана и с нервным скрипом скребли асфальт когтистыми метлами, мелькая в серой дымке промасленными рукавицами. Король Сигизмунд на высокой колонне с бронзовой саблей и крестом упирался в пасмурное небо темным контуром: в тумане раннего утра он походил на воткнутую в землю кость. Улицы были неподвижны, малолюдны, еще скованные холодком библейской, рассеивающейся уже ночи, они напирали одна на другую растянутыми жилами, петляли под боязливыми ногами редких прохожих и дребезжали под кованым грохотом сапог вермахта. Висла не до конца скинула надтреснутый лед, облизывала город, выставляла в тусклые облака черный глянец воды. Река терлась льдистой чешуей о низкие мосты и пологие берега; маслянистая и тихая, она переплеталась потоками, спутывалась, точно в канат, неспешно сбивалась в пену. Вязкая чернильная вода молчала, нервно подрагивала волнами-разводами, топорщилась, словно хмурилась, стараясь запомнить, собрать в свои летописные воды-страницы всю людскую многоголосую горечь, все их опеплившиеся судьбины и мерзлые слезы. Гладкая тишь нет-нет, а выдавала себя – сквозь крадущуюся воду-пелену проглядывало что-то пугающее, какая-то злобная несыть, точно скорбная вода реки теснила в себя саму историю, поглощала ее сумеречную суть и пузырилась коловращающейся жутью, скрытым на дне черной реки первобытным безумием. Вокруг пустых скамеек как ни в чем не бывало расхаживали голуби, важные, будто сборщики податей, трепыхали крыльями и нахраписто толкались. Длинные трамваи, похожие на гондолы, подвешенные к проводам, звенели и раскачивались, готовые повалиться набок; голубые искры вспыхивали над вагонами и сыпались на головы зевающих, сонных прохожих, не долетая до них и растворяясь еще в воздухе.
На балконе, поддерживаемом тремя атлантами, стоял сорокапятилетний гауптман Франц Майер, смотрел на хмурый город и курил. Левая рука, обтянутая кожаной перчаткой, сжимала фуражку, а в правой, опертой на поручень, дымилась хорошая египетская сигарета. Рядом на невысокой тумбе – полупустая чашка остывшего кофе. На улице было холодно, но Майер, чтобы немного взбодриться, стоял без шинели, в одном кителе: сегодня он спал только четыре часа, голова плохо соображала – кофе не помог, а идти на службу со слипающимися мыслями не хотелось.
На широкой груди Франца темнели бронзовый крест Гинденбурга и Железный 2-го класса, тоже ветеранский, не со свастикой, а с W и короной на вершине. К наградам 1914-го, казалось бы, так и просились «печати» Третьего рейха, но Майер как будто выжидал чего-то и взвешивал, пробовал на язык вкус этой новой, такой непривычной для него войны. Великую войну он прошел пехотинцем в 21-й дивизии 11-го армейского корпуса Касселя, дослужившись до фельдфебеля. Помимо тяжелых воспоминаний и креста, от той войны у него остались шрамы: когда двадцатилетний Франц выходил из блиндажа, укрытие накрыло тяжелой миной, осколки изрубцевали поясницу, плечи и ноги. Майеру повезло – позвоночник не задело, и все же потом, лежа в госпитале, он долго не мог избавиться от страха остаться парализованным.
Родом из Гессена, Майер вырос в небольшом городке неподалеку от Фульды. Его отец, глава многодетной католической семьи Альфонс Майер, был врачом и во время Великой войны двигался по пятам молодого еще солдата-сына – несмотря на то, что в гуще самой этой бойни они так никогда и не встретились, оба ощущали себя, что называется, плечом к плечу. Альфонс Майер постоянно думал о сыне, обменивался с ним письмами и шагал по разогретым огнем, вспухшим от крови землям, пересчитывал отрезанные культи и все пластал-пластал взволнованную человеческую плоть, пока та наконец не успокаивалась в холодных эмалированных тазах. Альфонс многократно оказывался под минометным огнем, травили его и газами, а как-то раз санитарную палатку прошило длинной пулеметной очередью, полоснуло по животу стоявшую рядом медсестру. Его же ранение миновало и во время отступлений, хотя они не раз оказывались в окружении. До самого окончания войны Альфонс не получил и царапины, разве что помяло его чуток, как-то скукожило малость, глаза провалились и будто ошпарило лицо – не столько самой войной, сколько увиденным там. Глава семьи благополучно дожил до Версальского договора, его выщелкнуло из жизни несколькими месяцами позднее – не пулей, а последней волной испанского гриппа. Агонизирующая война отхаркивала и сплевывала, будто сама планета отомстила человечеству этой эпидемией – отомстила за свое изнасилование, отправив на тот свет почти в пять раз больше людей, чем унесли сражения, порожденные затянувшейся политической истерией.
Умерший Альфонс оставил обильное потомство на плечах жены с родственниками, которых, впрочем, было немало – никто из детей не чувствовал впоследствии нехватки любви и опеки. Постаревшая мать, фрау Ирма Майер, происходившая из почтенной бюргерской семьи, сейчас начинала каждое утро одинаково: кутаясь в шерстяную шаль, наполняла маленькую фарфоровую рюмочку вишневой настойкой и, отхлебывая по чуть-чуть, прищуренно заглядывала в увеличительные стекла – терзала газету до тех пор, пока не вытряхивала из нее все новости с фронта, точно так, как почти тридцать лет назад она теребила, казалось, те же самые газеты, с теми же самыми черными запашистыми строчками, о тех же самых фронтах, странах, жизни и смерти.
Ирма ухаживала за внуками, доходила в заботе об их здоровье до настоящей паранойи, в состоянии которой неизменно бранила невестку за недостаточное усердие, и ворчала на нее до тех пор, пока не доводила до слез; не то чтобы у фрау Майер был скверный характер, просто она слишком сильно переживала за Франца и своего старшего внука Курта, отправленного на Восточный фронт, – ей было необходимо отвести на комнибудь душу. За остальных детей она не беспокоилась: три дочери давно благополучно жили своими семьями и растили еще слишком юных, а потому защищенных от фронта малышей. Младшая Хельга вышла замуж за предпринимателя средней руки, перебралась в Мюнхен и присматривала за небольшим пивным ресторанчиком неподалеку от Розенхаймерштрассе в двух шагах от знаменитого «Бюргербройкеллер», где в 1923-м во время пивного путча стрелял в потолок горластый Гитлер. Средняя дочь Грета полюбила веселого общительного баламута, дослужившегося теперь до унтершарфюрера и успевшего поработать в Дахау и Заксенхаузене. В скором времени молодой супруг ждал назначения на должность адъютанта коменданта одного из концлагерей, и было не исключено: через год-другой он сам возглавит один из них. Вчерашний весельчак и задира, супруг Греты держался теперь с подчеркнутой солидностью, стал тяжеловесен и молчалив. Старшая Агна, хоть и спуталась с каким-то актером-неудачником, утащившим ее в Швейцарию, где они жили достаточно бедно, все-таки была счастлива, что чувствовалось в каждом ее письме.
Летом в жаркую погоду фрау Майер любила сидеть на веранде и, отмахиваясь от насекомых влажным полотенцем, курить трубку покойного мужа – она все поглядывала на высокий бук и пару шершавых сосен перед домом, слушала строгие переливы колоколов собора Святого Сальватора, хмурилась и дышала пахучим, разопревшим до приторности лилово-розовым вереском. Из-за ветвей пробивались черно-оранжевые крыши: подоржавевшие, как затверделые в камень апельсиновые корки, пыльные и избитые солдатскими сапогами.
После окончания Великой войны Франц Майер поступил в университет Франкфурта. Широкоплечий и крепкий, он увлекся боксом – впоследствии это помогало его продвижению по службе. Имея настоящий талант заканчивать бои нокаутами, Франц, несмотря на свои способности, драться не любил – тренер говорил, что ему не хватает жестокости и «свободной» головы; так оно, собственно, и было. Получив диплом, вместо того чтобы стать профессиональным спортсменом, чего все от него ждали, или по крайней мере остаться в крупнейшем городе земли Гессен, он вернулся в свой монастырский городишко и начал работать школьным учителем. Женился там на дочери владельца бакалейной лавки Марте Гирш, в которую влюбился еще будучи школьником. За почти десять лет брака она родила пятерых – теперь дети ждали победоносного возвращения отца с фронта, тычась каждое утро в оконное стекло своими теплыми носами.
Отправляясь на войну во второй раз, Франц весьма холодно простился с Мартой: эта женщина, воплощенный эталон Вильгельмовых Kinder, Küche, Kirche, была настолько же хороша собой, насколько неразвита и ограниченна, так что Майер не раз жалел об этом браке. Марту не интересовало ничего, кроме постели, семьи и кухни, а ее частые походы в церковь и к мощам святого Бонифация напоминали, скорее, выгул на пастбище, чем духовную жизнь. Сам Майер посещению церкви предпочитал чтение книг – от отца осталась очень приличная библиотека. За исключением медицинских справочников и литературы на латыни, она могла порадовать его многим. Книги лоснились кожаными переплетами, уютно скрипели в руке, принимая тепло ладони, а стройные корешки, безукоризненные и самодостаточные, фундаментальными прямоугольниками вычерчивались на полках, поглядывали сверху вниз чуть по-снобски, словно с усмешкой. Единственной причиной, по которой Майер не ушел от супруги еще в середине тридцатых, были дети – когда он впервые задумался о разводе, их уже было двое. Однако сейчас, после долгой разлуки, Франц признался себе в том, что переосмыслил отношение к семейной жизни: понял, насколько не умел ценить незамысловатую простоту этого уклада – телесного, надежного и обволакивающе-теплого, как материнское чрево; он совершенно искренне скучал не только по детям, но и по жене – рукой до Германии подать, пешком можно было дойти до дома, а все-таки щемило, доскребывало. Твердо решил: когда вернется, не станет требовать от супруги слишком многого, просто будет заботиться об этом надежном, незамысловатом существе, радуясь хлопотливому достатку и покою домашнего быта.
Семейная фотокарточка в нагрудном кармане – жена несколько насупилась: сильно волновалась, что плохо получится, сидела в кресле, сложив руки на коленях; дети улыбались за спиной матери бесшабашно и непосредственно, только самый младший, взгромоздившийся на колено Марты, смотрел сосредоточенным философом, еще более мрачным, чем мать. На заднем фоне желтела бледная стена. Старший сын Курт растянулся на полу, поперек всего снимка – ему всегда надо было выделиться, неважно в чем и как, энергия била из него ключом, так что парень редко справлялся с ее куражистой силой: подложив руку под голову, он улыбался широко и по-подростковому навязчиво. Францу не терпелось обняться с семьей: дети так быстро взрослеют, а Курт и вовсе с 1941 года находится в одной из айнзатцгрупп на территории Белоруссии, куда попал сразу по окончании Национал-политической потсдамской школы в старшем унтерском звании, и все ждет не дождется, когда же его произведут в офицеры.
Несмотря на собственные убеждения, отец не особенно приветствовал решение сына поступить в эту школу, но знал, препятствовать бесполезно, Курт все равно сделает по-своему. Когда речь заходила о чем-то важном, он, вопреки своей обычной взбалмошности, всегда становился серьезен и как-то слишком уж ревностно упрям. Лет в двенадцать Курт провел к себе в комнату подаренного на день рождения пони, потому что не хотел расставаться с ним даже на ночь – конюшня находилась на другой стороне двора у забора между дровяным сараем и пухлым, крашенным зеленой краской амбаром. Пони фыркал и всхрапывал; проснувшийся от непривычных звуков Франц сразу понял, в чем дело, и начал долбить по двери кулаком, но маленький Курт принципиально не открывал до самого утра, загородив дверь ореховым комодом. Вспомнив сейчас этот эпизод, Майер не смог сдержать улыбки и даже тихонько засмеялся. Ему было трудно представить того впечатлительного мальчика не где-нибудь, а в эскадронах смерти Waffen-SS, но гауптман постепенно приноровился к этой мысли. Франц прекрасно понимал: во время войны старшему сыну все равно не избежать службы, поэтому будет лучше пройти ее в элитных войсках. Однако по переписке Майер чувствовал – Курт изменился до неузнаваемости, и это определенно настораживало. Кстати говоря, в последних нескольких письмах сын вскользь упоминал о скором переводе в Польшу, куда-то в Люблинский округ, под командование группенфюрера SS Одило Глобочника, в прошлом гауляйтера Вены, который теперь был уполномочен рейхсфюрером руководить созданием концлагерей на территории генерал-губернаторства. Подробности Курт Майер по понятным причинам опустил. Единственное, что уяснил отец, – Курт будет служить в отрядах Totenkopf[1] в одном из тех лагерей, что пока находится на стадии планирования.
Прохладный ветер обдувал лицо и топорщил зализанные к затылку светлые волосы гауптмана. Майер докурил сигарету и бросил ее с балкона. Под окном между двумя фонарными столбами рос каштан, с его растопыренных черных ветвей падали капли. Франц служил в штабе частей охранного полка Варшавы, а также являлся батальонным спорт-офицером. Первое время его посещали мысли подать рапорт на перевод в Россию: надоела административная волокита в штабе и возня в охранке, а необходимость слоняться у грязных стен еврейского гетто казалась унизительной. На данный момент его вклад в общее дело ограничивался лишь строительством лагеря для военнопленных в Пабьянице да запугиванием безответных евреев и послушных поляков. В том, что война завершится в ближайшие пару месяцев, гауптман уже сомневался: как ни старалась пропаганда скрыть этот факт, но группа армий «Центр» несколько выдохлась, утратив первый кураж; в декабре русские начали серьезное контрнаступление и в конечном счете смогли несколько оттеснить силы «Центра» от Москвы – да, задержалась наша машина, да, чуть завязла, но к лету, после весенней распутицы, без сомнения… А что потом? Потом останусь в дураках, окажусь в стороне от важнейших страниц истории, а какой-нибудь занюханный ефрейтор-прощелыга с медалью «Мороженое мясо»[2] на груди будет презрительно на меня коситься.
Большинство товарищей по боксу вступили в Waffen-SS и находились сейчас именно там: либо под Москвой, либо тут, рядом, на Украине и в Белоруссии, вместе с его сыном; все они неоднократно звали Франца, но, уже наслышанный о подвигах 55, он наотрез отказывался, что же касается перевода в один из общевойсковых корпусов группы армий «Центр», то с этим Майер, несмотря на сильный соблазн, просто медлил. После убийства пятерых польских солдат, которых Майер собственноручно убрал из винтовки во время боя на подступах к Варшаве, в нем что-то дрогнуло и забродило.
Тридцать лет назад, во время Великой войны, Франц из-за ранения успел принять участие лишь в нескольких крупных боях. Горсть этих сдавленных артиллерийским и минометным огнем жутких месяцев он не прожил даже, он пронесся сквозь них ошпаренной болванкой, вслепую всаживая пули в пороховые тучи и смутные контуры касок, в глотки задымленных окопов и отдаленные вспышки ружейных стволов. Майеру до сих пор казалось, что тогда он ни разу не попал в живую цель, по крайней мере эта мысль легко внушалась самому себе, потому как он не видел убитых им людей. Лично для него та война была совсем другой, тогда он чаще не сражался, а шарахался от взрывов, скатывался в обглоданные воронки. Напяливал на себя противогаз, карабкался на возвышенности, перешагивая через человеческие потроха, когда желто-зеленый хлор, бесцветный фосген с запахом прелого сена или горький иприт заливали землю своей гущей. Покореженные люди-тени, не успевшие надеть химзащиту, хватались за горло, их выворачивало, они метались и кричали – остроголовые пешки скидывали свои пикельхельмы, царапали лицо, а Франц все карабкался и стрелял. Он продолжал стрелять в сторону противника, в никуда, в завесу, в бездну, хотя в те минуты уже не сомневался в бессмысленности своей стрельбы, но все-таки продолжал стрелять – чисто рефлекторно.
Когда после госпиталя, в котором он пролежал полгода, ему вручали Крест и говорили громкие слова о беспощадности к врагу, о твердости и героизме, Майер испытывал смешанные чувства: в глубине души он понимал, что получил награду за умение стрелять в дым, за выработанную привычку к вони, вшам, голоду и виду освежеванных человеческих тел, за умение преодолевать страх и делать вид, что та война и каждый ее бой имели хоть какой-то смысл.
Его новая война, больше похожая на прогулку, была другой: теперь Франц отчетливо видел контуры убитых и их черты, почти шутя и между прочим стертые легким движением его руки; он видел и помнил выражения каждого смятого им лица – эти растаявшие, искаженные от боли черты, когда пуля попадала в живот или грудь; видел и помнил то резкое обрывание жизни в глазах и окостенение вздрогнувших конечностей, когда пуля впивалась в голову – одним словом, он имел возможность чувствовать их угасающее присутствие. По окончании того боя, на подступах к Варшаве, Франц даже подошел к одному из пятерых: красивый юноша с острым кадыком и родинкой над бровью лежал на груде кирпичей, вскинув руки, чуть прикрывая ими окровавленное лицо, как будто пытаясь отмахнуться от смерти, стряхнуть с себя ее холод. Поляк напомнил ему Курта: у него тоже выпирал кадык, а главное, глядя на черты убитого, Франц почему-то уверился, что у этого парня при жизни была такая же безудержная улыбка, как и у сына. Майеру стало тошно.
Именно тогда, почти три года назад, когда он еще был обер-лейтенантом, в его душе впервые что-то защемило, и он стал как-то странно чувствителен и внимателен ко всему происходящему вокруг. Храброму гауптману-спортсмену, всегда бывшему примером для подчиненных, не нравилась эта перемена. Франц заглядывал в себя и понимал: с ним происходило почти то же самое, за что раньше так сильно его ругал тренер по боксу, когда во время схватки Майер начинал слишком много думать и сочувствовать. Это изобилие мыслей очень мешало ему просто и без рефлексии выполнять приказы с ледяным лязгом, не ставить себя на место врага, не предполагать и не взвешивать. Было очевидно: с такой головой в Россию лучше не соваться, поэтому Франц решил отложить перевод на неопределенный срок.
Гауптман отогнул перчатку и посмотрел на часы, отхлебнул коньяка из фляги, надел фуражку и вернулся в служебную квартиру. Прикрыв балконную дверь, сделал несколько шагов по мягкому ковру. Пробежался взглядом по лакированному столику с переполненной чугунной пепельницей, разломанной плиткой шоколада и тарелкой с кусками недоеденной ветчины. У стола валялась пустая бутылка из-под портвейна. Франц окинул взглядом взъерошенную постель, еще не заправленную ефрейтером Гансом, толстощеким старательным прусачком-ординарцем, отправленным с утра за провиантом, похлопал по карманам и, убедившись, что ничего не забыл, накинул на плечи шинель, взял потертый планшет и спустился по лестнице, скрипя сапогами.
У подъезда стоял солдат с винтовкой. При появлении гауптмана он щелкнул каблуками и выставил руку в приветствии. Майер ответил беглым шлепком ладони по воздуху и вышел на тротуар. Его шофер Штефан всегда парковал автомобиль не у подъезда, а на другой стороне улицы: так приказал сам Майер – эти несколько лишних шагов до машины по утрам были ему необходимы, чтобы наполнить легкие кислородом и освободить голову от противоречивых шумов-мыслей, густо и тягуче поднимавшихся из глубины болотистым илом после каждого пробуждения. Со своего рассветного поста шофер поглядывал на подъезд начальника, на часы, на окна – каждое утро он неизменно был здесь. Пожалуй, гауптман не удивился бы, если б все здания Варшавы сровняло в несколько часов с землей, – все-таки вселенная войны каждой своей ночью и каждым новым днем несет слишком много крутых поворотов и разрушительных пустот, – но вот представить, что поутру его не встретит чистенький Opel с вмятиной на бампере и пытливый взгляда полусонного Штефана, который опять всю ночь ухлестывал за какой-нибудь смазливой полькой, было решительно невозможно.
Дверь захлопнулась, машина тронулась. Вдоль дороги шагали антрацитовые тени-прохожие, горбились, шаркали ногами, потирали глаза и кашляли, робко взглядывая в окно автомобиля на погоны гауптмана, на петлицы, глаза избегали глаз, смотрели исподлобья, вдогонку. Майер любил форму, гордился своим государством и являлся ревностным членом НСДАП. Однако его смущало то напряжение, что сковывало аборигенов при его появлении. Франца, в отличие от многих сослуживцев, не щекотало и не раззадоривало это ощущение сильного хищника среди млекопитающих. Мало того, он часто с гадливостью думал о том, как бы шарахались от него поляки, как замирали бы при его появлении, будь на его петлицах руны SS, если даже вид офицерского общевойскового мундира вселяет в них такой страх. Сложная смесь национальной гордости немца-победителя и тревожное ощущение противоестественности этого чувства раздражала Майера.
Когда машина проезжала мимо Саксонского сада, гауптман привычно задержал взгляд на скульптуре с отбитой головой. Разбомбленный фонтан пустовал – он замер и молчал, как и изрытый траншеями сад. Голые ветви переплетались скрюченными пальцами, а срезанная, сбитая осколками кора вскрывала древесные волокна-проталины – гладкие и желтые выщербины, залитые растительным соком.
Автомобиль был пропитан теплым салонным душком: запахом кожи и дешевого табака.
– Штефан, дурная твоя голова, опять курил это польское дерьмо?
Шофер бросил виноватый взгляд в зеркало заднего вида.
– Виноват, герр гауптман, свои сигареты закончились, пришлось брать у местных…
Франц выставил перед собой указательный палец.
– В следующий раз пачку этой дряни заставлю сожрать… Я не шучу, Штефан…
– Это не повторится, господин гауптман.
Майер покосился на водителя: выбритая шея с небольшим раздражением – то ли от бритвы, то ли натер воротник кителя. Посмотрел на оттопыренное ухо – мешковатое, сосудистое, затем снова повернулся к окну.
По обочине на скрипучем велосипеде катил старик в потрепанной кепке-пролетарке и мятом плаще, застегнутом на все пуговицы. Небритый, с шершавым, каким-то чешуйчатым лицом, похожий на усталого бульдога, он вяло крутил педали. К багажнику бечевкой был привязан деревянный ящик с бутылками молока. Кирпичная мостовая немилосердно обстукивала покрышки тонких велосипедных колес – бутылки, поджатые досками, чуть подпрыгивали и бренчали, молоко ласкалось к прозрачным стенкам, облизывало гладкое стекло изнутри. Стеклянное дребезжание почему-то напомнило Майеру, как его средний сын Герман до десяти лет скрипел зубами во сне и часто мочился в постель, вызывая негодование Марты. Франц относился к Германову детскому недугу сдержаннее. Разумеется, зрелище раскачивающихся на веревках свежестиранных простыней задевало отцовское самолюбие и несколько беспокоило Франца, но даже ему – мужчине, ветерану войны, боксеру – было странно видеть, с каким остервенением на Германа набрасывалась мать. Она кричала сыну, что настоящий мужчина должен быть хладнокровным и сдержанным, непреклонным, бескомпромиссным, все кричала-кричала и размахивала руками, сжимая простыню с волнистыми разводами, а потерянный Герман не знал, куда деваться, и все прятал-прятал взгляд. Как-то раз Марта разошлась настолько, что принялась тыкать очередной такой меченой простыней в лицо сына; Францу сделалась омерзительна жестокость жены, он грубо ее одернул, заступившись за мальчика, заломил руку жены, выхватил простыню и швырнул ее в дверной проем, а затем с гадливостью откинул от себя и эту худую жестокую руку. Марта в недоумении посмотрела на мужа, всхлипнула и убежала к себе в комнату. Воспоминание покорежило Франца, и один за другим, точно продавленные этим эпизодом из прошлого, в голову хлынули иные, все те случаи, от которых коробило его как мужчину и человека с достаточно сложным и противоречивым внутренним миром.
Все ситуации Марта разделяла на черные и белые, для каждого человека у нее был припасен ярлычок, как шляпа по размеру, платок к цвету глаз, – она смотрела, обнюхивала и начинала шарить в своих потаенных шкафчиках-сундучках, пытаясь подобрать к новому человеку соответствующий колпак, и, только когда нахлобучивала его, наконец успокаивалась. Франца выводило из себя то, как однозначно она определяла силу, слабость, любовь, материнство, дружбу, культуру: испугался – значит трус; плачет – значит слаб; причащается – значит нравственен; обивает пороги пивной – значит пьяница. Супругу раздражало, когда Майеру случалось слишком углубиться в книги – она считала, что во всем должна быть мера, а шелестеть страницами до глубокой ночи, вместо того чтобы чаще прижиматься к ней, ласкать ее тело или даже просто спать, казалось ей чудачеством. Склонность мужа к книгам она тоже считала проявлением слабости, какой-то хрупкости, непозволительной для мужчины – да, она считала, что образование красит мужчину, но излишняя страстность в этом деле казалась ей аномальной. В некотором роде книги Майера были в ее глазах сопоставимы с желтыми разводами на простынях Германа. Марта выходила замуж за красавца-боксера, за ветерана Великой войны, раненого фельдфебеля с крестом. Теперь же он по непонятным для нее причинам стал школьным учителем и пялился без конца в свои дурацкие книжки. Она считала, что супруг использует библиотеку для того, чтобы оградиться от мужских обязанностей. Это было справедливо лишь отчасти: Франц действительно стал постепенно избегать исполнения супружеского долга, он больше не испытывал к своей женщине тех чувств, что когда-то так сильно обжигали, теперь видел только постылое, навязчивое и какое-то пустопорожнее тело, которое к тому же с каждым годом становилось все менее привлекательным, каким-то рыхлым, но считать это единственной причиной было бы крайне поверхностно, на самом деле Майер просто любил книги. Впрочем, жена никогда не упрекала Франца напрямую, почти не говорила о своем недовольстве и неудовлетворенности, предпочитая брызгать желчью по пустякам и провоцировать скандалы на пустом месте. И неизвестно, как далеко она бы зашла, если бы не боялась развода и фрау Ирмы: когда к ссорам молодых подключалась мать Франца, Марта смолкала – поднимала белый флаг, поправляла фартук и искала чем бы занять свободные руки. Франц не любил вторжений в отношения с женой и многократно одергивал фрау Ирму, а та, в свою очередь, понимающе соглашалась, кивала, обещала больше не вмешиваться, но в силу воинственного характера при следующем же конфликте в дверях снова вырисовывался ее непререкаемый силуэт. Также Марту очень отрезвляло, когда обычно спокойный и доброжелательный супруг доходил до крайней точки эмоционального состояния – в такие минуты в его глазах появлялись такие холод и отчуждение, что она сразу спохватывалась, становилась ласковой и послушной. Снова надев форму и вернувшись в бокс, Франц опять вырос в простодушных глазах жены, так что, когда в 1939-м Франц уходил на войну, Марта стояла на носочках и отирала щеку, провожая трепетным томным взглядом широкую спину, утянутую серым офицерским сукном.
Гауптман поморщился. Нет, все-таки он не любит Марту, и им давно пора бы развестись. С трудом сдержал насмешку: каких-нибудь полчаса назад с тоской поглядывал на семейный снимок, ласкал взглядом супругу, и вот рядом проехал молочник с дребезжащими бутылками и напрочь раздавил вел осипедными колесами скопившиеся чувства. Майер решил не загадывать: главное сейчас – дождаться победы, а там будет видно.
Франц поспешил отвлечься от прошлого, достал две сигареты. Одну протянул Штефану, вторую обхватил сухими губами, так что она моментально приклеилась.
Водитель расплылся в довольной улыбке:
– Герр гауптман… Египетские? Какая роскошь… Благодарю вас, господин капитан.
Штефан осторожно убрал сигарету в нагрудный карман, опекая ее лодочкой ладони, дабы не сломать такое редкое для него, ефрейтора, лакомство.
Майер прикурил и глубоко затянулся. Опустил окно, протащил густую струю дыма через легкие, задержал внутри, как будто со смаком обсосал все никотиновые соки затяжки, после чего выдохнул дым через ноздри. Влажный воздух окропил лицо мелкими каплями, а прохладный поток ветра, заостренный скоростью, несколько взбодрил, помог отряхнуться.
Через несколько минут показалась стена гетто с блестящими осколками стекол и колючей проволокой поверху. Штефан повернул на Кармелитскую улицу, у въезда в еврейский квартал притормозил, пропустив повозку с красным крестом, – та подъехала к пропускному посту и тоже встала. Костлявые лошади принялись грызть длинную доску шлагбаума, а когда молодой поляк с заячьей губой и пятном волчанки на лице дернул вожжи, чтобы их оттащить, те недовольно фыркнули, но потом все-таки остепенились и стали ждать. За изуродованным поляком сидела медсестра в вязаной шапке и пальто с меховым воротником, из-под верхней одежды торчали полы белого халата. Рыжеволосая девушка склонила голову набок: о чем-то размышляла. Франц опустил стекло еще ниже и высунулся в окно: рыжая ржавь частых веснушек нисколько не портила прав ильные черты лица медсестры, а задумчивая мягкость взгляда и пухлые губы откровенно притягивали внимание. Девушка понравилась гауптману, так что пока прибалт-вахман и рядовой эсэсовец у ворот проверяли ее документы, Майер беззастенчиво рассматривал медсестру, но вот Штефан громко посигналил и дернул Opel вперед, резко пробуксовав колесом, а повозка скрылась из виду, провалившись в туман, точно в вату.
Отто Айзенштат, известный польский архитектор, устало потирал переносицу, глядя на кирпичную трехметровую стену с колючей проволокой: стена теснила, обрушивалась на жизнь тяжелым обухом, расчленяла пространство Варшавы бездушными линиями толстого ломаного шрама. Пористый кирпич смахивал на черствую кожу. Иногда казалось – поверхность стены двигается, поднимается и опускается, как китовая спина. Айзенштат часто думал о том, что еврейский квартал, этот посмертный чертог, если смотреть на него с высоты птичьего полета, должно быть, напоминет огромную, без конца чавкающую пасть. По крайней мере, сам Отто постоянно ощущал себя в чьем-то огромном брюхе – его словно уже давно прожевало, щедро сдобрило желудочным соком, залило и смазало с лихвой, но еще пока не выплюнуло, в отличие от других, – тех, кому повезло меньше.
Архитектор шмыгал носом, прятался в воротник пальто. Бледная морось облепила контуры зданий и человеческих фигур, склеила их вязким туманом. Угрюмая тяжелая влага давила с неба, припечатывала к земле россыпью мелких капель, похожих на свинцовую пыль, сбивала штукатурку, проклевывалась сквозь крыши домов и гасила печурки. Граница гетто – ненавистная, но намоленная, как стена плача, – стискивала щипцами, не давала дышать. В тенистых углах переулков раскидистые россыпи липкого снега напоминали взмокшую хлорку. Вялые пальцы архитектора давили на переносицу, раскачивали сонливость, теребили ее и тянули, точно занозу из пальца.
От скудной и однообразной пищи Отто плохо спал. Хотя его желудок не сворачивало от голода, и он не видел во сне пшеничные булочки с луком, пирожки с анисом, фаршированную рыбу или жареного гуся, как то бывало с другими, все-таки истощение организма давало о себе знать. По меркам гетто, семья Айзенштатов питалась просто прекрасно, однако и после их густых супов с перловкой, которую Отто не выносил даже на голодный желудок, он спал урывками, словно воруя хлипкий сон у вечности. Архитектора мучили сильные головные боли и диарея, иногда ему казалось, что желудок просто выплюнет себя, выдавит защемленным геморроидальным узлом, но, даже когда ему удавалось заснуть, по утрам он вздрагивал, как если бы спал на отколовшейся льдине. Возможно, так проявлял себя подавленный страх или просто шалили износившиеся нервы, но состояние постоянной тревоги определенно осточертело, и Айзенштат хотел во чтобы то ни стало доказать себе: я способен на большое дело. Все свои телесные перебои он списывал не столько на условия жизни в гетто, сколько на состояние внутренней неудовлетворенности собой: он слишком мало делал для подпольных организаций, гораздо меньше того, что мог бы.
Из-за германского имени Отто часто спрашивали, откуда он родом, и удивлялись, что архитектор – коренной варшавянин в пятом поколении. В XIII веке его предки осели в австрийском городе Айзенштадт, но через двести лет бежали от преследований Альбрехта V – торопились прочь от массового крещения и сожжения, рассыпались вместе с разрушенными синагогами.
Отец Отто, глава семьи Айзенштат реб Абрам, посвятил жизнь музыке. Он играл на виолончели, средний сын Марек – на скрипке, а самая младшая дочка Дина готовилась к карьере оперной певицы: уже сейчас, в свои семнадцать, она ласкала слух родных хорошо поставленным сопрано. Родители ждали, что и их первенец пойдет по стопам отца, но Отто больше нравилось рисовать и лепить из глины, а подростком он до одержимости увлекся зарисовкой городских панорам тушью или углем, поэтому после окончания хедера начал интенсивно готовиться к поступлению в Архитектурную академию, которую и окончил с отличием. Единственное, что связывало Отто с музыкой, – старая детская флейта, много лет назад подаренная матерью. Ребенком Отто часто играл, но с годами флейта наскучила и перекочевала в громоздкий кованый сундук, набитый линялыми открытками, почтовыми марками, винными пробками, затвердевшим в кость пластилином, оловянными солдатиками да сигарными коробками с высохшими насекомыми, – в усыпальницу разного детского барахла.
Изнанка стены квартала напоминала утробу крематория. Рыхлый кирпич, исписанный белой краской на польском и идише, казался горьким и уставшим, пропитанным смертью, как заскорузлая, выцветшая и ссохшаяся губка. Длинные зубчатые нити-молнии тянулись над стеной гетто: проволока и блестящие осколки стекол серебрились в утреннем тумане, разрезали его бритвой, а лохмотья, оставленные на колючке торбами и мешками, которые перебрасывали контрабандисты, колебало ветром – черные пакли драной холстины извивались тягучими водорослями, тянулись к свободе вьющимися растрепанными нитями.
Отто оперся плечом на доску объявлений: желтоватые прямоугольники, исписанные неровным почерком, предлагали обмен обуви, мужских костюмов, белья, платьев и украшений на продукты питания – хлеб, картофель, крупу, репу, свеклу или капустные листья. Из серой мглы сверху вниз настороженно-брезгливо заглядывали за колючую проволоку, сытые окна домов «свободной» Варшавы – даже несмотря на оккупацию, уцелевшие после артобстрела и бомбежек здания выглядели на фоне гетто благополучными и статными.
Высокий Айзенштат все чаще горбился, бессознательно пытаясь спрятать свой рост: многих немцев раздражало, что они вынуждены смотреть на еврея снизу вверх. Отто не был исключением: в целях безопасности все физически сильные, здоровые, состоятельные, красивые евреи и еврейки старались казаться как можно более слабыми, болезненными, сирыми и неприглядными.
Архитектор сунул руки в карманы пальто. Несколько месяцев назад он нащупал в подкладке дыру и теперь постоянно ее теребил – дурацкая привычка нервного человека. Поймал пальцем гладкую прохладную монету, завалившуюся в дальний уголок, и стал скрести ее, приподнимать и переворачивать. Переминался с ноги на ногу и мусолил глазами ненавистный блокпост: черно-белая доска шлагбаума и зевающий солдат, как крышка, отгородили от жизни, нахлобучили на голову пыльную мешковину. Из-под каски солдата торчал кончик сигареты, издалека похожий на хищный зуб. Немец стоял непоколебимым и сытым болваном, гранитным бонзой, мускулистым и стройным, почти античным, – самозваный нибелунг, порождение тумана и смерти, стражник Дита, равнодушный привратник с автоматом и в тяжелой каске, которая бросала матовые блики и отражала ущербный свет от желтеющего в тумане висельника-фонаря, рассекающего влажный, клеенчатый воздух.
Промокшие ноги Отто устали, но сесть было некуда – скамейки растащили на дрова еще до объявления генерал-губернатором Гансом Франком в октябре 1940-го о создании гетто и окончательном разделении Варшавы на немецкий, польский и еврейский районы. Стараясь перетерпеть боль в ногах, Отто сильнее налегал плечом на стену, чтобы не уступить соблазну и не сесть на мостовую.
В природе терпения скрывается какая-то пространная многоликость. Сейчас архитектор заставлял себя терпеть слабость в ногах, потому что сесть на мостовую значило уронить себя, стать одним из тех сломленных доходяг в обносках, которыми кишмя кишел квартал. В другие отрезки жизни он воспринимал необходимость терпеть физическую боль иначе. Подростком в драках с мальчишками – как инициацию, кровавый ритуал возмужания, а в более зрелом возрасте стремился к преодолению страха высоты и темноты, который когда-то сковывал его, будто паралич, а теперь казался не стоящим внимания пустяком, пыльным пугалом, потешной бутафорией из детского чулана. Отто чувствовал, что в этом преодолении заложен основной инстинкт жизни – не только мужской, но и женской. Человек рождается в преодолении боли и страха, познает через него свою самобытность, осваивая заложенные в себе роли, утверждая свое духовное «я».
Ему вспомнилась история из далекого прошлого. Он, девятилетний, шел в хедер, а мимо на велосипеде проезжали два поляка из компании мальчишек-старшеклассников, державших в страхе всех еврейских ребят. Один из подростков, тот, что сидел на багажнике, выставил ногу и пнул его на скорости, и маленький Айзенштат, который обычно приходил в немой ужас при виде этих переростков с дубовыми лбами, громогласных детин из неблагополучных семей, почти рефлекторно повернулся и бесстрашно дал сдачи: сначала пнул ботинком по спицам велосипедного колеса, а потом приложился кулаком к растерявшемуся от удивления весельчаку. Тут Отто опомнился и ужаснулся собственной смелости, однако виду не подал. С чувством собственного достоинства, неправдоподобно медленно зашагал дальше, оставляя своих заклятых врагов за спиной, по секундам просчитывая: вот-вот, теперь они остановились, один из них слез с велосипеда, да-да, вне всяких сомнений, я чувствую на затылке тяжелый взгляд, наверное, уже бежит, а сейчас-сейчас пора бы ему уже замахнуться, ударить меня. Сжимаясь в предчувствии мести, которая должна его настигнуть, маленький Айзенштат пересилил себя и даже не повернулся. Зажатый обычно, робкий среди сверстников, боязливый молчун шел теперь, как власть имущий, как престолонаследник и человек силы, сам себя при этом не узнавая. Удар настиг его – даже не удар, а жалкий, размазанный тычок в лопатку, абсолютно безболезненный. Отто понял: детина бьет только для того, чтобы не уронить свой авторитет в глазах приятеля. И что самое главное, Отто почувствовал в этом тычке страх: робость удара выдавала боязнь того, что Айзенштат снова даст сдачи, обнажала трепет перед твердостью походки и прямой спиной гордого человека, который не оглядывается, хотя прекрасно знает, что его ждет сзади. В ту минуту Отто не в полной мере осознал, почему, собственно, вдруг решился повести себя так, но позднее пришел к убеждению: тогда он стал мужчиной. Именно тогда, а не несколькими годами позже, в тот липкий, пахучий и постыдный вечер, когда лишился девственности с продажной шиксой в дешевой гостинице, в комнате с некогда белыми занавесками на пыльном окне, занавесками цвета свадебного платья и невинности, теперь уже облезлыми, пожелтевшими от никотина, со следами от губной помады и прожженными сигаретным усердием дырами. На заляпанном столе валялось надкушенное яблоко – ржавый налет окислившегося железа схватил белую мякоть спелого плода, а Отто лежал рядом с той девицей и все смотрел-смотрел, словно Адам, то на изуродованное укусом, лишенное полноценности яблоко, как будто видел в нем себя, то сквозь дырявую занавеску на треснутое стекло и пыльную гущу подоконника, то на дряблый женский живот и фильдеперсовые чулки, на бурые пятна припудренных синяков на стройных, но каких-то неопрятных ногах. Обнаженное женское тело томилось, прело переспелой тыквой, теплилось плотным мясным душком. Юному Айзенштату даже казалось, что оно тлеет и рассыпается у него на глазах мягким торфом, пахучим перегноем. Девица взяла край простыни и отерла сперму со своего живота, потом о чем-то спросила, но Отто не ответил.
Промозглое утро встряхнуло задумавшегося архитектора резким порывом ветра. Тяжелые капли стекали с крыш, стучали по асфальту, вбиваясь в землю длинными острыми гвоздями. Невольно отрыгнулся заплесневелый картофель, который пришлось есть всю последнюю неделю: сморщенный и мягкий, как изюм, он походил на куски чернозема, от одного его вида Отто одолевала тошнота. С нелегальными продуктами возникли перебои, многих контрабандистов задержали и расстреляли, поэтому даже Айзенштату с его многочисленными связями приходилось несладко. Его мать Хана выменивала на крупу и кильку те немногие ценные вещи, какие удалось сберечь от немцев. Сестренка Дина штопала одежду, средний брат, нервный Марек, играл в ночном ресторане «Казанова» для еврейских деляг. Несмотря на количество рабочих рук в семье и на некоторые влиятельные знакомства, последнее время основу рациона все равно составляли перловка и этот подгнивший картофель.
Абрам Айзенштат умер несколько месяцев назад. До недавнего времени он продавал на рынке книги и подхватил там сыпной тиф. Седая щетина, вспотевший лоб и блуждающий взгляд отцовских воспаленных глаз, некогда таких добрых и внимательных, а во время болезни побагровевших, с лопнувшими сосудами, до сих пор стояли в памяти. Старик бредил, ему все казалось, что в дом тянутся чьи-то холодные руки, которые хотят его забрать, и больше всего его пугало, что на этих жутких пальцах не было ногтей, отчего они походили на клубки червей, смертоносных и рыхлых, как плесень. Абрам метался и несколько раз падал с кровати. Пугающая сыпь расползалась по всему телу и набухала жуткой коростой.
Когда отец скончался и умолкли его вскрики и хрип, Отто почувствовал постыдное облегчение. Сейчас было неприятно вспоминать то ощущение освобождения, тупое и циничное, но он видел: другие члены семьи испытывали нечто похожее и прятали друг от друга глаза. Утешало и отчасти оправдывало эмоциональную огрубелость лишь то, что мучения отца закончились, а шанса выздороветь все равно не было. Личные вещи главы семейства сожгли, поспешно уничтожив память о дорогом человеке, словно отряхнулись, опасаясь заразного наследия. Одежда и белье горели в ржавой бочке, Отто смотрел в огонь и помешивал черную труху чугунным штырем; перед глазами все еще стояли очертания лица Абрама, рождаемые языками пламени: вот отец, еще совсем молодой, сидит перед пишущей машинкой и морщит лоб, глядя поверх золотых очков на свежеотпечатанные страницы, высокий лоб заливает уютный, хлебный свет настольной лампы, выделяя тенью серьезные серые глаза, а жидкая бородка без единого седого волоска кажется белой от света. В кабинете отца, заваленном нотными листами, всегда пахло свечами, типографской краской, книгами, кожей и чернилами; улыбаясь, он сильно щурился, а во время еды у него смешно двигались уши, изрезанные фиолетовыми прожилками. И вот теперь все эти обрывки воспоминаний растворились в пламени ржавой бочки, лишь потрескивали и тлели, словно опаленная шерсть…
Архитектор оттолкнулся от доски объявлений и пошел по сырой улице, стараясь не терять из виду забрызганный шлагбаум. Блестящий асфальт хлюпал под ногами, лицо обдавал холодный ветер; из темных окон, похожих на потухшие глаза мертвых, выглядывали костяные лица с черными впадинами вместо глаз и плотно сжатыми губами; из подъездов появлялись спешащие осунувшиеся люди – вялая толкотня усталых тел; в переулках мелькали кое-как сбитые из обтянутых тряпьем досок шалаши. Обитатели шалашей еще спали, их ноги торчали из темноты. Сильный запах карболки давил в лицо, наждаком драл горло, вызывая слезы.
На обочине лежал мертвый подросток лет тринадцати в изодранной дерюжке и разных башмаках: на одной ноге – черный ботинок с массивной подошвой, на второй – коричнево-белый лакированный штиблет с щегольским носом и оторванным каблуком. Подростка еще не раздели, значит, он только что умер: даже самые драные лохмотья с трупов снимали и обменивали на несколько картофелин. Окоченевшая кожа мальчика сливалась с асфальтом влажным листом бумаги, вокруг глаз клубились мухи, ползали по деснам и выпяченному языку. Люди бренчали котелками и ведрами, перешагивали через покойника и торопились, каждый стремился успеть оторвать от сегодняшнего дня еще один крохотный кусочек жизни.
Отто проходил мимо бледно-зеленых мусорных баков, мимо залатанных фанерой оконных рам, ржавых решеток, разбитых стекол и кирпичей с отслоившейся штукатуркой. Окна смотрели на улицу слепыми пыльными прямоугольниками, похожими на рты задыхающихся людей. Мимо проехал знакомый грузовик с зарешеченными окнами. В кузове сидели заключенные тюрьмы Павяк, которых перевозили в Главное управление гестапо на аллею Шуха; из-за решеток на Айзенштата глянуло несколько затравленных глаз, промелькнули напряженные пальцы, сжавшие прутья, и бледные, изуродованные мукой лица; казалось, что узников не везут, а тащат волоком стальными крюками по каменистой дороге. Архитектор знал: обратно грузовик привезет уже не людей, а то, что от них останется, – беззубые шматы окровавленного мяса, раздавленные в паштет уши, обрубки половых органов и руки с вырванными ногтями. За грузовиком следовала машина сопровождения с конвоем. На этот раз из окна никто не высовывал палок с вбитыми в них гвоздями и бритвами, никто не калечил случайных прохожих, хотя это было обычным развлечением гестаповцев, которые испытывали почти что генетическую потребность смочить руки кровью, пока ехали из Павяка на аллею Шуха. Судя по всему, везли каких-то важных преступников, и гестапо просто избегало портить аппетит перед ожидаемой пыткой, запланированной с особенным размахом.
Отто передернуло – не то нервы, не то какой-то болезненный рефлекс. Несмотря на холод, лоб покрыла испарина. Улицу постепенно запрудило людьми. Начался очередной день – очередная схватка за выживание. Среди прохожих засновали подростки-карманники в драных ушанках, до слуха доносились обрывки шепота и криков. Толкотня нарастала, люди отмахивались друг от друга и брюзжали. Архитектор прижался к стене и смотрел на своих соплеменников выцветшими, отстраненными глазами.
Панны Новак все не было. Порядком замерзший Отто начал кусать губу: обычно Эва не задерживалась. Архитектор тревожился за ее жизнь: за несколько месяцев своей деятельности Польская организация спасла руками Эвы более пятисот детей. Хрупкая белолицая девушка с рыжими волосами и мандариновой россыпью веснушек, Эва Новак одна или вместе с помощниками выносила малышей в санитарной сумке, выводила через подвалы домов, канализацию, провозила в вагоне проходящего через гетто трамвая, передавала через окно здания суда, стоявшего на самой границе: одной своей частью на еврейской стороне, второй – на арийской. Айзенштат знал, как много отдало бы гестапо за ее голову.
Услышав скрип остановившейся телеги, Айзенштат поднял глаза и облегченно выдохнул: у шлагбаума стояла лошадь с повозкой, панна Новак в вязаной шерстяной шапке сидела среди железных банок и коробок со средством дезинфекции, а правил усталой кобылой уже знакомый Айзенштату молчун Яцек с заячьей губой и волчанкой, залепившей подбородок, часть щеки и шею. При взгляде в его умные глаза складывалось впечатление, будто этот человек знает слишком многое: какие-то обрывки будущего и скрытые глубины настоящего, тайные мотивы и мысли, притаившиеся в уголках сознания. Стоило только погрузиться в эти глаза, и лицо становилось прозрачным, волчанка и заячья губа казались не такими уж и отталкивающими; от Яцека исходила энергетика цельного, сбывшегося человека, знающего, ради чего он живет, и готового в любой момент ради этого умереть.
Яцек жил очень замкнуто и до войны все свободное время отдавал книгам и охоте. Разговаривать с людьми он робел и, если не мог отмолчаться, от смущения казался гораздо глупее, чем был в действительности. К тому же он неумело, часто обрывая, строил фразу, разные нелепости засоряли его речь, но Яцек плодил языком всю эту речевую макулатуру не потому, что был глуп, а потому, что не знал, как заговорить с людьми о тех сложнейших вопросах, которые он давно обдумал и тщательно взвесил; его мысли были слишком громоздки, чтобы так запросто найти для них форму, а большинство окружающих его людей были слишком не глубокими, чтобы избежать соблазна повесить на Яцека ярлык «недалекого», основанный на поспешном выводе. Отто же с первого дня знакомства безошибочно определил: Яцек тысячекратно умнее, чем кажется, однако архитектору до сих пор не удалось преодолеть ту стену-завесу, за которой Яцек скрывался от мира.
Тут Отто разглядел, что рядом с повозкой остановился военный Opel, из машины выглянул красивый офицер и как-то слишком уж внимательно рассматривает Эву. Айзенштат сжал кулаки и размашисто зашагал к шлагбауму, расталкивая прохожих. Решил про себя: если попытаются арестовать панну Новак, он выхватит у солдата автомат, убьет Эву, прибалта-вахмана и стольких немцев, скольких успеет. Рыжие волосы медсестры выбились из-под шапки, ее спокойные голубые глаза изучали круглолицего прибалта с бесформенной ряхой и мясистым подбородком, похожим на свиную рульку. Солдат проверял документы Управления здравоохранения; санитаров всегда пропускали: нацисты слишком боялись разрастающейся эпидемии сыпного тифа, способной перекинуться на личный состав вермахта и SS.
Отто остановился у шлагбаума, теперь он в один-два прыжка мог оказаться рядом с прибалтом. Поймал на себе вопросительный взгляд солдата, сидевшего в будке, тот встал и подошел поближе. В голове Отто зазвенело, он чувствовал, что-то назревает, сердце лихорадочно застучало, но вот Opel взвизгнул сигналом и резко тронулся, а эсэсовец поправил висевший на плече МР-40 и пропустил повозку. Шлагбаум поднялся, а Отто, осознавший, что чуть было не навлек на всех беду, сделал вид, будто обознался, увидев за шлагбаумом кого-то из знакомых, махнул рукой, зевнул и с равнодушным видом свернул за угол. Он успел увидеть взгляд заметившего его Яцека, поэтому, не оглядываясь, двинулся по улице, зная, что через минуту-другую повозка его нагонит.
Колеса телеги давили лужи с потрескавшимся, дрогнувшим под ее тяжестью небом. Архитектор чувствовал, что простыл, в горле першило, подкрадывался кашель. Сегодня у панны Новак не получилось достать машину, это означало дополнительные трудности. Спрятать ребенка в телеге было гораздо сложнее. Эва озябла, и Яцек накинул свой бушлат на ее приталенное пальто с меховым воротником. Повозка со скрипом медленно катила следом за Otto. Несколько раз попадались еврейские полицейские: один ехал на велосипеде, второй просто шел навстречу, покачивал в руке дубинку, обшаривал каждый закоулок востренькими глазками; когда ему попадались дети-старички с протянутой рукой, он рявкал на них и замахивался, прогоняя с обочины. Оба полицейских настороженно уставились на телегу, но, увидев коробки со средствами дезинфекции, сразу потеряли интерес.
Наконец Отто дошел до нужного дома и подал знак: снял свою помятую шляпу и отряхнул ее, после чего скрылся в тени подъезда. Яцек остановил лошадь, Эва спрыгнула с телеги и вошла следом. Айзенштат пропустил женщину с авоськой, что медленно спускалась по подъездной лестнице, поправляя на себе мужскую рубаху, затем энергично поманил рукой медсестру и молча кивнул на облупившуюся дверь с оторванной ручкой. Над дверью был приколочен старый, потертый футляр с мезузой. В подъезде стоял тяжелый запах баланды и жира. Эва достала из кармана мел и пометила квартиру белым крестом. Отто передал ей сжатую в кулаке, мокрую от пота записку с краткой информацией о живущей здесь семье.
Архитектор спустился по засыпанным стекольной крошкой ступеням в маленькую подвальную каморку. Эва, глядя под ноги, аккуратно шагала следом, стараясь в темноте не задевать битые бутылки. Отто пропустил девушку вперед, оглянулся и, убедившись, что в подъезде никого нет, закрыл дверь каморки. Снял пальто и, почти прижавшись к Эве, накинул его поверх голов, чтобы приглушить звук голосов. Под ногами валялось тряпье, пропахшее мочой и лежалым, немытым телом: судя по всему, по ночам в подвале кто-то спал.
– Здравствуй, Эва… Как же ты напугала… Почему так долго? Были проблемы?
Девушка часто дышала. Айзенштат слышал удары ее сердца и скрип обуви, когда она переминалась с ноги на ногу.
– Да это ты напугал… Зачем ты так близко подошел? Солдат мог что-нибудь заподозрить…
– Я решил, что за тобой хвост…
Оба замолчали: шаркая ногами, кто-то поднимался по лестнице, спотыкался о битое стекло и гулко кашлял. Когда в подъезде снова стало тихо, Айзенштат возобновил прервавшийся разговор:
– Ну, все в порядке?
Почувствовал, что девушка кивнула, хотя в темноте не видел: похожее ощущение иногда возникает во время разговора по телефону.
– Не переживай, просто несколько раз останавливали жандармы, проверяли телегу… Меня беспокоит твоя бледность… у тебя был такой ошалевший, болезненный вид у шлагбаума, что…
– А меня беспокоит, как ты поедешь обратно… а если снова обыск?
Эва нахмурилась:
– Оставь… сегодня у каждого человека это свое «если».
Помолчали несколько долгих секунд. Только трескучие капли все бормотали, отстукивали по полу с водянистым дребезгом, вылущивались из взмокшего потолка, сползали с труб и расщелин разводами, как стекающий по бледной шее пот.
– Что там нового на поверхности? – Он прервал влажную трель своим простуженным голосом, который слился с ее бойким эхом; голос как будто стал частью этих подвальных всхлипов, плотью от их плоти.
Архитектор часто говорил о внешнем мире – территории вне гетто – так, словно находился в подземелье. Эва заговорила еще тише:
– В январе Ауэрсвальд ездил на поклон в Берлин. Объявлено окончательное решение вопроса… новая программа… До меня эти слухи дошли в феврале, организация долго их проверяла, и вот только теперь, в марте, все действительно подтвердилось… Похоже, этим летом квартал будет ликвидирован.
Отто потер подбородок, скрипнув щетиной, но промолчал: слушал.
– Из Львовского гетто начали депортировать людей еще зимой, сейчас начали отправку из Люблина… вероятнее всего, следующие на очереди Краков и Варшава.
Айзенштат почувствовал, как мышцы наливаются напряжением, тяжелеют. Собственное тело как-то сразу и вдруг стало увесистым и инородным, точно поклажа. Запашистые тряпки, над которыми приютились Отто с Эвой, обдавали настолько ядреным и стойким парным душком, что раздражающие оттенки чужого пота и мочи воспринимались как часть собственного тела – так же, как и звуки настойчивой грязной капели, которая околоплодными водами медленно стекала и скапливалась в прозрачные катышки. Концентрированная вонь тряпья и запах собственного пота перемешивались с оттенками запахов медсестры – Отто всегда, среди любого смрада остро улавливал эти специфические нотки. Они прижались друг к другу, как единоутробные младенцы; под пальто стало душно и жарко. От девушки пахло хлоркой, а руки пропитались спиртом, на фоне вонючих закоулков эти запахи воспринимались как аромат здоровья, свободы и жизни.
Глаза привыкли к темноте. Архитектор мог уже различить черты лица девушки: бледная щека, глубокая морщинка-трещинка поперек лба, верхняя губа с мягким пушком и контуры ресниц, похожие на колосья ковыля.
– Куда нас отправят, ты знаешь?
Панна Новак пожала плечами:
– Трудно сказать, они все скрывают… Про Варшаву ничего не ясно: вас здесь слишком много… в карман не положишь, шляпой не накроешь. Из Львова и Люблина отправили в Белжец, Райовец и Парчев, а куда Варшавское, представления не имею, ближайший к нам лагерь – Зольдау и Хелмно… Это далековато, не думаю, что вас могут отправить в Западную Пруссию, тем более что Зольдау совсем крохотный, куда ему вместить всех варшавских…
Айзенштат усмехнулся:
– Я вчера разговаривал с Черняковым, даже глава юденрата не имеет такой подробной информации…
Новак повела плечом:
– Я здесь ни при чем, это все наши активисты… Черняков здесь, как и ты, в консервной банке сидит, навроде шпроты под немецкой крышкой, еще бы он знал что-то… Перед ним Ауэрсвальд не отчитывается. У подполья гораздо больше источников и возможностей, тем более из Люблинского гетто кое-кто спасся и вышел на нас… Яков Граяновский, бежавший в январе из Хелмно, рассказал о газвагенах… забивают полный грузовик, человек по семьдесят… Матерь Божья… а потом только трупы выбрасывают, как говяжьи туши из рефрижератора… Пресвятая Дева Мария, когда все это закончится?…
Эва прикусила губу. Немного помолчала.
– Думаешь, в других лагерях будет иначе? Только Гитлер мог придумать такое… Эти нелюди хотят объявить Польшу юден-фрай, как несколько месяцев назад Эстонию и Люксембург… Нужно вывозить больше детей, понимаешь? Сопротивление хотело бы спасти из квартала нескольких ценных людей – того же Гольдшмита… а у некоторых членов подполья зреет все более твердое желание дать отпор.
Зрачки Отто расширились, он вцепился взглядом в проступившие сквозь темноту контуры губ Эвы: при любом упоминании о восстании Айзенштат наливался кровью, заострялся, как спица, и чувствовал избыток сил. Он хотел было начать расспросы о формирующихся группах еврейского сопротивления – обо всем, что могла знать Эва, но одернул себя, решил пока не развивать волнующую его тему, чтобы не выдать своего нетерпения.
– Дело не в Гитлере… Газовые камеры придумал американский стоматолог еще в двадцатых годах, евгенику обосновал двоюродный брат Дарвина. – Архитектор прокашлялся, прикрывая рот рукавом. – От своего знакомого, бежавшего из СССР, я слышал, что газвагены использовались НКВД на Бутовском полигоне еще до Гитлера, хотя это слухи, конечно… Да что там, даже умница Юнг – активный сторонник эвтаназии душевнобольных, это же еще спартанская мечта, понимаешь? Научный идеализм – то же самое, что фанатизм религиозный, только с чуть другой рожей… а уж в соединении с идеализмом политическим вся эта научная благонамеренность – всеобщая петля… Тамерлан с Наполеоном, конкистадоры, я не знаю, геноцид индейцев или какая-нибудь Османская империя – такое детство рядом со всеми этими научно-политическими изысканиями, прогулочка просто…
– К чему ты это все? Отто подался чуть вперед:
– Психопат просто превзошел всех своих учителей, не более… Всему виной не этот маньяк, а та первобытная стихия, которая за ним стоит, – ей миллионы лет, а сам фюрер просто одна из глоток этого чудовища… Ты думаешь, что геноцид армян чем-то отличается от всего этого? Турки разве что примитивнее действовали… ума и средств не хватило дойти в том же деле до совершенства немецкой отточенности… до этой германской изощренности и педантичного блеска…
У девушки затекли ноги, и она пошевелилась, зашуршав одеждой. Архитектор поддержал ее за локоть, произнес срывающимся от простуды голосом:
– Это не немцы сделали, а люди, все мы, цивилизация, наше поганое нутро… Человек – самое паршивое и самое святое существо на свете…
Эва шмыгнула носом:
– Может, ты и прав.
Отто резко кивнул:
– Я даже не знаю, кто больший преступник: немцы или нежелающие принимать перед войной еврейских беженцев Великобритания? США? Бельгия? Австралия? Канада? Оградились квотами или вежливой болтовней… Все эти международные конференции, возвышенный треп и циничное разворачивание пароходов с напуганными детьми у своих границ гораздо страшнее концлагерей и газвагенов…
Девушка кивнула и приподняла полы укрывавшего их пальто: становилось невыносимо душно. Белая кожа Эвы вобрала в себя свет с улицы, что воровато щемился сквозь щели, лицо вспыхнуло, как лампа, обдав Отто румяным здоровьем. Отто знал, что медсестра во многом себе отказывает, отдавая людям большую часть продовольствия и средств, однако молодость брала свое, и, несмотря на скудное, урезанное питание, бойкая жизнь рвалась наружу через молочную нежную кожу и большие грустные глаза.
Эва была дочерью богатого польского крестьянина Томаша Новака, набожного католика и трудолюбивого хозяина, любившего землю с той трепетной нежностью, с какой обычно любят детей и животных. Глядя на этого полного, жизнерадостного человека, можно было представить, что он даже на пашню ступает как-то особенно осторожно, будто придерживает свой вес, опасаясь ранить жирные черные комья с проросшими сквозь них корнями трав. Он поглаживал поле бороной, точно детскую макушку ладонью.
Эва часто вспоминала большое деревянное распятие, висевшее в спальне над комодом, на котором стояла ваза с засохшими полевыми цветами. Мать нарвала их ко дню конфирмации дочери и решила сохранить. Когда девочка проваливалась в накрахмаленную пуховую перину, пропахшую гвоздикой, это распятие из ясеня, похожее на мачту корабля, отчетливо проступало сквозь темноту, внушая покой и чувство защищенности. В глазах Эвы оно словно скрепляло своими перекладинами, связывало, как узлом, весь домашний быт семьи Новак, держало на своих плечах весь их мир.
Утром девочка просыпалась от теплого шаркающего шума – по двору слонялся беспокойный скот, до рассвета выпущенный работниками: лошади грызли стену дома и стучали копытами, а любопытная влажная морда теленка время от времени заглядывала в окно – теленок пытался пожевать комнатные цветы на подоконнике. Непоседливые куры терлись друг о друга крыльями и возбужденно сплетничали.
Отец всегда вставал рано и, чтобы отряхнуться ото сна, выпивал несколько стаканов крепко заваренного чая с яблочной брагой. На кухне пахло картофельными пляцками или свежеслепленными колдунами, мукой и луком. Нагревающаяся чугунка с водой выплевывала в потолок душный белый пар. Мать в белом чепчике готовила завтрак. Широколицая, с добрыми глазами и тяжелым подбородком, но женственными, точно ломкие стебли, а в действительности очень сильными руками, она поливала цветы, гремела связкой ключей от сараев, погребов и амбара, наскоро давая указания своим работникам, а потом уходила в маленький сельский костел, с улыбкой кивая попадавшимся навстречу косарям, которые шли вдоль хворостяных плетней по пыльной дороге, разбитой колесами. «Слава Иисусу!» – «Вовеки!» – разлеталось искрами приветствие. Работники снимали кепки, сверкали здоровыми зубами и косами, закинутыми на плечи.
После утренней службы мама включалась в жизнь усадьбы, следила за детьми – у Эвы было четверо братьев, – помогала рабочим заготавливать корм для скота, носила воду, прибиралась в комнатах, стирала пыль с книжных полок и выметала ее из-под скрипучих кроватей. Эву не нагружали хлопотами по хозяйству, балуя единственную девочку в семье, так что она весело порхала среди корзин с бельем, расталкивала лохматых кур, перепрыгивала через спелые тыквы, гонялась за жирным серым котом и сшибала ведра с водой, а ее заразительный смех неутомимой бусинкой перекатывался из комнаты в комнату. Но минутами Эва глубоко задумывалась, шагая в свои мысли, как в колодец, становилась неподвижной и серьезной, словно маленький сфинкс.
Повзрослев, девочка стала сдержанной и даже немного скованной, перестала разговаривать и смеяться так громко, как раньше, тяготилась веселыми компаниями: ее не заражало это дружеское веселье, мало того, она неизменно чувствовала, что в нем ее дни проходят впустую. Почти сразу после поступления в Варшавский университет Эва примкнула к Польской социалистической партии, просто потому, что партия казалась ей единственной силой, способной сделать что-нибудь существенное для людей, нуждающихся в помощи. В своем окружении она была единственной, кто умудрялся совмещать религиозные и социалистические убеждения, поэтому долгое время прятала от всех нагрудный крестик на старом полинялом шнурке. Еще до начала войны Эва доставала фальшивые документы, которые позволили многим евреям скрыть национальность, а после оккупации попала в варшавское Управление здравоохранения, благодаря чему могла беспрепятственно наведываться в гетто.
Эва откинула белыми пальцами прядь рыжих волос, неприятно защекотавшую веко. Лоб блестел от пота, как гладкий камень, облизанный морской волной. Айзенштат ждал, когда она заговорит о вооруженном подполье, и снова накинул на себя и девушку пальто. Эва считала такую конспирацию чрезмерной: здесь, в завшивевших трущобах гетто, едва ли можно было опасаться немецких ушей, однако Айзенштат настаивал, поскольку боялся осведомителей и понимал, что больше всего рискует именно она.
– Что еще скажешь, Эва? Есть какой-нибудь мармелад? Что-нибудь из «счастливого уголка»?
Девушка сцепила руки и хрустнула костяшками пальцев, нахмурилась, покачала головой:
– На Востоке, кажется, просветы… Немецкая пропаганда не особенно красноречива, а это значит, что им крепко достается… русские смогли отогнать их от Москвы… Но немцев послушать, так у них все – как по рельсам… не знаю… Крым почти взяли, перестали оправдываться в том, что блицкриг затянулся… Японцы вытеснили англичан из Бирмы, Роммель – в Ливии, возвращает потерянное макаронниками…
По напряженному молчанию архитектора Эва угадала ход его мыслей. Она давно знала о его замыслах, но ей не хотелось, чтобы Отто брался за оружие. Будто случайно вспомнив, медсестра сунула руку в карман и передала моментально оживившемуся Айзенштату записку, в которой представители Антифашистского блока назначали ему встречу на завтрашний день. Архитектор зажег спичку, девушка успела рассмотреть Отто, погладила взглядом потеплевшую, подсвеченную огнем кожу, желтую, как шафран. Айзенштат пробежал заблестевшими глазами по короткой строке:
«На улице Новолипки у 40-го дома, в 3 часа».
Сороковой дом – трехэтажное здание на границе гетто, сквозь него проходит тоннель на арийскую сторону, поэтому там несложно пройти, дав взятку солдату. По дошедшей до Айзенштата смутной и не очень надежной информации, Еврейская организация набирала людей и в ближайшее время готовилась к первым операциям на территории Варшавского и Белостокского гетто. Otto еще раз перечитал записку и поднес к ней не успевшую погаснуть спичку – бумага вспыхнула. Когда она догорела, Эва протянула из темноты два куска мыла, несколько склянок и одну ампулу. Отто догадался, что это вакцина от сыпного тифа и пронтозил, который используется как антибактериальное средство. Девушка положила все это в ладони Айзенштата, прибавив к передаче таблетки от диареи.
Архитектор держал склянки очень бережно: вакцина была нужна матери, которая сильно ослабела в последнее время, и Отто боялся, как бы слабость не обернулось тифом. Прививка стоила пятьсот – шестьсот злотых. Серная дезинфекция – пустая трата денег, в юденрате ее чаще всего использовали, чтобы вытрясти из населения очередной куш: из карантина люди приносили еще больше вшей, чем было до него. Больницы уже давно прозвали «местом казни»: попадая на больничную пайку, люди просто умирали от голода.
Отто сжал драгоценные лекарства и улыбнулся. Когда их руки соприкоснулись, оба вздрогнули – электрическая щемота, цепкость высокочастотного разряда. Кожу закололо, она словно бы истончилась. Архитектору захотелось поцеловать Эвины пальцы, запястье, обнять девушку, провести рукой по шее, но он не пошевелился.
Теснее прижался к ее плечу. Война нас облагодетельствовала. Забавно. Иначе никогда бы не познакомились. Глядя в задумчивые глаза панны Новак, Айзенштат чувствовал, что просто обязан быть лучше, чем он есть, и делать больше, чем делает сейчас, просто потому, что есть такие люди, как она; просто потому, что есть в мире такая красота и этот неугасимый свет в глазах. До знакомства с Эвой Отто был твердо убежден, его задача – спасти свою семью, но жизнь медсестры влепила ему, мужчине, такую оглушительную пощечину, что он устыдился благородной мелочности собственных потуг, эгоистично замкнутых в родственных узах.
Каждый день эта худенькая веснушчатая девушка с родинками на шее и обветренными губами рискует жизнью ради совершенно чужих людей – почему, зачем? Энергия Эвы подхватывала волной и заражала, казалось, она торопилась умереть точно так, как все остальные торопились спасти себя. На самом же деле она любила жизнь: мало кто смотрел на облака, на деревья и птиц так, как она, и Айзенштат прекрасно знал это.
Однажды Отто видел, как солдат из расстрельного отделения после казни неуверенной походкой отошел в сторону и оперся на стену – через несколько секунд его вырвало. Унтерштурмфюрер ударил пристыженного шутце по лицу и что-то прокричал, показывая пальцем в сторону стоявших в стороне еще не расстрелянных евреев, те прижались к стене, вбитые в нее, насаженные, как на пики, убитые заочно, еще до выстрела. Солдат отер рвоту рукавом и залез в кузов грузовика, не глядя на своих. Бледное лицо, растерянный ужас немца наводили на мысль: он только что проглотил казненную семью, прожевал собственными зубами и вот желудок подвел и исторг свое содержимое. Солдат несколько раз оглянулся на расстрелянных. Девушка с раскинутыми по камням черными волосами и широко раскрытыми глазами, блестящими, как стеклянная крышка над пустотой. Убитая неловко лежала на асфальте, худые руки заломлены, скомканы валежником, а нога отведена в сторону, словно девушка замерла в каком-то танце и собиралась встать, чтобы продолжить его, тонкая и такая сложная в каждой черточке-частичке своего тела, совершенная и прекрасная, смятая ландышем – мертвая горсть. Рядом, опершись на стену, сидела ее застреленная мать, руки были сложены на животе точно так, как она их держала во время расстрела, голова завалилась набок в сторону дочери – казалось, мать присела передохнуть после тяжелой работы и наклонилась к дочке, желая шепнуть что-то важное; юбка женщины задралась, оголив белую ногу с черными волосками и паутиной выступивших вен. Тут же лежали двое детей: мальчику-подростку раскололо череп, оторвав верхнюю его часть вместе с левым глазом и ухом, а девочке лет семи с кудрявыми волосами и восковым лицом перебило горло, кровь залила всю мостовую. Дети походили на раздавленных молотом цыплят; вскрытые и распятые, они лежали неподвижно, как снег. Отец семейства упал лицом вниз, будто его сбросили с высоты. Рядом с телами валялась окровавленная кукла с длинными ресницами, в голубом платьице с кружевами; удивленным личиком, малиновыми губами и ямочками на щеках она походила на свою застреленную владелицу и даже лежала в похожем положении: сложенные вместе ноги в круглых башмачках и прижатые к телу маленькие руки. Почему-то кукла в луже крови больше всего и запомнилась Отто: к телам убитых людей архитектор уже привык, а вот окровавленная игрушка до сих пор заставляла его содрогаться.
Айзенштат осознал в ту минуту: убийство противоестественно. Если после расстрела даже солдатское брюхо выворачивается наружу, значит действительно нарушен какой-то внутренний закон и сама природа противится этому преступлению. Именно эту из века в век попираемую политическими чудовищами всего мира исконность и воплощает Эва – самой собой и всей своей жизнью.
Иногда архитектор совершенно выбивался из сил, уставал от голода, вони, вшей и мертвых тел, похожих на вязанки с дровами, от налетов солдат из дивизии Totenkopf, и тогда он расклеивался и подумывал о побеге, но семья связывала руки – после смерти отца их оставалось четверо. Айзенштат запросто мог вытащить из гетто и десятерых: до указа от ноября 1941 года, грозившего расстрелом за выход из гетто без пропуска, свобода оценивалась в сто злотых за место в немецкой машине, чтобы выехать на арийскую сторону и не вернуться. Еще проще было заплатить десять-пятнадцать злотых часовому и просто выйти из-за стены. Само собой, после ноябрьского указа покинуть гетто стало сложнее, однако по-прежнему реально. Главная проблема заключалась в том, как выжить на арийской стороне после побега, где достать фальшивые документы и убежище. Для этого одних взяток было недостаточно, требовалась серьезнейшая подготовка и целенаправленная помощь извне, о которой Отто не мог просить организацию и Эву: предлагать в качестве кандидатов на спасение членов своей неплохо обеспеченной семьи вместо нескольких детей, умирающих с голоду, казалось ему немыслимым.
В воображении промелькнуло, как тайно провозимый Эвой ребенок пересилил действие снотворного и заплакал, эсэсовцы услышали крик и уже через пару часов начались пытки этой красивой женщины – такой нежной и хрупкой, похожей на мотылька. Архитектор неоднократно замечал: сознание тяготеет к самоистязанию, оно склонно насаждать навязчивые, пугающие образы, будто сама природа призывает человека к страданию, толкает к нему какими-то скрытыми под телесной оболочкой узлами и переплетениями, притаившимися в самой сокровенной глубине нервными окончаниями-клубнями, она влечет человека, потому что по какой-то одной ей известной причине находит в страдании истину и благо; будто жестокая, но заботливая природа знает – там, в конце всех этих мучений, стоит Господь Бог, уготовивший дать свои ответы, открыть свои двери. По этой же самой причине Айзенштат испытывал нехарактерную для убежденного иудея, хотя и сдержанную, симпатию к верованиям Эвы, которая так явно не бежит от страдания ради себя, а буквально ищет его ради других, это перевешивало в его глазах все Крестовые походы и инквизиции, все еврейские погромы черносотенных фанатиков – все то зло, какое причиняли христиане его соплеменникам на протяжении истории.
Otto отогнал неприятные мысли, взял руку девушки и поцеловал. Эва чувствовала в прикосновении губ и пальцев сильнейший накал, какой-то скрытый в телесной мякоти шорох, подкожный зуд, откликавшийся в ней с той же силой. Плечи девушки сжались, пальцы дрогнули – позвали к себе. Она смутилась, поправила юбку, хотя в темноте ее совсем не было видно.
– Ты святая, знаешь это? Ты святая, Эва. – Теплый шепот рядом с ухом.
– Не говори глупостей, Отто… Я просто женщина, у какой женщины не разорвется сердце при виде умирающих детей?
В ее интонации он различил улыбку.
– А все-таки ты святая, знай это…
Отто провел ладонью по Эвиной щеке. Хотелось многое сказать, прокричать, шепнуть, но язык путался. Решил молчать, иначе непременно собьется и наговорит лишнего, обесценив то незримое, волнующее, что так долго копилось и росло между ними. Слова, слова, на них с трудом налипают только поверхностные смыслы… цеплять крюками слогов шкуру жизни… эти рациональные коды-зазубрины… все гораздо сложнее – отношения, сами люди многоэтажны, как города, – ив каждом доме глубокий и темный подвал, зеркальные комнаты и высокие балконы… чувства – не шкура, не код, они вне буквенных символов, алфавитных переплетений, завязи ударений и запятых, все эти лингвистические сцепки и якоря… слово, иероглиф – нет… кандалы, это кандалы, грязные оконные решетки… вот разве что рисунок или ноты, бытьможет, бытьможет… незнаю… что не скажешь, все так глупо, так сложно, Яхве. Почему я не могу просто молчать рядом с ней? Всю жизнь. И смотреть на это веснушчатое лицо… Несколько неосторожных слов, ошибочных, эмоциональных, и она исчезнет, подумает, что я – это не я, что она впопыхах обозналась… и то, что чувствуем мы оба, на самом деле не то… Эва замерла – ждала продолжения уведенного, ухваченного в его глазах, но Отто все молчал, его карие глаза закрылись, будто архитектор в последнюю минуту решил спрятать слишком очевидное – то, что горело в них.
Духота стала невыносимой. Айзенштат скинул пальто и встал – ноги затекли. Они выглянули из-под пальто, как через вспоротое брюхо – из глубины. После спертости их маленького укрытия вонючий воздух гетто показался свежее и чище. Архитектор покосился на ржавые трубы – с них все рвались эти бурые осточертевшие капли, стекали на облезлую штукатурку стен, пропахших плесенью. От звука этих постукиваний-всхлипов казалось, будто гетто дышит и плачет, существует не как район, а теплится, как огромная, усталая ладонь, изнуренная под пытками плоть, а вся эта влага – роса смерти, холодные капли-выжимки – остатки жизни, какая-то клейкая слюна, стекающая из губ покойника.
Отто молча вышел на улицу. Эва с тоской проводила глазами высокую спину, вышла следом. Запрыгнула на телегу – рессорный скрип, как торопливый росчерк пера, Яцек причмокнул и тронул лошадь, девушка не оглядывалась – теперь дезинфекция, предстоит много работы. Только к вечеру на обратном пути вернусь к этой хиленькой дверисбелым крестом посередине… Так ничего и не сказал. Так ничего и не сказал.
Если Айзенштат выступал в роли Вергилия, дело двигалось споро: медсестра приходила к подготовленным родителям долгожданной гостьей, принимала в руки тщательно замотанного в одеяло малютку, кормила его молоком со снотворным, прятала в сумку и спешила прочь. Без архитектора приходилось врываться в мир гетто непрошеной гостьей, каким-то подозрительным недоразумением, аномалией или даже стервятником, снова убеждать, снова оглядываться по сторонам, торопиться, врать, стыдиться, выслушивать упреки и давать фальшивые обещания – так, словно эти дети были ее пищей. Эва невольно ощущала себя чудовищем.
Даже в многодетных семьях матери с трудом отдавали своих отпрысков: у каждого еврея теплилась надежда на скорое окончание войны. После января 1942-го, после первых слухов о массовом уничтожении евреев Верхней Силезии в газовых камерах Аушвица II/Биркенау убеждать стало легче, хотя все понимали: это лишь очередная паническая сплетня. Вот и получалось, одни протягивали девушке своих крох и благодарно целовали руки в бесчисленных веснушках, другие в последнюю минуту выхватывали малыша и резким тоном требовали уйти, угрожая еврейской полицией.
Девушка даже не простилась с Отто, силой себя заставила не смотреть в его сторону. По ее лицу он понял: сердится. Бросил последний взгляд на хрупкую спину медсестры, мысленно поцеловал эту белую шею с почти незримым, прозрачным пушком и свернул в переулок. Неловкость: видел – ждала признания, порывистых объятий и поцелуев, но Отто запретил себе быть счастливым, бессознательно чувствовал: сейчас нельзя иначе. Эва, должно быть, приняла это за робость.
Он поежился от стыда и сожаления: колобродит, бередит колючий и терпкий стыд, смятение. Так и не разобравшись с колтуном своих чувств, отправился домой, чтобы отогреться и выпить кофе, который иногда приносил из ресторана Марек.
На подходе к площади Мурановского сидели несколько «торговцев»: один продавал пачку печенья, другой – горсть луковиц и кусок эрзац-хлеба, третий – сахарин и какие-то лохмотья. Рынок находился совсем рядом, на улице Геся, огромный, как Атлантида, побольше даже, чем знаменитый в мирное время рынок на улице Карцелак. Тысячи продавцов и колонны покупателей теснили улицы и устало теребили друг друга: вяло толкались, собирали слухи, торговались, клянчили, воровали, дрались – обездушенное, телесное пространство, скомканные фигуры выживающих людей, хватка острых пальцев, хмурые взгляды, раздражение, запах пота и тления. Тяжелый, почти слоистый воздух и смрад немытого человеческого тела – изношенного, впалого, прогорклого. Шум скребущих кожу ногтей, кашель и сморкающиеся всхлипы. Брызги пахучей слюны и горячий душок враждебного дыхания. В толпу вклинивались синие фуражки: еврейская полиция прислушивалась, принюхивалась, не обращая внимания на презрительные взгляды стариков и женщин, все вышагивала, держала нос по ветру, виляла и шикала, хватая время от времени себе подобных, – жрала собственных соплеменников, как мифический змей уроборос свой хвост.
Поначалу для Отто стало неожиданностью, что среди евреев нашлось столько охотников служить нацистам, но впоследствии он привык, как и ко всему остальному: старательные юноши, утянутые кожаными ремнями, размахивали дубинками с таким усердием, будто пытались доказать, что способны превзойти в жестокости самих немцев. Официальное начальство этого выдрессированного сброда – полковник Шеринский и его заместитель коротышка Лейкин, закомплексованный обрезок Наполеончика, – играло чисто формальную роль. По факту еврейская полиция подчинялась гестаповцам, которых на все гетто насчитывалось не больше десятка.
Исходившая от оккупантов незримая хмарь поражала своей цепкостью: черной тучей хомутала людские головы, эпидемией пеленала все живое, срывала с цивилизации ее покровы, зевала во всю пасть, обнажая первобытные, исконно-звериные клыки, прописанные в каждом члене потеющего, алчущего тела коды, языческие алгоритмы. Айзенштату вспомнился друг Самуил, бывший однокурсник из Архитектурной академии, душа компании и добрый малый, улыбчивый симпатяга, до слез восхищавшийся Пуччини и Верди. В студенческие годы мечтал построить в Варшаве театр, равный Венской государственной опере, гулял за ручку с хохотуньей Марысей, любил фиалки и кожаные переплеты добрых книг. После оккупации почти сразу вступил в еврейскую полицию; как-то на глазах у Айзенштата избил старика, разгоняя людей, столпившихся у витрины магазина, просто потому, что рядом стояли немцы, просто потому, что ему хотелось себя проявить. Когда запыхавшийся Самуил, вертлявый и сухопарый, как саранча, с костлявыми лопатками и оттопыренными ушками-усиками, поймал ошарашенный взгляд Отто, то с непривычки немного смутился и повернулся к нему спиной. Избиение просто так, убийство из карьерных амбиций, изощренная пытка-бравада как щегольство – писк утонченной моды, новый шик, пурпурная красота жестокости; респектабельность любой формы насилия и презираемая за бессилие доброта – блуждающее в потемках человечество, потерявшее опору.
Больнее всего Отто было сознавать, что в нем самом таилась эта угодливая гадина – какая-то инертная струнка-резонер, готовая к отклику на любое колебание окружающего безумия. Айзенштат называл ее «внутренней сукой». К чему перебирать вчерашних соседей и однокашников, ежели он сам не единожды оказывался в ситуации, когда колени дрожали, «внутренняя сука», неспособная на отпор, безвольная тварь, рвалась наружу, а все святое-детское-материнское-Божье обваливалось и рассыпалось, как скомканная ромашка, брошенная в паровозную топку солома?
Вспоминая эти мгновения-провалы, архитектор невольно прикрывал лицо руками: чувство стыда за эти минуты слабости каждый раз по-новому обжигало, драло нутро с прежней силой. «Внутренняя сука» роднит его со всеми теми отбросами, которые лебезят перед новой властью, не брезгуя никакими способами заслужить ее благосклонность. Отто не сомневался: окажись он в руках гестапо, уже через несколько минут пыток «сука» сдаст членов Польской организации и Эву, а сам Отто подпишет смертный приговор, толкнет в бездну себя и их, утащит за собой тех, кого любит, ради услаждения тех, кого ненавидит.
Осознав собственную слабость, Отто сделал безмолвный вывод-решение. Ампула с цианистым калием всегда с собой, вшита в лацкан пальто, как последний патрон, зажатый в теплых, уставших пальцах. Ждет своего часа.
На площади царила какая-то вялая, умирающая суета, похожая на предсмертную агонию: люди с котелками о чем-то перепуганно шептались, одни поддерживали, давали тепло и надежду, ободряли, а другие тянули друг из друга жизнь. Смеялись лишь дети, игравшие на углу площади. Развернули грязную мокрую тряпку, что-то чертили на ней пальцами, как на свитке пергамента, затем скомкали и стали бросать друг другу. Когда тряпка надоела, смеющиеся дети принялись играть с лежащим на тротуаре трупом. Обступили обнаженного костлявого подростка с удивленно вытянутым лицом, щекотали его безжизненное тело, наблюдая за реакцией, но равнодушный к миру человек не шевелился. Неподалеку спорили о Каббале два хасида, пейсы взволнованно тряслись, а запотевшие очки поблескивали на куцем солнце.
Вид мертвых тел не нагонял на Отто тоски: застывшие лица и окостеневшие конечности давно уже воспринимались прочно утвердившимся ландшафтом новой реальности, специфическим налетом войны, ее осадком. Айзенштат смотрел на смерть остывшими, отстраненными глазами и не ощущал ее присутствия, наверное, потому, что она слишком долго и навязчиво держалась рядом. Каких-нибудь два года назад Отто потрясала жестокостью немецкая пощечина первому встречному старику, теперь он сохранял хладнокровие, даже когда становился случайным свидетелем массового расстрела. Архитектор понимал: он перестал быть нормальным человеком с чистым, неискаженным восприятием окружающей реальности, но теперь для него было очевидно, что задубелость сердца есть защитная реакция его духовного «я» – не «суки», а иного, – и, сохрани Айзенштат по сей день свою прежнюю восприимчивость, бескожность, он был бы обречен и раздавлен: демонические, безумные личины каждого нового часа в гетто безжалостно насиловали бы его сознание, доведя в конечном счете до сумасшествия или суицида.
Трупы ушедших обретали бестелесность призраков, истлевшие мышцы, истаявшие конечности лежали на камнях сточенными в ноль людскими конструкциями, словно вывернутыми наизнанку, опавшими листьями, какой-то исторической накипью; больше всего мертвых попадалось вдоль стены на улицах Сенной и Слиска да рядом с угловым домом на Францисканской, 21, где было удобнее всего перелезать на арийскую сторону. По ночам контрабандисты ставили здесь лестницу и передавали необходимые товары, вещи, стопки подпольной польской газеты «Баррикада свободы». Иногда «переправа» проходила гладко, иногда в тот самый момент, когда смельчаки карабкались по кирпичам, автоматные очереди решетили, шпиговали спины, винтовки помечали лбы и затылки круглыми дырами, подцепляли душу острым кончиком пули, заставая врасплох. Стоило голове приподняться над уровнем стены, она сразу становилась отличной мишенью, звучал одиночный выстрел, и череп плевался костяными ошметками, а по кирпичам стекала темно-алая кровь. Сиплый пороховой дымок окутывал улицу, смешивался с пахучим воздухом гетто.
Вообще точек для контрабанды хватало: Светоерская улица, Рымарска, Козла – на каждой из них имелись «пограничные» дома или удобные крыши; с Дворца мелодии можно без особых усилий допрыгнуть до крыши соседнего дома на арийской стороне, но безопаснее всего было действовать напрямую – не напролом, а, что называется, с практическим расчетом: провозить продукты через часовых, заплатив по сто-двести злотых за фургон. Смельчаки, что занимались товарами выживания – ходили за хлебом и крупой, – предпочитали опасные лазейки. Предметы роскоши ввозили оптовики – тузы вроде Келлера и Гона, которые подкупали охрану и пригоняли в гетто целые обозы с табаком и деликатесами из Греции, французской косметикой, драгоценностями и коллекционными винами.
Еще одним излюбленным местом для тех отчаянных, кто ходил по ту сторону жизни, чтобы добыть себе хлебную пыльцу, было кладбище: немцы брезговали здесь появляться, чем с успехом пользовались жители квартала. Могильные плиты и памятники старой части кладбища смотрели сквозь туман своими слепыми лбами, прислушивались к нарушаемой тишине и сгущали мрак, прикрывая голодных ходоков призрачной пеленой. Среди надгробных памятников блуждали сонмы расплывчатых теней – не то души умерших, не то тела живых; впрочем, быть может, там были те и другие, просто каждый из них искал что-то свое, утраченное. Даже в своем притаившемся спокойствии кладбище копошилось и дышало, пульсировало и трудилось, с него поднималась густая, как пот уставших работников, испарина. По нему спешили контрабандисты, рыскали псы, выкапывая из общих могил питательную мертвечину, а души умерших встречались со своими предками, сюда же свозили тела ушедших в небытие, которых с каждым днем становилось все больше, так что рыночная сутолока на многолюдной улице Геся давно уступила первенство этой туманной обители, словно признав, что не торговля, не храм, а смерть стала новой царицей нового мира.
Почувствовав запах свежевырытой могилы, Харон открывает двери, из открытых проемов всегда веет ветер; люди не любят приходить на кладбища, они интуитивно ощущают этот ветер, воспринимают его коркой сознания, кончиками пальцев, воспаленным нервом. Каждый из них понимает: ветер не может веять из пустоты, ветер веет только с просторов, а ничто не пугает живого человека так, как загробный простор: если есть ветер, значит есть бессмертие. Над еврейским кладбищем Варшавы 1942 года без конца гудел ветер, очень сильный ветер. Он не разгонял надмогильный туман, не касался его, щадил, этот несуществующий в физическом мире ветер веял не вовне, этот ветер веял – в.
Отто пересек рынок, свернул на очередную улицу, он спешил к дому. Встречные люди сильно походили на покойников: между живыми и мертвыми пролегала тонкая, еле уловимая грань, просто первые еще дышали, а вторые – уже нет, так что во многом живые и мертвые были неотличимы. Мертвецы же разделялись более отчетливо: лежащие на обочине сильно отличались от трупов, валявшихся где попало: первые были аккуратно, заботливо обернуты бумагой, члены их семей просто не могли заплатить пошлину и оставляли своих близких напротив дома, откуда их в конце концов забирали чернорабочие из юденрата. Оберточная бумага подрагивала от прикосновений ветра, приоткрывая обескровленные тела: ломкие конечности, похожие на выброшенные стулья, и уставившиеся в небытие остекленевшие глаза еще могли вызывать некоторое почтение, в них ощущалась своеобразная солидность. Вторые же, те, что попадались под ноги, напоминали отработанное сырье, накопившуюся в уличных щелях изморозь. Через этих последних перешагивали с раздражением, потому что лишнее движение требовало немало калорий.
Каждое утро немощная лошаденка с телегой, накрытой брезентом, придавленным камнями, чтобы его не срывало ветром, колесила по кварталу. Несколько хмурых работяг собирали мертвых и складывали друг на друга, а когда телега наполнялась, везли их к кладбищу, где хоронили в общих могилах: первое время умерших разделяли досками, а потом просто вываливали скопом. Из-за подземных вод на кладбище не было возможности рыть слишком глубокие могилы, земли не хватало, так что тела едва присыпали. Пинкерт, которого прозвали Королем Мертвых, неплохо наживался на новых, продиктованных временем обстоятельствах – в одном из своих многочисленных бюро он организовывал похороны люкс за двенадцать злотых с носильщиками в униформе и очень гордился своим процветающим бизнесом.
Навстречу Отто плелся лохматый Рубинштейн, похожий на юродивого – местный сумасшедший, который вечно размахивал руками и орал во все горло:
– Сало дешевеет! Сало дешевеет! Юденрат сообщает, что во вшах тоже есть мясо! Прощай, еврей, в живых останется только Адам Черняков, я и Абрам Ганцвайх! Прощай, бедняк, Купчикер из юденрата ест твой сахар! Чап-чап-цукер, чап-чап-цукер! Вэй из мир, чтоб я так жил… Чинуше Цукеру нужно кормить свои кондитерские, а нам сахар вреден – испортим зубы, не сможем жевать сало и кошерных вшей!
Увидев Отто, Рубинштейн сразу признал в нем интеллигента и подбежал с протянутой рукой:
– Пан, дай грошик… дай грошик, а то закричу! Айзенштат знал, что этот шантаж был единственным способом заработка Рубинштейна – если ему отказывали в мелочи, он начинал кричать: «Долой фюрера! Смерть Гитлеру!», – и уже через пару минут на кощунственные слова сбегались солдаты, которые устраивали кровавую баню всей улице.
Отто протянул ему пару монет и двинулся дальше.
На контрасте с полупризрачными контурами ошалевших от голода, просвечивающих людей с костяными лицами, на контрасте с потерявшими всякое человеческое подобие уличными обмылками, исторгнутыми на обочину, словно выброшенные на берег раковины, здесь же рядом, в гетто, такие же точно евреи, отупевшие от слишком обильного, грузного пищеварения, взмыленные от веселья хапуги устраивали лихие кутежи, спуская подчас за ночь по двадцать тысяч злотых. Целые баржи с мукой и хлебом сгорали в ладонях, растворялись в веселящих брызгах и хмельных пузырьках, поблескивали на декольте дорогих любовниц, таяли в воздухе шлейфом изысканных духов и сизым дымом кубинских сигар.
Так называемое «высшее общество» составляли по большей части преуспевающие коммерсанты, некоторые из высших чиновников юденрата, агенты гестапо, владельцы и совладельцы «шопов», имеющие право нанимать еврейских рабочих и выполнять на своих предприятиях военные заказы. Помпезный «Лурс», шумные «Мелоди-палас» и «Мерил-кафе» с их конкурсами красоты или «Казанова», где работал брат Отто Марек, – все эти кабаки пестрели вычурными люстрами, мрамором и серебром. Музыканты тянули жилы своих скрипок, пытаясь подсластить гастрономические изыски загулявших господ-людоедов, питавшихся не поднесенными официантом блюдами, нет, а теми, кто стоял у окон ресторанов и смотрел внутрь донышками воспаленных глаз, теми скелетами, что шатались и падали в подворотнях, теми, кого с чувством гадливости отгоняли сытый швейцар и прикормленная богачами полиция. По заказу SS и Берлина немецкие операторы часто снимали эпизоды из ботемной жизни гетто на кинопленку, чтобы демонстрировать потом на экранах ту роскошь, в которой пребывает еврейское население оккупированной Европы.
Айзенштат свернул в переулок. Зашагал в сторону малого гетто. Когда вышел на улицу Лешно, попались несколько подростков: шмыгнули через дыру, соединявшую здание почты с финансовым министерством, просочились, как влага, – сколько немцы не замуровывали отверстие, непобедимая дыра снова появлялась уже к вечеру того же дня. Подростки протолкнули котомки с брюквой, пролезли следом, затравленно озираясь, а потом разлетелись в стороны, как перепуганные сойки, спеша к темным щелям-закоулкам. Чуть дальше большое скопление людей – здесь часто играл слепой аккордеонист. Он снова собрал растроганную толпу. Никто не плакал, но музыка и слова слепца вызывали волнение: даже самые голодные вдруг останавливались и задумывались, проваливаясь в себя. Гроши собирала невысокая крашеная блондинка в мужском пальто и цветной шали. Люди хоть и оттаивали от музыки, все же не убирали руки со своих карманов и крепко сжимали авоськи с провизией, тесно прижимая их к груди.
Дальше по улице в здании под номером 13 размещался штаб организации «13», возглавляемой Абрамом Ганцвайхом, – она боролась за власть с Черняковым и его юденратом, являлась своего рода альтернативным органом управления, но по факту считалась разновидностью еврейского гестапо. Организовав и возглавив целую сеть общественных учреждений, Ганцвайх хотел привлечь в них все активные силы гетто, пытаясь поставить их на службу нацистам. Не то для прикрытия, не то для очистки совести, Абрам иногда занимался действительным меценатством, а может быть, даже втайне надеялся на то, что Третий рейх потерпит крах. Стелил себе на этот случай помягче, чтобы комфортнее устроиться после войны или даже повесить на грудь какой-нибудь антифашисткий орденок.
Далее начинался район выкрестов, крещеных евреев, поселившихся вокруг церкви Всех Святых. Шагалось все труднее, особенно тяжело идти из большого гетто в малое, от улицы Лешно до улицы Гжибовская, через мост над улицей Хлодная: здесь стояли смрад и давка, исключительные даже по меркам гетто. Улица Хлодная полностью лежала в арийской части города. На ней не прекращалось оживленное движение автомобилей, трамваев и пешеходов. Для пропуска населения по Желязной из малого гетто в большое и обратно требовалось остановить это движение. Толпа на углу Хлодной виднелась уже издалека. Люди нервно переступали с ноги на ногу, обменивались последними новостями, проклятьями, советами, прижимали к груди или прятали за пазухой сегодняшнюю добычу. Отто примкнул к лохматой человеческой гуще, уставился в сальный затылок какого-то старика и стал ждать. Часовые наконец расступились, началась свалка. Толпа пережевывала самое себя и топталась по собственным головам. Уже через несколько минут шеренга часовых снова сомкнулась, но Айзенштат успел проскочить.
Пересек Хлодную через мост и вышел на Гжибовскую. Наконец показался исцарапанный угол его дома. Подъездная дверь скрипнула пружиной – открылась, затем с металлическим чавком захлопнулась за спиной. Несколько ступеней, входная дверь с оторванным номером, на месте прошлой цифры осталась залысина – бледные контуры «33». В квартире на веревке сушились простыни и белье. Знакомые запахи с тяжеловатой примесью гнильцы были почти осязаемыми, весомыми, казалось, они оседали на полу жилища и о них можно было споткнуться.
Мать лежала на кровати, в последние дни сильно сдала. Марека не было, Дина стирала белье тонким обмылком. Руки раскраснелись от горячей воды. Забывшийся Отто начал стягивать пальто, чтобы пройти в квартиру, но сестра остановила его:
– Ни шагу, куда собрался, горе ты мое? Подожди, я сейчас.
Дина бросила белье в таз, вытерла мыльные руки фартуком, взяла пинцет, блюдце со спиртом и подошла к брату, начала собирать с него вшей. Увлеченно шарила по одежде и волосам брата и все сдувала падавшую на глаза непослушную прядь волос. Вытирала рукавом влажный от пота, распаренный лоб.
– Ну что, Отто, какие новости?
Айзенштат добродушно скривил лицо:
– Да все то же… хаос и мрак. Ничего нового… Вот разве что принес два куска мыла, а еще достал для мамы вакцину и пронтозил. Приготовь, пожалуйста, шприц.
Сестра тяжело вздохнула, поставила блюдце на полку, забрала у брата оба куска, улыбнулась и поднесла их к лицу, ласково прижала, словно котенка, с жадностью вдохнула душистый аромат:
– О, да… то, что нужно. Обожаю этот запах.
Дина даже замурлыкала от удовольствия, крепко сжимая сморщенными от воды пальцами твердые, запашистые прямоугольники.
Отто улыбнулся:
– Видишь, даже в гетто можно найти свои плюсы, по крайней мере, в этом шеоле[3] ты научилась ценить малое… всегда предпочитала тминные духи, а теперь радуешься куску обычного мыла.
На щеках сестры заиграли ямочки. Она положила мыло в передний карман фартука и стала серьезной, снова сосредоточилась на пинцете и блюдце. Дина всегда напоминала брату какую-то крохотную птичку с пытливыми глазками и хрупкой шеей. Раньше Отто любил носить ее на плечах и тискать – хрупкость сестры умиляла, – но сейчас подобные нежности казались противоестественными, из вчерашнего цыпленка уже несколько лет как все более отчетливо пробивалась женщина, вызревала и округлялась, точно вишня. Сквозь мокрую ночную рубашку проглядывали острые груди. Отто никак не мог свыкнуться с мыслью, что малютка Дина стала взрослой, соблазнительной для других мужчин.
Каждый раз, когда архитектор возвращался в дом, сестренка задавала ему один и тот же вопрос, и он ощущал внутри болезненное покалывание, потому что знал, каких новостей ждет девочка, изголодавшаяся по миру, цветам, любви, радости и красоте, но конец войны казался недосягаемым, а каждая новая весть с фронта утверждала торжество смерти, как упавшая на голову бомба.
Когда Дина закончила, Отто разделся и прошел в квартиру. Поцеловал изможденную руку матери и погладил ее по голове. Хана приподнялась на локте, открыла глаза и улыбнулась, но ничего не сказала. Подержала сына за длинный палец – для нее эти затвердевшие мужские руки до сих пор были мягкими детскими стебельками, чуть припухлыми, скатавшимися в ветвистые волокна молочной пенки, ручками новорожденного, такими же податливыми и гибкими, как влажный лен. Усталая Хана с подсушенным, будто берестяным лицом, с еле обозначившейся на лбу терпковатой испариной, облизала губы. Айзенштат расторопно звякнул алюминиевым ковшом и подал матери воду в белесом стакане, заляпанном пальцами, с матовыми отпечатками на острых гранях и маленьким сколом на днище. Хана сделала два громких глотка, с усилием продавливая воду в горло, опустилась на подушку и прикрыла веки. Черты матери словно подернулись бликами и волнистой рябью – контуры ее лица задрожали в глазах Отто, как дрожат илистые камни на дне, когда смотришь на них с деревянной тверди покачивающегося суденышка; архитектор спохватился и быстро отвернулся, чтобы мать не заметила, как на его глазах тяжелеют слезы.
Хана не прочла в своей жизни и десяти книг, корила себя за необразованность, называла плохой еврейкой. Когда-то, сытая и ухоженная, она хлопотала по хозяйству, заботилась о детях и немного модничала – настолько, насколько можно было модничать в домашних платьях и парике замужней женщины. Со стороны она казалась глуповатой, слишком бурно и наивно восторгалась сентиментальными мотивами слезоточивых оперетт и безыскусными спектаклями; любые несчастья или даже мелкие неурядицы в семье или у едва знакомых ей людей вызывали в ней настоящую бурю сострадания; Хана воспринимала все так близко к сердцу, что иногда юному Отто казалось: мама не выдюжит и раньше времени загонит себя в могилу, но она справлялась, приходила в себя после очередного потрясения, точно отряхивалась, и как ни в чем не бывало шагала навстречу жизни, изучая ее своими обманчиво наивными глазами. В этих глазах мерцала какая-то потаенная тяжесть, которую не сразу можно было разглядеть, потому что она несла ее в себе тайно и стыдливо, как грех, хранила, будто накрыв ладонями. Матери была свойственна жилистая и крепко сбитая, совсем не книжная мудрость, но если раньше, до войны, эта мудрость выглядывала с холеного лица как бы украдкой, то теперь, после оккупации и ужасов гетто, эта потаенная сила без страха поднималась со стертого, изъеденного болью лица.
Архитектор привычно срезал слезы, как переспелые смоквы, прожевал их, проглотил и повернулся к матери со спокойной улыбкой:
– Я принес вакцину, это на всякий случай… Ты ослаблена… нужно обезопасить тебя от тифа. – Отто достал из кармана ампулу с прозрачным содержимым.
Дина показала матери два куска мыла, победоносно подняв их высоко над головой. Хана с хозяйской лаской посмотрела на мыло, перевела глаза на ампулу в руках сына. Дина уже подошла к постели, протерла руку матери спиртом, взяла у брата ампулу и наполнила шприц. Ловко сделала укол, прикусив губу и несколько прищурив левый глаз. Потом дала матери пронтозил. Хана попыталась подняться, чтобы умыться, но тело слишком ослабело.
– Благодарю вас, мои хорошие, славные мои, добрые дети… Ой, вэй! Адонай благословил меня вами…
Мать старела на глазах, ссыхалась, легчала, блекла. Было очевидно: похоронив отца, все они просто не вынесут еще и материнской смерти.
Хана подняла на сына вопросительный взгляд:
– Расскажи что-нибудь…
Архитектор пожал плечами:
– На фронте без особых перемен… А слухи… Да разное болтают, сама знаешь… Главное, что мы вместе… Скоро это все непременно закончится. Кстати, к Песаху раввинат собирается объявить кошерными разные виды зерен и бобов: боятся, что не хватит мацы, и ортодоксы предпочтут голодать, чем есть квасное.
– Мне уже лучше, я сегодня очень много спала и чувствую прилив сил.
Отто погладил мать по голове:
– Через пару часов знакомый контрабандист принесет мне курицу, так что сегодня нас ждет питательный обед. Еще он достанет к Седеру вина и мацы. Спи, спи, мама… отдыхай. Тебе нужно поспать.
Дина вернулась к стирке, а Отто подбросил в огонь несколько поленьев и поставил на буржуйку почерневший чайник. Угля постоянно не хватало; зима 1940-го выдалась очень холодной, температура падала до минус тридцати, а в январе 1942-го и вовсе до минус сорока, ненасытная печь разевала ржавую пасть, жрала мебель и книги, рыгала искрами и черным дымом, всасывала в себя окружающий мир, перемалывала его в золу, требовала еще и еще, как первобытный идол или бездонное капище. Буржуйка чуть коптила, плевалась сажей и кашляла дымоходной гортанью, как чахоточная. Запахло гарью… Отто держал у огня руки до тех пор, пока пальцы не начало обжигать, потом захлопнул топку – навязчивая глотка заткнулась, стала бормотать какую-то языческую чепуху, угрожающе шипела и фыркала.
Банка из-под кофе оказалась пустой, и Отто ограничился жидким чаем. Новости Эвы не выходили из головы. Дверь скрипнула, архитектор перевел глаза и увидел раздраженное лицо Марека. После работы скрипач частенько набрасывался на спекулянтов и толстосумов с их содержанками, для которых только что играл. Сегодня, судя по ощерившемуся виду, его либо уволили, либо он с кем-то подрался – брат был редкостным драчуном и постоянно ввязывался в потасовки. Отто никогда не понимал, как любовь к утонченному инструменту сочеталась в нем с таким хищным норовом.
Несмотря на раздражение, Марек почти богобоязненно положил футляр со скрипкой на комод и, только освободив руки, начал нервно дирижировать, брызжа слюной и потрясая лохматой головой:
– Все, ноги моей больше там не будет. Опять всю ночь играл для этих свиней с их шиксами… Тошнит от вида размалеванных проституток! Ни я, ни моя скрипка больше не будем так унижать себя. Все! Время музыкальных инструментов подошло к концу, буду хлестать их по жопе смычком… сыграю лучше на их похоронах…
Отто шикнул на брата:
– Тише ты, не митингуй в прихожей, дурак…
Дина подхватила, скрестив руки на груди:
– Не выражайся при матери, Марек, непутевый, и не неси чепухи, тоже мне борец! А на что мы будем жить? Клопами питаться? Или твоим красноречием? О матери подумай…
– Да я лучше силой кусок вырву из глоток этих мразей, чем развлекать их, точно шарманщик-попрошайка… Хватит с меня!
Марек скинул пальто и ботинки, рванулся было к столу, но сестра остановила его, выставив перед собой пинцет и блюдце со спиртом. Раскрасневшийся от возбуждения Марек нетерпеливо ждал, пока Дина соберет вшей. Его подвижные и колючие глаза резали воздух, исследуя углы квартиры, коснулись матери, брата, пощупали два куска мыла на столе. Тут скрипач не выдержал и начал вырываться, размахивая руками:
– Ну все, все уже, нет там ничего, кончай свой медосмотр…
Дина дернула брата за галстук, как за поводок, чтобы он остепенился, и как ни в чем не бывало продолжала исследовать его одежду и волосы – так умиротворенно и нежно, словно подмывала младенца.
– Не бузи, ато оставлю ночевать на лестнице, обалдуй… Пока мама полностью не поправится, я отвечаю за уют и чистоту в доме.
При слове «дом» Марек поморщился:
– Дом! С каких пор эта халупа, эта грязная задница, в которую мы переехали, стала для тебя домом?
Сестра не ответила.
Несмотря на беззаботный вид девушки, на ее чуть приподнятое настроение, Отто знал, что это напускное; в душе Дина ежесекундно содрогалась и без конца молилась: о, Яхве, спаси, защити нас – нашу семью и всех евреев, нет… всеживое, все, что свято, сбереги… отведи от нас эту чумную руку, этот рок. Пусть все будет, как прежде. Архитектор понимал: сестренка просто напускает на себя эту личину спокойствия и легкой веселости, дабы наполнить их квартиру мирным воздухом, каким-то созидающим, согревающим электричеством, – напускает ради матери, ради всех домашних, которым хотелось приходить в эту халупу и хотя бы здесь, хотя бы немного чувствовать себя защищенными. Иногда Otto даже казалось, что эта постоянная, нескончаемая молитва проступала в ее зрачках, как святые письмена, будто строчки золотились и теплились, сквозили сиянием, оставляя лазурный шлейф. Архитектору думалось, что, наверное, молитвы всех обожженных войной народов ежесекундно сливаются сейчас воедино этими своими обессмерченными строчками, как нити, они переплетаются в общий канат, словно души всех тех, кому ненавистна война, это неделимое целое, и молитвенные слова, сокровенные, одному Богу предназначенные слова, объединяются где-то в закулисной святой бесконечности, затем, чтобы прикоснуться к Господу и слиться с ним, увековечиться, стать оплотом долготерпеливой силы – преобразующей и разящей силы единого Царства, единого Вседержителя.
Марек постепенно остывал, он покорно ждал, когда Дина закончит. Скрипач поймал напряженный взгляд старшего брата и понял: тот хочет поговорить с ним с глазу на глаз. Не сомневался, что речь пойдет о подпольной работе и вступлении в организацию. Братья никогда не упоминали при матери о серьезности своих намерений.
Эва завернула заснувшего младенца в простыню и уложила в сумку, потом покосилась на пустую консервную банку, которую в занавешенной выцветшим бельем квартире пользовали когда на правах половника, когда чайной чашки или мерной посуды для пшена. Консервов в этом доме не ели со времени переселения, так что, судя по всему, многофункциональная банка перекочевала сюда через быт не одного семейства и, быть может, держала свой путь еще с арийской стороны, с тех самых благополучных пор, когда она стояла на полке в кухонном тепле уютной и сытной кладовки, безупречно круглая, как солнце, наполненная и гордая, точно султан, скрывая под своим желтоватым блеском ласково посеребренные сардины в масле. Банка давно уже сгорбилась и потеряла свой лоск; истертая взглядами, мятая временем и излишком прикосновений, она стояла на заляпанном столе среди безукоризненно чистых, почти сверкающих от человеческих поцелуев алюминиевых мисок. Эва толкнула банку длинным пальцем, та слетела с края стола и с грохотом покатилась по дощатому полу, запинаясь о рваные ботинки и ножки табуретов. Пока шумная банка отплясывала под ногами, девушка всматривалась в лицо младенца. Убедившись, что он крепко спит и никак не реагирует на посторонний шум, Эва взглянула на мать малыша.
Та, обхватив себя руками, расхаживала по комнате. Грязные половицы скрипели, казалось, они скорбят, голосят, словно неутомимые плакальщицы. Женщина понимала: возьми она сейчас на прощание младенца на руки, уже не отдаст его, ни за что не отпустит, поэтому просто смотрела и отирала щеки. Отец ребенка хрипел и дрожал на почерневшем от пота матраце, брошенном в углу. Его лицо покрывала сыпь. Эва сделала для больного все, что могла, но он оказался безнадежен.
Еврейка подошла к медсестре и поцеловала ее руки, посмотрела тяжелым, забирающим жизнь взглядом. Девушка опустила глаза, ей было трудно смотреть в эти выцветшие болотные огни. Она знала: через месяц, может быть, даже раньше, эта женщина умрет, а ее муж не протянет и нескольких дней, но мать ребенка снова и снова заговаривала о том, что после войны обязательно найдет своего сына, а Эва снова и снова кивала, поддерживая ее уверенность и ненавидя себя за это.
Медсестра взяла сумку и все же заглянула в глаза женщины, та хотела что-то прошептать, но голос сорвался, и она махнула рукой. Эва вышла в подъезд. Дверь затворилась.
Девушка спустилась на улицу и забралась в телегу. Яцек взял вожжи и цокнул губами. Чуть припудренная влажной, скатавшейся пылью лошадь напряглась, дернулась и подалась вперед, нервно подрагивая кротким ухом, как будто прислушивалась, пытаясь понять, что же все-таки происходит в этом больном, свихнувшемся мире людей. Смирный глаз настороженно косился назад, кобыла отводила голову в сторону, оглядывалась с печальной обреченностью, словно чувствовала, что за ними по пятам без конца следует смерть, ощущала ее тревожное присутствие, не то читала этот первобытный ужас в душах людей, не то улавливала собственным животным нутром.
В Великой войне с кайзером Януш Гольдшмит, польский еврей, участвовал в качестве военврача, служил в полевом госпитале русской армии. Полякам приходилось воевать друг с другом: восемьсот тысяч призвали под знамена Российской империи, четыреста – Австро-Венгерской и двести – Германской. Отвращение к войне зародилось у Януша, тогда лейтенанта медицинской службы, еще во время Русско-японской бойни. Между Харбином и Мукденом он курсировал на санитарном поезде, набитом сумасшедшими и покалеченными обрубками: пугающая опустошенность глаз, безумные вскрики и бормотание, истерики, стекающие на пол кровь и рвота, торчащие с полок перебинтованные культи, со звоном падающие в железный таз осколки и пули. Осанистый и неизменно бодрый доктор с несокрушимой улыбкой и ласковым взглядом поверх очков наполнял сирые вагоны своей харизмой – солдаты приободрялись, стоило Гольдшмиту только появиться. В том же поезде совсем недавно он вез на войну ликующую жизнь – каких-то несколько месяцев назад этой жизни было тесно в солдатском сукне, сытые тела парней и мужиков трещали во сне избытком пахучего здоровья, ночами мужские клейкие соки непроизвольно извергали себя в исподнее; дородные тела беспокойно почесывались, чавкали, выделяли влагу, они вкусно и протяжно зевали, но даже в этих зевках чувствовалось только одно: мужчины торопились жить. Жадные на табачок и харчи, солдаты добродушно хохотали и все же по-товарищески делились друг с другом своим немудреным богатством, ехидно подшучивали и по-братски скалили зубы в дружеских улыбках. Теперь же, на обратном пути, гиганты-казаки плакали, когда их спрашивали о месте и дате рождения, руки нервно тряслись, когда случайные лучи солнца пробивались в душный от смрада залежалого мяса поезд и прикасались к лицам, заросшим завшивевшей бородой. За плечами Януша была русская гимназия – он в совершенстве владел языком державы, захватившей и долгое время притеснявшей его польскую родину. Гольдшмит сидел с этими великорослыми воинами-детьми и матерью-наседкой, рассказывал им русские сказки. Все смотрел в отсыревшие окна, считал заснеженные перегоны и покосившиеся столбы, похожие на виселицы.
В детстве Януш часто смотрел в окно, целыми днями сидя в огромной гостиной с золочеными портьерами и пестрыми персидскими коврами, с массивными подсвечниками и роскошной резной мебелью. Его отец, именитый варшавский адвокат, ассимилированный польский еврей, человек нервозный, склонный к эмоциональным срывам, все свое время проводил в судах, а чопорная мать только и думала о том, чтобы сын выглядел сотте il faut, вкусно пах, хорошо питался и всегда был готов к занятиям со своими бесчисленными гувернерами и французскими боннами: немецкий, французский, польский, латынь, фехтование, география, история, фортепиано, арифметика… Самый требовательный из них, учитель латыни с огромной бородавкой на переносице, третировал мальчика особенно сильно, так что Гольдшмит до сих пор недолюбливал этот мертвый академический язык, который ассоциировался у него с худшими проявлениями политизированного христианства: чиновничеством католических дворцов, индульгенциями и императорскими амбициями римских пап.
На протяжении многих лет окно служило основной, помимо книг, связью с внешним миром. Мальчик наблюдал из своей золотой клетки, как во дворе играли «нищие оборванцы» – дети, с которыми ему запрещалось общаться. Низкорослая кухарка-христианка с белыми чесночными руками очень сочувствовала одиночеству ребенка: пока месила тесто или чистила овощи, рассказывала прокравшемуся к ней барчуку старые польские сказки. Родители считали близкое общение с прислугой моветоном, поэтому запрещали сыну подобное времяпрепровождение, но стоило матери отлучиться из дома, Януш снова пробирался на кухню. Он внимательно вслушивался в хрипловатый голос, глядя на кудри картофельных очисток, ловко спрыгивающие с ножа кухарки. Ее доброе некрасивое лицо с приплюснутым подбородком и толстой веной на шее, сморщенные от горячей воды пальцы часто снились пожилому Гольдшмиту; во сне ее черты проступали сквозь белый пар кастрюль; поправляя фартук, она оглядывалась вполоборота и что-то говорила со своей крестьянской улыбкой, но ее не было слышно из-за кипящей воды и звона сверкающих тарелок.
Постоянно скучая по отцу, оголодавший без любви Януш часто натыкался на его отчужденность и необузданные вспышки гнева. Мать Януша Цецилия была в два раза младше мужа, с которым познакомилась, когда ему было тридцать три; выросшая в семье светских евреев, она предпочитала заниматься нарядами и больше всего на свете любила театр. В юности мечтала стать актрисой, но слишком раннее замужество и ребенок лишили ее надежд – решила ограничиться ролью ценительницы. Горечь утраченной мечты часто давала о себе знать, она отравила характер Цецилии, сделав его болезненным и несколько воспаленным; каждый, кто ввязывался с этой театралкой в разговор о драматургии и современной сцене, натыкался на почти что огнедышащий снобизм и неумолимое презрение к любой неосведомленности: незнание той или иной пьесы приравнивалось к совершеннейшему плебейству. Даже если этот «плебей» занимал университетскую кафедру, был доктором математических или технических наук, имел за плечами серьезный профессиональный багаж, пятерых детей или просто иной круг интересов, в глазах безработной Цецилии, которая либо кривлялась перед зеркалами и стрекотала по модным салонам, либо осаждала очередную премьеру, как неофитка богослужение, это не могло служить оправданием.
Маленький Гольдшмит разговаривал сам с собой, строил башни из кубиков, играл в прятки с куклами своей сестры-аутистки Эльзы, которая всегда находилась под присмотром толстой санитарки в чепчике, – девочка жила отрезанным ломтем, слонялась где-то по комнатам, прозрачная и невесомая, как занавеска, так что Януш часто забывал о том, что у него есть сестренка. Эльза умерла в четырнадцать лет, так и не произнеся ни слова, и это врожденное отклонение дочери еще больше отбило желание Цецилии вживаться в материнскую роль. Когда же Цецилия подарила Янушу лимонно-желтую канарейку, сын обрушил на крохотную пташку, похожую на цыпленка, всю свою нереализованную, отвергнутую родителями любовь. Он секретничал с птицей, читал ей на ночь или насвистывал любимые мотивы, пока канарейка не начинала их воспроизводить, чистил ей перышки и кормил. Но одним весенним утром соседский рыжий кот с надкушенным ухом пробрался через каменную стену в сад, куда птицу вынесли на прогулку, и начал прыгать на прутья, проталкивая между ними когтистую лапу. До птицы так и не дотянулся, однако любимица мальчика умерла от страха. Януш поднял желтый трупик со дна клетки, погладил большим пальцем грудку, завернул канарейку в марлю, положил в красную жестяную коробку из-под леденцов и выкопал могилу горлышком от разбитой бутылки. Похоронил своего единственного друга в саду под яблоней, возле клумбы с ирисами. Когда все было закончено, Гольдшмит попросил кухарку сделать канарейке надгробный крест из деревянных палочек. Женщина добродушно засмеялась и спокойно, но строго запретила мальчику кощунствовать, объяснив, что, во-первых, он иудей, а во-вторых, это же всего лишь птица, однако упрямый ребенок настаивал на своем. Для него эта канарейка была не просто птицей, и он хотел, чтобы на ее похоронах все было по-настоящему, так, как он несколько раз случайно видел, проходя мимо католического кладбища; поэтому в конечном счете Януш самостоятельно выстругал из веток крест и поставил его над могилой.
На похоронах присутствовал сын сторожа, он был старше на три года и с вытекающей из возрастной разницы важностью глубокомысленно заметил, что ему, Гольдшмиту, нельзя ставить крест над канарейкой, поскольку она жидовская и все равно попадет в ад, как и сам Януш-жид.
Через несколько лет у отца начались опасные нервные срывы, после которых он попадал в клинику для душевнобольных, проходил курс лечения, его ставили на ноги, и он возвращался к семье; эти циклы без конца повторялись, все сильнее расшатывая материальное положение семьи; когда же Янушу исполнилось четырнадцать, отец дошел до точки – совершенно перестал узнавать близких, глаза затянуло блеклой поволокой, их обычное выражение рассеялось и выцвело, как слишком сильно разбавленное вино. Отец в очередной раз угодил в клинику и уже никогда оттуда не вышел.
Впоследствии Гольдшмит выглядывал из-за своих прожитых лет, вертел головой и искал глазами памяти родительские лица, но перед ним вставали лишь полуистертые образы: затылок отца, сидящего за письменным столом, да роскошные платья обезличенной матери с резким запахом духов. Живой полнотелый след в его душе оставили только кухарка и бабушка Эмилия, к которой он иногда уезжал летом. Маленькому Гольдшмиту редко удавалось разделить с кем-либо задушевные порывы и мысли, разве что бабушка действительно хорошо понимала его пространные рассуждения. Ребенком лет семи он долго вынашивал план, как сделать этот мир лучше, и про себя решил: когда вырастет, непременно отменит деньги. По его мнению, именно они являлись причиной всех зол. Януш ни с кем не собирался делиться своей тайной, потому что слишком часто выслушивал насмешливые упреки не понимавших его родителей, но как-то раз все-таки попробовал рассказать об этой мечте бабушке Эмилии и вместо ожидаемой насмешки увидел в ее серьезных, проницательных глазах живой отклик; она поддержала его прекрасную идею и сказала, что верит в ее силу. Однако бабушка жила слишком далеко, к ней редко удавалось вырваться, поэтому одиночество мальчика было почти беспросветным.
Пришло время русской гимназии в предместье Прага. Со сверстниками, о которых он так долго мечтал и которыми так трепетно любовался из окна, теперь ему было неинтересно: научившись обходиться без них, он их перерос. Слишком рано повзрослевший от одиночества и книг, Януш просто не умел находить с ними тот общий подростковый язык, на котором было принято разговаривать, он не владел им, как бы перескочив не только период украденного у него детства, но и этап отрочества. Позднее, приблизившись к сорока, он с таким же трудом находил общий язык с другими взрослыми. Януш жил словно бы в ином пространстве, чуждом обычным людям, скрытом от них. Юный Гольдшмит все глубже погружался в литературу, читал взахлеб, набрасывался на книги с остервенелой жадностью, пока не дошел до того состояния интеллектуальной пресыщенности, когда желтоватые страницы ничего нового ему уже не открывали. Стало очевидно: пришла пора обратного процесса – так появились его первые литературные опусы, несколько драм и сказок; так в пору, когда он учился в Медицинской академии, родились и его первые педагогические работы.
Только книги и дети могли наполнить собой его одиночество, те дети, к которым он приходил в приюты в свободное от занятий в Медицинской академии время, те дети, которые, он чувствовал, так сильно нуждались в его поразительных историях, добрых и умных глазах и том сосредоточенном внимании, с каким Януш всегда выслушивал их самые нелепые фантазии; те беспризорные, голодные дети, которых позднее он собирал по трущобам. Гольдшмит чувствовал, что живет с ними в одном мире, том самом скрытом от других взрослых, потаенном мире. И только с детьми он способен говорить на едином языке – незапятнанном и неискаженном праязыке, больше похожем на сакральную музыку, чем на слово. Эту музыку он не утратил и на бесчисленных войнах, врывавшихся одна за другой в его жизнь.
В 1911 году Гольдшмит основал приют на Крохмальной улице среди трущоб, публичных домов, кабаков, небольших фабрик и лавок. По соседству с небольшой общиной раввинов-хасидов и маленькой католической церквушкой вырос четырехэтажный белый дом для еврейских детей, с которыми его разлучила летом 1914 года Великая война.
Когда в 1939-м началась оккупация Польши немецкими и советскими войсками, Гольдшмиту было за шестьдесят. Он хотел записаться добровольцем, но получил отказ из-за возраста. Варшаву начали бомбить, и через несколько недель польская армия пала. Немцы маршировали по горящей столице точно так же, как много лет назад, в Великую войну, после отступления армии царской России. Януш надел офицерский мундир, который носил двадцать лет назад во время советско-польской войны. В поисках продуктов для приюта он так и расхаживал по оккупированной столице в форме польского офицера, похожий не то на самоубийцу, не то на сумасшедшего. Пережив несколько войн и революций, став непосредственным свидетелем краха четырех крупнейших империй, он смотрел на вошедших в Варшаву оккупантов усталым взглядом всего повидавшего равнодушия и сдержанного упрека.
Вскоре евреев переселили в гетто, и ему с детьми тоже пришлось оставить старое здание приюта на Крохмальной. Жестокие картины жизни гетто, кровавые мясорубки, которые устраивали на улицах квартала солдаты дивизии Totenkopf, заставили Гольдшмита осознать, что евреев решено истребить как вид. Это пугало даже привыкшего ко многому Януша; утешала только уверенность, что на детей все-таки не поднимется рука даже у нацистов.
Педагог не менял заведенного ранее распорядка: малыши вставали в то же время, умывались, молились в специально отведенной для этого комнате – роскошную золотую менору, подаренную приюту одним раввином, нацисты забрали в первый же день оккупации, книги Талмуда сожгли во дворике перед зданием старого приюта, – в этой пустой комнате Януш трижды в день молился вместе с детьми и читал спрятанную в белье Тору. Затем дети шли на завтрак, который с каждым днем становился все скуднее.
В 1940-м, во время переезда приюта в бывшее здание коммерческого училища на Хлодную, 33, в малое гетто, солдаты забрали тележку с картофелем, крупой и мукой. На следующий день Гольдшмит вломился в гестапо, расположенное в кирпичном здании тюрьмы Павяк, построенной в николаевское время для политических заключенных, а теперь принадлежавшей гестапо и SD[4], и начал кричать на толстого гауптшарфюрера, требуя вернуть провизию. Поначалу немецкий унтер даже растерялся и невольно вжал голову в плечи, поскольку прекрасно знал по опыту, что при виде дверей гестапо у самого безумного храбреца меняется ритм пульса и расширяются зрачки; немец подумал, что перед ним некто, обладающий сверхъестественной властью. Когда же стало ясно, что строгий мужчина в мундире польского офицера – какой-то жид, унтер задрожал от бешенства, а затем сорвал с Януша погоны, повалил его на пол и принялся втаптывать в бетонный пол. Избитого доктора затолкали в душную камеру, где долгое время нельзя было даже сесть: стиснутые на крохотном пространстве заключенные невольно лезли друг на друга.
Инцидент закончился бы казнью, но бывшие воспитанники приюта и все неравнодушные люди набрали сумму в тридцать тысяч злотых, которые передал нужному человеку Абрам Ганцвайх. Доктор провел в тюрьме чуть больше месяца. На нем лежала печать заключения: бледное лицо, хриплый кашель, отекшие ноги и сгорбленная спина, так непохожая на его обычную аристократическую стать. Зубы пожелтели, кожа покрылась еле уловимой рябью. Проведенный в камере месяц и унизительная расправа в гестапо отняли слишком много жизненных сил.
Оказавшись на воле, Гольдшмит первым делом отправился к своему знакомому, фабриканту Генрику Швидковскому, и попросил провианта для приюта, но терзаемый бесчисленными родственниками Генрик, в несколько дней превратившийся из сытого, холеного господина с нерушимым чувством собственного достоинства в подобие опустошенного, воспаленного вымени, смог выдать Янушу только два мешка муки и несколько килограммов крупы.
– Все как сговорились: Швидковский, помогите. Швидковский, накормите! Швидковский, Швидковский, Швидковский! Я не Красный Крест! Прошу вас, больше не приходите: это все, что я могу дать вам, пан доктор! Если вы не хотите, чтобы я возненавидел вас, не приходите! Я умоляю, нет, я требую, наконец!
Он брызгал слюной и лохматил волосы. Януш с пониманием смотрел на его бегающий под кожей кадык, похожий на проглоченного коброй кролика, и кивал, хотя прекрасно знал, что придет снова, может быть, даже на следующей неделе.
Вернувшись на Хлодную, 33, Януш приободрился, выражение лица сразу же изменилось, а осанка выправилась. Он вручил своей помощнице, «матери» приюта Стелле, мешки с продуктами и начал лихо обнимать всех своих сто семьдесят питомцев, которые выстроились во дворе.
– Пан доктор, что с вами случилось? Куда вы пропали? Пан доктор!
Три сотни любящих детских глаз смотрели на него со всех сторон.
– Меня посадили в тюрьму за то, что я кричал на немецкого офицера.
Малыши открыли рты.
– Как вы не испугались, пан доктор?
Гольдшмит улыбнулся:
– Испугался? Да это он испугался, немцы всегда боятся тех, кто орет громче их…
Дети засмеялись.
– Пан доктор, а как вам жилось в тюрьме?
– Просто великолепно… это было интересное приключение!
Ограничившись кратким ответом, Януш принялся танцевать ирландскую джигу под восторженные аплодисменты и счастливые крики, а после танца рассказывал со смехом о том, как учил сокамерников ловить блох. Стелла смотрела на веселого доктора и видела по его спрятавшимся глазам, насколько он в действительности измучен и раздавлен.
К возвращению Гольдшмита новое здание приюта благоустроили, совместными усилиями выкосили заросли репейника и крапивы во внутреннем дворе, обсыпали дорожки мелким гравием и выскребли из дома всю грязь. Заблестевшие доски в коридоре пахли порошком, Стелла накрахмалила постельное белье и скатерти. Девятилетние двойняшки в заляпанных платьицах, Илана и Сарра, нарвали кленовых листьев и сделали из них пять букетов, теперь в столовой и спальных комнатах, по совместительству рабочих кабинетах, заискрилась жизнь, а серые безжизненные стены, будто пристыженные появлением роскошных желто-красных букетов, несколько разрумянились и приосанились.
В небольшом, огороженном стеной дворике росла массивная липа с широкой кроной, на ее ветвях Януш устроил качели, привязав за две веревки прямоугольную отшлифованную доску. Когда все дневные хлопоты были закончены, дети поужинали и умылись, доктор начал укладывать их спать. Каждый вечер он читал сказки или рассказывал свои истории: один вечер для мальчиков, второй – для девочек. Сегодня же в связи со своим долгим отсутствием решил уделить внимание и тем и другим.
Маленькие человечки лежали в кроватках, блестели глазами в темноте, ерзали под одеялами, хихикали и стрекотали, как кузнечики. В спальных комнатах пахло детьми: затылками, слюной, зевотой, потными башмачками. Днем в этих помещениях суетились, шили, штопали, чистили, читали, писали и пели, ночью раздавалось сопение, а у деревянных ножек кроватей выстраивались крохотные ботиночки с металлическими застежками, они стояли симметрично, точно фигуры на шахматной доске. Доктор придвинул к себе карбидную лампу и, поблескивая стеклами очков, открыл книгу и начал читать, а дети мгновенно погрузились в нашептанный им мир и уже через несколько минут счастливо заснули, ощущая себя любимыми, нужными и защищенными.
У большинства из них не было настоящего детства, они рано лишились родителей, многие взрослели на улицах или в трущобах. Доктор отыскивал их и доставлял в приют, отмывал, кормил и накрывал своими широкими крыльями, втекая в детскую жизнь потоком теплого воздуха. Он хотел сохранить их детство, оградить его от вторжений безумного, вероломного мира.
Послушав сопение детей, доктор на цыпочках вышел в коридор и, прихватив трость, спустился по лестнице во двор. Сел на качели, оперся на трость и поднял взгляд к небу. Минутами казалось, война осталась там, далеко за каменным забором, она ударилась о сны двух сотен малышей и пристыженной тварью вернулась в свое логово. С самого раннего детства, сколько доктор себя помнил, он любил лежать у подножия ствола и смотреть на небо сквозь паутину ветвей; листья покачивались, размахивали зелеными пятернями и трепетали на ветру, а Янушу казалось, что дерево растет у него на глазах и вся земля дышит, как теплый материнский живот. Несколько ярких звезд горело среди ветвей, полыхало серебристыми ягодами, готовыми соскочить за пазуху или в рот.
Гольдшмиту вдруг вспомнилось, как он маленьким мальчиком в деревне у бабушки седлал козу, которая все норовила его сбросить, но потом привыкла и остепенилась. Он держал ее за рога, а коза хохотала блеющим смехом, выдавливала из себя теплые горошины и шаркала копытом. Бабушка отпаивала его молоком, улыбалась рыхлыми деснами, рассказывая интересные истории; от нее пахло луком и старостью, а истертые жизнью руки гладили личико Януша…
Раздался пистолетный выстрел, и бабушка с козой исчезли – лопнули мыльным пузырем. За стеной приюта промчались крики – летучими мышами, свистящими стрелами, частый топот тяжелых сапог со стройной и дисциплинированной ненавистью избивал мостовую. Через минуту все стихло.
На звук выстрела во двор вышла Стелла, ласково положила руку на плечо Гольдшмиту:
– Что там случилось, пан доктор, вы не знаете?
– Случилось это еще в начале времен, а закончится… Вэй зе мир, да никогда это не закончится…
Прислушавшись к улице, Стелла убедилась, что опасность миновала, и несколько успокоилась.
– Как ты выдержал этот месяц?
Гольдшмит смущался, когда Стелла говорила ему «ты»: в эти минуты чувствовал себя виноватым. Давно знал, как сильно она любит его, но неизменно от нее отгораживался, словно ширмой. Внимательно заглянув в карие глаза женщины, погладил пальцами ее кисть, крепко сжал:
– Я не покончил с собой только потому, что у меня есть дети… Другие, сидевшие вместе со мной, потому, что не хотят лишать себя возможности увидеть смерть Гитлера и крах Германии… Сейчас многие отказывают себе в такой роскоши, как самоубийство, лишь в силу этого своего «потому что», которое у каждого свое…
Стелла опустила лицо в его волосы и заплакала, обняв за шею. Януш совсем смутился:
– Не нужно, милая, не плачь… я снова с вами… А знаешь, чего я себе никак не могу простить?
– Чего? – посмотрела на доктора красными глазами.
– Когда начался весь этот кошмар, поймал себя на мысли, что уже много лет не ел мороженого с шампанским и вафлями… и еще шоколад в бумажной обертке… Какой же я дурак, что отказывал себе даже в таких мелочах… Моя бабушка готовила восхитительный штрудель, если бы ты его только попробовала! Свежеиспеченный, с прохладным молоком, яблоки обжигают язык… О-о-о, наверное, это самое вкусное, что я когда-либо ел…
Стелла отерла глаза и улыбнулась:
– Наверстаешь, скоро все это закончится, я уверена… Бог не допустит, чтобы этот кошмар затянулся…
Януш поцеловал ее руки и встал с качелей. Женщина пристально смотрела на его заросшее лицо, поцарапанные очки, кровоподтеки на шее и выскочившие фурункулы. Ей хотелось целовать его почерневшие от грязи пальцы, прижимать к себе тело в растянутом синем свитере, который доктор неизменно носил под пиджаком. Гольдшмит и дети были единственным сокровищем ее жизни. Тридцать лет назад, едва познакомившись с доктором, Стелла начала мечтать о браке с ним, но постепенно убедилась, что Януш, словно отшельник, отрекся ради своих сирот от всего, в том числе от личного счастья. Доктор хотел принадлежать только детям и никому больше. Впрочем, женщина смирилась с ролью заместителя директора приюта – многодетной матери без мужа. Она даже объявила всем, что теперь она пани, поскольку не пристало женщине с таким количеством детей быть панной, и с тех пор все звали ее так, словно она была замужем.
Женщина тяжело вздохнула:
– Пойдемте, пан доктор, вам нужно помыться. Я поставила воду греться.
– Хорошо, только сначала вынесу ночные горшки.
– Не нужно, десять горшков – это слишком долго, вы устали… Я их заберу сама, вам нужно выспаться…
– Пани Стелла, вы даже представить себе не можете, как я соскучился по своим горшкам! – Доктор широко улыбнулся.
Утром, глядя, как малыши просыпаются и зевают до сладкого изнеможения, как они пищат, почесывая пупочки и выгибая спинки, чешут затылки и вытирают скатившуюся на подушку слюну, Гольдшмит забыл о тюрьме, война и гетто казались уже не такими страшными, все снова встало на свои места. Уютное тепло детских постелек с тонким запахом вспотевших, разгоряченных тел вытеснило собой все неприятные воспоминания. Он вновь почувствовал себя счастливым.
После обеда Януш отправился бродить по гетто, чтобы раздобыть еду или деньги для детей у состоятельных людей, спекулянтов, просто старых знакомых как в гетто, так и на арийской стороне. В очередной раз наведался в благотворительную организацию ЦЕНТОС – Центральное правление товариществ общественной опеки, затем заглянул на почту – по распоряжению юденрата, которого со временем добился педагог, невостребованные продуктовые посылки, пропускаемые в гетто до декабря 1941 года, отдавались сиротам.
Время торопилось: секунды, часы и дни опадали, ссыпались к ногам, где их моментально подхватывало и уносило ветром. Гольдшмит сдавал на глазах: заострившиеся черты, желтоватый цвет кожи бросались в глаза знакомым, не видевшим его хотя бы несколько дней. Он продолжал подбирать на улице новых детей, так что голодная, но счастливая семья разрасталась, требуя все больших расходов. Цены же на продукты могли измениться за несколько часов в зависимости от какого-нибудь публичного заявления или события. Рабочие в мастерских получали шесть злотых в день; 26 апреля 1941 года картофель стоил два злотых и сорок грошей за килограмм, a ll мая того же года – пять злотых; хлеб в мае стоил пятнадцать злотых за килограмм, а крупа – восемнадцать. После скандального перелета в Великобританию Рудольфа Гесса твердый доллар тотчас подскочил со ста двадцати восьми злотых до ста семидесяти, а мягкий – с пятидесяти до семидесяти, а во время распространившихся сплетен об убийстве Геринга и вовсе вырос до двухсот. После начала войны с СССР цены подскочили еще выше.
В начале июня 1941-го приют не спал всю ночь, перепуганные дети лежали с открытыми глазами, а доктор, Стелла и два учителя сидели у окна и смотрели сквозь щелки занавески: по улицам Хлодная, Сенаторская и Электоральная до самого утра маршировал шипованный строй солдат, похожий на драконью чешуйчатую спину; каски блестели, отражая лунный свет, сталь винтовок и пулеметов грозно оскаливалась, а танки с грохотом лязгали гусеницами, теснили и мучили землю своей массой; мебель приюта дрожала, точно от страха, стекла нервно позвякивали, и даже граненый стакан двигался по столу, как испуганное насекомое. «Сталин, мы едем!» – белело в темноте, мелькая на массивных башнях. Немецкие войска пересекали Вислу через мост и двигались в сторону Советского Союза. Крытые брезентом, насупившиеся грузовики пылили и прокуренно кашляли выхлопом, утробно бормотали какую-то послушную, оробевшую перед волей человека околесицу.
Дети лежали в кроватках, спрятавшись под одеяла, уснуть никто не пытался, все слушали скрежет и топот войны – навязчивое дыхание хаоса. В ту ночь перепуганное гетто молилось особенно истово, каждый чувствовал: вот по миру шагает ошалевшая, неистовая армада, доморощенный, обласканный политическими опахалами сатана облизывает губы и сшибает города своими лапами, роет могилы и прячет-прячет под землю миллионы людских голов, засыпает, как желуди. Отпущенная на волю из глубины, из первобытных расщелин, освобожденная от цепи гадина бороздит рогами грунт, алчет крови и разрушения, насилует стальным хвостом и когтями, оставляя на корке планеты веками не зарастающие рубцы и трещины. Земной шар хрустит под этим натиском, как яйцо, дрожит и осыпается, а тварь-чудовище знай себе плещется и кувыркается, жрет человечину.
Отто ждал на улице Новолипки подле тоннеля, проходившего сквозь дом на арийскую сторону. Рядом на посту скучали два солдата: один все время зевал, второй равнодушно водил по сторонам глазами. К ним приблизился польский полицейский, так называемый «синий», о чем-то спросил, зевающий немец буркнул в ответ, отвернулся. Айзенштат отошел от дома так, чтобы солдаты и полицейский исчезли из поля зрения. Позеленевшие стены с облупившейся штукатуркой и пыльными окнами закрывали половину неба, Отто стоял в тени. Поймал на себе пару вопросительных взглядов, брошенных из ближайших окон, понял, что привлекает внимание, и отошел в сторону. Посмотрел на обрубок ствола ясеня, похожего на перепиленный бивень. Вспомнил, как в детстве ласкал рукой пористую кору деревьев, царапал ногтем, пробовал горький сок на вкус и сплевывал позеленевшие слюни. Положил сейчас руку на эту древесную кость и придвинулся ближе, вдохнул: обглоданное кварталом дерево не хранило ни воспоминаний, ни запахов. Его гладкая, истертая кора походила на камень, а от древесной культи веяло лишь смертью. Дерево очень походило на окружающих людей – это было дерево гетто.
Наконец из высокой арки вышел худой мужчина лет сорока в сером пальто и помятой коричневой шляпе, с запоминающимся скуластым, очень подвижным лицом. Взгляд незнакомца сразу зацепился за Отто, выделил его, и человек без тени сомнений направился прямо к Айзенштату, хотя на улице находилось немало других мужчин его комплекции и возраста, а самого архитектора в Антифашистском блоке никто не мог видеть даже на фото.
Представитель блока подошел вплотную, заглянул в глаза Отто, как бы желая удостовериться, что опытный глаз не обманул его. Отто чуть было не произнес традиционное для ашкеназов приветствие «шолем-алейхем»[5], но одернул себя и мысленно усмехнулся: это было бы неуместно. Присмотревшись к архитектору, человек толкнул его плечом:
– Идем, дружок, стоя мы будем привлекать слишком много внимания… Мы на самой границе, еще и у входа.
Мужчина поднял воротник пальто и бодро зашагал вперед, а Отто подался следом; чтобы не отставать, ему приходилось растягивать шаг. Фамильярность обращения неприятно уколола Айзенштата, но он проглотил его, посчитав, что так принято в подпольной среде. На первых порах он решил не показывать свой норов, а дальше будет видно, как реагировать на такое наглое амикошонство.
Представитель блока говорил обрывисто, иногда бубнил под нос, так что слова можно было разобрать с трудом. Когда на улице попадались встречные, замолкал. По нарастающему характерному душку Отто понял: идут на кладбище – самое удобное место для разного рода нелегальных встреч. Еврейское кладбище прилегало к католическому, располагавшемуся вдоль улицы Повознковская на арийской стороне.
Из-за серого воротника доносилось:
– Меня зовут Хаим… настоящее имя говорю… слишком доверяю панне Новак… сейчас хочу понять, как далеко… с виду ты… но Эва ручалась за тебя, дружок…
Айзенштат, прислушиваясь, то и дело задевал плечом своего спутника, потому старался идти в ногу:
– Я готов на многое, отправляйте на любое, хоть на самое безнадежное дело – слишком долго терпел…
Хаим злобно усмехнулся:
– О-то-то, чтобы ты со своим энтузиазмом горячечным запорол нам все в сраку, как последний пишэр?[6] Ой-вэй, да больно оно надо, дружок, терпи лучше дальше… Нет, не годится, ты этак только свинью нам подложишь: пальцем в жопу – это нехитрое дело же, давай хладнокровнее, интеллигенция…
– Не нужно громких слов с красивыми завитушками, архитектура, оставь это для польских шикс…
Хаим оглянулся и, убедившись, что рядом нет ни единого человека, продолжил:
– Мы в говне по уши… со связанными руками сидим, без оружия, людей и мало-мальской организации, как дрэк мит фэфэр[7]… О каком деле ты тут мне говоришь, дружок? Рейхстаг на приступ взять думаешь? Дерзай, почему нет, только мы сначала хотим взорвать Принц-Альбрехтштрассе со всеми штабами и ведомствами RSHA[8] и SS, а там можно и Рейхстаг взять за яйца… Взрывчатки слишком много, не знаем, куда девать… Тебе, случаем, не нужно, капустку, например, квашеную придавить? Даром отдам, клянусь честью флибустьера и святой инквизиции…
Айзенштат начал раздражаться: издевательский тон Хаима его бесил, но он понимал справедливость этих выпадов.
– Перестаньте разговаривать со мной как с идиотом! Поставьте себя на мое место, я не имею ни малейшего представления, в каком состоянии сейчас ваша организация и какими ресурсами она обладает… Так что избавьте от вашей иронии… Хаим заглянул в глаза Отто, улыбнулся и ободряюще похлопал по плечу.
– Я постараюсь быть полезным, – продолжал тот. – Вы не будете жалеть, если примете меня, но… у меня, как бы это сказать, есть не то чтобы условие, но… собственно, я прошу убежища вне гетто для моей пожилой матери и малолетней сестры… после этого хоть с самолета меня сбрасывайте на Гиммлера. Можно ли это устроить?
Остролицый Хаим усмехнулся со сдержанной издевкой:
– Гаонише фрагэ[9], дружок! И на будущее: не употребляй без надобности этих имен… даже когда мы одни, чаще всего мы называем всю немчуру «они». Тебя всегда поймут, хэврэс[10]. Гиммлера можешь звать очкариком, Геринга – пышкой, Геббельса – гребаной мартышкой и так далее – в порядке бреда, в общем. Включи свое творческое воображение, в конце концов. Ты же интеллигент, не чета мне, чумазому работяге-кочерыжке…
Айзенштат почувствовал в этом комплименте еще больше яда, чем в фамильярности и беглых выпадах-остротах, но решил и этого не замечать: пока не понимал, как лучше вести себя с Хаимом.
– Эва сказала мне, что наци… то есть они собираются проводить окончательную операцию…
Спутник кивнул:
– Это так, хотя еще неясно, когда именно… Судя по всему, у нас мало времени, как и людей.
– Мой брат Марек тоже хочет вступить к вам. Он скрипач, долгое время играл для спекулянтов и очень тяготится этим… Мы оба давно настроены на борьбу.
Хаим засмеялся и снова похлопал Отто по плечу:
– Охо-хо, вэй из мир![11] Ну если скрипач, тогда им всем конец. Со скрипача бы и начал разговор, а то что ж ты раньше молчал… Мы им твоим скрипачом таких хвостов накрутим, что мало не покажется, эсэсики уже ссутся со страху, слышишь, как журчит? Ха-ха, расслабь удила, архитектура, ты действительно слишком переоцениваешь наши силы. Организации в полном смысле слова еще не существует: нас несколько сотен человек, несколько разрозненных партий, причем фактически безоружных… С таким арсеналом, как у нас, мы похулиганить-то прилично не сможем, какое уж там восстание… А по поводу убежища – да сразу забудь, дружок… Нет, я, конечно, могу твоей семье предложить личный самолет до Палестины, пышка Геринг, кстати, вызвался пилотом для этих благотворительных полетов, чтобы помочь евреям переправиться из гетто на Эрец-Исраэль[12], так что я могу тебя записать в очередь… Да-да, не смотри на меня так, я сам не ожидал, что наш кругляш рейхсминистр окажется таким душкой, он даже обещался во время полета читать Шема Исраэль и Амида, ага… Ну что скажешь? Не брезгуешь люфтваффе?
Хаим сильно щурился, когда начинал иронизировать: лицо насмешливо вытягивалось и заострялось, будто щучья пасть, но потом резко преображалось, от улыбки не оставалось и следа.
– О каком убежище ты вообще говоришь, дружок? Давай лучше мы тебе генеалогическое древо Шварцбургского дома состряпаем? Мы о себе-то можем с трудом позаботиться, чего ты там от нас хочешь для своей матери? Пулеметный дзот?!
Осознав свою наивность, Отто смутился, так что на этот раз очередная порция издевательств его не кольнула, а даже заставила улыбнуться.
– А Паганини своего приводи, посмотрим, что за орешек… Скрипку, надеюсь, братец твой кролик не будет с собой брать… Ох, будь оно все проклято, в этой войне мы можем рассчитывать лишь на себя: Армия Крайова, мать ее в бога душу, имеет приличную силу, но их генерал Бур-Коморовский – матерый антисемит, ему бы в НСДАП вступать, а не в Крайову… Бур ненавидит коммунистов не меньше, чем нацистов, будь он неладен, усатый пентюх. Видел его? Больше на швейцара похож в гостинице или официанта, чем на генерала, хитрая бестия, ему с белым полотенцем на руке щеголять в бабочке да с подносом, а не войска погонять… Основа нашей формирующейся организации – халуцианские социалистические группы «Ха-шомер ха-цаир»[13], ребята из еврейской социал-демократической партии «Поалей Цион»[14], ППР[15], группы «Дрора»[16] и рабочий союз Бунд[17], прежде всего его молодежный «Цукунфт». Хотя с Бундом у нас пока отношения сложные: они марксисты и антисионисты. В общем, такой винегрет из евреев троцкистов, социал-демократов, сионистов и марксистов для Крайовы не многим лучше, чем эрегированный гитлерюгенд в ночь на 20 апреля… У Бура с Альфредом Розенбергом больше точек соприкосновения, чем с нами. В любом случае до прихода Красной армии они хотя бы разговаривают с нами и даже дали понять, что помогут оружием и боеприпасами – и на том спасибо, мышьяка им в брюхо с коровью голову, впрочем, дальше устных обещаний пока не продвинулось… В этом смысле Армию Крайову, будь она неладна, едва ли можно назвать союзником. Да что болтать, даже среди наших пока мало кто настаивает на вооруженном восстании, все понимают: это самоубийство, на которое нужно идти только в крайнем случае.
– А Гвардия Людова? Они ведь тоже коммунисты…
Хаим утвердительно качнул головой, но все-таки сделал неопределенный жест, побарабанив пальцами по воздуху, как по клавишам пианино:
– Да, коммунисты, поэтому с их стороны мы ждем большего… В феврале они выслали к нам своего человека, так что контакт-то прочный, конечно… Дали слово, что медикаменты, продукты питания и крупную партию оружия передадут непосредственно перед началом восстания. Типографию подпольную вот сделали, но даже они, похоже, не до конца верят, что евреи, кроме как молиться, еще и драться умеют, потому еще раз повторюсь: в главном нужно рассчитывать только на себя… Особенно мои нежные нервы лохматит тот факт, что Армия Крайова не желает сражаться против немцев бок о бок с Гвардией Людовой. Получается, врагов-то у немцев много, да только враги немцев – враги друг другу, поэтому общих действий не будет однозначно, даже если до восстания все-таки дойдет дело, будь они все прокляты, сукины дети… Все это глупо, хоть кричи, но ничего не поделаешь. Таков ужчеловек, политика, первобытный принцип «свой – чужой». Идиш воюет с ивритом, сионисты с социалистами, либеральные евреи – с ортодоксами, а хасиды воюют друг с другом, чтоб им пусто было, палку свинячей колбасы им всем в рот… Так что по одному истребит нас, как кутяток, немчура: сначала безответных досов[18], потом Крайову с Гвардией похоронят и всю нашу разношерстно-цветастую еврейскую братию… Принцип понятен, архитектура? Это тебе не балюстрады рисовать. Так-то.
Хаим и Отто добрались до кладбища. Айзенштат удивленно посмотрел на своего спутника:
– Благодарю за доверие. Вы меня впервые ведите и столько информации выложили… даже странно, почему так мне открываетесь? А если меня возьмет гестапо?
Хаим засмеялся:
– Мать честная, какой этикет, ой-вэй… я прям на балу себя почувствовал, месье, туда-сюда, прошу, передайте мне трость… ты еще реверанс сделай и ножкой шаркни… Ой, ну даешь, архитектура… Ха! Гестапо его возьмет! Да ты обосрешься сразу – это айзэн бэтон[19]. Еще до первой пытки богу душу отдашь! – Хаим с доброжелательной насмешкой посмотрел на Отто. – Тебе ли я доверяю, бубалэ[20]? Давай называть вещи своими именами: я доверяю не тебе, а Эве… раз она поручилась за тебя, мне этого достаточно… Так что не подведи ее и нас. Тем более я предоставил тебе только общую информацию – больше чем уверен: все это уже давно известно в гестапо и SD, будь они прокляты… Нуты как, чертежня, принцип понятен?
Шагая между каменной стеной и заостренными стальными прутьями в старой части кладбища, архитектор чувствовал, как ноги тяжелеют от налипающей вязкой грязи. Мраморные надгробные плиты, потемневшие от дождя, стояли частыми рядами, выпячивая из густого тумана овалы и прямоугольники покосившихся макушек, похожих на тупые зубы огромной пасти с зеленоватым налетом мха и оранжевыми пятнами грибка. Здесь же возвышалась скульптура льва, но в основном памятники были простыми и незамысловатыми, с аскетичной резьбой и орнаментом. Исписанные строками из Талмуда, они напоминали множество вырванных, но собранных вместе страниц святой книги.
Старая часть кладбища осталась позади, теперь плиты попадались все реже, Хаим и Отто шли среди невысоких безликих насыпей, длинных общих могил, едва присыпанных землей. У одной из них чавкали три облезлые собаки, ворошили могилу лапами; вцепившись зубами в человеческую ногу, с жадностью тащили труп на поверхность. Хруст костей и запах мертвечины заставили Айзенштата содрогнуться, Хаим же только бегло посмотрел на псов и, заложив руки за спину, прошел мимо.
Ужасающий запах стал сильнее, сделался просто невыносимым – Отто даже прикрыл рукой нос, потом с трудом пересилил себя и продолжил:
– Ну что, вы берете меня? Что я должен сделать, чтобы вы мне верили?
Хаим по-иезуитски уставил взгляд в переносицу Отто – архитектору даже стало немного не по себе.
– Святые угодники, клянусь Торквемадой… ой-вэй, тебя таки тянет на патетические оборотики, мой милый друг. Пока ничего делать не надо, время еще не пришло… Нам бы понять, что собираются делать с варшавскими евреями. Что их ждет? Трудовые лагеря или лагеря уничтожения… У разных источников разная информация, но нужно быть готовым ко всему. С остальными членами организации тебя знакомить не стану из соображений безопасности – первое время я буду единственной связующей нитью между тобой и моими товарищами. Поэтому прошу любить и жаловать, хорошенечко запомни мою богомерзкую физиономию и не крякай. – После короткой паузы Хаим подмигнул. – Когда нам понадобишься, сам свяжусь с тобой, а пока просто постарайся не умереть с голоду или от тифа, ну и на немца не нарвись…
Отто недоумевающе смотрел на представителя подполья:
– И это все? Вы даже ничего не спросили обо мне!
Хаим засмеялся:
– Зачем мне это, дружок! Мало ли что ты рассказать тут можешь, архитектура, я за несколько дней до встречи уже всю твою подноготную знал… Ну хоть в чем-то ты нас недооценил, а то я уж боялся, ты разочаруешься, что у нас своих танковых дивизий нет и артиллерии… Все, передавай своим балюстрадам мой пламенный привет!
Хаим повернулся и быстрым шагом пошел к католическому кладбищу, намереваясь, судя по всему, перебраться через него обратно на арийскую сторону. Его худая темная фигура постепенно рассеивалась в тумане между могил, пока фата-морганой не распалась в густой дымке.
Отто заложил руки за спину и побрел вперед – бесцельно. Уставился себе под ноги и просто шагал, глядя на грязные чавкающие башмаки. Почувствовав, что и без того непереносимый смрад усиливается, поморщился и снова остановился. Огляделся: оказался рядом с печально знаменитым сараем – многократно слышал о нем, но никогда не приходил в это хранилище тел, ожидающих очереди на погребение в братских могилах. Мертвецы свалены друг на друга ворохом разжалованной жизни. Тела привозили сюда на повозках, собирая по всему кварталу, как урожай: открытые пропасти ртов, выеденные птицами глаза, посерелые ступни и костлявые руки поганочной белизны свисали пугающими комьями. К сараю подходила изрытая дорога с большим количеством широких луж, разбитая вдрызг и текучая, как рвотная масса. Под ногами архитектора пробежали несколько жирных крыс – тяжелых, топающих, издающих отвратительный писк. Рой мух вился в воздухе и шепелявил: троеточия насекомых нервно клубились, скребли воздух, налипали друг на друга в скомканную горсть, толкались и облепляли холодные тела влажными катышками, щупали равнодушную плоть. В тумане показалась телега. Скрип колес нарастал, усталая кляча фыркала и трясла головой, шамкала губами. Телега надвигалась, как паром с того света, призрачные контуры твердели, высвечивались, становились материальными и увесистыми. В повозке седели потные работяги – повязанные на лица грязные платки делали их похожими на разбойников.
Отто развернулся и быстрым, спотыкающимся шагом подался обратно.
В феврале 1942 года ситуация с умершими от голода начала принимать размах катастрофы. Сколько бы ни удавалось раздобыть провизии, для воспитанников Дома сирот было недостаточно. Думать о помощи другим, тем, кто умирал на улицах, было наивно, мало того, безответственно по отношению к подопечным. Гольдшмит просил у меценатов еще, он обивал пороги, навязывался, требовал. На улицах лежало так много детских трупов, что доктор каждый раз преодолевал себя, прежде чем переступить порог и выйти за дверь. При виде маленьких истощенных тел начинал дрожать – присыпанные снегом, они походили на замороженную рыбу. Один раз видел, как из широко раскрытого рта мертвого мальчика выглянула мокрая мышь, она копошилась и часто оглядывалась, блестела земляными глазенками. Гольдшмит спугнул ее тростью – она выскочила, промчалась по костяному телу и исчезла в щели дома. Януш весь день после этого вздрагивал, а ночью случилась истерика. Долго лихорадило, но потом все-таки задремал.
На следующий день один состоятельный спекулянт, выходивший из ресторана, услышал очередную просьбу Гольдшмита о деньгах, его передернуло от злобы и гадливости: он достал кошелек и бросил несколько скомканных купюр в лицо доктору:
– Где ваше чувство собственного достоинства, пан доктор, где ваша честь, в конце концов? Что вы попрошайничаете, как дворняжка?! Вы же из аристократической семьи!
Доктор поднял упавшие на тротуар деньги, аккуратно разгладил и положил в карман:
– У меня нет ни достоинства, ни чести, есть только дети, которых нужно кормить…
Коммерсант недолюбливал «святошу» за «приторную правильность». И был не одинок в своей неприязни. Со временем по гетто поползли слухи: глава приюта собирает слишком много средств и продуктов, да-да, значительно больше, чем нужно… как не посмотришь, все смешком – это для двух-то сотен детей… Обвинения в воровстве добивали и без того изможденного старика, который, несмотря на трудности, все чаще брался за бутылку: трезвое сердце не выдерживало, давало о себе знать резким покалыванием в груди. Доктор тяготился несвойственной прежде привычкой, однако слишком хорошо понимал: без спирта просто не сможет сохранить работоспособность.
У него и в мыслях не было прятаться от жителей квартала в минуты слабости, он жил не на театральных подмостках и никогда не рисовался. Как-то раз нетрезвым прошелся даже по Сенной. Уже на следующий день в малом гетто раздавался шепоток: шу-шу-шу негодяй-святошка пропивает деньги благотворителей шу-шу-шу, потом сплетню подхватили и в большом. В ответ на просьбы о материальной помощи все чаще получал отказы, на улице ловил недоброжелательные взгляды. Одни были уверены, что Гольдшмит использует приют для отмывания денег и через подставных лиц сбывает на рынке излишки продуктов, другие утверждали, что все попрошайки-дети в обносках, которые собирают по кварталу милостыню, – его воспитанники и он имеет процент с этого своеобразного бизнеса. Были даже те, кто намекал, будто любовь доктора к детям не так целомудренна, как кажется, – в тихом омутечерти, как говорится… у него илицо такое, красивое уж больно, чистенькое до приторности. Шу-шу-шу. Они все такие. Рано или поздно все это всплывет, вот увидите, вот увидите, клянусь вам… меня не проведешь: я калач тертый.
Когда это подозрение дошло до слуха Гольдшмита, он даже замер, потом схватился за голову, сжался и на трясущихся ногах отправился к себе в комнату, откуда не выходил два дня. Пани Стелла нервно перебирала чистое белье и часто прохаживалась мимо закрытой двери, поглядывая на потертую медь ручки. Дети подбегали к двери еще чаще и скреблись маленькими пальчиками:
– Пан доктор! Мы скучаем, пан доктор!
Гольдшмит отвечал не сразу, как будто собирался с силами:
– Я немного приболел, мои хорошие, скоро вернусь… встану на ноги и буду рассказывать сказки.
Наконец он вышел; воспитанники радостно вскрикнули и кинулись к нему, а доктор загудел, как паровоз, и начал двигать руками, будто поршнями. Дети быстро подхватили любимую игру и выстроились в вагончики, схватившись друг за дружку. Длинный паровоз делал круги по внутреннему дворику. Снег хрустел под ногами, дети смеялись и пели, потом поезд снова вернулся в здание приюта и вихрем пронесся вдоль стен: четыре Мони – самый младший, просто младший, средний и старший; Генечка в огромных, похожих на кирпичи башмаках, постоянно слетающих с ног; Фелуния, без конца мазавшая козявками свои волосы; Альбертик, просивший пани Стеллу гладить ему животик перед сном; вечно измазанный зеленкой непоседа Ежи; Моська-драчун, Габа-плакса, Ами, любившая наряжаться и надевать пышные шляпы; подросток Якуб, написавший поэму о Моше; Марцелий, Шлама, Шимонек, Натек, Метек, Леон, Шмулек и Абусь, которые, взяв пример с Гольдшмита, тоже вели дневники; склонная к воровству Ритка, решившая больше не брать чужого; Зива, Ада, Зигмус, Сами, Ханка, Аронек, Хелла, Сруля, Менделек, Иржик, Хаимек, Адек – кудрявые, коротко стриженные, белолицые, смуглые, высокие, низкие, с ямочками, родинками, с розовыми пальцами или белой, как скатерть, кожей, с острыми коленками, с веснушками, задумчивые и молчаливые, весельчаки-непоседы или без конца зевающие любители поспать. Счастливый визг детей журчал, как водопад, переливаясь из комнаты в комнату.
Эва Новак постучала в дверь приюта. Открыла низкорослая женщина-повар с мокрыми руками и провалившимися глазами, она устало улыбнулась и пригласила медсестру в дом. Эва шла следом, едва поспевая за размашистым мужским шагом своей провожатой. Поднялись по лестнице и оказались в зале. Гольдшмит, окруженный детьми, сидел в центре среди сдвинутых к нему, как к магниту, скамеек и стульев. Закинув ногу на ногу, медленно водил пальцем по страницам справа налево, читая на иврите, а дети повторяли за ним. Януш надеялся при первой возможности вывезти детей в Палестину, а потому готовил их к новой жизни.
Ханка и Ада стояли за спиной доктора и рисовали цветными карандашами на его лысине. Одинаково закусив губами язычки, они с сосредоточенным видом выводили тонкие линии. Кудрявые волосы девочек умилительно вились, а сами малышки время от времени облизывали карандаши, высовывая желто-зеленые языки. Глаза доктора светились тихой радостью, но Эву напугало, насколько сильно он постарел за последний год: в свои пятьдесят девять лет доктор мог дать фору любому сорокалетнему мужчине, а сейчас ему шестьдесят четыре, и он стал совсем старик.
Мельком подняв на вошедшую глаза, доктор кивнул, не прерывая чтения. Девушка села в стороне, любуясь сиротами, льнущими к отцу-покровителю.
Наконец доктор закрыл книгу и встал:
– Поздоровайтесь с нашей гостьей.
Детишки оглянулись на медсестру и, как по команде, выпалили:
– Здравствуйте, панна Эва!
Медсестра улыбнулась и подошла к доктору. Девушку удивила его неопрятность – Януш был небрит, седая колючая щетина едва не царапала воздух. Доктор понял, что Эва хочет поговорить наедине, и вышел с гостьей в коридор.
– Как ваши дела, пан доктор?
– Плохо, дорогая моя, у Арона и Иржика сильный понос, Зива простыла и кашляет, пришлось ее изолировать в отдельном кабинете, чтобы не заразила остальных… Да и как тут не заболеть, если дети с каждым днем худеют все больше? У Зигмуся, Сэми и Абраша целое утро кружилась голова, а Ханка подвернула лодыжку… Продукты опять на исходе… И вы еще спрашиваете, панна Эва, как у меня могут быть дела?
– Я займусь больными. Скажите, пан доктор, сегодня получится забрать еще кого-нибудь? Это облегчит ваш труд – слишком многих вы тащите на себе, да и для детей так лучше…
Гольдшмит снял очки и прикусил зубами дужку:
– Нет, не стоит. Остались слишком большие и совсем… неарийской внешности, это рискованно. Пусть будут здесь, со мной и друг с другом, они очень сблизились за последнее время, не нужно их разлучать.
Эва несколько смутилась, ей нужно было сообщить важную новость, но она робела, боялась ранить доктора. Наконец решилась:
– Пан Гольдшмит, со дня на день гетто будет ликвидировано, всех евреев депортируют в лагеря, а там… вероятнее всего, уничтожат нетрудоспособных. Немцы всем внушают, что это просто переселение на восток рабочей силы, однако… Гольдшмит нахмурился и сдвинул брови:
– У них не поднимется рука на детей! Нацисты бессердечны, но не настолько; в конце концов, даже у них были матери…
– Но в Хелмно…
– Какая разница, что было в Хелмно? Неважно, что видел бежавший Граяновский… Дорогая моя, зачем вы говорите мне об этом, если у организации нет возможности найти убежище для двух сотен детей?
Они стояли на лестнице, Януш смотрел в зарешеченное окно – холодное и пустое, молчаливое.
Девушка вздохнула:
– Для двух сотен, конечно, нет… только для нескольких.
– Но разве я смогу отделить одних от других, как овец от козлов? Не забудьте, Черняков обещал нам защиту даже на случай полной депортации… он порядочный человек и умеет держать свое слово. Адам уже много сделал для нас.
Эва хотела привести еще аргументы, настоять на своем, однако по сжатым губам и заострившимся скулам Гольдшмита поняла: спорить бесполезно. Необходимость выполнить поручение заставляла протискивать новые слова в плотный, как глина, наэлектризованный возмущением старика воздух.
– Пан Гольдшмит… Организация уполномочила попросить вас… Вы… вы нужны культурной Польше как детский писатель, как врач и педагог… Многие на арийской стороне готовы предоставить вам убежище, более того, есть возможность раздобыть для вас швейцарский паспорт…
Януш взглянул на девушку так холодно, что она вжала голову в плечи.
– А дети? Дети не нужны культурной Польше? Да вы в своем уме?! Слышите себя, панна Новак?
Эва опустила глаза:
– Так много детей спасти просто невозможно ни нам, ни любой другой организации…
– И думать забудьте, даже слышать не хочу…
– Матерь Божья, пан доктор, вы, верно, не понимаете… Вы же слышали про Аушв…
– Именно потому, что слишком хорошо все понимаю, я и отказываюсь!
Януш снова снял очки и начал протирать их полой рубахи. Медсестра хотела сказать что-то еще, но Гольдшмит перебил на полуслове:
– И закончим на этом наш разговор… надеюсь, мы к нему больше не вернемся. Прошу вас, займитесь больными.
Девушка помолчала. Мысленно поставила себя на место Гольдшмита и поняла, что поступила бы точно так же.
– Да, конечно, пан доктор.
Эва поправила шерстяную шапку и отправилась в кабинет, где лежала простывшая Зива. Девочку устроили на сдвинутых стульях, на которые постелили матрац, она шмыгала носом и кашляла в кулачок.
Медсестра села рядом, открыла сумку из эрзац-кожи, скрепленную серебристыми замками и клепками, достала градусник, несколько таблеток и маленький конвертик с порошком.
– Ну что, красавица, как чувствуешь себя?
Зива тяжело вздохнула, по глазам было видно, что она только что плакала.
– Мне страшно, панна Эва.
Медсестра наклонилась ближе, погладила девочку по плечу:
– Да что ты, Зива, чего испугалась?
Девочка насупилась и посмотрела в окно:
– На улице много мертвых детей, они костяные и страшные… по ним ходят крысы и мухи. Я не хочу, чтобы по мне тоже ходили эти животные.
Эва вытащила ребенка из-под одеяла, прижала к себе.
– Что ты, глупенькая, маленькая, – поглаживая девочку по влажным волосам, говорила она, – ты не умрешь, у тебя обычная простуда, те дети умерли от голода, потому что о них некому было заботиться, а у вас есть пан доктор, есть пани Стелла, ваши учителя, есть я. Обещаю, ты будешь жить…
Зива вопросительно посмотрела на Эву:
– Вы так любите нас?
Медсестра еще крепче прижала к себе ребенка:
– Конечно, и я, и все мы очень любим вас, вы не умрете… Тех детей с улицы некому было любить, а вы не умрете…
Зива прижалась к девушке:
– Я могу любить их, панна Эва, скажите им, пусть они тоже играют с нами и читают книжки. Мне кажется, они такие неподвижные, потому что им плохо. Скажите им: у нас хорошо, пусть приходят к нам… я сама буду заботиться о них…
У Эвы защемило в груди.
– Хорошо, Зивочка, я передам им… сегодня же все скажу. – Она развела порошок в стакане с теплой водой, дала таблетки и снова уложила ребенка под одеяло. – А теперь постарайся уснуть, чтобы набраться сил…
Через несколько минут, когда лекарство начало действовать, девочка зевнула, потом закрыла глаза и засопела, чувствуя на животе прохладную ладонь медсестры.
Панна Новак тихонько поднялась, застегнула сумку и вышла, притворив дверь. Напоила отварами Арона и Иржика, осмотрела лодыжку Ханки, прошлась по зданию приюта, провела дезинфекцию помещений, после чего Яцек передал Гольдшмиту две коробки с тушенкой, которые они с Эвой спрятали в телеге.
Яцек стеганул лошадь и присвистнул. Копыта застучали по мостовой.
Май 1942 года. Этот год обитатели гетто считали благоприятным: появилось много поводов потешить себя разговорами о скором окончании войны. Проблески надежды замерцали еще зимой, когда немцы начали реквизировать меховые изделия. Люди подмигивали друг другу и потирали руки, сдавая нацистам лисьи воротники и шубы с таким видом, точно подбрасывали дрова в костер, на котором сжигают Гитлера. Теперь же, в мае, в фирму Тобенса на улице Проста, 12, прибыло двести тысяч комплектов завшивевшей, хрустящей от грязи и крови формы немецких солдат и офицеров. Во многих нагрудных карманах лежали свернутые советские листовки. Евреи стирали форму и штопали пулевые отверстия, силясь спрятать от надзирающих эсэсовцев рвущиеся на лица улыбки. В довершение этого 27 мая на подъезде к Праге было совершено покушение на одного из главных жрецов холокоста Гейдриха Рейнхарда. Mercedes-Benz обергруппенфюрера с открытым верхом раскурочило не очень метко брошенной бомбой; начальник RSHA скончался 4 июня от полученных ранений. А в ночь с 30 на 31 мая Королевские ВВС разбомбили Кельн: около тысячи самолетов вытряхивали из города жизнь, трепали его, перетирали в бетонную труху с таким остервенением и упоением, будто не немецкие солдаты, не одичалые от нацистских идей фельдмаршалы, не бесноватые вожди-садисты, а сам прекрасный древний город топтал и истреблял человечество. Ненависть эта была не лишена справедливости: грациозные стены испепелялись за то, что породили весь этот людоедский выводок SS, всех этих осатанелых теоретиков-патриотов и бесчисленные серые орды простых солдат, безмозглым, послушным обухом лупцующих все живое. Однако, словно в свое оправдание и из деликатности богобоязненного воина, летчики не трогали Кельнский собор, который возвышался над руинами, как статный, высоколобый священник, среди могил распростерший руки к карающим небесам.
Плотная, но уже по-летнему уютная морось. Панна Новак смотрит в заляпанное окно. Фургон сильно трясет: истерзанная дорога к кладбищу плюется грязью и кашляет, толкает машину из стороны в сторону и раскачивает ее, как лодку. Рессоры скрипят, из-под козырька вываливаются смятые листки бумаги. Водитель фургона Тадеуш с рябым лицом и жесткими курчавыми волосами вцепился в руль, время от времени отирая серым платком влажный морщинистый лоб. От его крепких пальцев с щетинистыми колкими волосками и старой рубахи пахнет табаком, дымом и бензином.
Медсестра держалась руками за дверь и сиденье, чтобы не удариться головой о крышу. На каждой кочке посматривала назад, в занавешенное клетчатой шторкой оконце. Фургон был заставлен коробками и ящиками с отверстиями для воздуха, а за их хрупкое, напуганное, жаждущее жить содержимое Эва переживала больше, чем за себя. В одну поездку обычно удавалось брать максимум троих детей: прятать больше было слишком рискованно, но сейчас в фургоне сидели шестеро, поэтому медсестра решила передать часть детей женскому католическому монастырю.
Тадеуш остановил машину в нескольких километрах от кладбища. Стоило мотору заглохнуть, напряжение водителя рассеялось, он ослабил пальцы, на него накатила волна сонливости. Механик варшавского завода, всю свою жизнь массирующий жилистыми, окаменелыми руками металлические детали, держался сейчас за мягкий и податливый руль, чувствуя, что с минуты на минуту уснет. Еще до войны Тадеушу казалось, что в его истертой работой жизни давно уже не осталось ничего, кроме жены, двух дочек и этих вот крепких, как подкова, рук. Все бойкие мысли и чувства, которые так ретиво курочили его когда-то в молодости, постепенно вышли из него, как и грехи, вместе с трудовым потом – полностью, без остатка, поэтому, окажись он на Страшном суде, Господь не увидит перед собой ничего, кроме этих вот самых пропахших работой честных рук, которые робко повиснут перед Богом, утопая в ореоле его света.
Подъезжать к кладбищу ближе было опасно, в таком безлюдном месте фургон с красным крестом бросался в глаза: красный крест среди мертвецов – трудно представить более нелепое зрелище. Девушке подумалось, что так оно, собственно, все и обстоит (они помогают тем, кто уже давно приговорен, как бы заранее соборован и положен в могилу, – скорая помощь для усопших: протянутый стакан воды, щедро предложенный заживо погребенному; сердечное слово ободрения и жест сочувствия – висельнику, со скрипом покачивающемуся на ветру; искусственное дыхание – отсеченной тесаком, скинутой с плеч голове, обездвиженному сухому рту). Но в том-то и заключалась тайна всего ее дела: кажущаяся бессмысленность риска делала труд Эвы еще более осмысленным. Кому-то удастся, ведь не всех же. Главное, дождаться… а впрочем, нет разницы. Здесь и сейчас – самое важное, а все остальное… Только вот Отто – я совсем ничего сама, как женщина… Любить, родить самой, стать матерью – слишком много, да, это очень… Но нельзя же так, как будто ничего, только я и он. Может, он поэтому так странно… в любом случае… нет, не знаю.
Мысли пролетали в голове медсестры: одни – оставляя неприятный осадок, жирный и клейкий, как от слизняка; другие лохматили сознание, точно густую шевелюру, раскачивали, кучерявили; третьи сковывали и леденили, всасывали холодной трясиной. Засыпающий Тадеуш думал о более приземленном и, если угодно, физиологическом: его заботило прежде всего то, что колеса могут увязнуть в грязи, о том, что в опустевшем за ночь брюхе еще трещит и колобродит съеденная вчера на ужин свекольная похлебка, не говоря уже о молочнице, открывшейся неделю назад у его супруги Настуси. Да и у белобрысой Катажинки – дочурка покрылась сыпью, а сосед Фердинанд, кажется, осведомитель. Все что-то вынюхивает, с немчурой кокетничает, выродок, фольксдойче из себя строит, курва.
Эва подхватила троих самых старших детей, хлопнула задней дверью и направилась в сторону торчавших вдалеке могильных плит. Оставшиеся дети выглядывали из коробок, как котята: глаза блестели, лохматые головки беспокойно вертелись. Тадеуш с улыбкой погрозил малышам пальцем и дал знак, чтобы спрятались. Достал из-под кепки сырую папиросу, высушил над спичкой взмокшую от пота бумагу и прикурил. С жадностью затянулся, чувствуя, как никотиновый яд, принятый натощак, обжигает сонливость и чуть бодрит. Однако вскоре шофер вяло поскреб ногтями подбородок и все равно задремал.
У самой стены кладбища стоял грузовик Opel Blitz, смутивший Эву, но кабина была пуста, девушка успокоилась. Она вела за собой семилетнюю Зосю, которая постоянно шмыгала и подтягивала сползающие брючки, и двух мальчишек шести лет, Шмулю и Юрека. Хотя оба мальчика постоянно не по-детски хмурились, настороженно озирая окружающий мир, все же они сохранили способность легко поддаваться чужой веселости и беззаботно смеяться. Вопреки всему навалившемуся на их плечи, они были открыты жизни и новым ее впечатлениям.
Ослабевшие грязные дети спотыкались, но в глазах мелькало любопытство, они давно не бывали вне тесных улочек гетто. Малыши с аппетитом топали ножками по редким травяным кочкам и перепрыгивали лужи. Оживление ребят не радовало девушку, она с болью смотрела на их тощие ноги, а болезненный холод маленьких ручек неприятно отзывался в ней. Когда наконец вошли на территорию кладбища, Эва увидела четырех бегущих между могилами подростков с болтающимися за спинами мешками. Из котомок торчали буханки хлеба, а сквозь прорехи выглядывал мелкий картофель. Деловито, вприпрыжку они пронеслись мимо, точно синицы, и исчезли так же неожиданно, как и появились.
Дети с интересом проводили глазами маленьких контрабандистов, но их внимание быстро рассеялось. Продолжая шагать за медсестрой, принялись играть: старались идти в ногу с панной Новак. Влажная мякоть раскисшей земли всасывала детские ноги, как болотистая топь, но ребята все равно пытались выдержать ритм шагов и, пока им это удавалось, сдержанно хихикали и толкали друг друга, но, как только ноги сбивались, замолкали и пытались восстановить строй.
Наконец впереди показались силуэты монахинь. Подойдя поближе, Эва разглядела широкое мужиковатое лицо сестры Анны, украшенное круглыми очками. Анна была неразговорчива даже по монашеским меркам: стеснялась кричащей непривлекательности своего лица и напускала на себя излишнюю строгость и нарочитое безразличие к собственной внешности; рядом с ней стояла, будто нарочно подобранная, ее полная противоположность, красавица сестра София с огромными, какими-то речными глазами и точеными чертами лица; мужчины на улице всегда оглядывались на нее. Эва знала Софию еще до войны и как-то спросила, почему она ушла в монахини; сестра только улыбнулась и опустила глаза, будто счастливая невеста, смущенная откровенным вопросом и не желающая никого впускать в святая святых.
Просторные черные хабиты монахинь трепал ветер, широкие рукава и подолы вздымались, как паруса. Сестры дружно поприветствовали Эву:
– Слава Господу нашему Иисусу Христу!
Эва кивнула в ответ:
– Во веки веков, аминь.
Сестра София опустилась на корточки и улыбнулась – умилившись при виде детей, она стала еще красивее.
– Меня зовут сестра София, будем дружить с вами, малыши-крепыши?
Дети засмущались девушек в странной черно-белой одежде и начали прятаться за Эву, тянуть ее за подол шерстяной юбки.
Панна Новак улыбнулась и ласково повернула к себе их лица:
– Это сестры Анна и София, они очень хорошие и ни за что не дадут вас в обиду… вы всегда будете сытыми и чистенькими. Доверьтесь им.
Когда сестра София молча протянула к ним свои хрупкие руки, дети, в силу возраста особенно восприимчивые к красоте, сразу подались навстречу. Сестра Анна стояла в стороне и мысленно корила себя за ревность – она страдала из-за того, что дети всегда так завороженно тянутся к Софии, а не к ней; чтобы прогнать недоброе чувство, начала молиться и вдруг заметила, что лицо панны Новак замерло и побледнело, в глазах отразился настоящий ужас. Страх Эвы молниеносно передался ей самой, по неподвижному взгляду медсестры Анна поняла, что сзади появились немцы, но повернуться было невозможно, руки и ноги словно окаменели. Монахиня опустила голову, поправив круглые очки.
Сестра София почувствовала повисшее напряжение и тоже подняла глаза. К ним быстрым шагом приближались четверо мужчин в штатском. Офицерская выправка, отточенная отмашка рук в кожаных перчатках, серые строгие плащи и высокие сапоги выдавали в них военных: чаще всего в гражданской одежде расхаживали по Варшаве гестаповцы или Абвер, но контрразведке нечего делать здесь, на кладбище гетто.
Эва закрыла глаза, преодолевая дрожь, сжала зубы, собралась с мыслями. Она всегда знала: рано или поздно это произойдет, теперь уже ничего не изменить. Открыла глаза и холодным взглядом смерила подошедших, всем своим видом показывая, что не боится. Монахини же опустили глаза и перекрестились, сестра Анна запричитала:
– Йесус… Мария… Кристос… amen.
Дети вопросительно смотрели на мужчин и не понимали, чего ждать от незнакомцев. Детское сознание, обожженное войной, давно выработало простейшую истину: бояться нужно людей в форме, так что эти четверо не вызывали в них никаких чувств, кроме любопытства. Дети смотрели, как ласковые щенки на улыбчивого прохожего – будь у малышей хвостики, они начали бы сейчас ими постукивать. Однако когда сестра София перестала играть с ними в большие пальцы, когда панна Эва и сестра Анна перестали улыбаться и враз помрачнели, напряжение взрослых передалось и детям.
У входа на кладбище раздался характерный шум, хорошо знакомый Эве: бряцание оружия, скрип ремней и ботинок, металлические звуки немецкой речи, напоминающие лязг танковых гусениц. Она оглянулась на шум: к ним быстрым шагом двигались солдаты. Эва вспомнила Opel Blitz у стены… Может быть, Тадеуш смог увезти их… Выстрелов же не было, может быть, им всем удалось…
Увидев солдат, дети затрепетали. Их глаза расширились от ужаса.
Самый высокий гестаповец с ледяными серыми глазами и выпирающим кадыком напомнил о себе, заговорив на уверенном польском, разве что с некоторыми запинками и ощутимым акцентом. Подчеркнуто-издевательская вежливость выдавала определенную позу, а по тому, как уверенно он говорил, чувствовалось: это старший офицер.
– Что-то вы задержались, фрейлейн Эва, заставили нас ждать, в конце концов, это неэтично. Слишком наслышан о ваш сердобольность и неутомимый труд… с нетерпением искал возможность познакомиться ближе…
В глазах немца Эве почудился нездоровый блеск, черты лица были почти стерты.
– Мы искренне надеемся, что вы, фрейлейн Новак, поделитесь именами всех свой друзья и дадите адреса вывезенных из квартала детей… это в ваших же интересах… Нам бы не хотелось, чтобы еврейский зараза распространилась за границы этого замечательного места. Вытолько посмотрите, как здесь красиво… и так спокойно, вам не кажется?
Девушка решила молчать, что бы с ней ни делали: все равно она, трое детей и монахини обречены на мучительную смерть. Раз гестаповцы уже знают ее имя, значит, на нее написан донос и она давно под колпаком, поэтому шансов выжить просто нет.
Когда солдаты приблизились, Эва увидела среди них сгорбившегося, избитого человека в наручниках. Половина лица почернела от крови и огромной гематомы, так что Эва не сразу узнала Тадеуша.
Господи, где же дети?
Высокий гестаповец подошел почти вплотную, от него пахнуло дорогим табаком и хорошим одеколоном. Он схватил девушку за волосы и резко дернул ее голову к себе, впечатав пуговицы своего плаща ей в лицо:
– Все расскажешь, польский сучка, все, что понадобится… кровью захлебнешь, умолять будешь, чтобы пристрелили, но расскажешь…
Офицер оттолкнул Эву, она упала в грязь, ладони скользили по черной и влажной земле. Второй гестаповец пнул сестру Анну в живот, монахиня захрипела и повалилась на колени, обхватив себя руками. Очки слетели, и гестаповец не без наслаждения раздавил их кованым сапогом – оправа хрустнула смятой стрекозой. Сестра София всплеснула руками и шагнула к гестаповцу:
– Что вы творите? Опомнитесь!
Один из солдат ударил ее прикладом, монахиня распласталась на земле. Рыдающие дети кинулись к успевшей подняться Эве, но офицер оттолкнул их ногой. Медсестра презрительно прищурилась, ей вдруг показалось, что она гораздо сильнее стоящего перед ней человека. Ее взгляд взбесил немца, резким движением он выхватил из-под плаща Luger и в упор равнодушными пальцами в чистенькой перчатке продырявил голову девочке Зосе. Малышка повалилась на землю срезанной гроздью, кровь ребенка брызнула на лицо Эвы.
Мальчишки в ужасе рванули прочь, в разные стороны, но офицер уже поднимал изящный пистолет с угловатой рукояткой и острым, как шип, стволом. Эва бросилась вперед и схватила гестаповца за руку, пистолет плюнул двумя растерянными выстрелами, сбитые с толку пули никого не задели.
Дети удалялись, петляя среди могил. Солдаты вскинули карабины, пули кусали края памятников, сбивая мраморные углы и скалывая скульптуры, пока в конце концов не настигли маленькие спины, разорвав и взлохматив износившуюся одежду. Мальчики уткнулись в землю, из их тел, минуту назад жавшихся к Эве с теплым ласковым трепетом, черным молоком потекла кровь. Кровь скапливалась в густую лужу, а влажная, одуревшая от сытости кладбищенская земля как будто не хотела больше принимать ее в себя, так что плотная алая жидкость только смешивалась с грязью и блестела, отражая серое бездушное небо.
Офицер высвободил руку и ударил панну Новак по лицу. Девушка упала, зажимая пальцами разбитый нос. Лежавшие в грязи монахини рыдали и молились. Сестра Анна закрыла лицо дрожащими руками. Офицер указал солдатам на Тадеуша и Эву, пробормотал что-то по-немецки.
Эву подхватили за руки и толкнули вперед. С ее ноги слетел ботинок, увязший в грязи. Тадеуша подгоняли ударами прикладов. Медсестра бросила на сестер прощальный взгляд. Сестра София перекрестила ее и поцеловала грязные четки. К офицеру подошел штурмманн, кивнул на монахинь, что-то спросил. Высокий гестаповец ответил, панна Новак уловила немецкие слова «огонь», «показать», «монастырь», «обыск».
Эву и Тадеуша остановили и заставили смотреть. Двое солдат, закинув автоматы за спину, сбегали за канистрой и, наклонившись над монахинями, с тщанием начали поливать их горючим.
Почувствовав запах бензина, Эва будто опомнилась:
– Матерь Божья, да что вы творите?! Они ничего не сделали! Это простые монашки, остановитесь!
От удара и слез перед глазами все расплывалось, и все же она поняла, что ее слова для гестаповцев – пустой звук. Эва схватилась за голову и простонала в небо невразумительное:
– О-о-о… же… мой!
Монахини растерянно озирались по сторонам. Сестра София вскочила было на ноги и попыталась вырваться, но получила удар сапогом, снова свалилась на землю и теперь с немой покорностью глядела на желтую струю, облизывающую ее тело, словно хотела о чем-то спросить эту странную жидкость. Когда бензин попадал им в глаза, монахини отворачивались, прикрывали лица руками. Их губы едва шевелились. До Эвы доносились слова молитвы. Белые платки монахинь от бензина потемнели, сестры отирали рукавами блестящие маслянистые лица, глаза сильно жгло. Анна кашляла: на язык попало горючее, а София сидела неподвижно, не спуская глаз с немцев, и как будто пыталась что-то понять; в ее глазах не было ни ненависти, ни обиды – она просто молча ждала. Солдат с канистрой закрутил крышку и вытянулся в струнку, щелкнув каблуками:
– Bereit, Gerr Hauptsturmfuhrer.
Офицер кивнул, солдат зажег несколько сложенных спичек и бросил в монахинь. Сильнейшее пламя ударило по глазам, раздался оглушительный хриплый вопль. Сестры вскочили на ноги и заметались между могилами. Размахивая руками, ударялись о памятники; сестра София долго и рвано вышагивала по кругу, как-то осыпаясь и постепенно оседая, пока не споткнулась о тело Зоси и не упала, после чего поползла, постепенно замедляя движение. Головной убор слетел на землю, а прибранные волосы за несколько секунд испарились с искрящимся треском, кожа вскипела пузырями и начала лопаться. Вопль перетекал в вой, в рев и оборвался болезненным шепотом и хрипом. София ползала по земле, собирая мокрую грязь, и обмазывала ею лицо, будто пыталась спасти от огня хотя бы красоту, пока наконец не стихла и не обмякла.
Сестра Анна убежала дальше, она часто спотыкалась, но все бежала, казалось, она пытается оторваться от окутавшего ее пламени, спрятаться от него; огонь вцепился в шерстяной хабит, под ним проглянула белая льняная рубашка, растаявшая на глазах так же быстро, как и верхняя часть платья, многослойная одежда сплавилась в один ком и перемешалась с кожей, огонь цеплялся за плоть, запах жженого мяса ударил в нос. Анна упала на памятник, обхватив его руками, и замерла.
После того как монахини затихли, огонь, словно удовлетворившись и насытившись, постепенно рассеялся, погас. Эва упала на колени, рвота подступила к горлу и вырвалась наружу… Девушка потеряла сознание.
Она пришла в чувство, оттого что ей на голову вылили ведро вонючей воды, – тяжелая мутная вода ударила пощечиной. Эва осмотрелась: она лежала на бетонном полу в маленькой душной камере. Сдавленное пространство без окон – каменные плиты, серая гладкость, плешивая лампочка на проводе, деревянный стол, грубая штукатурка стен. Перед ней, закинув ногу на ногу, на табурете восседал тот самый офицер, этакий упырь-аристократ, теперь в серой форме, не в штатском. Гестаповская сбруя детоубийцы и длинные сапоги-копыта делали его еще страшнее. На отутюженном колене фуражка – блестящий козырек, белый череп и кости, – расположенная с почти геометрической точностью. Рядом стоял рослый детина-унтер в белой майке и подтяжках, откормленный и вспухший от щедрых порций мяса со сливками, ошалевший от чужой крови, широкогрудый, как бык: жадные ноздри, обрюзгшая физиономия, выпяченный зад. Из глаз унтера, из их безмозглой бесноватой пустоты светило маниакальное предвкушение, аппетит людоеда.
Взгляд собаки, питавшейся человечиной, отличался от взгляда простого, даже самого агрессивного пса: в этих людоедских зрачках всегда появлялась демоническая прожилка, что-то больное, сдвинутое с рельсов, пущенное под откос своей прирученной изначальности – той самой, что в глубинах верхнего палеолита, в одомашнивании псовых (безмолвный и нерушимый союз с человеком, скрепление двух пород, заключение тысячелетнего братства); эта демоническая прожилка отравляла благородный, вдумчивый, живой и преданный человеку собачий глаз, делала его отвратительным, воспаленным, мертвым, враждебным, похожим на красную расщелину с пустым зрачком зараженного чумой волка; так и глаза этого унтера – из их безмозглой, бесноватой пустоты гвоздило маниакальное предвкушение, какой-то свихнувшийся аппетит. Здоровяк держал в мясницких руках пустое ведро и рассматривал Эву с вниманием дегенерата, вооруженного аутиста, полюбившего вкус крови. Глаза-жаровни обжигали девушку, изучали с садистским примериванием: медсестра почувствовала в нем это потрескивание и скрежет стройной анатомической арифметики, связанной с ее телом; в этих глазах ярилось, трещало березовыми поленьями в печи неподдельное, беззастенчивое и разнузданное зло, ухало в ночи, словно филин.
Унтер с грохотом бросил ведро на пол, оно покатилось к стене, бряцая ручкой по бетонным плитам. Эва поежилась от этого неожиданного металлического дребезжания, затем встала на ноги. Офицер смотрел все тем же издевательским осиным взглядом:
– Фрейлейн Эва, надеюсь, вы осознавать, куда попали…
Шипящая и текучая польская речь в устах, привыкших к стальным слогам немецкого языка, казалась несколько искусственной – Эва не сразу поняла значение сказанного. Она скованно кивнула, затекшие ноги дрогнули. На лицах гауптштурмфюрера и унтера – сладострастное удовлетворение: оба испытывали упоение, разжигаемое страхом загнанной жертвы, смотрели лениво, как сытый кот на обессиленную мышь, играли лапой – вот он, вот запашок бабьего пота, предсмертная истерика, предчувствие пытки… затравленные оглядки по углам, боится, сучка, бойся-бойся, слушай звук наших господских шагов. Твоя слабость – наша сила.
Эва увидела свисающую с потолка веревку, на ее конце болтались кожаные наручники, а рядом – стальной поддон с крюками, напильниками, щипцами и сверлами. У противоположной стены чернела на скорую руку сымпровизированная дыба, излюбленное орудие пыток Средневековья и инквизиторского христианства.
Панна Новак не боялась смерти, с самого раннего детства она чувствовала, что когда-то, еще до своего рождения, уже существовала, отчего в душе неизменно теплилось скрытое накопленное знание, как бы вспоминаемое в процессе жизни; она явственно ощущала, что во время любовного горения, чтения Евангелий или сильного страдания – неважно – в ней расширяется некое новое внефизическое пространство, и оттого не верила в конечность личного существования. Не смерть пугала Эву, она трепетала при мысли, что станет калекой: слишком уж прославилось своими пытками Главное управление гестапо на аллее Шуха.
Ей вспомнился Отто, который всегда с таким волнением изучал линии ее запястий, ног, спины, плеч и так болезненно трепетал, когда она прикасалась к нему, волновался, теплел от ее присутствия, наливался кровью – Новак очень любила чувствовать его внимательный нежный взгляд, его возбуждение; Эва знала, что он любит ее, и очень расстраивалась из-за ребяческих недомолвок Айзенштата, по вине которых она так никогда и не услышит его признания, так и не почувствует на своих губах влажное тепло его губ.
Голос офицера кольнул слух:
– После казни, свидетелем которой вы стали… взывать к ваш здравый смысл… Играть в Жанну д'Арк небезопасно, фрейлейн видеть нас в работа… вы еще так молод и привлекателен…
Гауптштурмфюрер впился глазами в красивое веснушчатое лицо девушки; затаив дыхание, прислушивался, пытаясь понять, полностью созрела его жертва или еще нет, принюхивался, незримо нащупывал своим длинным языком ее пульс.
– Нет ни малейший желание тратить на вас, любительницу этих ничтожеств, свой время.
Офицер поднялся с табурета, подошел к столу, на котором поблескивали орудия пыток, открыл нижний ящик и выложил оттуда лист бумаги с маленьким сточенным карандашом.
– Все члены организации… и координаты спасенных юде… адреса их убежищ, понимаете? Имена и адреса. Только это.
Только это? Забавный. Только это, Господи, какой же он дурак… Это, наверное, такая психология допроса…
Немец достал из кармана серебряный портсигар, сжал в губах сигарету – огонек клацнувшей зажигалки мерцнул в темноте, – затянулся с большим аппетитом и вышел, оставив девушку наедине с унтером. Эва смотрела на карандаш: обрубок грифельной деревяшки лежал на желтом листке бумаги и отбрасывал крохотную тень – плоскую, как от мышиного хвоста. На этом желтом прямоугольнике можно написать любовное письмо или записку в кондитерскую. Или текст молитвы. Можно сделать самолетик или то, что он просит… ТОЛЬКО это и больше ничего. Ничего. Только это.
Вскоре лязгнул засов камеры, офицер закрыл за собой дверь, хромовые сапоги блеснули вулканическим стеклом. Увидев, что медсестра стоит все на том же месте, он перевел взгляд на помощника. Тот отрицательно качнул головой.
Офицер почесал мизинцем холеную бровь и зевнул:
– О, как будет угодно… Paul, ruf unsere Leute an und hol dir eine Flasche Cognac[21].
Унтер ухмыльнулся и вышел в коридор.
Часа через два немцам надоело насиловать Эву. Она уже давно не сопротивлялась, только тихо мычала, а потом и вовсе смолкла, захлебнулась в собственных криках-слезах. Девушка лежала на полу вдавленным в грязь лоскутком. Несмотря на пылающее тело, ей было очень холодно, и не потому, что лежала на бетоне, просто в ней что-то потухло, сбилось, переиначилось и смешалось, как при высокой температуре, когда собственной руке огненный лоб кажется ледяным.
Гауптштурмфюрер подошел и за волосы приподнял ее голову. Посмотрел в упор: по движению влажных ресниц над закрытыми глазами понял, что женщина в сознании.
– Теперь поумнел?
Эва открыла глаза, зрачки невольно расширились, будто она посмотрела в темноту, а затем снова опустила веки. Гауптштурмфюрер ударил кулаком в переносицу – не сильно, чтобы не потеряла сознание, девушка, не издав ни звука, обмякла. Гестаповец закружил по камере:
– Как же мне надоел этот сука… Paul, erhebe diese Arschgeige, lass ihr hängen und brich dann die Arme… Und lass dich nichts entgehen, Kerl… Ich komme ungefähr in dreißig Minuten zurück, denn ich will mich dick fressen[22].
Угодливый унтер связал девушке кисти, поднял неподвижное тело и подвесил канаты за крюк, затем взялся за рычаг и начал опускать его – веревка натянулась, дернула руки Эвы, локти прогнулись в обратную сторону, трясущиеся ноги оторвались от пола, хруст сухожилий – девушку растянуло. У нее вырвался вопль, какой-то иссушенный, остаточный, хриплый…
Пауль с интересом взирал на неправдоподобно заломанные конечности – изучающе, внимательно, так, словно собирался сделать чертеж истязаемой жертвы. Вспоминал свои первые пытки: когда только попал в гестапо, было в диковинку видеть, как много может вытерпеть человеческое тело и характер, поэтому с большим интересом преодолевал законы этой анатомической физики, испытывая тела врагов Третьего рейха на прочность; нащупывал слабые места, наваливался на них своим растущим опытом и раскачивающимся остервенением, старался подмять как можно быстрее, засекал время, ставил собственные рекорды, а иногда просто смаковал сам процесс или щеголял мастерством – когда перед капитаном, а когда перед самим собой. Подавляющее большинство ломалось сразу, при одном только виде инструментов для экзекуций – их он воспринимал как издержки службы, рутину, которую ковырял ленивым пальцем, чаще всего без особенного энтузиазма. Все выжидал, когда наконец попадется сильный соперник, настоящее препятствие, которое могло бы стать испытанием его профессиональной многоопытности. Побежденным Пауль оказывался редко – за все время службы набралось около десяти случаев, когда поляки или евреи одерживали верх и не выдавали требуемой информации. Чаще всего старались прибегать к хитрости: пытались вести по ложному следу, наговаривали на пустоту – на несуществующих людей, кто-то изощренно и тщательно, продуманно (у них получалось иногда выиграть время), другие делали это наивным рывком и слишком очевидной ложью (от такой лжи пытка еще больше раздухарялась). Самыми редкими типажами являлись те, кто отмалчивался либо держал себя с вызовом, щелкая по лицу палачей крепкими словами, разговаривая сверху вниз, несмотря на избитую физиономию и лужу крови под своими ногами. Таких было трое. Последний попался месяц назад, парень из Гвардии Людовой, который, даже превратившись в калеку, в какое-то шамкающее, шелестящее и бесформенное убожество, уже впадая в беспамятство, почти в сумасшествие, все-таки не захотел назвать нужные фамилии, все только поскрипывал каким-то жутким, злорадным и умирающим смешком, храбрился, говорил, что ему только щекотно, – все эти истязания длились до тех пор, пока у поляка не остановилось сердце, которое не выдержало слишком длительного напряжения и болевого шока.
Наметанный глаз Пауля быстро определял, как далеко тот или иной тип сможет зайти, насколько много способен вынести. Когда унтер шел по Варшаве, то перебирал каждого встречного, высчитывая его мерку. Вот этого модника-полячишку в коверкотовом пальто сразу видно, какая-то торговая шишка, наверное, фольксдойче, уж больно держит себя независимо… да будь моя воля, только прижму ведь к стенке, затрясется, хныкать начнет сразу… мать родную, наверное, сдаст, лишь бы откупиться… а вот этот напыщенный постовой, наш парнишка баварский, лет восемнадцать… хотя нет, судя по морде, из Австрии все-таки – терпеть не могу этих венских сук – ба-а, да только посмотрите на него, ну хоть монумент отливай, вот пристегнуть его наручниками сейчас, снять штаны да схватить щипцами за яйца… запоет, ну так засюсюкает – сапоги мои за радость почтет облизать… весь лоск слетит моментально. Унтер-офицер примерялся к людям и по памяти, перебирая в голове своих знакомых из родной деревушки в Швабии, неподалеку от Аугсбурга, он знал, никто из них не сумел бы выдержать его натиска: ни школьные учителя-зануды с их беспрестанными рассуждениями о морали, ни ханжа пастор с лицом онаниста в этой своей неизменно потной сутане, ни хмурый доктор в пенсне, ни пивовар Хельмут – бровастый крепыш-толстяк с разлапистыми ладонями, больше похожими на руки кузнеца; ни вечный заводила одноклассник Густав с непоколебимой репутацией отчаянной головы, который уже с детства отличался от остальных каким-то отпетым зубоскальством и неуемным гонором – то сиганет с мельницы в крохотный стог сена, то закинет дохлую кошку в окно поместья барона, то стрельнет из рогатки по лошади жандарма, так что та, ошалевшая, понесет и скинет полицейского – Пауль так и видел то, как бы молил у него о пощаде этот красноносый вихрастый Густав-бездельник, который служил сейчас где-то в тылу ефрейтером-обслугой на каком-то аэродроме и только знай себе заливал глотку шнапсом да окучивал местных девок. Гориллоподобный унтер не любил улыбчивого и стройного симпатягу Густава с самого раннего детства, так как не мог ему простить этой прочной популярности в любом возрасте и в любом коллективе, куда бы последний не попадал; на фоне любимчика девушек и парней Ганса неповоротливый Пауль со своей сплющенной ряхой и свиными глазками чувствовал себя особенно ущербным, поэтому многое отдал бы сейчас за то, чтобы к нему в камеру привезли этого провинившегося в чем-нибудь перед Берлином выскочку.
Больше всего Паулю нравилось пытать женщин: во-первых, это его просто возбуждало своей вседозволенностью в отношении тела арестованных, во-вторых, женщины, как это ни странно, лучше переносили физическую боль, в связи с чем унтеру было с ними элементарно интереснее, чисто с профессиональной точки зрения. По крайней мере, так считал сам Пауль, в действительности же (и он никогда бы себе в этом не признался), все дело было в Гертруде – дородной и широкозадой девке, работнице с их местной пивоварни в Швабии. Будучи достаточно страшненькой, похожей больше на лошадь, чем на девушку, она все же немыслимо распаляла Пауля своим обильным телом, и, когда в шестнадцать лет, еще задолго до войны, будучи девственником, Пауль завалил ее августовским вечером у штакетника, заставленного дровами, возле сарая в саду, когда он наполовину раздел ее и снял с себя штаны, Гертруда так громко захохотала, что парня просто оглушило, не то от громкости этого презрительного смеха, не то от стыда. Пауль давно уже, лет с десяти, стал замечать в школьных раздевалках или летом во время купаний эту свою ущербность. Особенно неловко становилось от того, что по телосложению Пауль всегда считался самым крупным не только среди сверстников, но и среди старших – его высокая, широкоплечая, крепко сбитая фигура и увесистый подбородок бросались в глаза; когда в 1917 году мальчишки всей своей ватагой десятилетних молокососов возвращались после уроков домой, со стороны казалось, что к ним прибился какой-то переодетый в школьника дезертир с Западного фронта, поэтому за глаза его постоянно звали балясиной или австралопитеком. Летом после беготни, в жару, этот детина-переросток, вечно неопрятный и какой-то нелепый, долго мучился на солнцепеке, ютился в тени деревьев на берегу речушки, в то время, пока другие парни спокойно купались нагишом, звали к себе, а Пауль все отмахивался рукой, отнекивался, потел, говорил, что не хочет, а потом не выдерживал и украдкой скидывал мешковидную одежу, пока на него не смотрят, и быстро вбегал в воду, но одноклассники уже давно все углядели и поняли, так что постоянно усмехались, ехидно переглядывались друг с другом, а при первом же конфликте или в драке, когда Пауль подавлял всех своей мускульной массой, раскрасневшиеся и обиженные на него мальчишки бросали ему издалека: «балясина-обрубок», – а потом быстро убегали, так что тяжеловесный переросток не мог их догнать. Наверное, будь Пауль внешне таким же, как все, не выделяйся он среди сверстников своей брутальной бугристостью и внушительной бычьей холкой, никто бы и не обратил внимание на этот его скромный размер, пожалуй, что просто проигнорировали бы, а так, на контрасте, из зависти к его физической силе и к тому, что даже сорокалетние фрау иногда поглядывают на широкую спину Пауля-подростка, дорисовывая в своем женском воображении то, чего в действительности не было и в помине, – нет, при таком раскладе ни о каком безразличии и тем более деликатном отношении к нему не могло быть и речи. Вот и Гертруда, которая сразу положила взгляд на широкогрудого бычка-парня, несмотря на его неуклюжесть, когда дошло дело и они прилегли в траву за штакетником, не смогла сдержаться при виде этого безобидного зрелища и ополоснула Пауля своим издевающимся хохотом с примесью чувства гадливого превосходства. Само собой, что тогда за дровами у него ничего не получилось, да и не могло получиться, – пунцовый и притушенный плевком, как окурок, тяжеловесный парень вернулся домой и закрылся в комнате, где проплакал всю ночь. Девственности он лишился потом, через два года, в одном борделе Мюнхена. Попросил выключить свет.
Пауль был глубоко убежден: все люди дрянь и редкостные шкуры. Недаром допрашиваемые почти всегда так красноречиво и с достоинством, даже свысока, начинали отвечать на вопросы, а затем в течение нескольких часов оборачивались в пресмыкающееся, окровавленное отребье, готовое исполнить любую прихоть гестапо. Унтер смотрел на человеческий вид с гадливым презрением, он слишком уверился, что принципы и все эти нравственные бредни – один только маскарад, попытка пустить пыль в глаза. Тот факт, что Эва до сих пор не выдала фамилии и адреса спасенных евреев, не смущал его, поскольку настоящая пытка еще не началась. К тому же Пауль нащупал в психологии многих женщин скрытое тяготение к изнасилованию – такие больше всего кричали, пытаясь сопротивляться, но во время изнасилования унтер чувствовал в жертве нарастающее возбуждение, доходившее до оргазма. То же самое могло быть и с Эвой.
Однако руки уже были сломаны, а медсестра все молчала, только хрипела и пускала слюни; тогда Пауль взял газовую горелку и начал жечь босые ступни. Камера вздрогнула от грудного, вымученного крика. Унтер затолкал в рот жертвы кляп и продолжил палить огнем трясущиеся ступни, жарил, как картофель, стараясь держать горелку подальше, чтобы ноги не успевали обуглиться.
Входная дверь скрипнула, и в камеру вернулся гауптштурмфюрер, спросил что-то у помощника. Пауль выключил горелку и вытащил изо рта медсестры кляп. Голос гестаповца раздался над самым ухом – он все твердил одни и те же вопросы. Эва только хрипела и часто дышала. Истязали до самого вечера – с особым усердием, точно малевали на холсте, били плетью, хотели вывернуть щипцами клитор, но потом передумали, плюнули, бросили в грузовик и отвезли в женскую тюрьму «Сербия», где медсестра должна была ждать расстрела.
22 июля 1942 года численность солдат, несущих службу вдоль стен гетто, значительно увеличилась; усиление нарядов предвещало недоброе. В десять часов утра в юденрате пропала телефонная связь, а несколькими минутами позже в кабинете Чернякова появился штурмбанфюрер Хефле с незнакомым Адаму офицером. Хефле опустился на стул, размашисто закинул ноги в высоких кавалерийских сапогах на деревянную столешницу и, разминая пальцами сигарету, объявил о переселении евреев на Восток: минимальная норма отправки – шесть тысяч человек ежедневно, первый эшелон сегодня в 16:00. В гетто было приказано оставить только членов семей сотрудников юденрата и рабочих, способных послужить промышленности Третьего рейха, – всего около пятидесяти тысяч человек. Вбив Чернякову в голову последнее число, штурмбанфюрер ловко пригубил размятую сигарету и с аппетитом прикурил от тоненького пламени зажигалки. Перед глазами онемевшего главы юденрата как в тумане плавали холеные руки с розовыми ногтями, равнодушное лицо и серебряный блеск кольца «Мертвая голова» с рунами SS и черепом. Зажигалка клацнула, захлопнулась и легла в карман; сухие губы пошевелили сигарету, сдвинули ее к уголку рта. Из-под фуражки на Чернякова посмотрели непроницаемые, какие-то стерилизованные глаза. Глава юденрата попросил не включать в списки на отправку детей из приютов, но Хефле даже не дослушал просьбу, грубо перебил и повторил приказ, пригрозив расстрелять жену Чернякова, если депортация будет сорвана. Все это время второй офицер молча шарился по ящикам Адама, как обнаглевший карманник, заглядывал в бумаги, шелестел, брезгливо щурился.
Приказ был донесен до жителей квартала. Немецкая пропаганда присовокупила к этой новости сообщение о том, что всем добровольно прибывшим на Умшлагплац, площадь перед старым зданием бывшей школы, где следовало ждать отправки поездов, будут выданы три килограмма хлеба и мармелад. Однако поверили немцам далеко не все. За дело взялась еврейская полиция, две сотни украинцев, эстонцев, латышей и литовцев под руководством нескольких десятков эсэсовцев – началась травля. Квартиры вытряхивали и свежевали – семьи бойко сыпались из них на асфальт, а прислужники немцев топали следом, гнали дубинками, рявкали, скрипели зубами, горланили хриплыми голосами. Штыки и приклады проламывали фанерные стенки и доски паркета – солдаты искали спрятавшихся в тайниках евреев, хватали за грудки и бороды, подгоняли ударами промеж лопаток. Улица затрепетала, заклубилась, жители сшибали друг друга с ног, пытались вырваться из цепких клешней, причитали, молились и бились в истерике. Изрезанные подушки плевались лохматыми перьями, раздавались хлопки выстрелов, звон битого стекла, плач детей.
Умшлагплац наполнялся. Люди сидели на пыльных чемоданах, нервно озирались и жались к родным. Над головами мелькали круглые фуражки с синим околышем – еврейская полиция с дубинками стояла в оцеплении, стараясь упорядочить взволнованную толпу. Запах испражнений, скомканная под ногами одежда, клубы пыли – беспросветные и плотные, как содранная с земли шкура, скальпом стянутая со своего основания и задранная кверху людскими головами.
Эсэсовцы установили на площади пулемет, евреи оглядывались на вороненый ствол и патронную ленту станкового MG 34, вжимая головы в плечи. Вот раздался гудок паровоза, через несколько секунд появился густой дымок, царапающий облака, а там выглянул и сам поезд: вагоны медленно тянулись по рельсам, точно ненасытная змея; раздался редеющий стук колес – тормоза взвизгнули, – лязг буферов; зачернели открытые пасти вагонов для скота, похожие на распахнутые гробы, от скотовозок воняло известью и хлоркой; поезд угрожающе коптил, пускал пар, тянул за струны железнодорожную ржавую скрипку – похоронная мелодия тяжелых составов. Раздался приказ встать и отправиться в вагоны, чемоданы подписать и оставить: они поедут следом в другом составе. Многие не хотели расставаться с вещами, продолжали тащить свою ношу – таких «воспитывали» прикладами. Самые осторожные евреи перекладывали в наволочку наиболее ценное, но большинство просто накрывали громоздкий багаж верхней одеждой, чтобы не привлекать внимание.
Семьи трамбовали в состав, заталкивали детей в каждую щель, присыпали ими, как песком: если места не оставалось, закидывали младенцев в вагоны поверх голов, как маленькие авоськи или хлебные сайки. Двери захлопывались, щелкали засовы, а потом составы один за другим с резким толчком отчаливали, облизывая промасленными колесами матовые рельсы, и начинали торопиться. Проглоченные поездами люди исчезали за горизонтом, растворялись в черном дыме паровозов, траурной фатой тянувшемся за вагонами. Площадь стихала. Рабочие собирали урожай из неподвижных чемоданов, несли имущество на склады, где все тщательно сортировалось: женская одежда, мужская, очки, белье, обувь, украшения, расчески, столовые приборы, радиоприемники, бритвы. Беспечные лица обнимающихся на фотографиях людей лапали равнодушные пальцы, семейные снимки сваливали в кучу и сжигали – утилизированные воспоминания утилизированных людей.
На следующий день штурмбанфюрер Хефле потребовал от Чернякова повышения ежедневной нормы отправления до семи тысяч человек. После визита нацистов глава юденрата отравился. Вместо него был назначен Марек Лихтенбойм…
В начале августа отряд эсэсовцев ворвался в Дом сирот доктора Гольдшмита. Овчарка брызгала слюной, хищно раскрывала черно-розовую пасть; солдаты сыпались по лестнице, как картечь. Доктор с трудом объяснил офицеру, что собака и конвой совершенно излишни, и попросил пятнадцать минут на сборы. Януш объявил детям, что они отправляются в дальнее путешествие. Ровно через пятнадцать минут он, пани Стелла и еще два воспитателя, Саломея Бронятовская и пан Штернфельд, вышли из приюта на улицу с двумя сотнями детей. Малышей разбили в отряды по пятьдесят человек, первый повел за собой Гольдшмит – дети шагали стройной колонной в четыре ряда, самый высокий мальчик поднимал над собой знамя со звездой Давида на одной стороне и листком клевера на другой.
Сначала прошли мимо детской больницы на улице Слиска, где Януш в молодости работал врачом, потом колонна повернула на улицу Паньска, Тварда, вышли к церкви Всех Святых на площади Гржибовской; тут встретились с детьми из других приютов – многоголовые потоки слились в один и медленно двинулись дальше. Колонна перешла по мосту, миновав разбитую колбасную лавку на Кармеличке, после по Дзельной улице, пока не добралась до поднятого шлагбаума с круглым знаком HALT! и не пересекла границу площади, оказавшись на Умшлагплац. Давка становилась все нестерпимее, и несколько раз немецкий солдат усмирял поток людей автоматной очередью поверх голов, горячие гильзы щелкали по щекам, глаза застилал пороховой дым, – дети зажмурились и теснее прижались друг к другу.
Солнце жгло голову, капли пота стекали по всему телу, песок и пыль лезли в глаза; Януш плохо спал эту ночь, будто чувствовал, что сегодня за ними придут; он вспоминал прожитую жизнь, пытаясь понять, доволен ли ей: нет, в минувшем нет ничего такого, что хотелось бы изменить, – Гольдшмит прожил яркую, счастливую жизнь и чувствовал необыкновенную легкость. Доктор часто думал о словах Достоевского, что «без детей нельзя было бы так любить человечество», – он действительно постоянно наталкивался в детях на какое-то особое пространство, как мост связующее реальность с другим незримым миром – миром лучшим, более чистым и цветным, утраченным взрослыми людьми, – людьми, скованными политическими и конфессиональными ярлыками, заклейменными опытом своих профессий и мировоззрением своих традиций, отравленными желчью жизненного опыта.
Шагая по песку Умшлашлаца, заполненного тысячами евреев, почтительно пропускающих колонну детей, Януш смотрел в сторону поезда. Погрузка людей шла вовсю. Два вагона из пятидесяти выделили для их приюта – стройная колонна подошла к краю перрона, дети начали подниматься по деревянному мостику, растворяясь в темноте. Малыши с пани Стеллой и другими воспитателями догнали колонну доктора. Стоявший у раскрытых дверей Януш поймал пристальный, влажный взгляд Стеллы; поглядев друг на друга, оба неожиданно для себя самих весело улыбнулись. Бледное, растерянное лицо женщины просветлело от этой странной порывистой улыбки, такой неуместной среди царившего вокруг безумия.
Доктор знал, что Стелла любила его и надеялась на замужество, он и сам любил ее, но из-за детей не мог позволить себе в отношениях с ней больше того, что было. Однако теперь Стелла все-таки улыбалась, она заглянула в себя и поняла, что заблуждалась, терзаясь отсутствием супружеской слитости с доктором, потому что в действительности ее мечта давно сбылась. Да, она не стала его женой, но всегда находилась рядом, они столько выстрадали вместе, сумели сберечь детей, ни один не умер от голода или тифа. Теперь она наконец осознала свое счастье, здесь, на Умшлагплац, среди солдат и полицейских, она поняла, что большую часть жизни провела среди любимых людей, с которыми не расстанется до самой последней минуты. Чего же мне еще надо? Ведь это так много… Стелла нашла вспотевшую руку доктора и крепко сжала.
Посадка заканчивалась. Все двести воспитанников разместились по вагонам. Украинец подтолкнул сапогом замешкавшуюся Еву, семилетнюю кроху с белобрысой тряпичной куклой под мышкой, – девочка спотыкалась, мелькая среди многочисленных ног своими запачканными белыми гольфиками и выцветшим платьицем.
– Ворушiться, жаба![23] – Украинец захлопнул дверь.
Ева сильно ослабела в последние несколько месяцев, худые ножки торчали из-под шелкового платья хрупкой и костлявой твердью; прижимая розовощекую куклу с красными пуговицами вместо глаз, девочка заплакала. Стелла обняла малышку, привлекла к себе и начала успокаивать.
Дверь закупорили, стало очень душно – сдавленные дети потели и озирались по сторонам. Грязное помещение с колючей проволокой, облепившей узкие окна своей клыкастой паутиной, пугало их. Сироты всполошились, глаза искали во мраке блестящие очки доктора.
Гольдшмит обнимал воспитанников, а его ласковый тихий баритон разносился по вагону; этот голос уверенно преодолевал шум, который доносился с платформы и укрывал собой, словно любящая ладонь:
– Тише, тише, мои родные… Придется немного потерпеть… надеюсь, путешествие не будет долгим… Не вешать нос, матросы, никто не говорил, что нас ждет комфортное плавание… Трудности закаляют.
Услышав мирный голос улыбающегося доктора, дети успокоились, но страх все равно не оставлял их полностью, они чувствовали: происходит нечто из ряда вон выходящее, чрезмерное, небывалое. Иссеченный морщинами лоб Гольдшмита заблестел. Посеревшим от грязи платком Януш провел по складкам кожи. За вагонной дверью раздался свисток кого-то из офицеров, паровоз откликнулся гудком и с железным дребезжанием рванулся с места. Дети покачнулись и вздрогнули, несколько девочек вскрикнули и еще крепче уцепились друг за дружку.
Поезд набирал скорость, а Януш смотрел на детские лица, высвечиваемые в темном вагоне солнечными лучами, изрезанными колючей проволокой: насупившиеся малыши смотрели на него совсем взрослыми, уже много повидавшими глазами. Фелуния с непослушными кудрявыми волосами, измазанными козявками, прикусила губу, она прижимала к груди желтую коробку с хомяком, которую взяла, несмотря на все уговоры воспитателей; обычно ее карие глаза, неспособные сфокусироваться ни на одном предмете, беспокойные, как сорванный осенний лист, были мечтательно-рассеянны и неизменно выражали удивление, но сейчас непривычно потяжелели, стали тревожно-внимательными, в них появилась нехарактерная настороженность, даже пришибленность. Гольдшмит внимательно смотрел на нее, пытаясь понять, догадывается ли Фелуния о том, куда они едут, или просто испугана необычностью происходящего?
Личико девочки нельзя было назвать симпатичным, но в глазах теплилось что-то особенное, какая-то непорочная тихая радость, способная своим выпуклым, выставленным в черты бескорыстием счищать грязь со смотревших на это лицо людей.
Нет, Фелуния ничего не знает, ей просто страшно… Пусть не знают, пусть до последнего момента ничего не знают, необходимо продлить их счастливое существование, не задушенное ужасом… до последней минуты сберечьэто детское сознание, жадное ко всему новому и прекрасному.
Доктор перевел взгляд на модницу Ами, которая в пятнадцать минут, данных немцами на сборы, успела аккуратно уложить волосы, закрепить их красной лентой и надеть свое самое лучшее ситцевое платьишко с ромашками; Ами отчитывала Альбертика, наступившего ей на розовый башмачок, и грозила ему пальчиком, а Альбертик, мальчик в коричневой клетчатой кепке, смотрел на нее так, будто пытался разгадать некую тайну стоявшей перед ним девочки. Ами знала, что Альбертик неслучайно наступил на ее башмачок, да и доктор видел, что девочка просто напускает на себя строгость, но в действительности совсем не злится на неловкого ухажера в синих шортах и стареньких ботинках с развязавшимися шнурками. Смущающийся Альбертик занимал сейчас все мысли девочки, и это не могло не утешать Гольдшмита.
Хелла с двумя маленькими сиреневыми бантиками на заплетенных косичках прижалась смуглым личиком к подруге Аде и показывала свой альбом: больше всего на свете она любила пейзажи – девочка болезненно остро воспринимала красоту окружающего мира, но в связи с тем, что последние годы была вынуждена жить в сером, грязном, завшивевшем гетто, зачастую не имея возможности увидеть даже деревца, оголодавшая по красоте Хелла переключилась на открытки и разные картинки, пытаясь через них хоть как-то утолить свой голод. Зная о ее интересе, доктор старался приносить в приют как можно больше фотокарточек, журналов, альбомов и даже репродукций, каждую из которых Хелла с жадностью изучала и впитывала – поглаживала каждое изображение сосредоточенными глазками с длинными изогнутыми ресницами.
Иногда доктору казалось, что девочка просто питается красками, вместе с тем она любила рисовать мелками или карандашами, ей нравилось схватывать увиденное и закреплять на бумаге – так в ее личном альбоме оказалось множество портретных зарисовок, сделанных во время уроков с лиц других воспитанников, а вечерами она предпочитала рисовать по памяти цветы или животных, которых часто видела до оккупации. Когда Хелла рисовала, то раскачивала ногами и выставляла изо рта язычок или прикусывала губу. Сколько бы воспитатели ни следили за опрятностью девочки, ее пальцы, локти и платье были неизменно измазаны чернилами или чем-то цветным.
Подруга Хеллы Ада внимательно рассматривала рисунки и вклеенные в альбом открытки, хрустела страницами и потирала переносицу указательным пальцем. Сама она не смогла бы нарисовать ровно даже круга, ей лучше давалась каллиграфия, но при этом никак не хватало терпения в чистописании, силы воли доставало только на несколько строк, после которых Ада уставала скрупулезно выводить стройные буквы и начинала их коверкать, зачеркивать, поправлять, ей все казалось, что они недостаточно хороши; девочка стремилась к тому, чтобы каждая буква была безупречной, но получалось совсем обратное, страницы школьных тетрадей зарастали такой грязью, что становились тяжелыми от чернил. Радовали только первые страницы, поэтому она постоянно заводила новые тетради, в очередной раз начиная писать чисто и аккуратно – настолько безукоризненно, что первые строки можно было считать настоящими эталонами каллиграфии, но после первой страницы терпение заканчивалось и помарки снова обрушивались на строчки, совершенно захламляя их. Девочка раздражалась из-за этого и все навязчивее начинала преследовать буквы, коверкая их, а потому непременно отвлекалась от урока и теряла мысль – желание выводить буквы увлекало ее настолько, что Ада просто переставала сосредотачиваться на происходящем вокруг. Собственные грязные тетради очень расстраивали эстетическое чувство девочки, именно поэтому она так любила смотреть альбом Хеллы, в котором все было подогнано одно к одному, красиво подписано, выделено, симметрично распределено, а каждая заглавная буква пестрела какой-нибудь завитушкой. Еще Ада очень мучилась от того, что смуглое лицо Хеллы было таким правильным, кожа гладкой и чистой, тогда как у Ады все щеки и лоб покрывало множество крупных родинок, – несмотря на то что она завидовала подруге, девочка очень любила ее и старалась равняться во всем, в чем это только было возможно.
Рядом с Янушем стоял Иржик. Этот молчаливый парнишка с задумчивыми глазами и треугольными ямочками на щеках еще до оккупации слонялся по улицам Варшавы, ночевал на чердаках и воровал на рынках, пока его не пристроил к себе доктор: отбил у жандарма, теребившего пойманного воришку за ухо, и привел в приют. Диковатый, грязный, драчливый мальчуган без двух передних зубов и с надрезанным ухом походил на озлобленную дворнягу, он разве что не лаял, но доктора привлекли его беспокойные глаза с ощущаемой в них работой мысли. Уклад новой жизни смягчил Иржика: больше не нужно было выживать, вырывая из чужих рук кусок хлеба. Ненависть к окружающему миру, которая не покидала мальчика с тех пор, как пьяницы-родители отказались от него и он попал на улицу, постепенно сошла на нет, он перестал видеть во всех людях врагов.
Познав чувство любви и благодарности, мальчик сопоставлял новую жизнь с минувшей и был счастлив, однако, чем счастливее он становился, тем сильнее в нем нарастал страх. Иржик боялся, что все это – некий недосмотр судьбы, временное недоразумение, и скоро все встанет на свои места. Чувство голода в приюте, хоть и дававшее о себе знать, несмотря на хлопоты Гольдшмита, все же казалось Иржику пустячным, несравнимым с тем отчаянным, режущим голодом, с каким он раньше боролся в одиночку; новые лишения виделись почти незначительными, любые, даже самые пугающие события он воспринимал теперь, будто из крепости, в которой жил вместе со своей большой семьей. Крепость давала чувство защищенности и наполненности, но через забор приюта к Иржику тянул свои черные руки иной, чуждый мир, пугающий его вопреки всему; мальчик сознавал, что раньше ошибался, жил не так, как подобает, потому что был маленьким и глупым, но его совершенно обескураживал тот факт, что тысячи, миллионы взрослых, сильных и умных людей, осознанно живут пугающей, жестокой жизнью, убивают и заставляют голодать других по своим надуманным политическим причинам. Это не укладывалось в голове, казалось ему абсурдным.
Сейчас, несмотря на то что доктор сказал, будто приют едет на загородную прогулку, Иржик не сомневался: это не так. Царившая на площади паника, вооруженные солдаты доказывали обратное. Оказавшись в темном душном вагоне, мальчик посмотрел в блестящие круглые очки доктора; тот сначала улыбнулся, но проницательный взгляд смутил его, и улыбка исчезла: Януш понял, что Иржик обо всем догадался, а мальчик увидел по необычной реакции и растерянности доктора, что действительно не ошибся в своем предчувствии. Тогда Иржик широко улыбнулся в ответ, всем видом показывая, что все это не так уж и страшно, и губы доктора дрогнули в ответной улыбке.
Неподалеку от них стоял Менделек, высокий, с широким лбом, большими серыми глазами и темно-русыми волосами. Это он нес флаг, когда колонны приюта шли на Умшлашлац, он и сейчас держал его, прижимая к щеке обернутый знаменем флагшток. Арийская внешность не раз выручала его в минуты вылазок из гетто; втайне от доктора он перебирался через стену, чтобы вернуться с продуктами и навестить Анку, дочку учительницы музыки пани Оливии. Эта улыбчивая женщина до переселения детей в гетто преподавала в приюте на Крохмальной.
Анка и Менделек влюбились друг в друга с первого взгляда: мать взяла с собой дочку, когда пришла устраиваться на работу. Голубоглазая девочка с длинными белыми волосами потрясла Менделека. Пока доктор разговаривал с Оливией, подростки впервые пересеклись обожженными взглядами, быстро отвели глаза и стали смотреть строго, даже с вызовом. Потом как-то вдруг и сразу нараспашку улыбнулись и шагнули друг к другу, взялись за руки и побежали по коридору. Менделек крикнул на ходу, что покажет девочке территорию. Мать Анки и доктор только удивленно проводили парочку глазами. Женщина встревожилась, но Гольдшмит успокоил ее, сказав, что дочь в надежных руках. Парочка заглядывала в классы, бродила по внутреннему дворику приюта среди деревьев и клумб. С тех пор подростки виделись по выходным, их непреодолимо влекло взаимное притяжение, они копили свои переживания и наблюдения, чтобы во время встреч обрушить друг на друга – впечатления, не разделенные с любимым человеком, просто не имели для них смысла. После переселения встречи стали редкими и кратковременными. Менделек забегал к Анке на несколько минут, иногда они молча рассматривали друг друга, иногда захлебывались от избытка слов и не успевали рассказать всего, что считали важным, потому что тени солдат и близость комендантского часа заставляли Менделека торопиться в свой застенок.
Как-то летом, еще до оккупации, всех детей приюта вывезли в пригород Люблина, и Анка поехала вместе с матерью. Когда дети увидели огромное поле подсолнечников, то закричали от восторга: простор, ослепительно-желтые язычки лепестков, зеленая гуща и особый, горьковатый запах взбудоражили всех. Менделек и Анка сразу же оторвались от остальных ребят и бегали по полю вдвоем, а потом, несмотря на запреты воспитателей, грызли несозревшие еще семена, лежали на поваленных колючих стеблях, царапающих руки и лица. От сырых семечек закрутило животы. Мошки лезли в лицо, одна из них попала Анке под веко и Менделек, чтобы не лезть в глаза грязными руками, достал насекомое языком, а когда девочка села и удивленно посмотрела на него часто моргающими глазами, сам растерялся от своей дерзости и смутился, но потом Анка засмеялась так звонко и беззаботно, что зараженный смехом мальчик повалился на спину, задрал ноги к небу, проглядывающему сквозь желто-зеленые заросли, и тоже захохотал.
Этой осенью Менделек будто случайно поцеловал пальцы Анки. Девочка, улыбаясь, поправляла его воротник, стряхивая хлебные крошки, но, почувствовав прикосновение губ, стала очень серьезной и спрятала глаза. Менделек решил, будто сделал что-то не так и отпрянул, начал болтать о пустяках, чтобы сгладить неловкость. Девочка отвечала пространно и невпопад. Теперь Менделек сжимал кулаки, досадуя, что оробел тогда и они с Анкой так ни разу и не поцеловались, а она наверняка ждала этого; пшеничные локоны и опущенные ресницы стояли сейчас перед его глазами. Сегодня они не успели даже попрощаться, это мучило Менделека. Оставалась только надежда, что после окончания войны он вернется из трудового лагеря, а уж тогда они непременно найдут друг друга и обязательно поцелуются – теперь он чувствовал в себе уверенность, необходимую для того, чтобы ласковым нахрапом притянуть, прижать и больше никогда не отпускать.
Рядом с Менделеком шмыгал носом Адек, его продуло на сквозняке. Уши мальчика, оттопыренные от голода костлявые коленки и выпирающие сквозь холстяную рубаху лопатки – каждое напоминание об истощении больно кололо доктора, Адек же похудел особенно сильно. До гетто он рос в деревне. Обильный крестьянский рацион, основанный на богатом домашнем хозяйстве и здоровом аппетите, усиленном работой на свежем воздухе, в приюте сменился на скудные низкокалорийные пайки, так что упитанный Адек терял вес быстрее других детей. Мальчик был сыном состоятельного землевладельца. Отец мечтал когда-нибудь перебраться в Эрец-Исраэль в один из организованных там кибуцев[24].
Адек вспоминал сейчас свой дом среди яблонь: большой, одноэтажный, с несколькими пристройками. Назар, его отец, тучный человек с длинными усами и вечно закатанными штанинами, любил косить траву в окрестностях дома; коса со свистом срезала зеленые волоски, стелющиеся под ногами. Созревшие, отяжелевшие яблоки срывались с ветвей и с гулким стуком ударялись в мягкую теплую землю. В конюшне волновался гнедой жеребенок, сгорал в собственной молодости, от избытка энергии он лягал доски и бросался на ворота, пытаясь проломить стену. По листьям ползла жирная гусеница, похожая на длинную гармонь, а под деревом среди гниющих, не собранных плодов извивался скользкий уж, сверкал на солнце длинной нитью. Адек любил запах конюшни и старого сарая с инструментом, развешанным на стене, любил теплое сено, навоз, кубышки дров у стены, аромат маминой стряпни и свежескошенной отцом травы, аппетитный душок гнилых и почернелых на солнце яблок – все это стало запахом его малой родины, к которому потом со временем присоединился запах из пасти Мелампо – лохматой сторожевой овчарки, которая умудрилась обласкать всех незнакомцев округи и умела лаять на одно только собственное отражение в реке или бочке для полива, откуда часто пила. Не справившись со своей должностью самым вопиющим образом, Мелампо все-таки стал полноправным членом семьи Назара: все привязались к добродушному псу, может быть, еще больше, именно вследствие этой его невинной бестолковости – если бы Мелампо был ответственный сторож, его бы, пожалуй, не ласкали так часто.
В жаркую погоду Мелампо широко раскрывал пасть и обмазывал своей клейкой слюной все тенистые уголки двора и сада. Он презирал построенную для него конуру и предпочитал крышу сарая, куда взбирался после заката, когда она немного остынет, – этот пост был единственным местом, откуда пес мог из ночного страха тявкнуть на незнакомые шорохи или слишком близко подошедших к калитке людей, днем же он был рад абсолютно всем, размахивал хвостом и ласково поблескивал черными глазами.
С семи лет Адек наблюдал за трудом работников отца или просто слонялся по деревне, подавался к пастухам с их коровами и овцами в пологой долине у реки, следил за раскаленными лезвиями под молотом кузнеца, заглядывал в колодец, сложенный из острых, неотесанных камней и просто вдыхал влажный воздух. Иногда он дразнил отцовскую кухарку, толстую пану с волосатыми ногами, месившую тесто большими руками, белыми по локоть. Он внимательно рассматривал работников, которые с раннего утра натачивали косы или подковывали жилистых лошадей с толкающимся облаком мух под длинным, стегающим насекомых хвостом; подсматривал за прачкой, развешивающей белье, слушал ее звонкую, печальную песню; за мускулистыми руками доярки на длинных розовых сосках, выстреливающих в металлические стенки ведра тонкими резвыми струйками молока, – корова стояла с привязанным к ноге хвостом и косилась на любопытного мальчика меланхоличным взглядом.
Адек всегда вставал очень рано, одновременно с нанятыми работниками, за что отец частенько подшучивал над ним. Мальчику нравилось на цыпочках пробираться в комнату матери, смотреть на ее красивое смуглое лицо и длинные черные волосы, разбросанные по подушке; большие напольные деревянные часы с бронзовым маятником и острыми, как пики, стрелками, стучали по ушам, в комнате пахло духами, чистыми накрахмаленными простынями, свечным воском и ковром, мягко ласкающим босые ноги плотными волокнами. Материнское лицо блестело от капелек пота; когда она спала, всегда закидывала руку поверх головы, открывая подмышку с большой круглой родинкой, выглядывающей сквозь темные волоски, а ее кадык размеренно двигался, оттягивая кожу маленьким комочком. Кружевные занавески, наполненные утренним солнцем, ослепительно сверкали и разбрасывали по комнате хрустальные отсветы. Накрытый белой салфеткой графин с водой на стеклянном подносе ловил утренние лучи и отражал на стены пылающие разводы солнечной воды. Над комодом из мореного дуба висело несколько деревянных полок с книгами: потертые кожаные переплеты прижимались друг к другу и наполняли комнату чем-то особенным, почти сакральным – живым, благородным духом и священным уютом.
Адек любил гулять среди разогретых пшеничных полей, раскинувшихся чуть в стороне от их дома, когда ошалевшие от дневной жары колосья к вечеру насыщали воздух хлебным ароматом. Мальчик с нежностью перебирал пальцами стебли или бежал по полю с вытянутой рукой так, чтобы пухлые колосья щекотали ладонь и приятно ударяли по лицу. На обратном пути к дому часто останавливался у вспаханных грядок, садился на корточки и опускал руку в чернозем, брал жирную горсть, растирал и нюхал ее так же, как это всегда делал отец, приговаривавший при этом, что земля пахнет предками, а потому мечтавший, что когда-нибудь он опустит руку в песок своих предков – в песок Палестины. Адек отчетливо чувствовал: прикасаясь к земле, он черпает жизненную энергию, какую-то чувственную силу природы, которая нашептывала ночными звуками так много тайного и значимого; когда весь дом засыпал, Адек лежал в своей комнате с распахнутым окном и, накрывшись москитной сеткой, слушал трепетание стеблей и крон, поглаживаемых ветром, перебирал звуки плескающегося шелеста реки, пения соловьев и стрекотания насекомых. Комары жужжали над головой, издавая мерзкий, навязчивый гул, но пролезть через сетку не могли, хотя искусанному за день телу все равно казалось, что уколы продолжаются, но это была чесотка старых укусов.
Почти сразу после оккупации их дом сжег сосед католик. Сжег из зависти к их достатку. Он хотел лишить семью Адека имущества, но несколько не рассчитал, – вся семья сгорела вместе с домом, сам же Адек успел выпрыгнуть в окно, разбив стекло молотком; тогда он сильно изрезался, так что на его лице и руках до сих пор алели глубокие рубцы, а на затылке – пара залысин. Сосед поляк избежал тюрьмы вследствие идеологического мотива, отделался компенсацией в пользу оккупационных властей. Сейчас, в тесном, вонючем, облезлом вагоне, воспоминания о родном доме навалились с особенной силой, Адек невольно закрыл глаза и перенесся к тем запахам и образам, но поезд сильно тряхнуло, и грубая действительность со скрежетом напомнила о себе: душок хлорки, толкотня, засаленные доски, колючая проволока на прямоугольных проемах.
Рядом с Адеком стоял худенький Генечка в своих внушительных, вечно слетающих башмаках, которые походили на комья земли, облепившие корни вырванного деревца. Доктор перевел взгляд на его приунывшее лицо – мальчик очень грустил, когда переставал чувствовать на себе взгляды всех окружающих, ему патологически необходимы были всеобщее внимание и любовь, и он предпринимал все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы завоевать это центральное положение. Януш видел, что амбициозному мальчику не удается стать лидером и завоевать коллектив своим умом и силой; еще только формирующаяся, незрелая личность ребенка не могла привлечь к себе всеобщее уважение, поэтому Генечка нашел единственную возможную альтернативу – он стал веселить ребят. Роль шута нисколько не смущала его, хотя тайно он помышлял возглавлять, по меньшей мере, отряд партизан и держать в страхе все немецкие части, расположенные на территории Генерал-губернаторства. Генечка решил про себя, что, пока у него нет своего отряда, он ограничится комедиантским лидерством, поэтому частенько дразнил воспитателей и выдумывал шалости, одна другой изощреннее, так что один раз даже довел до слез учительницу географии, подложив в ее сумочку мертвую крысу. При этом сам мальчик, Гольдшмит отчетливо знал это, был очень добрым и чутким ребенком, и даже в той ситуации он откровенно переступал через себя, так как ему была искренне симпатична учительница географии, он знал наперед, какое сильное потрясение вызовет в ней вид мертвой крысы, но увлекаемый желанием бравировать перед другими воспитанниками, он почти всегда перешагивал через собственное «я», совершал поступки, произносил речи, полностью противные его личному мировоззрению и нраву. Януша очень расстраивала эта черта мальчика, порабощенного коллективным вниманием, доктор пытался научить его истинному лидерству через развитие своих действительных достоинств.
Подле Генечки толкались двое задир – главные спорщики и драчуны: почти лысый, только вчера постриженный Моська с овальной, как яйцо, головой и Барух, похожий на маленького, умудренного жизненным опытом, ворчливого, но очень подвижного старичка, вечно хмурившего свой лоб, – они снова нашли повод для драки и лупцевали сейчас друг друга по голове. Гольдшмит знал, насколько важно направлять эту особенную энергию двух подростков в нужное русло и во время жизни в приюте всегда особенно сильно нагружал их в играх или учебе. Януш также видел, что чувство обостренного противоречия в этих двоих является не признаком дурного характера, а просто особо яростным вниманием к миру, еще не оформившимся желанием во всем идти своим путем, испытывая признанные авторитеты и истины на прочность.
Юркий непоседа Ежи, маленький мальчик в красных подтяжках и серых шортах, вскарабкался на лохматого Аронека и самого высокого Моню, оперся на их плечи коленями, измазанными зеленкой, и высунулся в узкое прямоугольное окно настолько, насколько позволяла колючая проволока. Ветер трепал густую челку, а когда поезд тряхнуло, колючка, будто когтем, больно поцарапала лоб.
Гольдшмиту не давал покоя взгляд Иржика. Мальчик, конечно, не просто догадывается, но даже не сомневается в неотвратимости предстоящего. Доктор снял со спины большую алюминиевую флягу на кожаных лямках, достал из рюкзака Менделека стальной ковш и, наполнив его, пустил по рукам. Дети утоляли жажду, а Януш, бросив еще один взгляд на Ежи, который все так и смотрел в окно, держась за край досок, начал протискиваться к Иржику. Коснулся его плеча и повлек за собой, аккуратно раздвигая горячие, вспотевшие детские плечи. Рубаха взмокла и прилипла к телу. В вагоне пахло потом, мокрые волосы девочек склеились на лбу или прилипли к рукам.
Доктор подошел к Ежи, тот посторонился, уступая место. Гольдшмит положил ладони на шершавый край досок, глянул сквозь колючую проволоку: перед глазами мелькали сосны, облупившиеся будки, одноэтажные дома, кирпичные водонапорные башни и трубы. Солнце обжигало лицо, во рту пересохло: разливая воду детям, сам он забыл попить, и теперь во рту, по ощущениям, сгустилась песчаная пробка. Осмотрев окно, доктор оглянулся на Менделека:
– Передай-ка знамя, юнга.
Знамя, обмотанное вокруг древка, торопливо двинулось поверх детских голов и подплыло к доктору. Тот поднял его и надавил древком на колючую проволоку, приподнимая ее к потолку, освобождая проем.
Вопросительно посмотрел на Иржика:
– Ну что, мой друг, не подведешь? Понимаешь ход моих мыслей?
Иржик улыбнулся и кивнул.
– Тогда отправляйся в путь, будешь нашим разведчиком… Никому не говори, что ты еврей. Дождись, когда поезд чуть сбавит ход, и спрыгивай… Только не мешкай.
Понимая сомнительность затеянного побега, Гольдшмит все же решился. Он знал: закаленный бродяжничеством Иржик имеет шанс выжить. Доктор вытащил из-за пазухи несколько злотых и затолкал их в носок мальчика, потом приподнял его и помог подтянуться. Иржик сел на край проема, обвел глазами удивленных воспитанников и помахал им рукой. Хотел что-то сказать, но не стал, не смог подобрать нужных слов, да и к чему говорить о том, что понимают только он, доктор и пани Стелла. Иржик кивнул доктору и юркнул в окно, его коричневые ботиночки с серебристыми застежками промелькнули перед глазами, как хвост ящерицы. Крыша вагона захрустела, сверху посыпалась пыль.
Паровоз дал несколько гудков. Януш вспомнил, как кто-то из членов подполья рассказал ему, что машинистам спецпоездов платят не только деньгами, но и водкой, неразменной и дефицитной валютой оккупации. Гольдшмит не понимал, почему вдруг подумал об этом.
От голода, жажды, а главное, из-за нехватки воздуха кружилась голова, глаза невольно закрывались. Вода закончилась – алюминиевая фляга стояла пустой. Поезд въехал в лес, деревья росли настолько близко, что сосновые ветви цеплялись за колючую проволоку окошек. Подружки Хелла и Ада сидели на полу в полусонном, предобморочном состоянии, но, увидев зеленую хвою, моментально вскочили и привстали на носочки, чтобы лучше разглядеть сосны, – они не видели леса почти три года, как и остальные дети. Высунув руки сквозь колючую проволоку, девочки прикасались к веткам и, смеясь, срывали острую, колющую пальцы хвою. Януш поднял на них отяжелевшие, бессильные глаза.
– Пан доктор, пан доктор, смотрите, это же елки! Пан доктор, вы видите? Настоящие елки!
Счастливые крики взбудоражили остальных, дети заулыбались и начали вставать, многим тоже захотелось прикоснуться к лесу. Десятки рук тянулись к скованному колючей паутиной сине-зеленому прямоугольнику, чтобы почувствовать прикосновение хвои, вдохнуть этот особенный, забытый аромат.
Минут через двадцать поезд сбросил скорость. На дороге, бегущей параллельно железнодорожным путям, начали попадаться пыльные рабочие в комбинезонах и подростки, похожие на проворных воробьев; они с насмешкой смотрели на высунувшихся в окна евреев и красноречиво чиркали большим пальцем себе по шее.
Гольдшмит привык к польскому антисемитизму, какому-то почти врожденному, патологическому, связанному прежде всего с тем, что Польша исторически была в черте оседлости. Задолго до немецкой оккупации дворовая шпана или подвыпивший работяга мог подойти к еврею на улице, без лишних слов ощупать внутренние карманы пальто и вытащить кошелек так, будто это пальто висело в гардеробе на вешалке, а не на плечах живого человека. С приходом немцев для скрытой ненависти многих поляков к евреям началось настоящее раздолье. Доктор слышал от Эвы о событиях в Едвабне. В июле сорок 1941 – го, через месяц после прихода немцев, поляки устроили погром – рубили головы, выкалывали глаза, резали языки, насаживали на вилы и забивали палками, после чего загнали оставшихся иудеев в овин и спалили там заживо. Важнее было другое: среди поляков всегда находились те, кто с самого начала войны помогал его соплеменникам, с риском для жизни они приносили евреям еду, укрывали сбежавших или участвовали в спасении детей.
Януш Гольдшмит посмотрел на пролетевшую мимо окна птицу и закрыл глаза.
Поезд остановился, всех сильно качнуло и бросило вперед. Стало еще теснее, кто-то упал и заплакал. Раздались голоса – пугающие, какие-то потусторонние, но в то же время очень телесные, едва ли не осязаемые. По грязной, вытоптанной траве перед вагонами замельтешили желтолицые аскари[25], они же травники – надзиратели, выпускники тренировочной школы садизма при концлагере Травники.
– Ласкаво просимо, будьте, як вдома[26].
Раздался хохот. Из соседнего вагона доносился гулкий кашель, сбивчивый мужской голос попросил воды. Украинец в зелено-черной форме подошел ближе и что-то спросил, но Гольдшмит не расслышал, через минуту из вагонного окна высунулись усталые руки с несколькими золотыми цепочками, травник взял их, начал махать, требуя еще. Голос в вагоне продолжал просить, теперь громче:
– Воды! Воды!
Хлопец усмехнулся, убрал золото за пазуху и вернулся на то же место, где и стоял, а затем красноречиво зевнул в сторону передавшего ему цепочки. Еврей из вагона начал кричать, тогда травник не без веселой лихости вскинул винтовку и выстрелил в стенку вагона. Длинная, как палец, гильза сверкнула и упала рядом с рельсами среди пыльных камней, залитых черным блестящим маслом; раздался оглушительный хлопок, затем крики.
– Стули пельку[27], жид!
Соседний вагон поперхнулся сдавленным шумом, приглушенными возгласами. Через минуту Гольдшмит услышал стальной удар, он высунулся в окно и увидел, что их отцепили от состава. Часть вагонов подхватил локомотив, толкал их теперь вперед по узкому зеленому коридору. Непомерно тихие, молчаливые деревья приступили еще ближе. Несмотря на сильную жару, эти сосны и лиственницы казались ледяными, почти подмороженными. Все покачивали-покачивали своими колючими лапами, бренчали хвоей и хрипло шептали в окна со сдержанной судорогой, с придыханием, похожие на спокойных могильщиков со сморщенными лбами. Локомотив вытолкал на пустырь отцепленную часть состава. Раздался свисток. Щелкнули стальные крючкообразные засовы, и двери с шумом распахнулись.
– Alle raus! Raus! Raus!
– Ну, шибче, шибче давай, шевелись!
Ввалившееся в открытую дверь солнце ослепило, зрачки залил обжигающий белый свет; поток свежего ветра прикоснулся к мокрой коже, отчего по спине непроизвольно пробежала нервная дрожь болезненного наслаждения. На платформе Януш увидел с десяток немцев, травников было гораздо больше, они буквально напирали со всех сторон: карабкались на крыши вагонов, размахивали прикладами и вышвыривали людей, лыбились на вышках с выключенными прожекторами, оперевшись на пулеметы, слонялись вдоль длинного деревянного корпуса вокзала, какого-то странного, похожего на плохо сделанную декорацию, слишком нового и навязчиво размалеванного. Выпяченные таблички: «кассы» над слепыми окошками, «телеграф», «зал ожидания», «справочная», да и круглый белый циферблат часов с мертвой стрелкой, которая замерла на горбатой цифре «6», – все было лишено обычной вокзальной подвижности. Беззаботный, слишком гражданский вид этого бутафорского вокзала, так нелепо смотревшегося на фоне двух вышек с пулеметами и всех этих хищных, притаившихся заборов из колючей проволоки и переплетенных сосновых ветвей, выдавал фальшь. Чуть поодаль столб с указателями: «К поездам на Белосток и Волковыск», «В душ».
В глаза бросалась длинная сквозная палатка с занавешенным проходом и красным крестом, так называемый «лазарет», где заправлял унтершарфюрер Август Вилли Мите по кличке Кроткий Стрелок – длинноногий и умиротворенный, как лемур, он смотрел на евреев утешающими рыбьими глазами так, словно хотел успокоить. Выделял из толпы вновь прибывших слишком ослабевших, шагавших с трудом, а затем спроваживал в свое лазаретное логово, которое маскировало огромный ров с мертвыми телами; оказываясь внутри, Мите все с тем же утешающим видом всаживал пулю в затылок – немцы называли это «получить одно кофейное зерно». Внутри палатки притаился второй стрелок, неряха Ментц с маленькими черными усиками, – крестьянского вида мужичок стоял за перегородкой с мелкокалиберной винтовкой и пистолетом. Если в лазарете оказывалась мать с маленьким ребенком, сначала убивал женщину, затем поднимал ребенка за волосы или воротник, после чего стрелял ему в голову. Первое время матерей с младенцами на руках он убивал одним выстрелом в спину: чаще всего новорожденные быстро задыхались, задавленные трупом собственной матери, или просто расшибались об колени и лбы мертвецов во время падения в ров, теряя сознание, но возня и плач среди трупов все равно постоянно давали о себе знать. Это раздражало немца, так что поднаторевший в своем деле Ментц в последнее время аккуратно забирал младенцев из рук женщин, клал на стол, убивал выстрелом мать, затем, чтобы не тратить лишний патрон, хватал младенца за ноги: чуть качнет с плеча и разбивает мягкую головку о бетонную плиту – глухой, влажный шлепок, после чего маленькое тельце летело в ров следом за мертвой матерью. До войны Ментц разводил коров.
Тут же сновали евреи из зондеркоманды: те, у кого были синие повязки, работали на платформе, встречали вновь прибывших и собирали чемоданы, освобождали вагоны, понукаемые дубинкой остервеневшего капо[28], подхватывали умерших от жажды и духоты, стягивали к краю платформы, где стояло несколько грузовиков с открытыми прицепами. Евреи с желтыми повязками, так называемые придворные, по большей части бывшие ювелиры и банкиры, служили в закрытой зоне лагеря: сортировали золото и драгоценности, складывали пышные стопки банкнот; те, на которых были красные повязки, работали дальше, внутри лагеря на плацу, – они помогали раздеваться, а затем собирали одежду и сваливали в огромные кучи.
Среди немцев выделялся мужчина без кителя, в сапогах и серой пилотке: белая майка со следами пота на спине и груди, жиденькие усы и зализанные волосы; каждое напористое движение этого тела, каждый взмах руки выдавали начальственную вольготность. Подле мужчины стоял настоящий щеголь – краснощекий осанистый красавец штурмшарфюрер, который держал на поводке огромного, величиной с теленка, бастарда черно-белого окраса с явными признаками сенбернара. Пес громогласно лаял на всех прибывших, но не делал при этом ни шага, поглядывал на красавца унтер-офицера, ожидая команды. Судя по тому, как себя держал усатый мужчина в белой майке, вероятнее всего, врач по профессии, – Гольдшмит моментально определил это опытным глазом, – комендантом лагеря был именно он. Как ни странно, одновременно с начальственной самоуверенностью позы в нем чувствовалась какая-та маниакальная напряженность, он как будто торопился доказать окружающим справедливость своего верховенства; нервный комендант с блестящими от воска волосами делал очень резкие движения, постоянно орал на травников и унтер-офицеров, дирижировал руками; штурмшарфюрер держал себя гораздо спокойнее, он молча курил и презрительно косился вокруг себя, собака послушно сидела рядом, дожидаясь команды. Выразительность лица щеголя и правильность его черт бросались в глаза – настоящий Аполлон, точеный и грациозный, одет с иголочки, в отглаженных серых галифе и приталенном мундире. Януш обратил внимание на ту изящность, с какой старший унтер-офицер держал сигарету, зажав ее между двумя длинными пальцами, обтянутыми перчатками из оленьей кожи, несмотря на сильную жару: все эти мелочи стали неожиданностью для доктора, он ожидал увидеть в Треблинке настоящих чудовищ, недолюдей с двумя головами и щупальцами, но перед ним стояли утянутый серым мундиром мужчина с актерской внешностью и врач бюргерского вида, совершенно неприметного и прозаического, Гольдшмит с большей легкостью мог представить его за операционным столом, у кафедры или в кругу семьи, примерно сложившего ладони в затрапезной молитве, чем в роли коменданта лагеря уничтожения, однако нервная ожесточенность немецкого врача все же выдавала его скрытую сущность, точно так, как ту же самую сущность выдавало в унтер-офицере его циничное спокойствие: оба немца отличались друг от друга ровно настолько, насколько отличаются два снаряда одного калибра, один из которых зажигательный, а второй – фугасный. Окруженные благоговейным почтением окружающих, эти двое походили на каких-то языческих божков, на двух чертей-смотрителей, близнецов Асмодеев.
Коменданта, усатого мужчину в майке, звали Ирмфридом Эберлем. Австрийский нацист с достаточно скромным воинским званием – он был всего-навсего унтерштурмфюрером SS. Однако в своем лагере этот лейтенант чувствовал себя настоящим Тамерланом. Эберль, доктор медицинских наук, добившийся первых научных успехов еще в 1939 году в рамках программы эвтаназии «Акция Тиргартенштрассе 4» по физическому уничтожению инвалидов, людей с психическими расстройствами и умственно отсталых, а также детей с врожденными заболеваниями или отклонениями (стерилизация как первичный этап началась еще в 1933-м). Эберль принимал активное участие в программе под руководством личного врача Адольфа Гитлера рейхскомиссара здравоохранения Карла Брандта и начальника канцелярии руководителя партии обергруппенфюрера SS Филиппа Боулера. В начале 1940 года Эберль стал руководителем Центра эвтаназии в Бранденбурге, потом в Графенеке. Набравшись опыта в рамках программы «Т-4», был назначен комендантом лагеря Треблинка, чтобы использовать здесь приобретенные знания, теперь уже в рамках «Операции Рейнхард». По вероисповеданию протестант, Эберль относился к своей конфессии как к одной из существующих политических партий, из которых главная все-таки была НСДАП.
Стоявшего рядом с комендантом штурмшарфюрера звали Курт Майер. Евреи, обслуживающие лагерь, – каменщики, парикмахеры, члены зондеркоманды – дали ему прозвища Кукла и Лялька за приторную краснощекую красоту и хладнокровный садизм.
– Raus! – Курт снова звонко выкрикнул это хлесткое, пронзительное слово.
Он с нескрываемым удовольствием следил за тем, как травники выталкивают людей из вагонов, просто упивался предвкушением бойни, в которой чувствовал себя почти полновластным господином. Правда, пир штурмшарфюрера отравляло присутствие коменданта и раздражающе подчеркнутая начальственность каждого его слова и жеста. Курт явно завидовал власти Эберля.
Курт Майер с детства ненавидел мать, ошпаренную неофитством католичку Марту. В религиозном фанатизме матери маленький Курт чувствовал какую-то вывихнутость, истерическую ослепленность, он был уверен, всему виной банальная сексуальная неудовлетворенность; казалось, что не в силах насытить свою телесную тоску, она просто сдвинула эту энергию на другой уровень, заменив физическую потребность церковными обрядами и зубрежкой молитв. Мать, сколько Курт себя помнил, постоянно теребила четки и без конца крестилась, но в том раздражении, которое проглядывало в ее лице, когда отец Курта Франц запирался в своем кабинете и до утра читал книги, вместо того чтобы лечь с ней в постель, – в том раздражении проглядывало истинное положение вещей. Все это Курт начал понимать лет в двенадцать. Как самого старшего своего ребенка, мать постоянно таскала Курта в церковь, без конца заставляла его причащаться и, если сын по какой-то причине этого не делал, устраивала настоящие истерики, еще более яростные, чем те, которые провоцировал его брат Герман, когда в очередной раз метил ночью очередную простыню. Находясь в церкви, во время молитв и поклонов малолетний Курт неизменно чувствовал на себе пристальный, бьющий розгой взгляд матери, поэтому старался угодить и склонялся как можно ниже и чаще. Однажды вечно бесшабашный, неуемный Курт устроил в школе драку, во время которой случайно столкнул одноклассника с лестницы, да так неловко, что тот сломал руку. Вернувшись после школы, Курт попался на глаза матери. Марта взглянула на его синяки, сбитые в кровь кулаки и схватила сына за ухо. Испуганный мальчик соврал, что к нему привязались на улице какие-то бездельники, спровоцировавшие его на драку, так что он просто постоял за себя. Марта заставила сына поклясться на Библии, что он говорит правду. Курт, хоть и читал Новый Завет только из-под палки, все же отчетливо запомнил, что в числе прочего Христос запрещал любые клятвы. Эти слова, да и вся Нагорная проповедь воспринимались мальчиком как истина, вызывавшая в нем тогда сильный отклик, однако и духовник Курта, и мать требовали клятв по всякому удобному случаю, так что мальчик уверил себя, что по малолетству просто неверно толкует слова Христа и что взрослые непременно понимают их лучше, поэтому он, если требовалось, клялся, хоть и испытывал при этом некоторое смущение. После того как его одноклассник упал с лестницы, Курт очень испугался, а, узнав, что тот еще и сломал руку, вообще впал в панику – мальчик уже рисовал в воображении острожную крепость, где его непременно закуют в цепи, и, в силу этого, не мог не солгать. Но раз уж он решил лгать из страха, наличие или отсутствие клятвы не играло никакой роли. После клятвы сына Марта успокоилась и ограничилась тем, что потребовала пятьдесят раз прочесть «Аве Мария» и пятьдесят – «Отче наш», а когда ее указание было исполнено, усадила за обеденный стол.
Отец Курта и бабушка фрау Ирма на тот момент отсутствовали: Франц увез свою маму в Мюнхен проведать младшую дочь Хельгу и ее новорожденного малыша. В конечном счете они задержались в Мюнхене на целую неделю. Поэтому, когда на следующий день в дом Майеров пришел школьный учитель, новость о спровоцированной Куртом драке и сломанной руке одноклассника получила одна только Марта, которая в отсутствии мужа и свекрови была полновластной хозяйкой, судьей и громовержицей. Ее разъярил не столько факт драки и серьезной травмы другого мальчика, сколько клятвопреступление сына, который поклялся на Библии и тем самым осквернил ее своей ложью. Марта никогда еще не была в таком бешенстве: как только школьный учитель покинул их, вежливо приподняв шляпу, она замахнулась было на Курта, но одернула себя, посчитав рукоприкладство унизительным для матери и христианки, так что она решила заставить сына раскаяться, оставив наедине с его виной. После захода солнца, уложив остальных детей спать, Марта вывела Курта во двор, раздела и закрыла в отхожем месте, оставив только обувь, чтобы мальчик не простыл, – лето хоть и было жарким, ночью иногда сильно сквозило. Так десятилетний Курт и простоял всю ночь голышом в тесном деревянном закутке среди мух, задыхаясь от вони дезинфекции с примесью теплого душка испражнений. Мальчик смотрел в черную дыру, наполненную душным глянцевитым месивом, и плакал от стыда, от чувства гадливости и ненависти.
Курт надолго запомнил ту ночь, запертый, сдавленный, оплеванный, он ощущал себя на самом дне, дышал этим болотным воздухом, втягивал в себя теплую вонь, как ядовитый газ, до головокружения, до тошноты и крика, выглядывая в сад сквозь зазубренные щели досок, надеялся, что мама передумает и всетаки откроет, но Марта считала, что любые послабления во время наказаний крайне портят характер мальчиков. На следующий день она открыла сортир и, не выпуская сына, дала ему котелок с постной кашей и ложку, Марта была убеждена, что завтрак в отхожем месте усилит чувство вины маленького клятвопреступника, но, несмотря на сильный голод, мальчик отказался от еды – туалетная вонь, бесчисленные мухи, да и постылый душок дезинфекции не позволили бы проглотить даже самое отменное блюдо. Он просил только воды. Мать дала сыну напиться, продержала его в деревянной кабинке еще несколько часов и только после этого накинула на обнаженное тело ребенка плед и выпустила на свободу. Во дворе, прежде чем дать таз с горячей водой и кусок мыла, Марта потребовала очиститься изнутри, так что Курт сто раз прочитал «Аве Мария» и двести раз «Отче наш» и только потом смог помыться.
За день до возвращения Франца и фрау Ирмы Марта договорилась со старшим сыном, что они не скажут отцу с бабушкой ни о сломанной руке, ни о заслуженном наказании Курта. Она решила вопрос с родителями пострадавшего одноклассника, извинившись за сына и компенсировав все расходы на врача. Младшие братья и сестры Курта тоже в свою очередь пообещали, что ничего не скажут, – впрочем, они не знали всех подробностей случившегося в ту ночь. Как это ни странно, Франц действительно так ничего и не узнал, только удивлялся потом, почему Курт ходит по нужде в дальний овраг за соснами, а не в дворовый сортир.
Гораздо более сильное потрясение мальчик испытал не в ту унизительную ночь, а двумя годами позже, во время исповеди своему духовнику с вечно постной физиономией, – Курт сейчас даже не помнил, как звали этого священника, – подросток пересилил себя и совершенно искренне раскаялся в том, что часто мастурбирует, рисуя в воображении увиденных днем на улицах Фульды фрау и фройляйн. Вечером того же дня преподобный зашел к Майерам, чтобы вернуть Францу одну редкую латинскую книгу, которую брал почитать несколько месяцев назад. Священник ушел, а по окончании ужина отец позвал Курта к себе в кабинет, где деликатно заговорил о том, что онанизм распыляет мужские гормоны, ослабляя тем самым процесс развития мускулатуры и снижая умственную активность. Курта накрыло давящее чувство стыда и растерянности. Мальчик очень тяготел к сдержанному, вдумчивому отцу, который, даже несмотря на то что почти не выходил из своего закрытого на ключ кабинета, всегда умел понять сына, подобрать нужные слова во время их редких разговоров и, не вторгаясь в личное пространство, все-таки быть рядом – очень близко, тысячекратно ближе, чем навязчивая мать, которая ежечасно напоминала о своем подавляющем присутствии. Поэтому тот факт, что Франц теперь знает обо всем этом, был для Курта совершенно нестерпимым. Курт понял тогда, что все эти клятвы над книгой, в которой написано «не клянись», все эти беспрестанные рассуждения о любви тех, в ком скрывается столько мелочной злобы, подлости и безграничной ненависти, – чистой воды вранье, ложь на лжи, нагромождения которой такудобны власть имущим: политикам, церковникам, родителям – все они так или иначе используют христианство в своих утилитарных и корыстных целях. Осознав масштабы этой лжи и жестокости христиан в контексте мировой истории, Курт почувствовал в себе тяжелейший ком ответной ненависти, с каждым годом обрастающей новыми клочьями гадливой злобы, не только ко всему, что связано с религией, но ко всему живому вообще, а потому направил свою энергию в политическую партию, идеология которой была так близка его собственной ненависти. Став атеистом, Курт потерял все внутренние запреты и нравственные преграды – теперь его кодексом, его богом и истиной был Гитлер, была его собственная ненависть и та свобода выражать ее, которую предоставили ему НСДАП и Вторая мировая война. Курт даже иногда подумывал с усмешкой, что пошел именно в SS, потому как испытывал чувство омерзения при мысли, что ему придется носить на ремне пряжку вермахта со словами Gott mit uns[29]. На его же пряжке значилось Meine Ehre heißt Treue![30] Со временем Курт отдалился даже от Франца, посчитав, что тому не хватает резкости, уверенности, стальной окончательности: сын полагал, что отец чересчур созерцателен и неспешен, а он, Курт, – человек дела, поэтому и письма Францу отправлял теперь все реже и без большого желания.
На разогретые солнцем крыши вагонов вскарабкались несколько травников; вагоны обрастали украинцами, как мохнатым лишайником: кто в черной, кто в зеленой форме; выстроились в плотную цепь, похожие на воронов, сидели, как на могильной плите, смотрели сверху вниз, поглаживали загорелые шеи; другие стояли в стороне, косились на немцев боязливыми шакалами, уступая первенство. Увидев нарастающее волнение вновь прибывших, один львовский паренек с пилоткой набекрень выстрелил в воздух длинной очередью, придержал палец на спусковом крючке чуть дольше, чем нужно, со смаком прислушиваясь к грохоту выстрелов: наверное, чувствовал себя музыкантом. Евреи стихли, стали податливее, продолжали высыпать из вагонов, наполняя пустырь перед зданием пространного вокзала. Людские головы натыкались друг на друга, морской пеной сбивались в единое целое, сплетались, раскачивались. Гольдшмит помог детям спуститься на платформу: они робко шагали, вжав головы в плечи.
Травники задавали направление идущим, подталкивали к концу платформы, туда, где в зеленом ограждении виднелась полукруглая арка ворот. Януш попытался построить воспитанников в колонны, но брызгающий слюной чубатый хлопец пнул его в спину и погнал вперед. Из новой партии прибывших немецкий толстяк-унтер сразу же выбрал пятерых мужчин покрепче – пополнение для зондеркоманды. Тех живых еще людей, кто не расстался с поклажей, наказывали прикладами – выбивали чемоданы из рук, выхватывали вещи и терзали пропотелые наволочки, как голодные шавки. Крупа с треском разлеталась во все стороны, картофель катился по вытоптанной земле. На хлеб наступали тяжелыми сапогами, вдавливали в песок. Выпотрошенные фотографии, заляпанные кровью, подхватил сильный порыв ветра, чьи-то семейные снимки тревожно всколыхнулись и с глянцевым трепетом начали кружиться над головами, снова опускаясь и постепенно оседая, как бы смиряясь.
Когда дети взялись за руки, им стало спокойнее. Воспитанники крепче сжимали пальцы и терлись друг о друг плечами. С головы Саломеи сорвало сиреневый платок, но она не попыталась его удержать, все мысли были сосредоточены на ином – смотрела перед собой, на арку ворот, через которую проталкивалась бесформенная колонна людей, на солдат, на колючую проволоку с вплетенными ветвями сосны, на две вышки с противоположной от платформы стороны. Саломея касалась взглядом грязных спин и затылков людей, идущих впереди, – интеллигентных, осанистых, в изношенной, но дорогой одежде, державших себя с независимым достоинством, – и на тех, кто опустился, слишком ослаб.
Положила руку на голову Ежи и потрепала его волосы. Мальчик поднял на воспитательницу глаза и улыбнулся легкой, скользящей улыбкой: у Ежи не было большого переднего зуба, поэтому и без того простодушная улыбка становилась еще более заразительной. Глядя на мальчика, панна Бронятовская засмеялась, потом дрогнула, закусила губу и прижала мальчика к себе, чтобы он не видел ее лица. Гольдшмит и Штернфельд посадили к себе на плечи ослабевших Ами и Фелунию. Януш прошел сквозь ворота, оказался на плацу, где сразу увидел два одинаковых серых барака: женский и мужской. Покосился на огромные горы одежды, чемоданов и обуви, что возвышались над правым бараком, – площадь за ним была просто завалена вещами. Травники начали расталкивать людей: мужчин – направо, а женщин и детей – налево. Когда доктор понял, что его и воспитанников хотят разделить, спустил со спины девочку и оторвался от колонны, подошел к украинцу, чтобы попросить оставить его вместе с детьми, но на подходе с лету получил ботинком в живот. Доктор свалился на песок и остался лежать на правом боку, подогнув под себя ноги. С сухих губ скатилась густая липкая слюна, вытянулась тонкой полупрозрачной нитью, коснулась песка, стала грязной и оторвалась. Кашель начал рвать горло, но, несмотря на острую боль, уже через несколько секунд Януш пришел в себя, открыл глаза и посмотрел на женский барак: в раскрытых дверях было видно, как несколько парикмахеров-евреев из зондеркоманды с зашоренными, мрачно замкнутыми в себе глазами постригают волосы обнаженных девушек и женщин, которые сидели на длинных потертых лавках, смущенно прикрыв грудь рукой. Своей очереди ждали и девочки, мальчики стояли в стороне. Локоны падали на пол, черные смешивались с темно-русыми, кудрявые – с прямыми, куча волос все росла и двигалась, будто бархан, становилась плотнее; волосы напомнили доктору скошенную траву, разбросанную по полю и иссушенную солнцем.
Януш увидел, как Стелла и Саломея со всеми детьми вошли в этот барак, они оглядывались на Гольдшмита и спотыкались, а безликий травник с круглым, как репа, и совершенно не запоминающимся лицом, похожим на белую дыру, подгонял их винтовкой. Дети бежали, держась за руки: до мельчайших подробностей, незримых линий, запахов и цветов знакомые Янушу бантики, гольфы, рюкзачки, вышарканные брючки, подтяжки, цветные шорты, шляпки, косынки, аккуратные юбочки двигались торопливой колонной; теплые ароматные затылки с косичками, кудряшками, распущенными волосами, коротко стриженные головы мальчиков с оттопыренными ушами; светлая, почти прозрачная и по-домашнему мягкая шерстка на гладких спинках, длинные ресницы, крохотные пальчики с обгрызенными ногтями, белые шейки и сочтенные, отпечатанные слепком в душе Гольдшмита родинки, шрамы, синяки, ямочки и расцарапанные колени – все они входили в барак, пропадая в темноте его проема толкающейся одетой вереницей; через другой проем было видно обнаженные тела тех, кто уже успел раздеться и ждал своей очереди к парикмахеру, – тощие обнаженные старухи с обвислой, как сталактиты, грудью стояли, скрестив руки, жались друг к другу.
Доктор собрался с силами, встал, медленно разогнулся и поднял голову. На площади перед вторым бараком раздевались мужчины, там же у входа стоял пан Штернфельд. В воротах появился штурмшарфюрер Курт Майер с сенбернаром; при виде раздетых мужчин тщательно выдрессированный пес Барри спрятал язык и сосредоточился. Евреи из зондеркоманды с красными повязками кинулись врассыпную, начали жаться к стенам барака. Штурмшарфюрер отцепил от ошейника поводок:
Барри рванул к первому попавшемуся раздетому и вцепился в промежность, сшиб запыхавшейся, потной махиной; оглушительный крик, истеричный, захлебывающийся – еврей уперся ногами в лохматую тушу, пытался оттолкнуть, весь скрючился, держался за влажную морду руками, лез пальцами в зажмуренные глаза пса, бессильно толкал окровавленную морду, но Барри стискивал челюсти все сильнее, кровь брызнула на ноги и живот несчастного, залила торопливой струей колени, увесистые капли перемешались с песком, затвердели. Человек-кукла свистнул, пес моментально ослабил хватку и рванул назад, снова оказался у ног Курта, как вкопанный, словно плоть от плоти. Из сжатой пасти торчал бесформенный шмат мяса. Смешанная со слюной кровь стекала на песок вязкой кляксой, лохматая грудь часто вздымалась, всасывая в себя воздух через широко раскрытые ноздри. Изувеченный лежал неподвижно, только раскрыл рот и выплевывал из себя смятые звуки: затравленное мычание, вой и хрип; все это предсмертное многоголосие сливалось и бурлило, клокотало кипящим жиром. Остальные мужчины начали в панике разбегаться, спотыкались, вскакивали, но приклады травников сгоняли их обратно к бараку.
Барри и его хозяин казались двумя частями единого целого: пес чувствовал желания штурмшарфюрера и, взбудораженный их течением, отзывался на них. Привыкшие к беспощадности пса евреи из зондеркоманды, травники и эсэсовцы были искренне удивлены, когда Курт Майер уехал на неделю в отпуск, – во все время отсутствия хозяина Барри не только ни на кого не бросался, но даже подпускал к себе чесать за ухом и вилял хвостом, играя с эсэсовцами и травниками, прибывающих же евреев сенбернар игнорировал, разве что изредка лаял на них, но когда штурмшарфюрер вернулся, то в первый же день были насмерть растерзаны несколько человек из зондеркоманды: складывалось впечатление, что по природе своей добродушный пес являлся лишь сосудом, наполняемым ненавистью хозяина.
Один из травников схватил Гольдшмита за шиворот, поднял и толкнул к мужскому бараку. Доктор с трудом удержал равновесие и пошел к входной двери, однако, когда украинец отвернулся, резко сменил направление и быстрым шагом вернулся к женскому бараку, откуда уже доносился детский плач, – разлученные с доктором сироты начали кричать, раздражая немцев и травников. Оказавшись внутри, доктор столкнулся с толпой обнаженных женщин. Кто-то из них уже трогал остриженную голову, другие еще только ждали очереди. Пристыженные беззащитные женщины шлепали босыми ногами и вглядывались в лица соплеменников из зондеркоманды, многие пытались заговорить с ними, но рабочие-евреи отвечали коротко или просто игнорировали вопросы. От них исходил сильный запах спирта, что несколько утешало вновь прибывших: раз уж евреям дают здесь алкоголь, значит, все не так страшно, как в бродивших по гетто слухах. По периметру раздевалки висели желтые лампы, закрытые решетками; над длинными деревянными лавками серебрились алюминиевые крючки, пронумерованные белой краской. Мальчиковатый нескладный унтер с безмозглым выражением круглого лица без конца твердил про дезинфекцию и душевые кабины. Дети волновались, плакали и кричали, унтер приказал травникам успокоить их, те принялись трясти малышей, бить по лицу, заставляли молчать. Стелла и Саломея набросились на солдат, царапали руки, отталкивали – щетинистые хлопцы в ответ начали молотить воспитательниц дубинками и прикладами, повалили их на пол; по всему бараку поднялся гул, женщины заметались, громко причитая. Доктор появился в дверях; унтер удивленно оглянулся на него, резко ткнул в грудь хлыстом и замахнулся, но тут, увидев доктора, воспитанники радостно вскрикнули, вскинули руки, лица их просветлели.
– Пан доктор! Пан доктор! Мы здесь!
Оценив перемену в поведении детей, унтер опустил руку и, вместо того чтобы ударить доктора, толкнул его в глубь барака. Гольдшмит принялся обнимать навалившихся на него малышей: сверкающие глаза, улыбки, тянущиеся ладошки. Глядя на радость детей, постепенно успокоились и женщины, стало тише. Они осознали: их стригут не налысо, на сердце потеплело, им казалось, с ними считаются, они не обречены, просто их стригут потому, что необходимо избежать вшей.
Мы все-таки нужны им, мы рабочая сила.
Раздевшийся донага доктор построил всех детей – белокожих, хрупких, с большими родинками или веснушками на тоненьких спинках с выпирающими позвонками – и в общем потоке двинулся следом за остальными. После парикмахеров евреек вывели на улицу в длинный узкий коридор под открытым небом со стенами из колючей проволоки, замаскированной вплетениями хвойных ветвей, – коридор метров двести длинной и в пять обнаженных человек шириной. В лагере этот коридор называли шлангом или кишкой, на идише оба названия звучали как «кишкэ».
Над головами идущих сияло синее небо с редкими перистыми облаками, похожими на шрамы. Люди медленно двигались по «шлангу», а сосны-плакальщицы, макушки которых виднелись над замаскированными стенками, знай себе покачивались и шелестели, молчаливые и скорбные. На плечах женщин лежали оставшиеся после стрижки мелкие колкие волоски. Скользкая от пота женская кожа прижималась к телу доктора, он чувствовал спиной нежное прикосновение чьей-то груди. Впереди шла дама в летах с усыпанной веснушками спиной и обвислыми ягодицами; когда доктор оглядывался на детей, боковым зрением замечал черные курчавые волосы лобков и подмышек, и это его смущало; слева ступала молодая девушка с большими розовыми сосками и белой кожей, по ее ногам стекала менструальная кровь, оставляя на внутренней части бедер алые разводы, частые капли падали на землю, оставляя круглые следы, – это кровь была другой, не той привычной кровью войны, кровью раздавленных, избитых и смятых насилием людей, но кровью материнской, зовущей и жизнеутверждающей природной силы; рядом шагала девушка с заостренными чертами лица и жирной родинкой на мочке уха, она начала мочиться под себя, не в силах больше терпеть, струя ударялась в землю, наполняя «шланг» резким запахом.
По выражению лиц детей Янушу стало ясно: вопреки всем его улыбкам и попыткам поддержать, каждый из них почувствовал приближение смерти, леденящая очевидность достучалась до них, в каждом взгляде читался настоящий ужас, дошедший до предела, чрезмерный, неистовый. В конце коридора показались очертания длинного здания с несколькими тяжелыми стальными дверями, похожими на бронированные люки бомбоубежища. Гольдшмит пытался подобрать слова, способные приободрить малышей, но не находил их, тогда он хитро прищурил левый глаз, поднял правую руку и издал паровозный гудок, после чего начал имитировать звук поршней, быстро двигая локтями. Дети засмеялись и сразу же начали подыгрывать, они выстроились в вагончики из четырех рядов каждый, цепко схватились друг за дружку и с беззаботным хохотом двинулись за Янушем.
Доктор Эберль и Курт Майер стояли в стороне, рядом находились трое эсэсовцев. Комендант недоумевающе прислушивался к странным и таким непривычным звукам детской игры, а штурмшарфюрер, скрестивший руки, наоборот, всем видом показывал: все знаю наперед, все видел, вы все мне омерзительны, если бы комендантом лагеря был я, то показал бы вам, как надо работать… Теперь пришла ваша очередь, теперь вы будете задыхаться в четырех стенах… лезть на стену, как когда-то я в дворовом сортире. Курт не верил в идеи национал-социализма, он с большим удовольствием истреблял бы и немцев, и близких по общим западно-германским предкам англичан со скандинавами, кого угодно, ему было безразлично, главное, чтобы убийства, помимо удовольствия, обеспечивали ему продвижение по службе, награды и солидный доход; испепеляемый ненавистью ко всему миру и жаждой мести, человек-кукла испытывал раздражение из-за того, что евреи умирали такой легкой, по его мнению, смертью; штурмшарфюреру Майеру хотелось растянуть процесс ликвидации и сделать его более мучительным, однако он был лишен подобных полномочий, за что еще больше ненавидел коменданта.
Ирмфрид Эберль испытывал интерес другого рода – его мотивы являлись чисто научными и партийными. Пламенный член НСДАП, свято верующий в расовую теорию, ревностный ученый и нацист, он желал преобразить мировой порядок и скинуть в выгребную яму давно устаревшие, по его мнению, нравственные ценности современной цивилизации. Эберль жаждал преобразований и как адепт евгеники прилагал все силы, чтобы стать максимально эффективным инструментом для достижения целей НСДАП и нового общества, потому-то сейчас у коменданта захватывало дух от того объема работы, который он выполняет. Имфрид буквально захлебывался энтузиазмом и слал домой редкие, но восторженные письма, где в общих чертах, минуя подцензурные частности, делился своей титанической гордостью, основанной на масштабах личной научной деятельности и партийном вкладе в общее дело. Дня меня все складывается очень хорошо, – писал он жене. – Уйма работы, и она интересная… Это настоящие «сумерки богов»…
Комендант очень переживал из-за того, что не может найти более безболезненный и эффективный способ уничтожения «расовых отбросов», но ему не хватало времени для научных экспериментов и поисков, так как он всего себя, всю свою энергию отдавал великой миссии коменданта Треблинки, служителя «мировой гигиены».
Рядом с комендантом и Куклой ошивался вездесущий фельдфебель Кюттнер, по кличке Легавый. Испытующе косился на спины рабочих евреев, оценивал скорость их беготни. Кюттнер всегда ходил неслышно, как привидение: вырастал за спиной рабочих зондеркоманды и начинал размахивать хлыстом, стегая плечи, шеи и лица, наказывал за нерасторопность. В каждом его движении чувствовалась не просто многоопытность, а какая-то неотъемлемость и прирожденность: в прошлом, еще до войны, он служил тюремщиком, поэтому неудивительно, что Легавый, как и Курт Майер, настолько же гармонично вписывался в лагерный мир Треблинки, насколько окрестные сосны – в окружающий, такой славянский, пейзаж этих бедняцких красок: покатых простодушных полей, густых и хмурых лесов, молчаливых холмов.
Тутже подле стояла полная противоположность Ляльки и Легавого – унтершарфюрер Карл Зайдель, плюшевый толстяк, похожий на пекаря, добродушный и уютный бюргер, неведомо какими путями оказавшийся в этом месте. Карл Зайдель был единственным из надзирателей, кто обращался к членам зондеркоманды на «вы», вызывая оторопь и настороженное недоумение рабочих евреев.
Некоторые зондеркомандовцы доходили до циничного отупения и радовались, когда среди хвойных ветвей появлялись не полинялые теплушки из Польши или Гродно, а роскошные пульмановские вагоны с Запада, прежде всего из Франции, в которых сидели беззаботные дамы с высокими прическами, пили кофей из тонкого фарфора, а мужчины с бабочками курили сигары и с брезгливым недоумением выглядывали в окно поверх хрустальных ваз и блестящих бутылок, пытаясь понять, куда же их привезли. Зондеркомандовцы не без смака открывали их пузатые саквояжи и чемоданы из дорогой кожи: сортируя ценности для немцев, они приседали и засовывали в голенища сапог золотые монеты, пихали в карманы пачки хороших сигарет. Сортировщик-сластена маленький Авраам набивал рот шоколадом, какао и с удовольствием причмокивал: ой-вэй, какой богатый эшелон, ой-вэй, нет, это ж надо. После ликвидации таких составов работяги из зондеркоманды выбирали себе из стопок одежды свежие рубахи и сапоги подобротнее, переодевались, примеривались, как в магазине, пока немцы и травники не смотрели в их сторону, а вечером, когда лагерь смолкал, хрустели печеньем с джемом, трескали рыбные консервы, кукурузный хлеб и отламывали куски от увесистых сырных голов, запивая все это изобилие элитным коньяком. Рассортированное имущество уничтоженных евреев зондеркоманда комплектовала по степени ценности и укладывала в пустые грузовые вагоны, которые длинными сытыми эшелонами отбывали в Бремен, Ахен или Швайнфурт. Другие зондеркомандовцы ненавидели себя за то, что не только наблюдают весь ужас происходящего, но и являются его неотъемлемой частью, проклинали себя за покорность, за немую кротость, за то, что, имея возможность зарезать, задушить хотя бы одного эсэсовца, а потом быть растерзанными, но оставить после себя пример мужества, все-таки не делают этого. Такие с отвращением отворачивались, отшатывались и от чавкающего причмокивания и рыганья набивающих брюхо, и от собственного отражения – от собственных лиц, которые попадались им в дамских зеркальцах, когда приходилось потрошить косметички и женские саквояжи, – они не узнавали этих лиц, не узнавали в этих маленьких зеркалах себя. Были и те, кто провожал в камеру своих родных и близких: жену, сестру, собственных детей, кто-то из зондеркоманды входил в газовые камеры вслед за ними, а кто-то подбегал к травникам и просил пулю, иные замыкались, проваливались в себя, в стертое, обезличенное, отравленное навеки «я», и продолжали выполнять свою работу, задушенные страхом или парализованные безразличием. В зондеркоманде нашелся еврей, оказавшийся решительнее других: во время уничтожения очередного состава он заколол эсэсовца Макса Биала – воткнул нож в грудь, а затем полоснул по горлу. Эсэсовец не успел даже свалиться на землю, как смельчака распотрошили пули. Один из украинских бараков немцы назвали казармой имени Макса Биала.
Травники примкнули к империи Третьего рейха по разным причинам: одни ненавидели коммунистов больше, чем фашистов, другие искренне симпатизировали последним как представителям новой политической системы, еще не успевшей насолить лично им, притеснить их национальные интересы; впрочем, всеми ими двигал страх перед смертью, а в служении немцам они получили единственную возможность не просто выжить, но каждый свой новый день встречать с набитым брюхом, с водочкой да табачком, с безответными еврейками, которые шагали перед ними нагишом. Украинцы не верили тому, насколько сладкий куш им выпал, – только знай себе постреливай в безоружных да погоняй прикладом – непыльная работенка. Испытывали они и простые человеческие чувства: среди них едва ли нашелся бы тот, кто не скучал по матери и дому. При определенных обстоятельствах те же самые травники могли бы состоять в ордене каких-нибудь тевтонцев, казачьих сотнях, батальонах НКВД или рядах наполеоновской армии, каждый из них при возможности мог бы с легкостью сменить исторические декорации и примкнуть к другой системе, присосаться к вымени иной идеи, но сейчас они были тем, чем были; так, многие эмигрировавшие после Гражданской войны казаки, являясь русскими патриотами, были тем, чем были, примкнув к силам вермахта; все перемешалось, взбесилось и спуталось, столкнув людей в кровавой бойне, в многоголосице идей, страхов, шкурных интересов и святых чувств.
В конце «шланга» у дверей камер стоял Иван, по прозвищу Грозный, бывший красноармеец родом из украинского села, подгонял дубинкой, припечатывал податливые тела. Когда в мае этого года попал в плен при обороне Крыма, сразу же вызвался на роль хиви[31]. Как особо отличившийся в своем деятельном энтузиазме, был отправлен на подготовку в Травники, где присягнул SS.
Газовые камеры заполнялись быстро. Украинские хлопцы с деловитостью паровозных кочегаров трамбовали женщин с детьми, как в топку, матерились, почесывали затылки, отирали лбы мокрыми пилотками и часто плевались. Рассматривая нагих, беззащитных людей, Иван испытывал утонченное наслаждение, связанное с ощущением собственной всесильности. По существу, Грозный никогда не был жестоким человеком, он учился в сельской школе, работал трактористом, по воскресеньям ходил в клуб, где флиртовал с девушками; мальчишкой любил животных – сейчас та пора, когда он ласкал своей маленькой рукой белые спины коз и лежал на земле в березовой роще, рассматривая тонкие изогнутые стволы деревьев, казалась ему чем-то совсем не относящимся к его жизни, чужим детством чужого человека, к которому он не испытывал никаких чувств; повзрослев, ему захотелось большего, он грезил стать героем, мечтал о своем портрете в «Правде», чтобы, шагая по улице, собирать уважительные взгляды перешептывающихся людей, но в первом же бою, когда оглушительный рокот обрушился многотонным пластом на его полк, перепахивая желтую землю и выворачивая тела наизнанку, он испугался, и, вместо того чтобы во весь рост подняться и повести за собой людей, как всегда мечтал, Иван забился на дно окопа, не слыша собственных мыслей, чувствуя, как внутренние органы дребезжат и сотрясаются от грохота, скулил и дрожал от бреющих звуков пролетающих «мессеров», от падающих на его спину комьев глины и свиста мин, царапающего нутро, как гвоздь стекло; в том первом бою, совершенно потеряв внутреннюю опору, опустошенный и скомканный, Иван услышал приближающийся грохочущий рык танков. Взявшись было за гранату, Грозный высунулся из окопа, но густой черный дым, распотрошенные тела убитых, разбросанные вокруг, а главное, надвигающаяся по каменистой долине серая армада немцев, привели новобранца в состояние панического ужаса; дрожащей рукой он выронил гранату и снова скатился на самое дно, обхватив колени руками, а когда средний танк T-IV проехал прямо над головой, сдавив окоп, расслабленное от страха тело выплеснуло в штаны постыдную горячую струю.
Оказавшись в плену, Иван сразу же понял, чего от него хотят немцы. В Травниках в нем разыгралось чувство соперничества, он хотел компенсировать свои лидерские амбиции, потерпевшие крах в первом же бою, и пошел к цели иначе, превосходя остальных хиви в своей циничной жестокости, так впечатлявшей немцев. Грозный снова и снова изобретал новые способы подогревать собственную популярность: то приколачивал уши евреев гвоздями к доскам бараков, а потом отрезал их, то вскрывал животы беременных женщин или разрубал живых еще младенцев саперной лопаткой, а получившиеся куски бросал вечно голодному псу Барри. Иван презирал «чистюль» и розовощекие рассуждения о совести, считая это недостойным сильного человека, посему охотно демонстрировал изысканную изощренность в убийствах и пытках. Убивая человека, испытывал упоение, головокружительное сознание собственной власти, его будоражил испуганный взгляд жертвы и трепет поддающегося хрупкого тела; Грозного интересовала анатомия человека, поэтому, вспарывая живот, отрезая уши или женскую грудь, выкалывая глаза, он всегда с любопытством заглядывал в сделанные им раны – Ивану казалось, что эти раны улыбаются ему.
Получив свое прозвище, Грозный был искренне польщен, он испытывал почти сексуальное возбуждение при виде того, что внушает людям страх: ни в школе, ни в армии Ивану не удавалось ни в чем быть первым, теперь же, оказавшись в лагере, он почувствовал себя настоящим монархом и очень дорожил тем, что эсэсовцы демонстрируют к нему подчеркнуто доверительное и особенно уважительное отношение, чего нельзя было сказать об отношении к другим травникам, которых по большей части презирали; именно поэтому по прибытии каждого эшелона Грозный старался продемонстрировать, что заслуженно носит свой титул. Завораживало Ивана и то, что даже в процессе самого жестокого убийства или пытки он чувствовал: это не предел, и он еще способен превзойти себя; подобная безграничность собственной силы и власти, как он их в себе определял, беспредельность движения откровенно прельщали его, что же касается того первого и единственного своего настоящего боя, то он оправдывал себя тем, что просто растерялся, поскольку был совсем необстрелянным молодым сопляком, до отправки на фронт прошедшим убогую подготовку, после которой он только отощал, завшивел, простыл и осунулся, поскольку целыми днями впроголодь маршировал по грязи, спал в вонючем нетопленном бараке и всего лишь несколько раз стрельнул из винтовки.
В окружающем его до войны мире Ивану все казалось бесцветным и слишком обыденным, он с отвращением вспоминал свою простую, однообразную сельскую жизнь и признавался себе, что стал по-настоящему счастливым только в Треблинке, где мог удовлетворить почти любое желание и жить в контрастном мире сгущенных красок, которых ему всегда так не хватало, а главное, сбылась его мечта – он стал знаменитостью, на него действительно оглядывались многие: когда он шел по лагерю, немцы кивали в его сторону и уважительно перешептывались, а молодые травники пытались подражать ему и тоже брались потрошить беременных женщин, однако при виде пунцового младенца и раскрытого живота, заливающего песок кровью, у большинства молодых сдавали нервы, их рвало и бросало в истерику.
Портретов Ивана не печатали в газетах, как ему мечталось, но он не без оснований рассуждал, что еще все устроится, ведь кто знает, что будет, когда закончится эта война, в которой войска рейха прошли за год войны с СССР треть ее территории и в эту самую минуту вместе с союзниками стоят под Сталинградом, так что в конце концов непременно одержат победу, а он, Иван, нужный в SS человек, получит еще более безграничную власть и, быть может, сделает внушительную карьеру, скажем, начальника лагеря или возглавит отдел какого-нибудь орпо[32], поддерживающего порядок на территории рейхскомиссариата Украины, Остланда или даже Московии.
Грозный горячо ценил то, что комендант, Кукла и многие другие унтеры закрывают глаза на его «слабости», позволяя выбирать любую красивую еврейку и приводить к себе в барак, прежде чем загонять в камеру. Вот и сейчас размахивающий дубинкой Иван рассматривал женские тела, стараясь отыскать наиболее привлекательное. Наконец увидел высокую стройную девушку с большими выразительными, почти птичьими глазами и тонкой талией. Над пупком плоского живота темнела маленькая родинка, обратившая на себя его внимание. Протолкнулся к ней, положил тяжелую загорелую руку на тонкую шею, сжал пальцы, вывел из толпы и бросил на землю за углом, погрозив пистолетом:
– Ходи но сюди, дiвчино, тiльки не переживай. Та мовчи! Щоб без сюрпризiв. Тiльки нi кроку звiдси, а то прибью![33]
Испуганная девушка обхватила ноги руками и кивнула, несмотря на то что не поняла ни слова, но по ощупывающим, похотливым глазам ей стало ясно, чего от нее хотят. Иван вернулся к дверям в камеры и продолжил трамбовать людей. Девушка посмотрела по сторонам: кругом только колючая проволока, солдаты, собаки и длинные бараки, похожие на гробы. Осознав, что она никуда не может убежать, откинула голову на кирпичную стену, закрыла глаза и начала читать про себя слова молитвы.
Железные двери камер захлопнулись, Иван обошел здание, направляясь туда, где стояли двигатели от захваченных еще в 1941 году танков Т-34 и КВ. Эсэсовец Густав Мюнцбергер, ответственный за газацию, с острым, как кулак, подбородком и горбатым носом, отдал команду:
– Iwan, los!
Грозный включил вытяжку на полную мощность, чтобы отсосать часть воздуха из камеры и ускорить процесс «созревания», а потом завел несколько двигателей. Дизели В-2 загрохотали, выплюнув черную копоть, после чего моментально начали наполнять камеры угарным газом через трубопровод. Сначала раздался гулкий, сдавленный сводами крик, в двери начали бить кулаками, потом сквозь крики донеслись обрывки слов Шема Исраиль – литургического текста из Пятикнижия, уже хорошо знакомого Ивану и до одури надоевшего, наряду с Кадишем. Слова молитвы перебивали кашель, плач и крики.
Иван посмотрел на часы. В его распоряжении имелось не больше двадцати минут. Доктор Эберль запрещал отлучаться во время работы дизелей, но в Треблинке Грозный убедился: высшее наслаждение как раз в том и состоит, чтобы нарушать все писанные и неписанные запреты. Он зашел за угол: еврейка лежала все на том же месте и тряслась, обхватив себя обеими руками. Резким движением Иван оторвал ее от земли и поставил на ноги, которые тут же подкосились от страха, так что пришлось перекинуть девушку через плечо и нести до барака.
На входе услышал женский крик. Вошел внутрь: пятеро травников уже опередили его: насиловали симпатичную, еще даже не остриженную девушку, видимо, урвали ее до барака с парикмахерами; еврейку перекинули поперек стола, лицом вниз, и подходили по очереди, пока двое прижимали ее к столешнице за голову и руки. Грозный скользнул глазами по раскрасневшемуся лицу и напряженной шее с выступившими венами, оценил добычу сослуживцев и улыбнулся при мысли, что самая красивая жидовочка все-таки досталась ему. Бросил девушку на кровать, начал поглаживать зажатое, прикрывающееся руками тело.
– Та що ж це ви такi худi? Та, опусти руки, не переживай. Сама ж хочешь, знаю. Вашi обрiзанi так не можуть, я тoбi твойiм Moiceм клянусь, ты тiльки зараз спровжнього мужчину пiзнаеш![34]
Девушка в ужасе смотрела на украинца, качая головой и отмахиваясь. Когда Грозному надоела эта борьба, он ударил девушку ладонью по лицу, достал штык-нож и подставил его к горлу:
– Цыц, сука! Та не треба з себе незайману вдавати![35]
Увидев, что она замерла, украинец опустил нож, достал из тумбочки бутылку с молоком и кусок белого хлеба, зная, что жертва испортит процесс, если будет знать, что для нее все закончится смертью, – Грозному слишком надоели грубые изнасилования.
Еврейка недоумевающе смотрела на хлеб с молоком и снова покачала головой, только медленнее.
– Та що ти дивишся? Йiж – Toбi кажу![36]
Девушка отстранила хлеб, взяла только молоко и жадно начала пить, не отрывая от украинца испуганного взгляда. Иван смотрел, как двигается ее кадык, и ждал. Увидев, что ноги и спина еврейки в земле, он сорвал с кровати простынь и отряхнул кожу девушки. Бутылка опустела, он откинул пустую посудину в сторону и сразу же начал щупать бедра, живот, трепать грудь. Девушка лежала на спине, закрыв лицо руками, а Грозный пытался вспомнить, какая она у него по счету: семьдесят вторая или семьдесят третья.
Иван кончил в девушку, через минуту ее вырвало, это взбесило Грозного, задело его за живое. Пока она откашливалась и отирала руками грудь от рвоты, он взял лежащий рядом штык-нож, воткнул его во влагалище и провернул по часовой стрелке. Раздался оглушительный вопль – от боли девушку скрючило, она сложилась, как перерубленная пополам, ударилась лбом о колени, сжала кулаки и укусила себя в ногу. На крик оглянулись пятеро сослуживцев Грозного, которые всё не слезали со своей жертвы. Увидев, что случилось, только уважительно покачали головами и продолжили пользоваться своей добычей. Иван достал штык-нож: с него стекала сперма, смешанная с кровью. Еврейка ударила Ивана ступней по лицу и свалилась с кровати, извиваясь и корчась. Грозный подошел и перерезал ей горло, потом взял с железной печурки еще не высохшую вчерашнюю портянку и отер штык-нож. Запнул мертвое тело под кровать, сел на нее, скрипнув матрацем, достал из тумбочки банку тушенки и, открыв ее все тем же ножом, принялся за еду, поглядывая на часы. Увидел на матраце кровь, перестал жевать:
– Тьфу ты, зараза…
Опустошив банку с тушенкой, бросил ее под кровать на залитый кровью пол рядом с мертвым телом, еще немного полежал, дождался, когда тушенка отрыгнется, потом сладко потянулся, позвал еврея из зондеркоманды, приказал ему все убрать и поменять белье с матрацем, после чего достал гнутую жестяную упаковку с дрезденской «Аттикой» – лучшими немецкими сигаретами, прикурил и глубоко затянулся. Выпустив дым, встал с кровати, сделал глоток теплого спирта из фляги и поморщился, затем вышел из барака, оглянувшись на вторую еврейку, которую продолжали насиловать: набитая спермой, обессиленная, она уткнулась лицом в стол и не шевелилась, ее уже никто не держал, она полностью покорилась, а пьяный травник, уже давно пристроившийся сзади со спущенными штанами и волосатыми ягодицами, стоял и, не вынимая члена, все никак не мог зажечь отсыревшие от пота спички, чтобы прикурить сигарету. Он матерился и скользил по коробку, пока наконец одна не дала искру и не загорелась, осветив щетинистое лицо. Сигарета захрустела огоньком, и из красного блестящего носа повалил дым. Затянувшись, травник продолжил насиловать девушку, бросив не потухшую еще спичку ей в затылок.
Оказавшись на улице, Иван пожалел, что глотнул теплого спирта с металлическим привкусом: жара стала еще нестерпимее и, что самое плохое, началась изжога. Подошел к дизелям, проверил их работу, поднял глаза и столкнулся с недовольным взглядом Мюнцбергера, который курил на углу. Однако унтер ничего не сказал и дело ограничилось немым укором, на который Грозный искренне наплевал. Густав щелкнул в стену сигаретой, вытянувшийся огонек сверкнул и разлетелся, ударившись о кирпичи, фонтаном искр. Немец подошел к смотровому глазку и заглянул внутрь. Иван не нуждался в команде и с удовольствием бы заглушил двигатели сразу, не глядя в этот глазок, поскольку опытным слухом моментально определил, что евреи уже «созрели»: из-за дверей не доносилось ни звука, стояла хорошо знакомая украинцу оглушительная тишина. Он бы никогда ни с чем ее не перепутал. Казалось, весь лагерь погружается в эти минуты под воду.
Грозный любил эту тишь, она щекотала даже его крепкие нервы. Умение определять на слух момент завершения очередной акции давало Ивану ощущение собственного профессионализма, он мнил себя асом, большим мастером, слившимся с инструментом. Грозный искренне расстраивался, что вынужден ждать формальной команды эсэсовца, которая лишала его работу изысканного блеска. Наконец прозвучал набивший оскомину резкий, рубящий плахой голос Мюнцбергера:
– Alles shlaft![37]
Украинец заглушил дизели и включил вытяжку на полную мощность. Зондеркоманда с железными крюками и ремнями уже толпилась перед входом. Евреи-рабочие натянули на лица шелковые платки или женские сорочки, закрыв лица до переносицы; в Треблинке шелк был в особой чести, влажный шелк лучше всего сдерживал смрад, а самое главное, на этой гладкой ткани почти не держались вши, поэтому мужчины из зондер-команды, когда ложились спать, напяливали на себя предметы женского гардероба: розовые сорочки, белье с ромашками и кружевами, а на бритые головы неизменно нахлобучивали обрезанные чулки, которые завязывали узлом на макушке. В таком виде и спали после очередного рабочего дня в преисподней: ошеломленные, раздавленные, выпотрошенные или ко всему привыкшие, равнодушные, но неизменно разодетые в женское неглиже.
Теперь рабочие ждали, когда можно начинать. Камеры были проветрены, надзиратели щелкнули замками, сдвинули засовы и распахнули двери: на улицу вывалились молодая девушка и две пожилых женщины с почерневшими лицами, остальные стояли спрессованные, неподвижные; мертвые люди поддерживали друг друга и не падали даже после смерти. Рабочие зондеркоманды принялись цеплять белесые конечности крючьями, разрывая человеческий компост на отдельные тела. Широко раскрытые рты покойных тщательно просматривали в поисках золотых коронок, рабочий с плоскогубцами вырывал ценные зубы.
На трупы накидывали петли из ремней и тащили в сторону огромной ямы, вырытой экскаватором в дальней части лагеря, куда их и скидывали. Маленьких детей брали по несколько и тащили гроздьями, обвязывая одной веревкой за головы или конечности, подростков брали по паре. Несколько рабочих из зондеркоманды копошились в самой яме, выкладывая тела более плотно, а остальные бросали трупы с краю рва. Над ямой стояло трупное испарение, густое марево, похожее на туман. Воздух становился матовым, как будто тяжелел, делался осязаемым. Из-за жары тела начали разлагаться очень быстро, так что никакие намордники не спасали: тяжелые, пропитанные трупным ядом куски воздуха драли горло и нос, сводили с ума. Эсэсовцы прикрывали лица вымоченными в спирте платками. Иван по природе был очень небрезгливым человеком, поэтому только затыкал ноздри ватой. После того как все тела выносили, зондеркоманда брала щетки и начинала скрести полы с порошком, смывая следы испражнений, крови и рвоты. К каждой газовой камере были подведены стоки, там всегда копошились белые черви, залитые кроваво-бурой массой.
Несмотря на обычный патологоанатомический интерес к человеческому телу, Иван в эти минуты предпочитал отходить в сторону, считая ниже своего достоинства возиться с зондеркомандой, которую предоставлял другим надзирателям, во избежание воровства следившим за сортировкой одежды, имущества и золотых коронок. Впрочем, имелась и иная причина: последнюю неделю Грозному без конца снились обездвиженные, почерневшие лица, истощенные конечности и выпученные глаза. Он просыпался от чьих-то прикосновений и слышал хрипящие крики, колючий шепот и леденящие вопли. Иван никому ни при каких обстоятельствах не признался бы, что его мучают кошмары, поскольку считал это признаком слабости, а он не мог позволить себе испортить репутацию из-за каких-то там ночных галлюцинаций, которые, наверное, мучали его от элементарного перенапряжения. В любом случае, если раньше он с удовольствием щеголял перед сослуживцами своим непрошибаемым цинизмом, складывая мертвые тела мужчин и старух в непристойные позы, чем всегда срывал дружный смех и аплодисменты не только травников, но и эсэсовцев, сейчас Иван решил беречь нервы и по возможности сторонился черной работы, занимаясь только дизелями.
Сегодня предстояло ликвидировать еще очень много вагонов: иногда в сутки доходило до пятнадцати тысяч евреев, хотя чаще всего число прибывших не переваливало за десять тысяч; Иван не мог этого знать, но в будущем его ждут три месяца простоя – с февраля по апрель 1943-го, после чего он с нетерпеливым упоением будет встречать «сытные» эшелоны балканских евреев, загорелых, красивых, мускулистых, не потрепанных жизнью в гетто, а отправленных из накопительного лагеря в Салониках; болгары, югославы, греки – такие непривычные в своей южной статности и ухоженности, они очень порадуют его прежде всего красивыми еврейками и роскошным провиантом; он не знал и того, что совсем скоро, в ноябре 1942-го, поступит приказ ликвидировать захоронения, трупы раскопают, выложат пирамидами и станут сжигать; Иван узнает постепенно, что лучше всего горят полные женщины, а хуже всего – как раз таки те самые красивые и мускулистые балканские евреи; Грозный не знал и того, что ровно через год зондеркоманда поднимет восстание, подожжет часть бараков и разбежится, так что сами же немцы, припугнутые событиями Восточного фронта, сровняют Треблинку с землей и посадят на ее месте сосновый молодняк, чтобы замести следы, – всего этого не мог знать украинец, сейчас он не без удовольствия думал только о том, что следующие партии, которые подгонит локомотив, наверняка будут не столь многочисленными: жажда и духота мало кому оставляли шансов, несколько лишних часов в переполненных вагонах выкашивали иногда по трети, а то и половине евреев. Тем более многие просто не выдерживали пытки ожиданием и накладывали на себя руки. Самые необычные самоубийства были материнские, когда женщины сначала душили собственных детей или вскрывали им вены, а затем убивали себя.
Грозный пошел умыть лицо и выпить кофе: теплый спирт, так неосмотрительно выпитый и теперь будто застрявший в горле, все еще давал о себе знать, более того, сильно крутило живот. В последние несколько дней Иван часто страдал от поноса, он часами просиживал в ненавистном деревянном сортире, уставившись в нетесаную, грубую доску с вырезанными на ней буквами и рисунками, чувствовал ползающих по коже мух и вдыхал вонь обжигающей горло хлорки, смешавшейся с душком разогретых на солнце испражнений, – все это не могло не раздражать. Привыкнув к особенной крепости собственного организма, Грозный воспринимал подобные сбои как тревожный звоночек; что-то подсказывало ему – эти недомогания были связаны с ночными кошмарами, которые так неожиданно ворвались в его жизнь.
Умыл лицо ледяной водой, открыл термос. Допил остатки теплого кофе, после чего решил заварить себе чифирь, чтобы прочистить горло и скрепить желудок. Разжег дрова, сложенные в буржуйке, хотя понимал – из-за этого в бараке станет еще жарче; подкинул бересты, высыпал в алюминиевый чайник четыре пачки чаю и повалился на койку, уже прибранную евреем, с постеленным на нее свежим матрацем и новым одеялом. Пол тоже был чисто вымыт, доски разбухли отводы и порошка. Из-за разгоревшейся печурки стало совсем трудно, со лба текло ручьем; Грозный решил подождать чифирь на улице, вышел из барака и лег у стены на тенистой стороне, скинул сапоги, размотал портянки и пошевелил пальцами.
Глядя на свои грязные пальцы с отросшими, загнутыми, как ястребиные когти, ногтями, почувствовал то же, что обычно случалось с ним ночью, но теперь он не спал, и это было в диковинку: Ивана сдавило, начало тянуть, царапающее движение по спине вызывало болезненную дрожь. В уши вползал хрипящий шепоток, перерастающий в шелестящий вой и скрежет. Украинец захотел встать, но все тело сковало, ему казалось, он закостенел, начал рассыпаться на песчинки, всасываемые в какой-то водоворот. Две вышки и заграждение из колючей проволоки на фоне сосновой рощи с синим небом начали отслаиваться, как взмокшие обои, оставляя после себя только черные рваные пропасти. Облака налились багрянцем, превратились в густую пелену. Подул пронзительный ветер, будто клыки впивающийся в тело мелкой каменистой крошкой. Иван смотрел на свои руки, он видел, как ветер срывает с него кожу, распыляя кроваво-красную плоть в пыль, обнажает его, свежует, как говяжью тушу. Земля под ногами стала жидкой, Грозного резко рвануло вниз. Сердце сдавило и начало выталкивать через горло, он нырнул в абсолютную тьму, колеблющаяся болотная жижа – черная вода – начала втекать в глотку длинным червем. Украинец метался, пытался кричать, но не мог даже пошевелить губами, кровавый туман обволакивал все пространство, черные дыры слились в одну, и Ивана точно сорвало, сбило оплеухой.
Тут же начали проскальзывать сгустки, различимые на фоне черноты, они колебались, как огонь, вздрагивали, будто тенистые крылья, от них исходил сковывающий холод. Оглушительный вой; хриплая, загробная одышка нарастала. Вскипевшая тьма вращалась перед глазами сумасшедшим пузырчатым вихрем, Ивана рвало на части, трепало и бросало из стороны в сторону, он задыхался, но не мог двинуть даже пальцем, казалось, потерял связь с собственным телом, мог теперь только слышать, видеть и чувствовать. Наконец все оборвалось.
Грозный открыл глаза: перед ним на вышке расхаживал травник с сигаретой во рту, молодой парень высморкался большим пальцем, а затем вытер руку о китель. Колючая проволока, мохнатая от маскировочной хвои, чуть подрагивала на ветру, колебалась, напоминая шерсть какого-то страшного зверя. В сотне шагов от Ивана прошел еврей из зондеркоманды, он волоком тащил на ремне тела двух девушек, которых Грозный с сослуживцами только что насиловали. Украинец сразу узнал свою жертву – тело казалось пустым, высосанным изнутри, а потому болталось из стороны в стороны, подпрыгивало на кочках и камнях. Откуда-то из глубины лагеря донесся пьяный голос:
– Под вечо-о-р мы гуляли, Наташа целовала мене… Ой, при лужку, да при широком поли-и-и…
Песня оборвалась, захлебнулась.
Грозный по-детски сжался, обхватил себя руками и начал плакать, даже не думая о том, что его непременно кто-нибудь увидит. Разжал слипшиеся, мокрые от слез губы, а потом закрыл ладонями лицо. Стало тихо – так, как никогда еще в жизни.
Неизреченное молчание,
опеплившаяся немота,
обезвоженность,
судорога тишины.
Первая акция ликвидации гетто – большая – длилась с июля по сентябрь 1942-го и унесла жизни около трехсот тысяч человек, оставив в квартале к январю 1943-го не более пятидесяти тысяч. Остальные погибли от голода и эпидемий за время существования гетто: изначально в еврейском квартале проживали чуть меньше полумиллиона человек. Из-за депортации ряды групп сопротивления сильно поредели; в иных, раньше насчитывавших по пятьсот бойцов, осталось не больше тридцати.
Большая акция застала всех врасплох: сестра Отто, Дина, попалась в руки немцев уже в первый день, ее схватили на площади Мурановского и отправили в Треблинку вместе с тысячами других. Мать удалось спасти, она проживала сейчас на арийской стороне в подпольной квартире, где в большой печи было оборудовано убежище для пятерых человек. Они не имели возможности выйти даже в ночное время, так как соседи слышали каждый шаг друг друга и с большим удовольствием писали доносы. Добровольные заключенные лежали в темноте и слушали стук собственных сердец.
Тысячи евреев каждое утро выстраивались в колонны перед зданием юденрата и под конвоем отправлялись вдоль улиц Заменгоф и Генся на арийскую сторону, к заводам, мастерским и фабрикам. Изможденные подростки и мужчины с грязными нарукавными повязками и рабочими номерами на груди шагали, понурив голову, из-под палки напевая ненавистную уже, набившую оскомину песню.
На улицах гетто царило запустение. Днем и ночью, несмотря на комендантские часы, от дома к дому слонялись пугливые тени, они собирали в пустых квартирах оставшиеся крохи, способные поддержать в них зачахшую от голода жизнь, ступали по полу, засыпанному посудой и сломанной мебелью, соскребали в карманы останки чужого быта и убегали прочь, озираясь по сторонам.
Для Эвы Новак сопротивление организовало побег: офицер SS, отвечавший за приведение смертного приговора в исполнение, получил солидную взятку и в нужный момент отвернулся от девушки, так что она сумела скатиться в канаву, из которой видела, как у изгрызенной пулями кирпичной стены расстреляли шеренгу истощенных женщин и мужчин, поляков и евреев. Теперь Эва числилась в списках казненных, но в действительности уже почти год жила в гетто, где ее укрывал Отто, сумевший выходить девушку после гестаповских пыток. Обожженные ступни, сломанные руки… Но больше всего Эва боялась ампутации и беременности после изнасилования. Приведенный Айзенштатом врач после осмотра успокоил девушку: ничто из этого ей не угрожало. Ноги Эвы спасло то, что в камере, куда ее бросили после пыток, девушке обработали раны и сделали перевязку; уже через полгода она даже не хромала, а вот сросшиеся кости рук до сих пор давали о себе знать ноющей болью, полностью распрямить и вытянуть руки не удавалось.
Отто и Марек вступили в ряды боевой группы «Дрор». В качестве проверки они получили задание ликвидировать Изяслава Хейфеца, одного из разоблаченных осведомителей гестапо. Отто ждал его в прихожей взломанной квартиры, сидел в темноте на низком табурете, закинув ногу на ногу и уставившись на пару вычищенных хромовых сапог, – со времени оккупации длинные офицерские сапоги стали популярны среди тех евреев, кто пытался подчеркнуть свое особое положение и близость с немецкими властями. Марек тем временем обыскивал стол Хейфеца, в котором нашел копию отправленного в гестапо отчета, а также четырнадцать тысяч злотых, – на эти деньги можно было достать через черный рынок пистолет с патронами и две гранаты.
Талантливому скрипачу постоянно не хватало хорошей музыки, во время войны потребность в ней возросла особенно сильно, она стала болезненной жаждой; вот и сейчас, обыскивая стол, Марек вспоминал несколько своих любимых аллегро у Вивальди и мысленно отрабатывал их игру. Когда Отто привел брата знакомить с Хаимом, тот с недоверием покосился на костлявого Марека: профессия младшего Айзенштата не внушала оптимизма представителю боевой организации. Но, всмотревшись в сощуренные, хищные глаза, Хаим почувствовал в музыканте силу, это расположило его. Обоим Айзенштатам претила любая политическая ориентированность, не говоря уже о социалистических убеждениях членов группы «Дрор»: оба считали коммунизм не меньшим злом, чем нацизм, однако это беспокоило братьев лишь между прочим, они сошлись во мнении, что коммунизма необходимо опасаться в будущем, а от фашизма – спасаться здесь и сейчас.
Сгорбившись, прижавшись плечом к стене, Отто думал о том, что ему впервые предстоит убить человека. Тяжесть револьвера с тремя патронами напоминала о себе, оттягивала брюки, но архитектор уже решил: застрелить Изяслава – слишком просто. Ему как мужчине был необходим полноценный урок, более ощутимая инициация через грех человекоубийства, да и каждый боеприпас – настоящая драгоценность. Он предпочел приберечь лишний патрон для немецкого солдата.
Отто достал из брюк ремень и приготовил удавку.
Хейфец загремел ключами после полуночи: теперь комендантский час занимал большую часть суток, давая евреям возможность выходить на улицу только в течение двух часов с утра и двух часов вечером, в остальное время из домов высовывались лишь отъявленные самоубийцы, изнемогшие от голода, или такие уверенные в себе господа в хромовых офицерских сапогах, как Хейфец. Все-таки придерживая револьвер, – так, для страховки, – Отто стоял в темном углу за дверью. Когда Изяслав вошел, архитектор секунду поколебался, глядя на небритую шею с легкой проседью, а потом обхватил кадык ремнем и навалился локтями на плечи, уставившись в перхотную макушку; залысина размером с грецкий орех наливалась кровью, становилась багровой. Хейфец кряхтел и взбрыкивал, сшибая обувь, потом раздался утробный треск, запахло экскрементами, штанины предателя стали липкими и тяжелыми, Отто почувствовал на своей ноге отвратительное, пахучее тепло. Изяслав зацепил ногами табурет, с грохотом повалившийся на пол, он пытался пинать Отто, но не доставал; удавка затягивалась все туже.
Услышав возню, всхлипы и шорохи, Марек вышел в коридор с ножом в руках, чтобы удостовериться, что у старшего брата все под контролем. Скрипач впился презрительным взглядом в побагровевшие глаза извивающегося Хейфеца – тот узнал его и пошевелил губами, пытаясь что-то сказать, но издал только сиплый хрип, бессильный и жалкий. Вцепившиеся в архитектора пальцы оторвали от его пальто несколько пуговиц, впились ногтями в кисти его рук, расцарапав до крови, но вскоре обмякли, и Хейфец гулко стукнулся затылком об пол.
Наконец по квартире расползлась тишина, тягучая и вязкая, как кисель. Марек смотрел на безжизненные опавшие руки с обломанными ногтями. Один сапог Хейфеца слетел, и его неподвижная ступня почему-то приковала к себе взгляд обоих братьев. Несколько минут Айзенштаты молча стояли, не в силах пошевелиться, но вот Отто достал из-за пазухи веревку и начал обвязывать тело; Марек сразу как будто очнулся и принялся помогать. Они вытащили убитого в подъезд и повесили на перилах лестничной площадки, сбросив в пролет, чтобы сделать казнь более наглядной. Из штанин трупа вывалилась клейкая вонючая масса и с влажным шлепком разбилась о бетонный пол. Хейфец провисел так до самого утра, похожий на маятник остановившихся часов.
Марек и Отто отчитались перед боевой организацией в выполненном задании, вернули в штаб револьвер и передали добытые деньги с бумагами. Успешность и дерзость совершенной казни, сэкономленные патроны, а также продемонстрированное бессребреничество – все это сделало братьев Айзенштатов своими людьми среди подпольщиков. Хаим потом признался Отто, что такая проверка не доставалась почти никому, просто этот Хейфец подвернулся аккурат в тот момент, когда белоручек Айзенштатов, как их изначально окрестили, нужно было посмотреть в деле. В ответ Отто лишь пожал плечами, теперь ему было уже все равно. Он прислушивался к себе, пытаясь понять свои чувства: радость, что сделан первый шаг на пути борьбы, смешивалась со странной горечью, ощущением оскверненности, запятнанности, он остро ощущал, что после этого убийства нечто очень круто изменилось в его жизни, и он уже никогда не станет прежним. Архитектор внушал себе: горечь вызвана непривычностью содеянного. Впрочем, ему помогало отвлечься сознание, что он показал себя с лучшей стороны, завоевав уважение новых товарищей, но все-таки эта странная тоска не оставляла его.
После операции Еврейская боевая организация, как обычно, распространила листовки, где оставшимся жителям гетто сообщалось, что Хейфец казнен руками борцов подполья, – это поднимало авторитет организации и приносило обитателям квартала если и не чувство защищенности, то по крайней мере вкус свежего ветра перемен, а главное, казнь становилась назиданием для других пособников немцев. Каждый боец сопротивления чувствовал себя частью одной великой семьи, где все готовы умереть друг за друга, в то время как мирные евреи совсем обмякли; их воля была раздавлена, они смотрели друг на друга глазами висельников, терпели любое унижение от немцев и польских грабителей, которые наведывались в гетто. Длящийся два года голод, вши, расстрелы, эпидемии, постоянный страх окончательно доконали и сломили их. Сознание обросло циничной коркой, любые эмоции казались непристойно пафосными и до приторности наивными: если кто-то смертельно заболевал, соседи и знакомые только завидовали, что человек, умерший естественной смертью, избежит Треблинки.
В понедельник, 18 января 1943 года, ранним морозным утром белое солнце осветило смрадные улочки гетто. Льдистое матовое небо розовело рассветом. С ночи жители гетто беспокойно прислушивались к нарастающему шуму за стеной квартала, а утром стало ясно, что его полностью оцепили немецкие войска, аскари и польская полиция – «синие». Построившихся на площади перед юденратом рабочих схватили первыми, их сразу отправили на Умшлагплац. По улицам расхаживали отряды эсэсовцев и травников, они хватали людей и гнали к платформе. Пытавшихся убежать и спрятаться догоняли пули, которые равнодушно прошивали затылки; распластанные тела падали на холодные камни – началась вторая акция. Из больницы вытолкнули всех, кто мог ходить, и отправили к эшелонам. Тяжелых больных решетили из автоматов, пуская кровь на белые простыни и стены, колбы вдребезги разлетались, окна плевались стеклами. За сорок минут дорогу к Умшлагплацу плотно покрыли агонизирующие тела, несчастные отхаркивались кровью, цеплялись руками за мерзлый бордюр. Внезапность нападения позволила немцам в первые три часа захватить около пяти тысяч человек, после чего улицы опустели: жители затаились. Отряды начали вламываться в дома и искать спрятавшихся.
Одна из групп «Дрора» заняла позиции на третьем этаже дома 58 по улице Заменгоф. На сорок человек бойцов, среди которых было с десяток девушек, в отряде имелись четыре револьвера и три гранаты, те, кому не хватило оружия и боеприпасов, взяли стальные прутья, ножи, кастеты и штальрутки – латунные трубки, помещавшиеся в кулак. Стоило встряхнуть такую трубку, как она раздвигалась в длинную палку, превращаясь в опасное оружие ближнего боя. Марек сжимал в руках деревянную дубинку с несколькими бритвами на конце, Отто держал на изготовку бутылку с зажигательной смесью, в которую помимо горючего было добавлено растительное масло, чтобы смесь не растекалась и не прогорала слишком быстро.
Отто переглядывался с Эвой Новак, они многое хотели сказать друг другу, но, с тех пор, как оба присоединились к сопротивлению, старательно пытались скрыть от остальных свое чувство, хотя почти все члены группы знали об их любви и лишь делали вид, будто это тайна. Айзенштат считал, что во время войны есть место только для общего дела, а любовь – неслыханная для военного времени роскошь, он сдерживал себя, стараясь держать дистанцию. Эва же как истинная женщина смотрела на это иначе и была убеждена, что для любви есть время всегда и везде и ни для чего, кроме любви, больше и нет места в жизни. Однако ради Отто она согласилась играть во взаимное равнодушие. В те дни, когда измученная девушка с перебинтованными ногами и руками лежала в квартире архитектора, они стали еще ближе. Отто смотрел на нее по утрам: холодная красота Эвы напоминала женщин с полотен Северного Возрождения, особенно «Мадонну с младенцем» Хуго ван дер Гуса, – лицо и плечи, будто отлитые изо льда, казались недосягаемыми.
Архитектор не отходил от Эвы. Теперь, когда он потерял сестру и расстался с матерью, его чувство к девушке обострилось – самой сильной любовью способен гореть только безнадежно одинокий человек. Первое время Эва бредила ночи напролет: мокрая от пота, она металась и кричала; вены и сухожилия, похожие на корни дерева, проступали сквозь горящую, покрасневшую кожу. Девушка пыталась отмахиваться руками и карабкаться на стену, будто стараясь убежать от чего-то незримого и страшного, наступающего на нее извне; в эти минуты ее приходилось держать за плечи, успокаивать и умывать холодной водой до тех пор, пока она наконец не утихала и не засыпала. На третий день Эва очнулась и посмотрела на Отто незнакомым, каким-то пугающе новым взглядом – Айзенштат содрогнулся от прикосновения к их опаленной, наполненной мукой голубизне. В нем вдруг поднялась такая тоска, что он не удержался и начал целовать влажные от пота руки. Эва подняла к архитектору лицо, Отто прижался к нему губами. Это был их первый поцелуй.
Впервые увидев глаза Эвы почти сразу после переселения в гетто, Отто задрожал, он замер, не в силах поверить, что действительно видит их – до ужаса знакомые, первородные, святые, порочные глаза. Все лучшее и худшее, божественное и демоническое, что ощущал в себе Отто, он читал и в этих удивительных глазах. Эва испытала нечто похожее, она тоже не могла отвести от него взгляда.
Может быть, именно из-за сложности вызываемого девушкой чувства и происходивших в нем перемен Отто так пугало накатывающее на него временами острое животное влечение, дающее о себе знать режущим, рваным толчком, когда он смотрел на тело девушки или бегло прикасался к ее теплой спине, рукам, животу. Ему казалось, что в физической страсти, которую он испытывал со многими другими женщинами, есть что-то чужеродное и низкое, что она может осквернить целомудренность его первой любви. Эва не могла понять странного поведения Отто. Ей, женщине, для полнокровности любви были необходимы сильные чувственные ощущения, она нуждалась в сладкой муке телесного соприкосновения с любимым человеком. Отто, однако, избегал даже самых невинных касаний, пытаясь сберечь непривычную ему детскость отношения к любимой. Это злило Эву и ставило в тупик.
Через несколько месяцев после побега Эвы Отто как-то вернулся домой в неурочное время и застал девушку за купанием. Она стояла на одной ноге в большом алюминиевом тазу, держа на весу вторую, укутанную толстым слоем бинтов. Неловкими движениями зажившей руки она влажной губкой смывала с себя пену, придерживаясь ладонью за стену. Отто отвел глаза от ее белых бедер, от груди, от тонкой ложбинки посередине спины и ямочек над ягодицами. Огромные фиолетово-черные шрамы и длинные рубцы от плетей нисколько не уродовали это тело в его глазах.
Эва прикрыла грудь, заволновалась и, не удержав равновесия, повалилась на пол, опрокинув таз с мыльной водой, которая разлилась по деревянному полу. Отто кинулся помогать, укутал обнаженное тело большим полотенцем, взял на руки, перенес на кровать. Он нежно поцеловал сморщенные от горячей воды пальцы, а потом сжал ее руку. После изнасилования в гестапо девушке долгое время казалось, что она больше никогда не захочет близости ни с одним мужчиной, однако, когда ее обнаженное тело, укрытое полотенцем, оказалось в руках Отто, она особенно остро ощутила, что хочет принадлежать ему, покориться и уступить натиску, которого все не было… Отто почувствовал ее желание и смутился еще сильнее.
Архитектор оглядел комнату, где притаились бойцы его группы. Эва сидела у стены с санитарной сумкой, сдвинув на шею черный платок. Улыбалась возлюбленному одними только глазами, смотрела с ласковым укором. Война раздражала Эву, мешала жить и любить, но девушка понимала: противостояние необходимо, чтобы все эти ужасы поскорее закончились. Хаим сосредоточенно следил за улицей и щелкал суставами пальцев. Его голову украшала красная шерстяная повязка. У Марека подрагивало правое веко, такое случалось с ним, когда он не мог совладать с волнением. Он залез на железную койку и поджал под себя ноги, прислушиваясь к звукам на лестнице. Яцек стоял на лестничной площадке и нервно поглядывал вниз, поглаживая ладонью рукоять массивного ножа. Кто-то из бойцов читал книгу, другие просто устроились на полу с закрытыми глазами. В воздухе пульсировало болезненное ожидание. Несмотря на зимний холод, ощутимый в нетопленых квартирах гетто, сейчас всем было жарко.
Наконец раздалось несколько взрывов – все как один вскочили на ноги и подались к окнам.
Хаим процедил:
– Это с соседнего перекрестка Заменгоф-Низка… там сидят шомры[38] с Анилевичем… Жаль, слишком далеко… нам нельзя выходить, все остаются на местах. Ждем немчуру здесь, будь она проклята… Рано или поздно заглянут сюда…
Бойцы «Ха-шомер ха-цаир» во главе с двадцатичетырехлетним Мордехаем Анилевичем, дождавшись, когда колонна с взятыми евреями поравняется с их засадой, бросили в сопровождавших ее эсэсовцев гранаты. Несколько немцев были убиты и контужены, а колонна разбежалась. В ней шли халуци, застигнутые врасплох, без оружия, к которым и поспешил на выручку Мордехай со своими людьми. Товарищи из колонны подняли оружие раненых немцев и открыли огонь. Слетевшие каски солдат ударялись о мостовую, разбитые свистящими пулями кирпичи сочились багровой крошкой. Потом все стихло. Немцы отступили.
Группа Анилевича забаррикадировалась. Бойцы завалили мебелью двери и окна первого этажа и стали дожидаться врагов.
На шум выстрелов и взрывов прибыл взвод немецких солдат. Завязалась плотная перестрелка. Эсэсовцы задирали головы и целились в огоньки выстрелов, искрящихся в темноте мрачного, безжизненного дома – самих стрелявших не было видно. На серые каски сыпались пули. Немцы укрывались в каменных арках и переулках, стреляли из-за углов. Бутылка с зажигательной смесью разбилась об асфальт, вспыхнуло бесполезное огненное пятно, испуская черный дым; следующая бутылка разбилась о стену и зацепила одного обершутце, облизнув его спину и рукав; солдат выронил карабин и начал кататься по земле, пытаясь стряхнуть с себя пламя. Двое эсэсовцев подобрались к дому короткими перебежками, прижались к стене, достали гранаты и бросили в окна: одна залетела на третий этаж, дом выплюнул облако рваной пыли и стекол, смешавшихся с дымом; вторая отскочила от подоконника и полетела назад, взорвавшись над самыми головами немцев, изрешетив лица обоих в кашу, нашпигованную осколками, – обезглавленные немцы замерли на мостовой кучами тряпичных останков в сапогах.
Otto смотрел в окно, сжав зубы. Его разрывало нетерпение, он подошел к Хаиму:
– Мы должны им помочь… давай зайдем со спины…
Хаим непреклонно качнул головой:
– Говорю же, нельзя, архитектура… с четырьмя нашими револьверами только на улицу выходить. Я не собираюсь людей на смерть вести! Ждем здесь и ввязываемся в ближний бой… используем эффект неожиданности…
Отто признал резонность аргумента, но от этого было не легче. Каждый из бойцов прекрасно знал, что забаррикадировавшимся в доме на Низкой осталось жить несколько минут…
Перебегая от окна к окну, Анилевич упирался магазином МР-38 в подоконник и жал на спусковой крючок – раскалившийся ствол стрекотал и дымился, пуская стригущие очереди. Граната, брошенная немцами, разорвалась этажом ниже, так что ступни отбило горячим, задребезжавшим полом. Плита выдержала взрыв, только с потолка повалилась штукатурка. Кирпичная крошка летела за шиворот и резала глаза. Услышав взрыв на третьем этаже, Мордехай болезненно поморщился – внизу были позиции двух его товарищей.
Элик Ружанский, стоявший рядом, стрелял из винтовки, целясь сквозь дым в серые контуры, которые укрывались в закоулках первых этажей. Прострелив горло одному солдату, он видел, как немец повалился в снег и начал затыкать рану пальцами, кровь заливала улицу и окрашивала снег цветом смерти. Рита Дахан, высокая стройная девушка с заостренными чертами лица и длинными черными волосами, спустилась на второй этаж, чтобы стрелять наверняка. Все входы на первом этаже были завалены мебелью, поэтому за тыл она не боялась. Рита взяла у убитого товарища еще один пистолет и теперь сжимала в руках Luger и польский VIS.35, прицеливаясь и нажимая спусковой крючок то на одном, то на другом оружии. Дахан подходила к окну, выжидала, когда кто-нибудь из солдат высунется, прицеливалась и стреляла. Грязные распущенные волосы выбивались из-под заколки и раскачивались лошадиным хвостом, Рита походила на взбешенную фурию: извивающиеся змеями побелевшие от известки локоны, ненавидящие глаза, раскрытый от частого дыхания и криков рот. На четвертом этаже замолчала винтовка, сердце Риты сжалось, но через минуту к автоматным очередям Анилевича присоединились пистолетные щелчки, девушка улыбнулась и, выбрав удачный момент, прострелила разбегающегося с гранатой солдата – тот закинул автомат за спину и уже размахивался для броска, но девушка четырьмя выстрелами перебила ему плечо и грудную клетку, так что граната рванула у него в пальцах. Немца разметало в кровавую пыль, оставив на асфальте только две ноги и левую руку – блестящая каска метнулась вверх, ее сбило, как щелбаном, выдавило в воздух бутылочной пробкой. На пятое нажатие спускового крючка Luger Риты щелкнул беспомощным звуком пустоты.
Обрадованная удачным выстрелом Дахан подпрыгнула, как школьница, и закусила губу. В ее окно посыпались пули, и девушка соскочила на пол, прикрыла голову руками, не разжимая рукоятей своих пистолетов. Потом убрала в карман пустой Luger, проползла на четвереньках к соседнему окну, зажала VIS двумя руками и аккуратно высунулась. Ее снова чуть не срезала автоматная очередь. Девушка повалилась на колени и закашляла от попавшей в грудь пыли и мелких каменных осколков. Прижавшись к стене, осмотрела свое тело и даже удивилась, что до сих пор не ранена. Решила умереть рядом с братьями по оружию, поэтому проползла к лестнице и поднялась наверх – на третьем этаже лежало несколько неподвижных тел. Рита подошла к ним и дрогнула. В груди защекотало, она посмотрела на дорогие ей лица – обожженные, с блестящей, вздувшейся кожей и расплавленной одеждой, приклеенной к неловко застывшим, окоченевшим телам. Вспоротые животы убитых, нашпигованные осколками, кровоточили, а ветер бросал на трупы горсти снега, который словно торопился стыдливо прикрыть своей белизной язвы войны.
Рита собрала подле убитых несколько патронов от винтовки, хотя самого оружия не нашла, потом подняла старенький наган – эхо Российской империи – и проверила барабан, в котором золотились четыре патрона. Сжала револьвер в левой руке и взвела курок, после чего поднялась на четвертый этаж. Анилевич стрелял из автомата одиночными, а Элик оперся спиной на стенку, он лежал лицом к Дахан и хрипел, сплевывал кровь себе на грудь. Пол под ним залило кровью, нога нервно дергалась. Пистолет и винтовка лежали рядом. Услышав за спиной шаги, Анилевич сел на пол и оглянулся. В его глазах отразилось удивление:
– Ты жива, Ритка. Что с остальными?
Девушка опустилась рядом с Мордехаем и заглянула в его глаза, с торопливой нежностью посмотрела на красивое лицо, блестевшее от пота, на почерневший лоб и оранжевые от глинистой крошки растрепанные волосы.
– Все мертвы… Все мертвы, – повторила, сама не зная зачем. Анилевич не ответил, снова поднялся и продолжил стрельбу, но уже на втором выстреле его автомат беспомощно щелкнул. Проверил все магазины – пусты.
Поймав на себе взгляд Элика, Рита посмотрела на него. Ружанский прохрипел:
– Возьмите винтовку, там еще два патрона…
Девушка подбежала к Элику и положила на окровавленную грудь свою руку с револьвером:
– Я тебя сейчас перевяжу…
Элик покачал головой:
– Глупость… стреляй, Ритка.
Он дернул рукой, потянулся к винтовке, как будто хотел подать ее девушке, но обессиленно зажмурился и как-то сразу осел, став неподвижным.
Рита положила на пол VIS с наганом, подняла винтовку и вогнала в нее еще пару патронов, взятых на третьем этаже, после чего бросила оружие Мордехаю и снова взялась за две своих еще горячих рукояти. Анилевич поймал винтовку резким движением руки, вскинул ее на плечо, прицелился и выстрелил. Дахан подбежала к окну другой стены и высунулась. Увидев множество блестящих касок, она успела сделать только несколько выстрелов, и по ней хлестнула струя огнемета: волосы вспыхнули и моментально стлели, кожа на лице треснула, начала лопаться. Комнату озарило огнем, Рита закричала и перевалилась через подоконник, выпав из окна пылающим факелом. Анилевич в ужасе смотрел на лежащее внизу горящее тело. Вторая струя огня пришлась по нему, но он успел повалиться на пол и откатиться к лестнице. Запах жженного мяса спровоцировал рвотный позыв, но Анилевич пересилил себя. Деревянные рамы окон затрещали, крыша дома загорелась, и помещение наполнилось дымом. Яркие языки перекинулись на обои и мебель. Анилевич спустился по лестнице на второй этаж, откуда увидел двух огнеметчиков, – прицелился и нажал спуск, но в спешке промахнулся. Дыхание было сбито, он запыхался, наглотался дыма, сильно кашлял. Передернув затвор, выстрелил снова и перешиб солдату кисть. Огнеметчики пригнулись и спрятались за стеной, после чего по окнам прошлась пулеметная очередь – боец отбежал к противоположной стене и увидел, что дом окружен со всех сторон. Новая струя огня облизнула дом все с той же стороны. Обильный пот делал одежду тяжелой, сковывающей. Ноги хлюпали в горячих ботинках.
Точным выстрелом он все-таки срезал еще одного солдата, прошил ему живот – подкошенный немец скрючился и повалился на дорогу, поджав под себя ноги. В окно залетела очередная граната, но Анилевич успел спрыгнуть на первый этаж, и его только немного контузило взрывом. Пальцы дрожали, а голова ломилась от режущей боли и звенящего шума. Посмотрел по сторонам несколько раздвоившимся взглядом, не чувствуя своего тела, тряхнул головой, попытался собраться, и онемевшие мускулы подчинились. Поднимать лежащую рядом винтовку не стал – патроны уже закончились.
Встал, быстрым шагом двинулся по коридору первого этажа. Стараясь убежать подальше от горящей части, ворвался в одну из квартир. Споткнувшись о поваленный комод, чуть было не упал, но удержал равновесие. Перешагивая через разбросанную одежду, подошел к окну с выбитыми стеклами. Сквозь раскачивающуюся на ветру зеленую занавеску, растянутую по комнате длинным шлейфом, увидел только одного солдата, стоявшего к нему спиной, в двух шагах от окна. Эсэсовец прижался к стене, повернувшись в противоположную сторону – туда, к пылающей части дома. Мордехай осторожно шагнул на подоконник, чтобы стекла не хрустели под ботинками, и прыгнул на солдата, – схватившись за его винтовку, вырвал оружие из рук и забил немца прикладом, после чего рванул в проулок между двух домов, где спустился в подвал соседнего дома, разбив узкое прямоугольное оконце. Оказавшись внутри, Анилевич перебрался на другую сторону улицы.
Наблюдая за боем, члены группы «Дрор» услышали топот кованых сапог на лестнице и замерли. Хаим подал знак рукой, чтобы все заняли свои места. В прихожей остались сидеть только Захария Артштейн и Генех Гутман, они держали перед собой книги и делали вид, что читают, остальные тридцать восемь бойцов спрятались в других комнатах, туалете и на кухне.
Эсэсовцы ворвались в квартиру. Наткнувшись на читающих евреев, они опустили оружие и пошли проверять остальные помещения. Захария спокойно положил книгу, вытащил из-под стола руку с пистолетом и несколько раз выстрелил в спины солдат. Один эсэсовец повалился ничком, ударившись каской об пол. Испуганные немцы кинулись обратно к дверям, но Гутман и еще двое бойцов обрушили на них град пуль, второй немец мертвым грузом покатился по лестнице вслед за отступавшими ранеными. Эсэсовцы отстреливались почти не глядя, но слепая автоматная очередь все-таки разорвала грудь «дроровского» бойца, низкорослого плотного еврея с черными кудрявыми волосами. Тело убитого товарища положили на стол, накрыли пледом и решили похоронить в том случае, если смогут вернуться. Теперь нужно было уходить.
Собрав оружие и боеприпасы убитых немцев – карабин 98k, МР-40, четыре подсумка с патронами, два штык-ножа и несколько гранат – и сделав еще несколько выстрелов в сторону убегающих солдат, члены группы поднялись на чердак, выбрались на крышу через люк. Пригнувшись, отряд цепочкой двинулся по скользким, круто наклоненным крышам. Марек поскользнулся, упал на спину и покатился по холодному железу, собирая снег полами своего черного бушлата, но его успел схватить не отходивший ни на шаг Отто, уцепившийся за край люка. Он подтянул к себе Марека и помог встать.
– Курва, мать фашистскую, сучонок… чуть не слетел…
Скрипач выдохнул, отер лоб и поднялся на ноги. Отто бросил взгляд на горящий дом, потом нашел глазами спину Эвы и продолжил путь, хватаясь за торчащие гвозди, углы кирпичей и деревянные перекладины. Столб дыма, пронизанный солнечным светом, приковывал к себе все взгляды, однако никто из идущих не рассчитывал дожить до завтрашнего дня и горе расставания с убитыми умеряла мысль о том, что разлука не будет долгой. Снизу доносились крики немцев.
Казалось, сиротливые крыши гетто вывели идущих в новое, непривычное измерение; они внушили Отто обманчивое ощущение безопасности. Война будто отступила и не могла до них дотянуться, но отдыхать было нельзя, и Отто торопился, поддерживая Эву под локоть и поглядывая время от времени на младшего брата, бредущего следом; Марек с жадностью всматривался в каждую крупицу мира, он чувствовал умиротворяющее дыхание зимы, наслаждался отсутствием грязи и трупов; в нем кипели злоба, жажда мести, но рядом с этими тяжелыми чувствами таилась и тихая радость свободного, гордого человека, сделавшего правильный выбор.
Наконец отряд добрался до своей цели – дома 44 на улице Мурановска. Бойцы спрыгивали в тепло раскрытого люка и зажимали под мышками раскрасневшиеся от мороза пальцы, изодранные обледенелой кровельной жестью, прилипающей и дерущей кожу. Изо рта поднимались клубы белого пара. Скрип ремней и тяжелый стук ботинок, шумное дыхание людей наполнили загудевший дом. Теперь можно было отдохнуть, перекусить и погреться. Выставив часовых, отряд отправил связных к другим группам «Дрора».
Смуглолицый Хаим сидел на табурете и потирал выросшую щетину; на голове поверх красной повязки блестела серая каска с рунами SS, снятая с убитого немца. С тех пор, как всю семью Хаима отправили в Треблинку, он стал еще мрачнее, в насмешливых глазах светилась нескрываемая ненависть. Ироничный острослов Хаим теперь почти все время молчал, казалось, он не желал разменивать свою ненависть на лишние слова и взращивал под сердцем настоящую бурю, готовую по первому его щелчку прорваться в мир. Хаим зажал карабин между коленями, вытянул промокшие от снега ноги и прикурил сигарету.
Рядом с ним примостился девятнадцатилетний щуплый юноша в круглых очочках – Ян Гольдберг, недоучившийся студент Медицинской академии. Он, как и Эва Новак, вызвался помогать сопротивлению в качестве санитара. На груди его висела защитного цвета сумка, за спиной торчал большой рюкзак с провизией. Убедившись, что никого не ранило, он достал из рюкзака две буханки хлеба и кусок сыру. Ловко орудуя перочинным ножом, юноша передавал по цепочке маленькие бутерброды, чтобы бойцы немного подкрепились.
Отто снова прокручивал в голове последние события, вспоминал каждого убитого немца и еврея. Лежа на сложенном вдвое пледе, он посмотрел на свое пальто с оторванными пуговицами – перед глазами промелькнул перхотный затылок и багровая лысина казненного Хейфеца, его вытянувшееся на веревке, раскачивающееся тело. Теперь шелест пуль зазвучал для архитектора по-новому, он больше не наблюдал войну со стороны, а находился в самой ее гуще. Он вдруг отчетливо осознал, что осталось жить считаные часы, в лучшем случае дни. Как будто опомнившись, Отто резко встал, подошел к Эве и взял ее за руку. Девушка с удивленной улыбкой посмотрела на возлюбленного, впервые при всех позволившего себе проявление нежности. Заглянув в его серьезные глаза, она поднялась и пошла следом за Отто в дальнюю пустую комнату.
Когда они оказались наедине, архитектор крепко обнял девушку:
– Я такой дурак, Эва… не сегодня завтра умрем, а я, как школьник, собственных чувств боюсь… Последние минуты проживаем, а я в равнодушие тебя заставляю играть… Прости подростка, идиота… Я такой нелепый в любви… я не умею просто, понимаешь? Не горел так никогда… Слышишь?
Otto обхватил лицо девушки ладонями. Эва улыбнулась и провела кончиками пальцев по его щетинистому подбородку с ямочкой:
– Наконец-то слышу разумные речи, а то уже устала сдерживать себя… ни прикоснуться лишний раз к тебе, ни посмотреть в твою сторону. Измучил меня, изверг, – ударила его в грудь ласковым кулаком.
– Ну-ну, не буду больше.
В комнату вошла Роза Фридман – ширококостная, невзрачная, с мужиковатыми невыразительными чертами лица. Роза сделала вид, будто кого-то ищет, хотя прекрасно знала: здесь уединились Эва и Отто. Она не была влюблена в Айзенштата и нисколько его не ревновала, просто завидовала тому, что медсестра и архитектор так любят друг друга. Роза мечтала о любви еще больше, чем об окончании войны. Она, пожалуй, даже предпочла бы наблюдать за тем, как весь мир тонет в крови, проливаемой войной, не знающей ни победителя, ни побежденного, только бы для себя самой найти великое и сильное чувство – полнокровное, зрелое и взаимное. Настоящее. У нее были связи с несколькими бойцами сопротивления, но эти отношения походили, скорее, на попытки убежать от ночного одиночества и забыться в своем теле.
Сейчас Роза вошла в комнату, только чтобы помешать чужому счастью, при виде которого ее тоска и одиночество болезненно обострялись.
– Ой, простите, я помешала…
Будучи мудрой, наблюдательной женщиной, Эва моментально все поняла и, не снимая рук с плеч Отто, посмотрела на Розу с чувством жалости и некоторой гадливости. Отто нахмурился, разомкнул объятия и вышел из комнаты. Эва почти с ненавистью зыркнула на Фридман и пошла вслед за архитектором.
Связные вернулись, сообщили, что другие группы «Дрора» находятся на улице Мила, 34, куда с наступлением темноты и выдвинулся отряд. Встретившись, бойцы радостно приветствовали друг друга и почти сразу начали готовиться к следующему бою – ждали его завтра. Роза Фридман сварила суп с рыбными консервами. Восставшие перекусили и выпили пейсаховки. Легли спать. Казалось, в духоте и бесконечных шорохах переполненного, потеющего дома уснуть будет невозможно, однако все настолько измотались задень, что провалились в сон почти сразу, несмотря на неудобства их пристанища и возбуждение первых боев. Стекла пустого, пыльного, зализанного морозным ветром окна запотели.
Амитай Хен сидел подле керосиновой лампы, допоздна читал стихи Циприана Норвида, прикрывая пламя полами пиджака, чтобы случайно не привлечь внимание немцев. Шелест страниц сливался с сопением и храпом более полусотни человек, прижавшихся друг к другу. Хен слюнявил пальцы, перелистывал страницы, тонкая бумага шептала и вздрагивала. Отто почти сквозь сон поглядывал на Амитая, и ему казалось, что войны нет и никогда не было, столько благородного спокойствия чувствовалось в каждом движении и глазах юноши. Хен читал книгу с нескрываемым удовольствием, он не спешил, как будто не сомневался в том, что впереди его ждет долгая, беззаботная жизнь. Марек тоже пристроился рядом с керосиновой лампой и набрасывал на разлинованный лист нотные знаки. Старшему Айзенштату подумалось: если бы не драчливость Марека, эти двое были бы очень похожи: оба созданы для мира, а не для войны. Отто пообещал себе, что сделает все возможное, чтобы его младший брат, Эва и Амитай выжили в предстоящей бойне; они будут нужны потрепанному, отупевшему от ненависти и голода человечеству, дабы вернуть достоинство себе самим и цивилизации. Сам же Отто больше не представлял себя в мирной жизни. Он убил человека – первый шаг сделан, лично для него обратный путь невозможен. Но вот Отто повернулся к любимой – призрак войны начал распадаться, рассеиваться. Эва тоже не спала, ее глаза блестели в темноте. Запах возлюбленной изменился, от нее больше не пахло хлоркой, спиртом и сывороткой от тифа, уже давно Отто чувствовал ее собственный запах, который едва улавливался, потому что был таким же, как и у него, – эта особенность не переставала его удивлять.
Мы одной породы, одной плоти и крови.
Наткнувшись на внимательный взгляд архитектора, Эва смутилась от сосредоточенной в нем нежности и любви. Засунула руку под рубаху Отто и провела ладонью по спине, прижала возлюбленного к себе. Губы сомкнулись. После рыбного супа и пейсаховки слюна приобрела резковатое послевкусие. Отто чувствовал горячее дыхание девушки, ее волосы лезли в глаза и попадали на язык. Близкое, льнущее тело распаляло, он расстегнул пуговицы кителя польской армии, который носила Эва, стянул с девушки шерстяную кофту, так что медсестра осталась в одной майке и брюках. Отто ласкал ее спину и живот, целовал шею. Девушка расстегнула его ремень и спустила брюки, легонько укусила в плечо, чтобы сдержать его телом свое слишком частое дыхание. Отто погладил ее влажный живот и провел ладонями по своему лицу, захотелось оставить на себе запах возлюбленной – свой запах. Майка затрещала от неловкого движения, а кто-то из бойцов, лежавших рядом, громко зевнул и зачавкал во сне. Керосиновая лампа Амитая Хена теплилась в дальнем углу, потрескивала. Шелест страниц. Тихий звук смыкающихся в темноте губ, врастающих друг в друга влюбленных.
Шорохи прикосновений.
Наутро, в десять часов, во дворе дома появился отряд жандармов и эсэсовцев. Сразу поднялся шум, отряды «Дрора» заняли свои позиции: вооруженные бойцы окружили лестницу, облепили со всех сторон. Немцы двигались медленнее, чем вчера, тяжелый шаг, отдающийся в ушах гулким эхом, уже не был таким самоуверенным. Наконец из проема высунулось несколько голов в касках – залп из почти десятка стволов изрешетил лицо первого солдата и скосил еще нескольких, идущих прямо за ним, оставив на стенах кровавые пятна и брызги. Немцы в панике кинулись обратно. Те бойцы группы, кто был с оружием, подбежали к окнам и продолжили вести огонь, цепляя спины, плечи и затылки бегущих. Отто кинул табурет в окно, чтобы разбить стекло, поджег фитиль бутылки с зажигательной смесью и бросил ее в укрывшегося за мусорными баками немца, который стрелял из карабина. Огонь вспыхнул, залил каску, облепил лицо и грудь – солдат бил себя по глазам и метался по внутреннему двору. Пространство перед домом было достаточно тесным, поэтому многие эсэсовцы оказались в ловушке, но плотные автоматные очереди, стегающие окна, не давали бойцам разогнуться: в глаза летели ошметки стен, взлохмаченные оконные рамы и куски потолка. Вести прицельную стрельбу не удавалось, да и скудость боеприпасов не позволила воспользоваться преимуществом в полной мере. Хаим взял гранату и не глядя бросил во двор, чтобы сбить темп немецкой стрельбы; взрыв действительно заставил солдат пригнуться и временно рассеял огонь. Хаим схватил еще одну гранату, на этот раз он кинул ее в солдат, тщательно примерившись. От нового взрыва дом тряхнуло, оставшиеся стекла вылетели, поранив нескольких бойцов. Эсэсовцы залегли и даже не высовывались. Только из-за бетонного ограждения перед домом стреляли несколько жандармов. Теперь восставшие могли вести прицельный огонь, который тотчас выкосил еще несколько серых и зеленых шинелей. К дворику подошло подкрепление, новый отряд полоснул по окнам залпом.
Отто высунулся в окно и увидел, что, несмотря на перехваченную инициативу, эсэсовцы отступили. Он повернулся к своим:
– Собрали манатки, черти… отходят. – Отто улыбнулся и отер со лба пыль. – Не ждали, суки, думали, в лобик поцелуем?!
Волна радости прокатилась по дому. Отто нашел глазами Эву. Девушка перевязывала руку раненому, но, почувствовав на себе взгляд возлюбленного, подняла на него улыбающиеся глаза.
В гетто повисла тишина недоумения: удивлялись восставшие – тому, что живы; удивлялись немцы – тому, что получили оплеуху от безответных евреев, которых до этого вели на убой молчаливыми тысячами.
Не желая терять время, Отто выбежал из дома и, двигаясь быстрыми перебежками, начал собирать оружие и патроны. К нему тотчас присоединились еще несколько человек. Члены группы не стали рисковать и решили передислоцироваться к убежищам на улице Заменгоф, 59. Когда боеприпасы были собраны, отряд снова взобрался наверх и запетлял по крышам торопливой гусеницей. Отто гладил ладонью свою новую винтовку, ощущение заключенной в руках стальной силы приятно щекотало сознание, – маслянистая и тяжелая, она подставляла ладони свою крепкую сбитость, твердость, отлаженность, наполняла уверенностью, будоражила чувством власти – так, словно это был скипетр. Отто горел мыслью, что вот наконец настал его час, пришел черед сказать свое слово и ответить нацистам на все их бесчинства. Эва заметила, что у ее возлюбленного даже лицо изменилось после того, как он взял в руки карабин и вогнал в него костяшку пятипатронной обоймы. Глаза архитектора стали жестокими, это несколько смутило медсестру, но она понимала его чувства.
Карательные меры не заставили себя ждать. Вскоре несколько немецких отрядов расхаживали по гетто и без разбору забрасывали в окна домов гранаты. Однако на этом все и закончилось, акция общей ликвидации была прервана и отложена на неопределенный срок. Немцы не знали, насколько малочисленны и плохо вооружены восставшие, силы Еврейской боевой организации были сильно переоценены, а потому немецкое командование решило продолжить акцию после более тщательной подготовки, подключив к операции боевую технику и увеличив численность задействованных войск.
Обитатели гетто были предоставлены сами себе, их контролировали только осведомители, немцы на улицах не появлялись. Предприятия закрылись, жители не выходили на работы, приостановил свою деятельность и юденрат. Трудились лишь команды Werterfassung – евреи, собиравшие для немцев имущество убитых и депортированных.
Участники сопротивления активно использовали передышку: строили подземные бункеры, выкапывали глубокие ямы, от системы водопровода протягивали трубы или рыли колодцы; от проходящих рядом кабелей делали отводы, а если их не было, просто запасались керосином, карбидом и свечами; из каждого бункера делали несколько выходов, чтобы в случае, если немцы обнаружат один, можно было бы уйти через другой; в каждом бункере оставляли запас еды – сухари, муку, крупу. Но самое главное, организация серьезно занялась вооружением, покупая на арийской стороне все необходимое. Деньги на оружие и боеприпасы собирали у толстосумов, обложенных крупным налогом; в каждом случае о доходах человека собиралась информация, которая и позволяла определить норму выплат; крупные суммы были взяты с отдела снабжения юденрата – семьсот тысяч злотых, а с самого юденрата – двести пятьдесят тысяч. Хорошенечко потрясли карманы многих спекулянтов, совладельцев шопов и руководителей рабочих колонн: Аполиона, Ротштайна, Нойфельда, Шенберга. Продуктовым налогом были обложены и оставшиеся пекарни: с каждой ежедневно взималось по сорок буханок хлеба. У Еврейской боевой организации даже появилась собственная тайная тюрьма, находившаяся на улице Мила, 2, там содержали подозреваемых в пособничестве гестапо, грабителей, а также членов семей тех, кто отказывался выплачивать налог. Их держали до тех пор, пока родственники все-таки не приносили требуемых денег. В тюрьму приводили только ночью, двигались по крышам, завязав глаза арестованным. Здесь казнили разоблаченного предателя – видного писателя и скульптора старика Альфреда Носсига, который долгое время являлся одним из главных осведомителей гестапо.
Армия Крайова выделила Еврейской организации из своих колоссальных арсеналов лишь один ручной пулемет, один автомат, семьдесят пистолетов и пятьдесят гранат; немногим больше оружия и боеприпасов передала в гетто Гвардия Людова. Скептически относившиеся к военным амбициям евреев, польские подпольщики не хотели дать больше, поэтому боевой организации пришлось самостоятельно обеспечивать себя. По-настоящему поток оружия хлынул в гетто, только когда у евреев сопротивления появились деньги, – торговцы с черного рынка на арийской стороне каждый день приносили крупные партии. В расцвете торговли цена за пистолет доходила до пятнадцати тысяч злотых, за винтовку – двадцать пять тысяч, а за один патрон – сто двадцать злотых. В квартале наладилось производство бомб; когда прогремел первый испытательный взрыв, началась паника, все бросились к убежищам, решив, что ликвидация возобновилась, пока не догадались, в чем, собственно, дело. Сырье для создания бомб передавало польское подполье с арийской стороны. Теперь каждый член Еврейской боевой организации был вооружен как минимум винтовкой, пистолетом и гранатами.
18 апреля 1943 года, за день до великого праздника Песах, посвященного памяти Исхода из Египта, в четырнадцатый день месяца Нисан по иудейскому календарю, накануне пыток и распятия Христа – по календарю григорианскому, в квартал просочился слух о возобновлении операции по полной ликвидации, назначенной на завтра. Если с утра 18-го жители гетто с энтузиазмом пекли мацу из непросеянной муки, на что получили разрешение раввинов, готовили вино к Седеру, стирали одежду, чистили жилища и убежища, и в каждом лице читалось предвкушение праздника, то уже после полудня это сообщение носилось по кварталу, точно бесноватая старуха в лохмотьях, каталось по грязным улочкам отрезанной головой, оставляющей после себя кровавый след.
В ночь на 19 апреля никто не спал, все перебирались в бункеры и убежища, переносили белье, одежду, матрацы и продукты. По улицам растекались реки головных уборов и лиц, освещенных желтоватым лунным светом; люди тащили за спинами увесистые мешки, в ушах отдавался шум: шарканье ботинок, скрип кожи, звон эмалированной посуды и алюминиевых фляг, гул взволнованных голосов, размазанный по дворикам и мостовым.
Для личного состава боевых групп было объявлено чрезвычайное положение, каждый получил вещмешок с бельем, продуктами, бинтами. Члены организации чистили оружие, распределяли боеприпасы. Заняв свои позиции, удобно раскладывали под руку гранаты и откручивали их крышки, чтобы оставалось только дернуть за шнур и сделать бросок. Связные и наблюдатели с донесениями судорожно носились по крышам, захлебываясь оживающим воздухом весенней ночи.
На первых этажах занятых бойцами домов сооружали баррикады – теперь уже можно было не бояться доносчиков, так что ставили их в открытую, не таились. Окна наполовину прикрывали листами железа и кирпичами, а часть улиц полностью заваливали, чтобы проход по ним был невозможен. В три часа ночи все было готово, каждый занял свое место, по улицам ходил патруль организации, подгонял мирных евреев, которые сновали между своими квартирами и убежищами.
Рассвет 19 апреля: белое, чистое солнце начало разогревать прохладный воздух, стены домов потеплели. Немецкие каски, надетые на головы многих восставших, высовывались из окон, отражали матовый свет. Амитай Хен подставил лицо солнечным лучам, зажмурился: ясное, бездонное небо дразнило простором жизни, ласковым и теплым. Узкие полоски растаявшего снега, водянистые, посеревшие от грязи, лежали в тенистых проулках, вдоль стен и парапетов. Амитай держал перед собой коробки с патронами и ждал, когда начнется его работа, – Хена назначали заряжать пустые обоймы и раздавать патроны, бегая по этажам.
Часа через два после рассвета было еще прохладно, но Отто страдал от духоты и волнения. Он распахнул окно шире и расстегнул воротник; лямка от винтовки Мосина с оптическим прицелом была слишком туга, он немного ослабил ее и облокотился на стену. Начал растирать плечо. Глаза архитектора внимательно изучали улицу: на маленьком балконе, укрепленном мешками с песком, сидел Марек с пистолетом-пулеметом МР-38, братья переглянулись и кивнули друг другу; с противоположной стороны улицы из чердачного оконца торчали стволы нескольких винтовок и маузеров, похожих на маленьких щук, в предвкушении добычи смотревших в одну точку навострившимися носами. Эва сидела неподалеку от Отто, готовила медикаменты и скручивала стираные бинты.
Рядом с архитектором и панной Новак разместился молчаливый поляк Яцек с волчанкой на лице. Он состоял в Гвардии Людовой и жил на арийской стороне, несколько раз выступал в роли связного между Гвардией и организацией, пересекал границу гетто, чтобы передать евреям оружие, боеприпасы, медикаменты и продовольствие, после чего возвращался в свое подразделение. Но, узнав вчера вечером, что немецкие силы стягиваются к стенам гетто, взял вещмешок с консервами и патронами, прихватил у товарищей из Людовы два автомата, свою охотничью двустволку и окончательно перебрался сюда, чтобы разделить последние минуты гетто с евреями.
Яцек передал автоматы боевой организации, а сам вооружился привычной ему двустволкой. Зарядив оба ствола патронами с крупной картечью на косулю, он поглаживал гладкое дерево приклада подушечкой большого пальца и молился. Отто так и не успел узнать его получше, но переглядывались они с нескрываемой симпатией. Когда Яцек только появился и объявил о своем решении остаться с евреями, его начали расспрашивать о планах Гвардии Людовой и особенно Армии Крайовой, которая не выходила на связь уже четыре месяца, с января, когда передала в гетто оружие, но молодой парень с серьезными, умными глазами только пожимал плечами. Искренний ответ отнимет у евреев надежду, ответить честно было невозможно, а солгать тем более. Яцек знал, что люди Стефана Ровецкого и полковника Коморовского ни с кем и ни при каких условиях не станут согласовывать свои действия, да и не считают в ближайшее время нужным начинать борьбу, и их нежелание выходить на связь – очередное тому подтверждение. То же можно было сказать и о Гвардии Людовой.
Ян Гольдберг, опустившись на колено, положил ствол своей старенькой винтовки Бертье 1892 года на оконную раму. Его бледная кожа будто светилась в темноте, мечтательные глаза за очочками смотрели на мушку. За спиной висела аптечка. В руках Яна винтовка казалась противоестественным чудовищем, наростом, она резала глаз, как сигарета во рту младенца, но юноша захотел взяться за оружие по крайней мере до тех пор, пока нет раненых. Залман Бучевский, коренастый невысокий парень, лежал на балконе, время от времени покашливал, шмыгал носом. Несмотря на теплую, солнечную погоду его шея была плотно повязана шерстяным шарфом – он хорошо знал подземную Варшаву и частенько наведывался на арийскую сторону по канализационным лабиринтам. В эту зиму в связи с накалившейся обстановкой Залман почти не вылезал из коллекторов, выступая проводником групп, переносивших большие партии оружия, взрывчатки и боеприпасов, поэтому сильно простыл. В последнее время Бучевский начал горбиться и щуриться, так что со свойственным ему черным юмором частенько поговаривал, что немцам придется хоронить его в очках, которые ему уже давно пора носить. Потемневшая кожа Залмана, казалось, пропиталась канализационным смрадом. Сам он уже давно не чувствовал этого запаха, чего нельзя было сказать об окружающих, – особенно резко с непривычки отталкивал этот душок тех, кто еще не бывал в канализации.
Бучевский занял позицию на четвертом этаже и любовно оглядывал настоящую роскошь – пулемет Browning M1928, упертый в плиту двумя серебристыми сошками. Залман положил подле правой руки десять двадцатипатронных магазинов. К несчастью, это был весь его боезапас. Зная, что один такой магазин можно опустошить за три секунды, и то, как быстро раскаляется ствол, Залман держал подле себя пистолет Mauser C96 с деревянной кобурой-прикладом. Роза Фридман, забравшаяся на крышу пятиэтажного дома, перебирала бутылки с горючей смесью. Обвязавшись веревкой, закрепленной на балке чердачного помещения, она теперь ждала первых выстрелов у себя под ногами, чтобы сбежать на край крыши и сбросить на головы немцев бутылку с огненным коктейлем. Розу страховала другая девушка: с наганом за пазухой она сидела на чердаке и придерживала веревку.
Командующий войсками SS и полиции в Варшаве оберфюрер фон Заммерн-Франкенэгг приказал начать операцию. К кварталу был стянут личный состав – всего несколько тысяч человек. В половине пятого из-за стен гетто со стороны улицы Налевки донеслось рычание танкового двигателя и нескольких броневиков. Техника двигалась вдоль стены к воротам гетто на углу Генся – Заменгоф. Тяжелые грузовики со скрипом остановились у входа – рев моторов, топот сапог и крики немцев возвестили лучше всяких связных и наблюдателей о начале операции, по плану которой гетто должно было быть ликвидировано в три дня. Вскоре отряды Заммерна выстроились и около шести часов вошли в квартал стройными колоннами: впереди всех погнали еврейскую полицию, следом шагали отряды польской полиции и аскари – украинцев, латышей, литовцев, эстонцев, хорватов и словаков, за ними двигалось несколько мотоциклов, и только потом в квартал вошли немецкие жандармы и SS. Разношерстное войско шагало с непоколебимой самоуверенностью, которая угадывалась в каждом движении, в выражении чуть приподнятых лиц. Стройная дробь подошв разносилась по кварталу, хлестала по окнам и стенам узких улочек, отдавалась в ушах беспокойным эхом.
Восставшие знали: они обладают временным преимуществом, так как немцы убеждены, что евреи в основном вооружены лишь пистолетами и, чувствуя за своими спинами рев танкового мотора и броневиков, не ждут опасности даже после того, как зимой этого года впервые получили отпор.
Хаим сидел на третьем этаже здания с немецким пулеметом MG-34, который бойцы с огромным трудом раздобыли вместе с одним запасным стволом и несколькими ящиками боепитания. Длинную ленту в двести пятьдесят патронов придерживал другой боец. Установив сошки пулемета на подоконник, заваленный мешками с песком, Хаим вдавил приклад в плечо и прицелился в голову колонны, но пока стрелять было нельзя, поскольку пистолеты-пулеметы и маузеры его товарищей не отличались дальнобойностью. Если открыть огонь сейчас, его смогут поддержать лишь карабины и браунинг Залмана. Группы договорились открыть общий огонь, когда нацисты дойдут до заминированного перекрестка, сразу после первых взрывов.
Хаим выбрал удобную позицию на самом углу перекрестка Мила – Налевки. Колонна могла пройти только по двум этим улицам, поэтому, куда бы немцы ни повернули, Хаим имел возможность вести по ним прицельный огонь. Отто навел оптический прицел на грудь впереди идущего офицера в кожаном плаще, нащупал тяжелый спусковой крючок винтовки, приготовившись нажать на него.
Колонна повернула на Налевки и двинулась к перекрестку Налевки – Генся – Францисканская, аккурат туда, где их ждали мины и сотни притаившихся бойцов. Голова колонны оказалась на перекрестке – еврейскую и польскую полицию с аскари пропустили, мины предназначались для эсэсовцев и немецких жандармов. Хаим развернул пулемет и навел ствол в гущу немецких колонн, которые наконец достигли перекрестка; все ждали взрыва, но вместо него раздался неуместно одинокий винтовочный выстрел: Ян Гольдберг не то случайно, не то не дотерпев, нажал спусковой крючок своей «старушки», умудрившись при этом промахнуться, хотя на таком расстоянии из винтовки в колонну можно было стрелять не целясь. Немецкие солдаты и офицеры только подняли головы, сохранив строй, но нелепый выстрел Гольдберга будто пробил огромный мешок, из которого через долю секунды посыпался на голову немцев целый шквал пуль, а затем наконец сработали мины, прогремело несколько взрывов, разметавших мотоциклы и обескураженных нацистов.
Хаим начал строчить из пулемета, длинная очередь MG пробороздила колонну толстой кровавой линией, сбивая каски, размазывая затылки и пронизывая лопатки насквозь, швейной машинкой рубцуя одной пулей сразу нескольких солдат и сминая их в плотно идущей колонне. Заложенные мины продолжали детонировать, вдобавок к ним защелкали выдернутые шнуры гранат, посыпавшихся на головы. От взрывов солдат бросало в разные стороны, впечатывало в стены. Яцек стрелял из своей двустволки дуплетом – дробь превращала лица и животы в кровавые пятна, изламывая их в мясную труху.
Залман за несколько секунд опустошил двадцатипатронный магазин своего браунинга и торопливо протянул руку за следующим. Отто старался выслеживать своей старенькой оптикой всех офицеров и унтеров – один за другим они вскидывали руки и падали на асфальт с пробитой грудью или головой. Задерживая дыхание, Отто жал на спусковой крючок, отрывал глаз от прицела и торопливо дергал затвор, выбрасывая горячую, дымящуюся гильзу. Немцы рассыпались в разные стороны, отбежали к стене, укрылись за углами домов или под балконами. Пятый выстрел из его «дебютной» обоймы угодил в каску солдату и отскочил рикошетом, не причинив тому вреда. Следующая обойма началась с хорошего выстрела, которым Отто пробил плечо и шею сразу двух травников. Он отдавался стрельбе с упоением, и каждое падение его жертвы вызывало сладостное чувство карающего торжества.
Марек сыпал очередями с колена, выставив автомат между стальными прутьями балконного ограждения. Залман Бучевский, опустошив очередной магазин, сорвал шнур гранаты и метнул ее в остатки колонны. Роза Фридман начала сбрасывать на головы расползающихся по углам немцев бутылки с горючей смесью. Черный дым и пламя наполнили улицу. Горящие эсэсовцы метались по тесному пространству, спотыкались об убитых и замирали.
Стройное шествие немцев перемололо гранатами и минами, изрезало очередями пуль, выжившие бросились отступать, бегущие по улице открыли растерянный огонь, толком не понимая, куда стрелять. Дым, застилавший улицу, еще больше затруднял обзор: пули сыпались отовсюду, окна изрыгали пламя выстрелов, серые дома брызгали желто-красными огнями, плевали в нацистов пулями, будто тонкой струей зажатой зубами слюны. Весеннее небо замазало сажей, солнце закоптило угольными разводами.
Иаков Губерман, толстый силач с массивными ручищами, вышел на балкон и, распрямившись во весь свой внушительный рост, выцарапывал очередями МР-40 отползающих к стенам солдат, укрывшихся под балконами нижних этажей. Авраам Дрейер и Моше Рубин руководили атакой с позиций во дворе со стороны черного хода улицы Генся, а Захария, командир одной из групп «Дрора», перебегал от позиции к позиции, подбадривая бойцов. Связные передвигались по крышам, обеспечивая контакт всех групп.
Амитай Хен метался по этажам, подавая винтовочные обоймы, автоматные и пистолетные магазины. Поначалу патроны сыпались на пол, вываливаясь из взволнованных пальцев. Красный от стыда за свою неловкость, он ползал на четвереньках и собирал закатившиеся в угол боеприпасы, но потом взял себя в руки, выработал своеобразную систему и действовал теперь быстрее. Запомнив примерный ритм стрельбы каждого, он приноровился настолько, что подбегал к товарищам с протянутым боепитанием за секунду до того, как они заканчивали стрельбу. Быстрые пальцы парня с частыми щелчками наполняли обоймы и магазины. Над головой разносился грудной голос, кто-то читал Пасхальную Агаду, слова ее мешались с выстрелами и взрывами, кутаясь в клубы порохового дыма.
Оберфюрер фон Заммерн наблюдал за происходящим в бинокль. Доктор философии, сибарит-кутила и бабник, он уже давно чувствовал вызываемое его персоной недовольство Гиммлера. Обрастая скандалами и компроматами, оберфюрер боялся сейчас только за свою карьеру, понимая: она дала внушительную трещину. Заммерна раздражало недавнее появление в качестве наблюдателя бригадефюрера Юргена Штропа, поскольку этот жест сверху демонстрировал недоверие лично к нему. Юрген Штроп в своей неизменной тирольке и кавалерийских сапогах со шпорами стоял, заложив руки за спину, позади Заммерна, сверкал моноклем и ухмылялся. С нескрываемой издевкой он следил за бегством раздавленных отрядов. Паникующий фон Заммерн приказал пустить в дело технику: танк и броневики вошли на узкую улочку и открыли плотный огонь по окнам.
Находившийся на опасном месте перекрестка Хаим схватил оставшиеся патроны в ту самую минуту, когда въехавший в гетто французский танк Somua S35, попавший в варшавское Waffen SS в качестве трофея, повернул на него дуло. Хаим с помощником, схватившим ящик с патронами, успел отбежать в глубь здания, когда прогремел выстрел и комнату, в которой они только что сидели, разметало на куски – в стене дома осталась большая дыра. Бело-красная вязкая пыль облепила лицо лежавшего Хаима, и он закашлялся.
535 сделал очередной выстрел, и другая стена разлетелась на куски. Из проема вывалились несколько убитых и контуженных бойцов. Полугусеничные броневики Hanomag ехали по трупам своих солдат, сминая их в паштет и обстреливая непрерывной пулеметной линией окна. MG-42 калибра 7,92 мм и сидевшие в бронеавтомобилях эсэсовцы в мотоциклетных очках уверенно делали свою работу: рыхлые стены и балконные своды рассыпались от массированного огня, стрельба восставших начала заикаться. Однако несколько удачно брошенных Розой бутылок с горючей смесью подожгли один из броневиков, десант посыпался в стороны, словно загоревшиеся спички. На второй броневик полетели гранаты, и уже через пару минут двигатель взорвался. После того как отлетела одна из гусениц французского танка и по башне начала расползаться огненная лужа, бригадефюрер Штроп усмехнулся, шлепнул себя ладонью по голове, сел в BMW и уехал докладывать Гиммлеру о провале операции самодура фон Заммерна. Теперь карьерист Штроп не сомневался, что получит место оберфюрера.
Уже через два часа фон Заммерна действительно отстранили от руководства полицией и SS в Варшаве, на его место назначили Штропа, ставшего полноправным властелином. Генерал был по-настоящему счастлив: ветеран Великой войны, которую, к своему неудовольствию, закончил всего лишь фельдфебелем, Вторую мировую он застал уже лейтенантом и с 1939-го по 1943-й успел дослужиться до генерал-майора, однако, несмотря на быстрое продвижение в званиях, Юрген Штроп всегда занимал второстепенные роли и вплоть до сегодняшнего дня ни разу не принимал активного участия в боевых действиях: в 1941 году его, унтерштурмфюрера, на три месяца прикомандировали к арьергарду дивизии Totenkopf на берегу озера Ильмень, где его часть простояла все лето почти без дела, а осенью Штроп был переведен в запасной батальон Leibstandarte SS Adolf Hitler, где снова приходилось собирать пыль на пригретых местечках, затем в декабре того же года произошел перевод на Украину – там он инспектировал начавшееся строительство трассы D-4 от Львова до Донецка, которая по проекту тянулась через Ростов и Кубань в Закавказье для того, чтобы было удобнее вывозить с Востока завоеванные ресурсы и ценности; Штроп выполнял на той стройке функцию охраны от партизан и поставки бесплатной рабочей силы; и вот теперь сбывалась его мечта, – уставший от высокого звания, которое в действительности ничего не значило, он впервые получил по-настоящему важную должность, поэтому стоял сейчас подле стены гетто, будто Наполеон среди африканских песков и покоренных пирамид, с трудом сдерживая восторг.
К семи часам утра в гетто наступило затишье. Бойцы собирали оружие, боеприпасы и каски, остальные перекусывали и отдыхали, кто-то даже умудрился уснуть, поскольку долгое ожидание развязки слишком измотало организм. Эва Новак и Ян Гольдберг, уже забывший о своем непутевом выстреле, оказывали помощь раненым, бинтовали, давали морфий или спирт. Моше Рубин заиграл на гармошке, с которой никогда не расставался, – веселая мелодия ласкала слух и разносилась по кварталу. Отто Айзенштат уперся ногой в стену и смотрел поверх крыш, его первоначальный энтузиазм уже улетучился. Когда архитектор оглядел улицу после побоища, ему стало не по себе. Перед глазами стояли лица убитых им немцев, украинцев и латышей, особенно врезался в память один красивый офицер-блондин. Отто очень удивился, увидев, как после боя Марек ходил по улице и с наслаждением достреливал раненых из своего люгера: вид брата-скрипача в такой роли вдруг показался старшему Айзенштату отвратительным. Но тяжелее всего было при мысли, что он сам несколькими минутами ранее испытывал чувство радости от каждого убитого. Теперь же, наблюдая это упоение убийством со стороны, Отто хоть и понимал полнейшую, почти божественную обоснованность этого упоения, все же испытал чувство гадливости к себе и собственному брату Мареку, который сейчас напомнил ему эсэсовца, остановившего как-то у него на глазах колонну еврейских рабочих и расстрелявшего в них два магазина. На секунду Отто даже показалось, что на Мареке надеты высокие хромовые сапоги и серая униформа с рунами SS. Айзенштат тряхнул головой, ему стало нехорошо. Горячую винтовку он держал в руках с каким-то отчуждением и даже страхом, будто ядовитую змею или мертвого ребенка. Древко гладкого приклада и вороненый ствол поблескивали на солнце, а Отто пытался разобраться в своих смешавшихся, путанных чувствах.
Юр ген Штроп постарался успокоить своих солдат. Он обратился к ним с вдохновенной речью и приказал выдать всем желающим по рюмке шнапса или стакану вина. Бригадефюрер увеличил личный состав за счет учебных и запасных батальонов SS; выведенная из строя техника была заменена новым танком T-IV и броневиком Hanomag. К тому же отряды были усилены офицерским составом и рядовыми.
В одиннадцать часов следующего утра немецкие отряды вошли в гетто короткими перебежками. Равномерно сгруппированные в глубину и на флангах так, чтобы не мешать друг другу, отряды быстро начали занимать территорию. Перестрелки гремели в разных точках гетто, но немецкие солдаты уже не несли прежних потерь, они палили из укрытий и не высовывались. По команде бригадефюрера в бой вступила артиллерия: тягач притащил в квартал легкую полевую пушку 105-миллиметровую leFH 42 и три 88-миллиметровых зенитных орудия FlaK 18.
Артиллерия открыла огонь, превращая стены домов в муку. Квартал задрожал. Открывать ответный огонь стало почти невозможно: после нескольких винтовочных и автоматных выстрелов восставших зенитные орудия и гаубица обрушивались на дом, испепеляя этаж за этажом. Оглушенные, израненные группы евреев начали отступление: позиции на улице Налевки были охвачены огнем; одни спустились в канализацию или подвалы, перебираясь в соседние бункеры и укрепления, другие двигались по крышам, но верхние этажи стали слишком опасными, люди оказывались под обстрелом, многие падали и разбивались. Горящие балки валились на головы, едкий дым обжигал глаза и забивал грудь. Спасали тайные коридоры – сложная коммуникация выстроенных сквозных проходов через стены зданий.
Обыскивая дворы и дома, отряды 55 взяли в плен около двухсот бойцов, которые стояли теперь с поднятыми руками и с ненавистью смотрели на эсэсовцев. В одну девушку, плюнувшую в унтера, всадили два автоматных магазина, внутренности вывалились из вскрытого живота и расползлись по асфальту. Возбужденные боем солдаты изрешетили длинными очередями еще с десяток пленных, а остальных под конвоем сразу же привели на Умшлагплац, где их ждали составы, готовые к отправлению в Треблинку. Пыльные, израненные, но гордые евреи шли, спотыкаясь и кашляя.
Отступающие группы боевой организации метались по кварталу, пытаясь найти место, где можно было перевести дух. Запасные позиции в доме на Генся, 6, захватили немцы, бойцам пришлось рыскать по кварталу вслепую. В нескольких бункерах и убежищах, куда добрались повстанцы, мирные евреи враждебно встретили своих защитников, полагая, что подобное соседство лишний раз подвергает опасности их жизнь. Не желая провоцировать страхи испуганных стариков, женщин и детей, бойцы решили попытать счастья в другом месте. Через несколько часов выбившийся из сил, израненный отряд спустился в бункер дома на улице Налевки, чтобы дождаться темноты. Восставших и здесь встретили недоброжелательные взгляды, но никто ничего не сказал, и притаившиеся жители потеснились.
Уже через несколько минут стало невыносимо душно, люди стояли вплотную друг к другу, не имея возможности пошевелиться. Из-за нехватки воздуха не загоралась спичка. Любой звук вызывал общую панику: взрослые пытались подавлять приступы кашля, матери затыкали рты плачущим детям. В эти минуты бойцы больше всего надеялись, что Армия Крайова и Гвардия Людова присоединятся к восстанию: сейчас, когда немецкие войска сосредоточили на гетто все внимание, был самый подходящий для этого момент. Однако поляки не выступали. Восставшие ломали грязными пальцами буханки хлеба, передавали краюхи друг другу и жевали в кашляющей темноте влажный от пота хлеб…
К вечеру крупные перестрелки сошли на нет. В восемь часов Штроп приказал своим частям отойти на исходные позиции и отправил солдат в казармы на заслуженный отдых. Только аскари, оставшиеся у ворот гетто, на протяжении всей ночи вслепую стреляли по кварталу, не давая восставшим возможности отдохнуть.
Вернувшись к себе в апартаменты на аллею Роз, бригадефюрер застал в глубоком кресле доктора Людвига Ганна, руководителя полиции безопасности и шефа разведки SS в Варшаве, который по рекомендации Гиммлера консультировал Штропа в рамках большой операции. Доктор Ганн поздравил генерала с успешным началом операции и первыми пленными. Высокопоставленные эсэсовцы обменялись впечатлениями и новостями, бригадефюрер помыл руки и сел за стол, где его ожидал ужин. Вместе с доктором Ганном он с аппетитом принялся за горячие кнедлики, которые так любил генерал, затем подали дичь и трюфели с бургундским вином. Отирая жирные губы белоснежной салфеткой, Юрген смотрел в окно и с интересом прислушивался к процессу своего пищеварения.
После ужина доктор Ганн оставил Штропа одного. Генерал лег в горячую ванну и, покрякивая от наслаждения, вытянул в воде расслабленные ноги; он взял пилочку для ногтей и начал приводить пальцы в порядок. Генерал уже давно невольно подражал во всем своему кумиру, рейхсфюреру SS, а Гиммлер особенно тщательно следил за белизной своих холеных рук, поскольку считал, что для эсэсовца очень важно содержать их в чистоте.
Выйдя из ванной комнаты, бригадефюрер надел свежее белье, новый отглаженный мундир и подогретую ординарцем обувь, вычищенную до сверкания вулканического стекла, после чего позвонил Гиммлеру и представил краткий отчет о прошедшем дне. Потом он встретился с высшим руководителем SS и полиции на Востоке обергруппенфюрером Фридрихом Вильгельмом Крюгером, а позднее состоялось совещание с подчиненными: генерал дал указания, касающиеся завтрашнего дня, и ближе к полуночи лег в свою огромную, роскошную постель. Прикоснувшись к мягкой перине, разомлевший бригадефюрер вспомнил грудастых украинок и очень возбудился: после войны он мечтал об усадьбе на Украине, природные богатства и красота женщин которой так покорили его, но вот усталость взяла свое, Штроп отрыгнул картофельными кнедликами и, почесывая промежность, уснул с мыслями об усадьбе с грудастыми дивчинами.
В семь утра 20 апреля, во вторник, в день рождения Гитлера, солдаты бригадефюрера отрядами по тридцать шесть человек снова вошли в квартал. Под непосредственным руководством майора полиции Штейнхагера и штурмбанфюрера SS Макса Иезуейтора отряды зачищали дом за домом, все чаще нарываясь на притаившихся бойцов. Лучше всего были укреплены территории, прилегающие к фабрике Теббенса и щеточной фабрике, – большая часть бункеров размещалась именно там. Огонь восставших был настолько плотным, что отряды немцев не сумели пробиться. Долгожданная помощь со стороны Гвардии Людовой наконец дала о себе знать: боевая группа поляков заставила замолчать немецкую артиллерийскую батарею на Новинярской улице.
Над кварталом, приводя в бешенство немецкое командование, развевалось несколько флагов: бело-синий со звездой Давида, польское знамя на здании костела и несколько кроваво-красных полотнищ.
В среду крупный бой развернулся на перекрестке Заменгоф – Мила. Эсэсовцев заманили в ловушку, зажав с двух сторон и отрезав пути к отступлению. Перекрестный огонь из нескольких домов изрешетил немецкие отряды, довершили дело бутылки с горючей смесью. 22 апреля отряды Гвардии Людовой совершили несколько диверсий на железной дороге в районе Варшавы, а на следующий день забросали гранатами немецкий автомобиль из оцепления вокруг гетто. Армия Крайова по-прежнему никак себя не проявляла.
В четверг гетто запылало. Немцы планомерно уничтожали дом за домом. Языки пламени тянулись к отравленному, задыхающемуся от дыма небу. Теперь немецкие части не покидали квартала, они ежечасно патрулировали улицы. Почерневшие от дыма эсэсовцы в автомобильных очках и мотоциклетных «лисичках», похожие на чертей, обыскивали руины, бросали гранаты в подвалы, заслышав звуки кашля, приглушенных разговоров или детского плача. Иногда использовали пожарные шланги, заливая подземные укрытия водой.
Бойцы были вынуждены отступать, забиваясь все глубже. Им пришлось изменить тактику: дома перестали быть надежным укрытием, поэтому теперь нападали на патрульные отряды по ночам, освещенным непрекращающимися пожарами. Отряд «Дрор» разместился в бункере на улице Мила, 29. В убежище имелся старый радиоприемник – единственная связь с миром. В тусклом свете карбидных и керосиновых ламп восставшие слушали музыку или военные сводки, чистили оружие, ужинали, а затем уходили в темноту. Неведомо откуда в бункере оказался петух – всеобщий любимец, он важно расхаживал по ногам и животам раненых, клевал крошки и возвещал забывшим о солнечном свете обитателям убежища о наступившем рассвете.
Гетто сожжено. Выедено пламенем, взрывами содрано с основания Варшавы, оскоплено и рассеяно в пепел, в бетонную пыль. Горячий прах растаскан солдатскими сапогами по опустевшим улицам. Обугленные руки и лица убитых перемешаны с изломанным кирпичом. Почерневшие камни лысых фундаментов и жалкие останки стен напоминали спаленную рощу, угольные пни и кладбищенские обрубки домов. Руины шипели, дымились.
Яцек и Амитай Хен сгорели – их спалили зажигательными бомбами, заблокировав дом, где засел один из отрядов. Они прикрывали отход остальных бойцов, которые в полуприседе покидали западню через «магистраль» рукотворного лабиринта, потаенные сквозные артерии, связывающие подземные бункеры и крыши домов. Бесхарактерный, неловкий разносчик патронов Амитай Хен умирал мужчиной: с оружием в руках он осознанно жертвовал собой и не стал отступать, хотя Яцек гнал его с остальными. Мучения обгоревшего Яцека оборвала свалившаяся на него потолочная балка, Амитай израсходовал все боеприпасы и горящим демоном выпрыгнул из окна прямо на немца, по самую рукоять воткнув ему в грудь штык-нож. Упав, Хен сломал обе ноги, поэтому догорал уже лежа на убитом солдате рядом с обломками дома. Марека Айзенштата изрешетило из зенитки в ту минуту, когда он высунулся из окна, чтобы бросить в нее гранату.
Роза Фридман утонула в залитом немцами подвале: она встретила свою смерть счастливо, познав настоящую любовь и со стыдом вспоминая, как из зависти мешала идиллии Эвы и Отто. Роза полюбила одного халуца, от которого даже успела зачать ребенка. Когда их и сидевшие здесь же семьи заливало водой, девушка смотрела на плачущих старух, на захлебывающихся детей, обнимала своего возлюбленного и ощущала молчаливое ликование матери, которая хоть и не могла еще почувствовать семидневного малыша, все же по-своему прикоснулась к материнству.
Хаим спалил зенитку FlaK, закидав бутылками с горючей смесью, а потом подорвал себя вместе с танком T-IV: у него оставались только две мины без детонатора и противопехотная Stielhandgranate, он затолкал все это за пазуху, подполз под панцирное брюхо машины и дернул шелковый шнур со свинцовым шариком.
Восстание в Варшавском гетто продлилось двадцать восемь дней.
Otto и Залман Бучевский обмотали ноги тряпками, чтобы заглушить звук шагов, и в очередной раз отправились на разведку. Эва не захотела расставаться с Отто и пошла с ними, хотя весь день вместе с измученным усталостью Яном Гольдбергом оказывала помощь раненым. Ян проглотил половину черствой мацы, сел на пол и не уснул – провалился в обморочный сон. Перебинтованные, выбывшие из строя бойцы лежали вповалку на прокопченных матрацах и пледах.
Раскаленная, порыжелая от пламени ночь. Багровая от крови Варшава. Отто шел по задымленной сумрачной улице, держа наготове пистолет, другой рукой придерживая Эву за локоть. Усталая девушка часто спотыкалась в темноте, отирала рукавом черное от копоти лицо. Залман Бучевский с перевязанным плечом шагал рядом, сжимая правой ладонью вспотевшую рукоятку автомата. Промасленные грязные бинты сливались с одеждой, с обесцвеченной кожей. Одежда хрустела, казалась тяжелой, почти свинцовой.
Они шли по гетто вслепую, все возможные ориентиры были стерты с лица земли – найти дорогу к бункерам на улицах Францисканской и Мила казалось просто невозможным. Все трое всматривались в окружающий мрак и настороженно прислушивались. Проплутав среди дымящихся руин весь вечер и половину ночи, они несколько раз нарывались на эсэсовцев, но своевременно успевали спрятаться. Эва чувствовала: еще несколько часов на ногах и она свалится; хотелось остановиться, лечь лицом в изломанные, обугленные камни гетто и умереть. Голова болела, во рту пересохло. Желудок прежде сводило от голода, но с недавнего времени девушка как будто расхотела есть – это было не безразличие сытости, а, скорее, начало процесса умирания, распада. Отто щурил глаза в темноту, стараясь не уснуть, не потерять сознание. Ноги шаркали по камням, как будто его тащили волоком: поднимать ступни не было сил.
Услышав робкое журчание воды, все трое остановились, замерли. Осмотрев угловатые руины, нашли перебитый водопровод – ржавая труба выплевывала на пыльную, изуродованную сажей землю драгоценную влагу. Эва легла на живот и с жадностью стала глотать прохладную воду. Отто и Залман напились после нее – прильнули, как к материнской груди.
– Сделаем привал.
Отто лег на спину, запрокинув голову.
Ноги гудели, на пальцах горели кровавые мозоли.
Эва посмотрела на Отто и Залмана, спросила:
– Что будем делать? – и моментально уснула, не дождавшись ответа.
Впрочем, мужчины и не собирались отвечать, они тоже сразу начали проваливаться в нездоровый, обморочный сон. Поток ветра прочесывал пустошь, собирая пыль пепелищ, комкая ее в плотные разводы и вихри. Развалины дышали, плевались песчаными струйками, обглоданные камни вздрагивали и осыпались; под грудами камней теплилась жизнь, до ушей доносились приглушенный детский плач и надорванные возгласы, горький шепот.
Раздались осторожные шаги, посыпались с торопливым хрустом камни, шаги замерли и будто прислушались, испугавшись собственной дерзости, потом снова возобновились – немцы так не ходили даже после того, что им устроили восставшие евреи. Отто открыл глаза, поднялся и на всякий случай снял свой VIS с предохранителя. Залман уже стоял рядом, он проснулся вместе с Отто – дуло его автомата здесь, под боком. Через минуту из подсвеченных пламенем клубов дыма вышел человек, шатающийся, зыбкий. Отто опустил пистолет и, узнав знакомое лицо, шепнул чахлой фигуре:
– Лютек! Аккерман!
Человек остановился, чуть покачнувшись, а потом двинулся на голос. Отто махнул рукой, и Лютек наконец разглядел его среди изъеденных кирпичей и растаявших плит.
Увидев воду, Лютек упал на колени, долго облизывал пробитую трубу и только потом поднял глаза на товарищей – заостренные скулы, провалившиеся от голода глаза, – взгляд казался черным, будто глазницы были пусты. Откашлялся, отер губы рукавом:
– Немцы обнаружили штаб, бункера на Мила больше нет… Все погибли. Анилевич с ними… Покончили с собой, после того как немцы перекрыли все выходы и пустили газ…
Бучевский вгляделся в лицо Лютека:
– А бункер на Францисканской?
Лютек заглянул в глаза Залмана так, что тот все понял без слов.
Залман обернулся к Отто и Эве:
– Это конец… Нужно уходить на арийскую сторону, нам здесь больше нечего делать… Попробуем вырваться в лес к партизанам. Гвардия Людова собирается организовать побег. Идите за мной, не будем терять время. Может быть, нас уже ждут.
Залман шагнул вперед, автомат со стуком ударился о пряжку его ремня. Отто помог Эве подняться, и втроем с Лютеком они двинулись следом за худой, сгорбленной спиной Бучевского. Через полчаса они оказались возле канализационного люка. Залман спихнул с металла осколки камней. Тяжелая пыльная крышка, похожая на панцирь черепахи, со звоном отвалилась в сторону. Из отверстия поднялся жуткий смрад. Первым в вонючую жижу спрыгнул Лютек. Отто и Эва спустились по лестнице, за ними шагнул Залман, прикрыв за собой крышку.
Идти приходилось в глубоком наклоне, каждый шаг становился настоящей пыткой. Ледяная вода по первости взбодрила и пробрала до костей, но уже через несколько минут стало невыносимо жарко. Ноги увязали в человеческих отходах и нефтяных сгустках.
Залман обогнал всех и встал на привычное место проводника. Они с Лютеком шли быстрее, так что начали отрываться от Отто и Эвы. Через несколько шагов по кишке канала Айзенштат выбросил пистолет. Оружие провалилось в жижу, исчезнув в ее глубине. Поймав вопросительный взгляд Эвы, Отто пояснил:
– Хватит с меня, больше не хочу никого убивать, даже эсэсовцев. Попадемся им в лапы, пусть кончают меня… ни капли крови не пролью с этой минуты. Для нас с тобой эта война закончилась. А там… будь что будет.
Эва остановилась и с улыбкой поцеловала Отто. Шепнула на ухо:
– Если выживем и выберемся отсюда, что… Ты не думал? Мне трудно представить жизнь без войны, так мы вросли во все это. Вообрази – жить, не умирая от голода, тифа… без взрывов и выстрелов, без страха – просто жить, любить… Люди ошалеют от счастья, захлебнутся своей свободой, когда все это закончится…
Отто с горечью усмехнулся:
– В первую неделю, может быть, и ошалеют, но потом все снова встанет на свои места: новая ненависть, кровь, отчуждение, политика… и опустошенные глаза, которые не знают, ради чего жить…
Эва положила руку на его плечо:
– Не думай об этом, отпусти… иначе сойдешь с ума. Не все так плохо. Мы будем вместе, это главное.
Отто обнял Эву:
– Да, это главное… Ты станешь моей женой, и у нас будут дети…
Эва прижалась сильнее, крепче охватила исхудавшего Отто:
– Господи, я боюсь об этом думать… Неужели такое чудо возможно?
– Когда эта война закончится, уже не будет ничего невозможного…
– Атвоя матушка? Она не будет против? Ты же иудей, а я христианка…
Отто поцеловал девушку в губы:
– Если она выжила, то, конечно же, будет против. Даже мой отец, уж на что папа Абрам был либерален, в свое время постоянно повторял, что, если мне взбредет в голову полюбить христианку и стать выкрестом, он не захочет меня больше видеть…
Эва шмыгнула носом и обхватила пальцами золотой крестик, блеснувший в смрадной темноте канализации:
– Я крест тоже никогда не сниму, даже ради тебя.
Отто улыбнулся:
– Тогда после войны найдем какой-нибудь островок, где нет ни политики, ни религиозных традиций, и станем жить там. В конце концов, разве обязательно нам стоять под свадебной хулой или под христианскими венцами? По-моему, можно обойтись и без этого.
Эва засмеялась:
– Будем с тобой, как Ветхий и Новый Завет в одном переплете…
Раздался гулкий голос Залмана:
– Не отставайте… нам нужно торопиться. Скоро наступит утро. Мы не сможем выбраться на арийскую сторону после рассвета, придется ждать целый день, пока стемнеет… лишнего дня здесь мы просто не выдержим – помрем от истощения или задохнемся… У нас не больше двух часов…
Айзенштат и Эва молча двинулись по каналу. Через несколько шагов навстречу идущим начали попадаться какие-то тряпки, очки и головные уборы – проглоченные могильной пустотой останки чужих жизней.
С 19 апреля гауптман охранного батальона Франц Майер неизменно находился в оцеплении гетто. Несколько раз он со своими солдатами оказывался под пулями Гвардии Людовой и собственноручно застрелил двух поляков. Сразу после начала восстания начальство повесило на Майера контроль за канализационными коллекторами. Гауптман выставил у каждого прилегающего к гетто люка посты. При первом же шорохе в канализации солдаты сбрасывали в темноту шашки со слезоточивым газом или гранаты. Вчера было приказано сделать «промывку», и Майер лично проследил за тем, чтобы все шлюзы были открыты и каналы затопило. Однако, как только уровень воды спал, из коллектора снова начали доноситься звуки – кашель, скрип обуви и беспокойные всплески; подземелье боролось за жизнь – вновь оживало, трепетало и теплилось.
Сквозь колючую проволоку Франц Майер с тоской смотрел на обугленные контуры истребленного гетто, пытаясь понять, зачем, собственно, он делает то, что делает? Ему было омерзительно это добивание изнемогших, справедливо восставших евреев. Звериная бесчеловечность того режима, частью которого он был, обжигала руки. Однако омерзение переплеталось в сознании Майера с патриотизмом, превращаясь в неоднозначную, но неделимую субстанцию, часть которой была для гауптмана свята, а часть – преступна. Франц Майер жаждал для Германии процветания, но каждый раз, когда тыкался носом в кровавый шлейф, тянувшийся за ним самим и его согражданами, в душе все восставало, поднималось на дыбы, а твердые предписания и приказы, устав, привычка к порядку и исполнительности продолжали по инерции тянуть Майера за собой.
В гетто редко теперь раздавались выстрелы – в основном немецкие, карательные. Ухали взрывы брошенных в еврейские убежища гранат. Пламя угасало, но неотвязная горечь дыма преследовала, гналась по пятам; дым был везде, казалось, он пропитал даже кости. Отправляясь на кратковременный отдых, Майер первым делом принимал ванну, но, даже лежа в горячей мыльной воде, он чувствовал осточертевший запах гари, тяжелый, как олово, вездесущий. Франц ложился в постель, потом просыпался, надевал свежий, вычищенный ординарцем мундир, завтракал и снова возвращался в оцепление. Снова дышал дымом и смертью.
Сегодня в гетто уничтожили два самых крупных бункера, на улицах Францисканской и Мила. Восстание подходило к концу. Всех сдавшихся и пленных отправляли на Умшлагплац, а оттуда-в Треблинку. Ждали, что оставшиеся евреи попытаются совершить отчаянный прорыв. Стоявшие в оцеплении получили приказ принять особые меры: людям Майера вменялось в обязанность обеспечить безопасность для саперной роты, которая должна была заминировать подземные коммуникации. До этого момента ни один немец, тем более офицер, еще не спускался в вонючий коллектор, однако гауптману самому захотелось сделать этот шаг, его мучило раздражающее чувство, что он слишком чист, ему подсознательно хотелось окунуться в этот поток человеческого дерьма и разрушить фальшивое ощущение психологической стерильности. Майер еще раз подробно изучил план коллектора, надел мотоциклетные очки, кожаный плащ, высокие сапоги, закрыл нижнюю часть лица плотной проспиртованной повязкой и спустился в канализацию, прихватив с собой унтера и пятерых стрелков.
Мерзкая жижа захлюпала под ногами. Гулкое эхо шагов-всплесков. Желтые колбы фонариков зашарили по темноте, выхватывая из мрака ржавую жесть и почерневшие кирпичи. Конус света уперся в стенку перпендикулярного канала, с другой стороны зияла пустота, бесследно поглощавшая лучи. Caперы на поверхности ждали команды, проверяли запалы и взрывчатку. Майер разделил отряд, отправив унтера и трех стрелков в дальний отрезок кишки, а сам с двумя шутце пошел к перекрестку. Солдаты двигались следом. Майер остановился, осветил кирпичную стену с тремя низкими проходами и в этот миг увидел край чьей-то одежды – человек вжался в трубу, пытаясь спрятаться. Франц вскинул автомат, прицелился и только собрался приказать прятавшимся выходить с поднятыми руками, как с другой стороны коллектора, оттуда, куда ушел унтер со своей частью людей, раздались длинная автоматная очередь и крики солдат. Перестрелка загрохотала с такой силой, что вдавило барабанные перепонки. Майер взмахом руки отправил оставшихся с ним солдат в сторону выстрелов, а сам снова навел луч фонарика на подозрительный контур, наклонился ниже и сделал несколько шагов: перед ним, вжавшись друг в друга, сидели на корточках два человека. Лицо рыжеволосой девушки показалось Майеру знакомым. Мужчина-еврей, сидевший рядом с ней, поднялся и сжал кулаки. Майер видел, что мужчина безоружен, и наблюдал за ним, ожидая, что тот предпримет. Но ни мужчина, ни девушка не шевелились, они выжидательно уставились на безликого немца с автоматом, пугающего, похожего в этих мотоциклетных очках и кожаном плаще на монстра. Майер прищурился; палец лежал на спусковом крючке, напряженный, готовый к рывку. Еврей не боялся, он с презрением смотрел на гауптмана и молчал. Немец помешкал, затем резко опустил МР-40, достал из сухарной сумки, висевшей на поясном ремне, банку тушенки и плитку шоколада, вынул штык-нож и протянул все это мужчине. Удивленный еврей не сразу поверил в жест офицера и чуть отпрянул, но потом все-таки нерешительно принял еду и нож. Гауптман отстегнул от ремня флягу с теплым кофе и подал ее сидевшей на корточках девушке. Рыжеволосая полька с бледным изнуренным лицом, покрытым веснушками, взяла флягу и прижала к груди. Широкий ворот кофты был изодран – во мраке тоннеля на потемневшей коже блеснул золотой крестик. Затянутой в перчатку рукой немец махнул в сторону люка на улице Проста – туда, где не было его поста. Теперь его поняли сразу: еще раз заглянув в лицо немца, еврей помог девушке подняться, взял ее под локоть, и они торопливым шагом двинулись в указанном направлении. Полька с трудом перебирала ногами, но все-таки обернулась к офицеру, внимательно посмотрела. Там, где оставался унтер с солдатами, взорвалась граната, прогремело несколько одиночных выстрелов, затем все смолкло. Но Франц Майер даже не повернулся в сторону затихающего боя. Он долго стоял и смотрел вслед девушке и мужчине, смотрел до тех пор, пока два обнявшихся человека не растворились в темноте.
«Я с теми, кто ушел», – подумалось гауптману Францу Майеру.
«Я с теми, кто ушел», – подумалось Отто Айзенштату и Эве Новак.
Они подумали об одном и том же – так, как если бы все трое были частью единого целого.
Шел 5703 год от Сотворения мира.
Примечания
«Мертвая голова» – подразделение 33, отвечавшее за охрану концентрационных лагерей Третьего рейха.
Медаль «Зимнее сражение на Востоке 1941/42)» вручалась бойцам, воевавшим на советско-германском фронте зимой 1941–1942 гг. Немецкие солдаты прозвали эту медаль «Мороженое мясо», так как многие награжденные ею получили обморожение. Примеч. ред.
Шеоле – обитель мертвых в иудаизме. Область, где грешники и праведники находятся далеко от Бога, в забвении, полусне и мраке.
SD – служба безопасности рейхсфюрера SS.
Мир вам (идиш).
Сопляк, сосунок (идиш).
Дерьмо на палочке (идиш).
RSHA – Главное управление имперской безопасности.
Дурацкий вопрос (идиш).
Браток (идиш).
Боже мой! (идиш).
Земля Израильская (ивр.).
«Юный страж» – еврейский аналог скаутских организаций.
«Рабочие Сиона».
Польская рабочая партия.
«Свобода».
Всеобщий еврейский рабочий союз.
Презрительное прозвище евреев-ортодоксов (идиш).
Железобетонно (идиш).
Дорогуша (идиш).
Пауль, зови наших ребят. И захвати бутылку коньяка (нем.).
Пауль, подними эту мразь, пусть повисит, а потом сломай руки… и вообще, ни в чем себе не отказывай, малый. Я минут через тридцать приду, а то жрать хочу (нем.).
Пошевеливайся, лягушка! (укр.)
Кибуц – сельскохозяйственная коммуна в Израиле, характеризующаяся общностью имущества и равенством в труде и потреблении.
Аскари (нем.) – солдаты вспомогательных колониальных войск Германской империи в конце XIX – начале XX века. Несмотря на то что по факту к середине XX века в прямом своем значении это понятие вышло из употребления, многие офицеры вермахта и SS продолжали таким образом называть своих помощников.
Добро пожаловать, будьте, как дома (укр.).
Закрой пасть (укр.).
Капо – привилегированный заключенный в концлагерях Третьего рейха, работавший на администрацию.
С нами Бог (нам.)
Верность – моя честь! (нем.)
Хиви (от нем. Hilfswilliger – желающий помочь) – добровольные помощники вермахта.
Орпо (от нем. Ordnungspolize) – полиция порядка.
Иди сюда, девка, только не брыкайся. Помалкивай, чтобы без сюрпризов. Ни шагу отсюда, а то зашибу! (укр.)
Что ж вы все такие тощие? Да опусти руки, не нервничай. Ваши обрезанные так не могут, я тебе Моисеем твоим клянусь, ты только сейчас мужика настоящего узнаешь! (укр.)
Не надо из себя целку строить! (укр.)
Ну что ты смотришь? Ешь, тебе говорят! (укр.)
Все спят! (нем.)
Молодые члены сионистских социалистических групп «Ха-шомер ха-цаир», «Дрор» и «Гехалуц» называли себя шомрами и халуцами, они жили в коммунах – кибуцах, складывая заработки в общий котел.












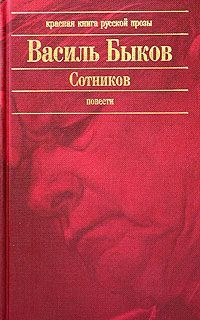
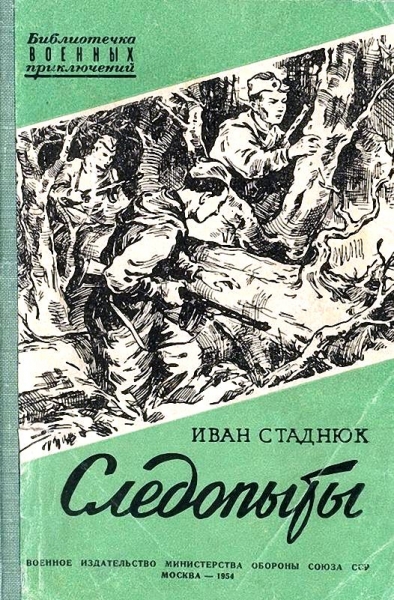
Комментарии к книге «Варшава, Элохим!», Артемий Сергеевич Леонтьев
Всего 0 комментариев