ПАВЕЛ СЕВЕРНЫЙ Камешек Ерофея Маркова
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Посвящаю сыну Арсению Павловичу
Наступил девятнадцатый век. Казалось, по Российскому государству годы проходили прежним неустанным, размеренным шагом. В очаровании летних ночей, под шелест листвы на березах они слушали соловьиные трели, в позолоте осенней поры дрогли, исхлестанные вицами затяжных дождей, под лихие высвисты метелей коченели в сугробных снегах, а потом вязли в грязи весенних распутиц.
Но не эти внешние приметы обозначали вехи противоречивого, не скупого на драматизм девятнадцатого века России. И до нее донеслось эхо очистительной грозы Великой французской революции — провозвестницы совсем нового уклада жизни.
Россия шла столбовой дорогой истории, и на ее бескрайней, исконной земле послышались гудки первых паровозов и пароходов, а в городах и промысловых селениях привычное спокойствие все чаще и чаще нарушалось шумом паровых двигателей и механических станков — то было начало промышленного переворота в России.
Девятнадцатый век…
Волею дворян на трон Российской державы садились, по праву наследования, коронованные вершители ее судьбы. Не угодив дворянам, переставали царствовать, оставляя для истории свои портреты. У каждого царя была своя повадка зажимать в руках скипетр и державу. И для народов России, как и в былые века, цари не распахивали ворота в вольную жизнь, а под дворянский шепоток навешивали на них все новые и новые мудреные замки, ключи от которых самодержцы умышленно теряли.
Династийные хозяева государства, по канонам векового самодержавия, по сговору с дворянами, надумывали для людей труда путаные пути-дороги с глухими тупиками. Силой царской и барской власти, благословленной церковью, гоняли по ним народ в хомуте крепостной неволи.
Все видел вокруг себя трудовой люд, кроме нужных ему радости и счастья жизни. Не мог он отыскать справедливость для себя ни среди белых колонн дворянских усадеб, ни среди лампад, освещавших лики Христа на иконах, а ведь он искал правду с милосердием к себе не одно столетие, изнемогая под тяжестью страданий, возжигая грошовые свечки чистого воска перед святителями, не теряя надежды найти надобную ему правду.
Крепчал ветер неотвратимых политических перемен. Русский народ забывал о смирении, он рвал крепостное ярмо и в девятнадцатом веке утверждал свою жизнь под первые вспышки зарниц смелых дерзаний в борьбе за волю. Патриотический подъем духа народа, вознесенный Отечественной войной 1812 года и освободительными походами в Европу, дал новые побеги национального самосознания…
Шел девятнадцатый век. Каждый его год все отчетливее, яснее выявлял огромную мощь России. В стране непостижимых возможностей сильный, мужественный народ пытался вырваться из пут крепостной кабалы. Разбуженные этой борьбой, лучшие люди из дворян, презрев свои привилегии, с оружием в руках поднялись декабрьским днем в столице Российской империи против самодержавия и крепостничества…
* * *
На Каменном поясе за прошедшие сто лет, в один ряд с историей всей страны, по лесным, горным и водным дорогам история Уральского края промяла свои особые следы косолапьем медвежьей поступи.
На Каменном поясе эхо шествия девятнадцатого века по государству усиливалось грохотом молотов и неумолчным шумом лесов. И в Уральском крае люди знали о жизни в стране, беспокойные вести заносили ходоки. На Урале знали, что за Камнем у работного люда та же беспросветность неволи, те же высвисты плетей, намокших от крови. Только на Каменном поясе барская ненависть скорее запарывала плетями человека насмерть. Урал в начале века служил оплотом крепостничества в российской промышленности, но и здесь поднималась мускулистая рука работного люда против угнетения.
В майское двадцать первое утро тысяча семьсот сорок пятого года на Урале нашлось свое, русское золото.
Оно нашлось в пору, когда в Екатеринбурге уже не было Василия Никитича Татищева. Его провидческая мечта об уральском золоте далась в трудовые руки горщика Ерофея Маркова. Это ему посчастливилось в Березовском логу выковырнуть из шурфа «скварчик» с вкрапленными в него крупицами неведомого до этого в крае желтого металла. Сам Ерофей не сразу догадался, что отыскал новую драгоценность. На огне из камешка кварца крупицы расплавились и вытекли, а остыв, заблестели первыми золотыми слезами Урала.
Орава иноземных бироновских ворюг, вершители казенного горнозаводского дела, — бритоусые саксонцы больше всех испугались находки Ерофея Маркова. По их замыслу, Россия не должна была иметь собственного золота. Они пытками на допросах смяли житейскую радость Ерофея. Два года мучили горщика только за то, что он без их ведома осмелился взять в руки золотое чудо Урала.
Ерофею Маркову судьба улыбнулась лишь перед смертью: академик Михаил Ломоносов за ним утвердил чудесную находку, подарившую несметные богатства Российскому государству…
Шел девятнадцатый век.
Сквозь уральские чащобы продирались годы, сутулясь под тяжестью лыковых пестерей с летописями и преданиями…
За неровной походкой беспокойного времени следили зоркие глаза работных людей, все более осознававших, что подлинные страницы уральских летописей, преданий слагались их разумом и трудом.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
В Екатеринбурге, окоченевшем от зимней стужи, как и по всей необъятности Российской империи, наступил новый, тысяча восемьсот тридцать седьмой год.
В сумерках похмельного дня с шиханов Таганая нежданно задул буранный ветер. Свое стихийное буйство по городу он начал разводить исподволь и только к девятому часу довел разноголосое вытье до полной силы.
Ветер бешеными порывами с посвистами закручивал на сугробах волчки и веретена вихрей. Он стелил по сугробам сметаемые с крыш косматые снежные бороды, заволакивал улицы, переулки и площади непроглядным, колючим туманом.
Погасив на плотине огни в скворечниках фонарей, ураган с неудержимой силой сгонял снежные тучи к берегам пруда, наметая шевелящиеся сугробы.
Еще недавно зримо стоял богатый уральский город — и вдруг исчез в буранной темноте. Только ночные караульные дробным клекотом колотушек напоминали о его существовании.
Неподалеку от плотины высокая чугунная ограда опоясывала каменные хоромы именитого заводчика Муромцева. Возле ворот стояла полосатая будка, наполовину заметенная сугробом, а в ней, укрывшись от бурана, нес караул будочник Емельян Крышин.
Старика одолевали тревожные думы. Сначала он разговаривал сам с собой, потом стал напевать солдатскую песню, но ни тем, ни другим не мог отогнать беспокойные мысли.
Кутаясь в собачью ягу, Емельян смотрел, как крутится снежный туман возле освещенных окон в правом крыле барского дома.
Тревожность взяла в полон разум Емельяна за неделю до Нового года. Все началось с того, что довелось ему на базаре встретить Мефодия из Верх-Нейвинска. Сказывал тайно ему Мефодий, что будто из острога Верхотурья бежал бунтарь. Бежал не кто-нибудь, а тот самый литейщик из Каслей, по зачину коего вовсе недавно взбунтовались рабочие люди сперва на Юрезанском заводе, а далее и на рудниках, приисках. Весть захолодила всего Емельяна. Еле шел с базара: плохо повиновались ноги, словно размякли в них кости. Да как было Емельяну не перепугаться. Литейщику-то имя Савватий. Савватий ему племянник. Сын младшего Емельянова брата, доменщика, рано отдавшего богу душу от сердечной болезни. Крышин гордился племянником — рабочий человек Савватий сыскал по Камню добрую славу мастерством на хитрое и замысловатое чугунное литье. Однако еще большую славу он заслужил у крепостного работного люда на заводах, рудниках и приисках своим непокорством господскому притеснению.
Дважды садили Савватия в острог за неуемное стремление найти правду для рабочего люда на горнозаводском Урале.
Дважды садили, а он всякий раз самовольно освобождался от острожных желез. Вот и теперь, смотри! сидел в самом крепком верхотурском остроге. Страшны там подземные казематы. Но Савватий и из него ушел, опять на воле.
Рад был Емельян, что племянник живым отыскался. Нынче одолевает старика беспокойство: не убережется Савватий на воле, попадет в руки земской полиции, тогда уж не миновать ему смерти.
Тягостны старческие тревоги. Бьет Емельяна озноб — не от стужи, а от мыслей о судьбе Савватия. Думает старик, где племянник сейчас, в тепле ли в эдакую непогодь? Сыт ли? Думает старик, прислушиваясь к вытью бурана, к едва доносившемуся стуку колотушек, лаю собак на псарне барского двора.
Пересиливая озноб, Емельян утоптал сугроб перед будкой, стал бродить возле нее, увязая в снегу. Ветер рвал полы яги, раскидывал их, как крылья, швырял в лицо колючий снежный фирн. У старика перехватывало дыхание, начинал душить кашель. Кашлял Емельян надрывно, у него ломило в плечах.
Осилив приступ удушья, старик вдруг услышал совсем близко стукоток колотушки, подумал, что это соседский караульный Дементий, и, обрадовавшись, крикнул:
— Хто тута?
Колотушка брякнула за спиной.
— Ты, что ли, Дементий?
Уловил знакомый голос:
— Где ты? Не угляжу тебя, дружище.
— Тутотка я. На меня идешь.
Дементий столкнулся с Емельяном, и оба захохотали.
— Сшиблись, стало быть?
— Ладно, что не лбами. Пойдем в будку. Держись за меня.
Утопая в снегу, добрались до будки. Втиснулись в нее.
— У вас по какой притче свет в окошках? — допрашивал Дементий.
— Гостенек у барина.
— Кто такой?
— Под стать нашему. Юрезанский живоглот. Ванька Сухозанет.
— И Комар с ими?
— Нету. На Старом заводе нонче зимует. Барин с гостеньком вином наливаются, потому домоправительница Агапия Власовна с самого Рождества хмурая.
— Крепко она твоего барина в кержацких рукавичках держит.
— Она всех нас крепко держит. По шеям, как по косякам, кулаками стукает. Кремневая, но все одно уважаемая мною баба…
Дементий потер щеку:
— О господи! Катеринбург-то наш Новый годок так в винном зелье искупал, что диву даешься, как это новорожденный вовсе не утоп.
— Твои купцы, Дементий, кажись, тоже не отставали.
— Три дня пили. Старый Сила до того дошел во хмелю, что с архиерейским ключарем в парадной зале на люстре качели смастерили. Качались, качались, а люстра-то под телесами ключаря и оборвись. Монах чуть не до смерти расшибся.
— Экое дело…
— Дикость купецкая, Емельян. А сам-то погулял?
— Нету. С хмельным давно дружба врозь. Почитай, с поры, как меня, молодца, парня, убеглого от барина во хмелю, заново в крепость поймали да в солдаты сдали. Рабочему люду, Дементий, с вином нельзя знаться. Винное зелье разум тупит, как сучок топор. От вина оказываешься безмозглой чуркой. Добрую мысль в разуме отыскать не силен. А пьяная дикость и ангела может напоить, да так, что он, во хмелю летая, крылья о наши колокольни обломает. Понимай, Дементий, я человек кости крестьянской, с походкой солдата, а посему желаю в трезвом облике на свете значиться.
— А ведь я к тебе с новостью шел, — сказал Дементий. — Слушай, Емельян, дочка моя услужает у купцов Первушиных. Слыхала купецкий разговор про то, что каслинский Савватий опять объявился.
— Неужели? — притворно удивился Емельян.
— Вот и понимай, к чему дело идет. Савватий зело смелый мужик. Последний бунт такой подняли… Два года в страхе Камень держали. Думаешь, Савватий теперь смирным стал? Ого-о-о! Савватий — он такой…
— Про Савватия все работные знают.
— Так-то вот… Стало быть, ты Новый годок сухим встретил.
— А ты как отпраздновал? — полюбопытствовал Крышин.
— Аль позабыл, что мне на сей тропе ходу нет. Моя Парасковья отвадила меня от вина на второй день после венца. Бедовая по крепости характера баба. А главное, в ейной головушке умок не бабий. Ну вовсе по-твоему рассуждает. Дескать, пусть зенки вином господа заливают, а работному человеку надлежит трезвым быть, чтобы мысль в его голове жила. Ну ладно, бывай. Пора брякать. Старый Сила с бессонницей дружит, серчает, когда редко караул бью. — Дементий вылез из будки и застучал колотушкой.
В господских хоромах светились три окна во втором этаже. Муромцев в ноябрьские дни перенес сюда свое жилье после того, как отвел первый этаж жене, привезенной на жительство в Екатеринбург из принадлежащего ему Старого завода.
В буранную ночь в хоромах заводчика свет виднелся в окнах просторной палевой гостиной. Роскошна она по убранству. Пилястры в ней с позолотой. Потолок и карнизы в лепных орнаментах и росписи. На карнизах написаны амурчики, порхающие среди гирлянд пышных роз, а на потолке — хороводы сатиров и нимф. Кресла, диваны, столы, этажерки гостиной украшены золоченой резьбой. Зеркально навощенный паркет отражал в себе каждую вещь.
На стенах портреты: дама с розами, дама в пудреном парике, с мушками, старый вельможа в белом мундире. На самом видном месте в овальной раме большой портрет девушки лет семнадцати. Написана она в пене кружев. Портрет создан за три года до того, как Муромцев увез ее из родительского гнезда в Псковской губернии. Девушка, став женой заводчика, лишилась разума.
Около окна в углу, похожие на шкаф, старинные часы.
В пасти камина, в пуху золы, таяли угли. Их слабый отсвет играл на хрупких статуэтках севрского фарфора, розовинкой ложился на стекла горки.
На столе, покрытом парчовой скатертью, бронзовый канделябр с коптящими свечами. Около него бутылки с заморскими винами, ваза с яблоками и хрустальные фужеры. И тут же бархатный футляр с дуэльными пистолетами.
К столу придвинуто кресло. В нем, развалившись, сидел тучный артиллерийский генерал Иван Онуфриевич Сухозанет, владелец Юрезанского и других заводов. Он заехал к Муромцеву по пути в столицу и проводил в Екатеринбурге новогодние дни.
От усиленных праздничных возлияний одутловатое лицо генерала багрово. Мясистый нос над оттопыренными губами навис крючком. Мундир на генерале расстегнут, и под ним видна черная шелковая рубашка.
Хозяин дома, Владимир Аполлонович Муромцев, стоял рядом в халате, слегка пошатываясь, с гитарой в руках, напевал гусарскую песенку. Он высокий, поджарый. Серовато-желтая кожа обтягивала скулы сухощавого лица. Курчавые пышные волосы и бакенбарды белы как снег, и только в лихо закрученных усах еще сохранялись черные волоски. Взгляд его линяло-голубых глаз злой.
Отпивая из фужера вино смакующими глотками, генерал говорил хриповатым голосом, откашливаясь после каждой фразы:
— Ты должен, дорогуша, верить мне на слово. На этот раз в Петербург качу не кланяться в пояс, как бедный родственник, а ссориться и требовать. Я докажу его величеству. Он должен не забывать, что в то декабрьское утро я был верен ему. Картечь моих пушек остановила мятежников на площади Сената. Я буду требовать…
Муромцев, услышав последнюю фразу, перестал петь и, перебирая пальцами струны гитары, спросил:
— Я, кажется, ослышался?
— Нет, дорогуша, ты не ослышался. Именно требовать! Требовать ограничить власть главного горного начальника генерала Глинки. Разрешить нам частым гребнем прочесать горные канцелярии генерала и отодвинуть купцов подальше от заводов, от золота и всех рудных богатств.
Выслушав генерала, Муромцев рассмеялся и запел в полный голос.
— Смеешься? Не веришь? Вот что, дорогуша, сделай одолжение. Положи гитару. Поешь из рук вон плохо. Голос твой дрожит.
Недовольно пожав плечами, Муромцев бросил гитару на ближний диван, ее струны всхлипнули жалобным звоном.
Сделав шаг к столу, Муромцев поднял фужер с вином и спокойно сказал:
— Спорить с государем у тебя не хватит смелости.
— Дворянам на Урале пора начать спорить с его величеством о своих законных правах. Подумать страшно, до чего распустилась столица. Сочинитель Пушкин высмеивает знатных людей. В театре ставят грибоедовскую комедию «Горе от ума». Какому-то сочинителю Гоголю дозволяют высмеивать нравы чиновной империи.
— Но ты сам только сейчас собирался прочесать чинуш?
— Я кто? Сухозанет, а не Гоголь! У меня есть на это право.
— Без наших чинуш, без их любви к взяткам ты никогда не владел бы кое-какими заводами и рудниками. И прежде чем ты доберешься до них, генерал Глинка нащелкает тебя по носу.
— Уже забыл, как Глинка на тебя кулаком стучал по столу?
— Когда это?
— Когда вел следствие о твоих экзекуциях над виновниками рабочего бунта. Вспомнил?
— Охота тебе вспоминать об этом. От всего пережитого тогда я перед Глинкой просто-напросто растерялся. Тогда я действительно переперчил. Да, генерал Глинка стучал на меня кулаком по столу. А какой вышел из этого толк? Смирил он меня? Нет. Заставил жалостливым стать к мужикам? Нет. Особо ненавижу уральских. Хотя бы за то, что, живя среди них, перенимаю даже холопью манеру разговора. Со всей империи сбежались сюда, со всей Руси снесли в леса свое непокорство, укрылись от страшного греха ликами Спасителя и Богородицы.
— Ты, Онуфрич, ненавидишь крепостных из трусости. Боишься их.
— Из трусости?! А ты их не боишься? В бунт в Юрезани они меня в спальне связанным на люстре вниз головой повесили. Хотели дымом задушить. Как рыбу, меня закоптить собирались. Только десница Всевышнего спасла от неминуемой гибели.
— Не десница. Спасли тебя от смерти солдаты, и приказал сделать это Глинка.
— И за что Господь наказывает нас, дорогуша? Почему это мы родились хозяевами русских мужиков? Почему на роду нам написано быть хозяевами этого упрямого и непокорного народа? Живу и не могу уразуметь, чем можно его в покорность привести. Сам посуди. Бьешь мужика — молчит. Хвалишь его — тоже молчит. По осени написал для крепостных «Нравственные юрезанские заметки». Повелел попам обучать ребятишек. Может быть, поможет. Может, с ребячьих лет все же удастся привить их разуму покорность к родному барину.
— Напрасный труд. Не привьешь. А почему?.. От нашей слабости. Разве господами мы на Урал пришли? Пришли приживалками. Пришли, держась за подолы купеческих дочек. С поклонами пришли из-за своей обеднелости. Стукались лбами о купеческие дверные косяки — вот и достукались.
— Мы с тобой пришли сюда по праву наследования. Сейчас у дворян в руках большинство заводов.
— Но и мы просили купцов учить нас уму-разуму, как стать заводчиками.
— Быть хозяином я ни у кого не обучался. Рожден на свет божий повелевать. А ты, кажется, начнешь сейчас выгораживать передо мной купчишек?
— Выгораживать их перед тобой не буду. По той простой причине, что они от твоей ненависти насмерть не угорают. За себя мне обидно: слишком поздно научился разгрызать твердые уральские орешки. Стыдно, что плохо умел обуздывать крепостных. Поздно подружил разум со стремлением к владычеству над уральской медью, и все же я единственный из здешних дворян, который прозрел и понял, что властью над медной рудой еще можно наверстать упущенное время. На меди тоже сидят жирные купеческие зады. Но я их потихоньку спихиваю. Я утверждаю в крае над медью истинную власть дворянина с царского благословения.
— Хвастаешь?
— Нет, Онуфрич. Тульский кузнец Демидов создал по воле Петра в крае эпоху железа. Вольский купец Расторгуев по своей смекалке создал эпоху золота. Теперь дворянин Муромцев создает эпоху меди.
— И станут тебя скоро звать не Седым Гусаром, а Меднолобым.
— Да что там прозвища! Я о серьезном говорю.
О назначении российского дворянина. Муромцев появился на Урале, чтобы войти в его историю, записать в книге уральского бытия свое существование более крупным, а главное, более грамотным почерком, чем у Демидова и Расторгуева…
— Ну, ну! — Сухозанет покачал головой. — Опасно брать пример с Демидова.
— Это почему же?
— Он верховодил Уралом, когда народ еще не умел думать. Ему, как своему мужику, народ помогал. Демидов, кроме всего, знал мужицкое «петушиное слово».
— Глупости это. Народ начинает помогать, только когда его принудишь к этой помощи.
— А сумеешь его принудить?
— Постараюсь.
Сухозанет снова покачал головой:
— Смотри не ошибись. Взгляни на мои руки. Мозоли на них от плетей, а толку все равно никакого.
— У меня будет толк.
— Не верю. Судя по тому, как ты раскол приручаешь, никакого толку у тебя с замыслами о владычестве над медью не получится.
— Я приручаю раскол на свой манер.
— А я приручаю его совсем по-иному. С кержаками-скитниками в дремучих лесах обхожусь ласково. Крендельками-посулами заманиваю из лесов на мои заводы. В лесах раскол лаской обхаживаю. А как доверятся мне, как припишу их к заводам, то и начинаю плетью приучать к нашей правильной христовой вере.
— Это, стало быть, за ласковость выжигают они твои заводы?
— Жгут, проклятые! Жгут! Потому, кержак не кержак, все равно русский холоп. На пустые разговоры время изводим. Никто не знает, как обуздать непокорность в народе. Никто! Ни царь небесный, ни царь земной. Ты лучше скажи мне вот о чем: на чьих землях лучшая медная руда втуне пребывает? Мои угодья в расчет не клади. Мою медь будешь у меня покупать. Назови мне тех хозяев, у коих надумал ее даром взять.
— Самая богатая медь у Василисы Карнауховой да у Тимофея Старцева.
Удивленный, генерал сложил губы, чтобы свистнуть, но свиста у него не получилось.
— В озноб меня кидает, когда про Карнаучиху слышу. Вот чертова старуха! Тебе с меди ее не спихнуть. Может, через дочку найдешь дорожку к старухе? А как Старцева возьмешь? За его спиной раскол. После Расторгуева он у кержаков вроде христова апостола…
В гостиную вошла Агапия с горящей свечой в руке. Она остановилась на пороге. На ней малиновый сарафан, обшитый широкой парчовой тесьмой. Высокая и стройная. На лице выражение величавой строгости. Следом за ней неслышно появилась белая борзая и заворчала на Сухозанета. Генерал обернулся и, увидев Агапию, торопливо перекрестился. Агапия без улыбки спросила:
— Пошто креститесь, барин-генерал, я, чать, не сила нечистая?
— Сила ты, Агапия Власовна, чистая, но только привык в своих раскольничьих местах от ваших бабьих поглядов осенять себя крестным знамением. Погляжу в ваши глаза — и начинаю сны грешные видеть.
Муромцев щелкнул пальцами. Собака подошла к нему, и он почесал ей за ушами.
— Вина, Гапа, нам больше не надо.
— Не за этим пришла, барин. Время позднее. На часы взгляните.
Муромцев посмотрел на часы. Их стрелки подошли к полуночи.
— Спать пора. А барину-генералу я уж и постельку изладила.
— Мы еще посидим, — недовольно сказал Муромцев. — У нас разговор интересный.
— Завтра его закончите. Говорю, спать пора. Уж который раз полуношничаете?
Муромцев посмотрел на Агапию и, увидев ее сощуренные веки, развел руками:
— Ну что ж, будем ложиться. Проводишь генерала. Зайди сюда свечи погасить.
— Сделайте милость, барин, сами погасите. Гостя мне надо ладом обслужить. Пожалуйте, барин-генерал.
Сухозанет, с трудом согнув в коленях ноги, покряхтывая, встал:
— Покойной ночи, дорогуша.
Борзая снова зарычала на генерала.
— Ну, чего злишься, дура?
— Чужой вы ей, вот она и остерегается. Животная.
— Верно. Раньше ее у вас будто не видал. Как кличешь?
— Мушкой зову. По осени меня барин одарил.
— Пойдем. В самом деле, спать охота. Фу ты, опять сказал холопское «охота» вместо «хочется».
— Следуйте за мной. Вперед пойду, потому светить буду.
Агапия вышла из гостиной, а следом за ней направился, тяжело ступая, Сухозанет.
Прошли молча через большой темный зал, и от прохлады в нем генерал зябко пошевелил плечами. Потом миновали длинный коридор и оказались в маленькой горнице.
— Вон куда меня устроила.
Позевывая, Сухозанет осмотрел горницу с постелью, приготовленной на широком диване.
— Почему из вчерашнего покоя сюда перевела?
— Здеся теплее. На воле буранище. Вы, чать, тепло любите?
— Больше всего люблю тепло маленьких комнат. Много ли мне места надо?
— Вот так и рассудила, что в этой горнице вам поглянется. Покойной ночи. Сейчас вашего слугу пришлю.
— А ты сама меня раздень.
— Не обучена этому, барин-генерал.
— У-у-у, шельма!
— В маменьку уродилась.
Генерал придвинулся к Агапии вплотную и погладил ее по спине:
— Густо замешанная.
Агапия отошла от него и поставила свечу на столик возле постели. Генерал неожиданно обнял Агапию сзади. Но она развела свои руки, и он упал на постель.
— Что это, Иван Онуфрич, как плохо стали на ногах держаться?
— А зачем меня толкнула?
— Господь с вами.
— Я к тебе с лаской, а ты толкаешься.
— Простите за бабью неловкость. Щекотки ужасти как боюсь.
Сопя, генерал встал. Подошел к Агапии. Дышал жарко ей в лицо:
— Приголубь, милая.
В коридоре под дверью заскулила борзая.
— Покойной ночи. Вон и Мушка за мной пришла.
— Не любишь нашей ласки, кержачка?
— Русская я. Веры только старой. Барской ласки боюсь, как зимней стужи. Барская ласка огнем сердца не обогрета, а посему от нее студено.
— Смотри у меня. За такую неучтивость тебя высечь надо.
— Да разве это для меня диковинка? Меня барская плеть не раз кусала. Покойной ночи.
— Ох и шельма! Барину завтра на тебя пожалуюсь, что неласковая.
— Он меня за это похвалит. Не любит, когда гости от меня ласку просят. Покойной ночи, барин-генерал…
* * *
Муромцев, оставшись один, долго недвижно стоял подле стола и неотрывно смотрел на горящие свечи в канделябре. Но вот лицо его дрогнуло, рот искривился недовольной усмешкой, он резко дунул, погасив три свечи, а два непогашенных огненных язычка заметались из стороны в сторону.
Хозяин дома не мог унять возникшего раздражения, закипавшую злость на Агапию за ее упрямство. Он подошел к двери и, пнув ногой, закрыл ее створку. Неспешно приблизился к камину. Поднял поленья и швырнул на угли. Взметнулся пух золы и медленно осел, запорошив серыми хлопьями зеркальный паркет. Муромцев прилег на диване, подложив под голову руки. В его разуме, отуманенном вином, привычная тяжесть. Шевелятся обрывки мыслей, их беспорядочную толчею все чаще и чаще заглушает звон в ушах.
Лежал и слушал высвисты буранного ветра. В камине сгущалась волокнистая пряжа белесого дыма, подкрашенная снизу огненными вспышками; потрескивая, загоралась на поленьях береста.
Часы вызвонили полночь, и, когда совсем умолкло бурчание их разворошенных пружин, мелодичные колокольчики курантов стали рассыпчато вызванивать мотив нежной песенки.
Слепящий огонь камина заставил Муромцева прищурить глаза. Он наблюдал, как вихрилось пламя, обугливая поленья, как от ярких вспышек по стенам заскакали с места на место тени. Муромцев подумал о том, что за эти дни в пьяном чаду он был излишне откровенен с Сухозанетом, прекрасно зная, что ему ничего сокровенного доверять нельзя.
Но Муромцев сразу же успокоил себя: его притязания на медную руду перестали быть тайной с прошлой весны и на Урале, и в столице. Кроме того, он был уверен, что Сухозанет трус и не посмеет болтать в столице ничего лишнего, ибо у самого рыльце в пуху — жестокое обращение с крепостными не один раз доставляло генералу неприятности, грозившие даже следствием.
Муромцев был уверен, что умеет шито и крыто обделывать свои дела, хотя о них по Уральскому краю бродяжила недобрая молва, но ни у кого не было доказательств тому, что молва правдива…
Владимир Аполлонович Муромцев — отпрыск смоленского дворянина. В тот год, когда полчища Наполеона вторглись в пределы империи, Муромцеву исполнилось двадцать пять лет. Война застала его ротмистром Ахтырского гусарского полка. Во 2-й армии Багратиона в составе 4-го корпуса Сиверса он участвовал в Бородинском сражении, где его при отбитии атак неприятеля на флеши достала сабля французского драгуна. На долгие часы он потерял сознание, а потом и сам не мог понять, как остался жив. Однако спустя некоторое время, когда русская армия преследовала врага на немецкой земле, Муромцев начал страдать от нестерпимых головных болей, и, случайно обнаружив, что хмель приносит облегчение, боль утихает, он стал часто пить. Именно тогда у него и появилась идея обогатиться на войне. Он знал о постоянных денежных затруднениях вдовой матери и понимал, что ему не может быть предоставлено желаемое обеспечение, а потому начал расчетливо присваивать себе ценности, оставляемые отступающим врагом.
Первую ошеломляющую по ценности добычу он захватил в личном обозе Лефевра, командира старой наполеоновской гвардии. Муромцев, утаив золото, дорогие изделия, все же кое-что сдал в казну для отвода подозрения. Легкость обогащения воодушевила его. Он еще более ретиво начал прибирать к рукам драгоценности, то и дело отправляя их в Россию, притворно называя посылки «сувенирами войны».
Вернувшись по болезни из Парижа в родовое поместье, он неторопливо разобрал упакованные вещи. В течение ряда лет осторожно распродавал ценности. Как-то Муромцев гостил у знакомого помещика в Псковской губернии и там увидел миловидную девочку десяти лет, поразился ее красотой и, покидая поместье, неожиданно подарил ей на память бриллиантовое ожерелье.
Вскоре вышел в отставку, а через четыре года умерла мать, и он унаследовал вместе с другими родственниками заводы и рудники на Урале.
В зимнюю стужу 1818 года впервые приехал в Екатеринбург и, оглядевшись, взялся ревностно за дела наследованных заводов и рудников и прежде всего перепорол до полусмерти вороватых приказчиков и управителей.
Уральский край поразил его девственной природой, своими неограниченными возможностями, а дикие миллионы местных богатеев разожгли в нем честолюбивые стремления стать среди них равным. Он начал проводить бессонные ночи за карточным столом, участвовать в кутежах, плести интриги. Войдя во вкус уральского житья, он решил, что может добиться и большего — стать первым заводчиком.
Опять-таки исподволь, Муромцев обдуманно освобождался от сонаследников. Он нещадно обкрадывал родственников, а потом выкупал их паи, и уже через пять лет превратился в единоличного владельца Старого и других заводов и рудников.
Он быстро богател, выстроил в городе на берегу пруда новые хоромы, хлебосольно распахнув их двери уральским мильонщикам. Ничем не брезгуя, обыгрывал в карты купцов, заводил интрижки с чиновничьими и купеческими женами и завоевал своими светскими манерами славу неотразимого покорителя женских сердец. Муромцев умел к своей выгоде использовать и эту молву, добиваясь с помощью женщин прибыльных сделок.
Однажды, когда его мучил острый приступ головной боли и он затворником проводил дни в своем доме, вдруг вспомнилась псковская девочка, ее красота, он представил ее взрослой, и его неодолимо повлекло туда, на запад. Не раздумывая, он покатил на тройке, загоняя лошадей, в Россию.
Муромцев не опоздал. Ей шел двадцатый год. Как он и предполагал, девочка превратилась в ослепительную красавицу. Муромцев заметил: она не надевала подаренного ей ожерелья. Дознался, что ее родители распродали ожерелье по камешкам, вызволяя себя из долгов. Он смело сделал предложение и, получив согласие родителей, увез невесту в свое родовое поместье, где в день свадьбы, страдая от головной боли, настолько сильно напился, что не помнил, отчего именно в брачную ночь невеста потеряла рассудок.
Несчастье с женой напугало его. Весь месяц никого у себя не принимая, прожил в поместье, а затем уехал с больной женой на Урал.
Шесть лет держал жену в Старом заводе, никому не показывая, а сам по-прежнему вел разгульную жизнь и на вопросы о жене отвечал, что она тяжело больна.
Он рыскал по краю, высматривая рудные богатства. Подкупал чиновников, и те находили «законное» основание оттягивать жирные куски у промышленников в пользу Муромцева. И следом за ним волочилось прозвище Седой Гусар. В его разуме все крепче свивала гнездо жестокость. Муромцев полагал, что только жестокой силой, сея страх, можно держать в повиновении крепостной люд. Он уже умел похищать людей из раскольничьих скитов для своих заводов, а встречи с кержачками навели на мысль воровать и скитских детей.
Однако после первых облав на детей раскол бурно зашевелился по всему Уральскому краю, но, не найдя для себя защиты у закона, притаился, затих, запаливая пожары на заводах Муромцева.
Месть раскола бесила заводчика, он судорожно искал и не находил способов борьбы с кержаками и вымещал звериную злобу на пойманных раскольниках, до смерти избивая их в подвалах барского дома. К осуществлению своей неотвязной мечты о владычестве во всем крае Муромцев шел упрямо, с жестокостью к людям и без помех со стороны закона.
Приобретя в крае знатность и власть, он уже имел и в столице нужные знакомства, и ему казалось, что становится полным хозяином Уральского края. Всех, кто пытался противостоять ему, стремился убрать с пути с помощью подкупленного чиновничества, не останавливаясь ни перед чем.
Три года назад была поймана и приведена в дом Муромцева кержачка Агапия. Хозяин насильно сделал ее своей наложницей. И случилось то, о чем Муромцев не мог подумать — Агапия ловко прибрала к рукам его разум и волю. Тогда-то он и замыслил стать владельцем всей медной руды Урала…
Камин затухал. На углях снова толстым слоем лежал пух золы.
Муромцев слушал завывания бурана и думал о том, что весной, когда солнце растопит снега и вешними потоками омоет землю, он с помощью столичных друзей начнет воздвигать медный фундамент своей славы.
Буран завывал на разные голоса, а Муромцев засыпал, убаюканный сладкими мечтами.
* * *
Агапия Власовна, сопровождаемая борзой, по заведенной привычке обошла дом, проверила все запоры на дверях. Возвращаясь в свою горницу на мезонине, она спустилась на первый этаж, узнала у горничной, что хозяйка не спит, чуть приотворив дверь, заглянула в ее покой. В узкую щель увидела привычное. Огонек лампадки едва распугивал темноту комнаты, а в ней ходила молодая женщина.
Агапия боялась больной хозяйки. С первых встреч с ней, еще в доме в Старом заводе, пугалась ее синих с фиолетовым отливом глаз. Она никогда не переступала порог ее покоев, строго наказывала горничным без хозяина не выпускать барыню ходить по дому.
Вот и сегодня Агапия лишь взглянула на молодую хозяйку и, плотно прикрыв дверь, по широкой лестнице, устланной ковровой дорожкой, поднялась на второй этаж, миновала длинный коридор. А там, уже по крутой лестнице со скрипучими ступеньками, поднялась на мезонин.
Агапия вошла в горницу, затворила за собой дверь и села на кровать. Борзая, понюхав воздух с горьким запахом деревянного масла, громко зевнула, улеглась возле постели и, подняв голову, смотрела на хозяйку. Птички в клетках, попискивая, перепархивали с жердочки на жердочку. Агапия, услышав их суету, сказала с улыбкой:
— Обрадовались? Пришла я, пришла. Спите, неугомонные.
Комната Агапии узкая и длинная. В ней два венецианских окна. Из одного хорошо видна гранильная фабрика, плотина, заснеженный пруд. Из другого окна виден сад и двор, а дальше — крыши домов и маковки церквей города.
Перед множеством старообрядческих икон теплятся в комнате лампады. Заткнутые над ними пучки засохших цветов и трав обвисли. Тут и ромашки с колокольчиками, и ландыши вперемешку с васильками, незабудками, среди них колосья ржи и овса. Иконы по величине разные, но все темные. На иных из-за мелких трещин на краске совсем нельзя различить изображения, а видимые на иконах лики святых узколицы, во взглядах колючая, сварливая исступленность. Перед иконами аналой, на котором молитвенники и четки из кедровых орешков.
На жардиньерках вазоны с геранями, над ними клетки с чечетками. Широкая кровать с горкой подушек. Против нее зеркало, а рядом, на стене, висит одежда.
Пол в пестрых тряпичных ковриках.
Устало потянувшись, Агапия хотела встать и раздеться, но не встала. Перекинула подушки к стене и легла поперек кровати, подобрав ноги в синих сафьяновых сапожках с беличьей опушкой.
Агапия от новогодних бессонных ночей устала. Ее одолевала дремота.
В завывание ветра врывались тонкие протяжные высвисты, и, не переставая, в промерзшие стекла колотились мелкие крошки сухого снега.
Агапия любила зимние бураны. Вспоминалось детство, как слушала в скитах под вой буранов сказы старых людей про людскую и лесную премудрость. Под рулады буйного ветра слушала сказки, больше всех захватывала ее воображение сказка про Снегурочку, и в лесах, погребенных под снегом, она и себя представляла Снегурочкой.
В памяти Агапия всякую подробность о днях детства хранила особенно бережно и мыслями о них всегда заслонялась от всего, что пришлось пережить с тех лет, когда девичья коса стала тугой…
Агапия — дочь Власа и Калерии из скита, укрывшегося в лесных дебрях за Катавским заводом на горе Иремель. Древний скит. Угнездился в крае по воле пришельца-устюжанина еще при царе Алексее Михайловиче. Скит много раз горел, но вновь отстраивался, сохраняя изначальный облик. Для скита выбрано усторожливое место. Скалы и шиханы. Со всех сторон дремучие леса. Под высоченными елями с ветвями в сажень длиной, под богатырями-кедрами стоял скит, а вокруг него — пасеки на редких лужайках, засеянных льном. Укромное место у раскольников. Пока дойдешь к нему, надо осилить горные бурные речки, на версты растянувшиеся болота, зыбуны и трясины.
Только одна тропа соединяла его летом с остальным миром, но, и зная тропу, ходить по ней лучше с провожатым. Из этого скита в зимнюю пору впервые были уворованы дети для заводов Муромцева. Была с ними поймана и Агапия, но на ночлеге, задушив оберегавшего ее караульного, она убежала из полона. Неделю блуждала по лесам, отыскивая дорогу в родной скит. Ее, полузамерзшей, нашел, гоняясь за соболями, Тихон Зырин.
В тепле его лесной избы она не сразу оправилась от простуды. Потом полюбила спасителя за ласковость. В пору, когда от припека весеннего солнца заплакали, расставаясь с зимой, сосульки, Агапия стала ему женой. Бурной радостью наполнилась ее жизнь. Она решила никогда не покидать Тихона и забыть родной скит. Отцвели в мочажинах ландыши, и Тихон ушел в леса на старательство, пообещав вернуться по осени. Но осень отшумела шелестом опавшей листвы, легли снега новой зимы, а Тихон так и не пришел. Агапия родила мертвого мальчика. Когда же она в беспамятстве билась в родильной горячке, набрели на избушку скитники, скрывавшиеся в лесах от царских облав. Они выходили больную. Указали путь к ее родному скиту. После долгих раздумий Агапия, так и не дождавшись возвращения Тихона, ушла в свой скит. Там неласково приняли опоганившую себя девственницу. Агапии пришлось в изнурительных молитвах и покаяниях искать очищения от своего невольного греха. Она стала совсем чужой среди еще недавно близких людей. Никто из них не мог постигнуть того, что она вернулась в скит не опоганенная, а осененная первым счастьем женщины и убитая горем трагического материнства. Агапия жила одиноко, без единого доброго слова сочувствия.
Прежняя жизнерадостность надломилась в Агапии. Она стала ненавидеть окружающих, молилась не о прощении своей души, а о наказании тех, кто не понимал происшедшего с ней. В ее разуме завелась злоба и постепенно словно бы соскоблила с души и сердца ласку и нежность, дарованные материнской заботой. Только сама Агапия знала, какая жила в ней ласка и нежность, да еще Тихон должен был знать…
Чем больше принуждали Агапию к посту и молитве, тем сильнее затвердевала ее злость. Как загнанная в западню волчица, она отгрызалась от нападок скитских старцев и стариц и неожиданно для всех одним рывком скинула с себя смиренность перед законами веры и законами людскими. Агапия ушла из скита по тающим снегам новой весны. Бродяжила по лесам с артелями хищников-золотоискателей, познавая горькую долю бесправной трудовой жизни.
На глухом прииске, в лунную ночь, у костра ее увидел Муромцев. Почувствовав недоброе в его огляде, она ушла с прииска, но по ее следу пошли барские люди и поймали в лесу. Агапия была одна, а их пятеро. Ее привели в барский дом в Старом заводе. Немало знала худого она про Седого Гусара. В изорванной одежде, в холодном поту стояла перед пьяными глазами заводчика и, не увидев в его руках плети, поняла, для чего понадобилась ему.
Из месяца в месяц ласково-лукаво, хитро и расчетливо утверждала над барином власть своей чувственности. Уже на второй год уверилась, что любое свое желание может исполнить руками барина.
Став в доме хозяйкой, не торопилась с желаньями и никому не показывала свою хозяйскую волю. А злоба все туже и туже стягивала обвязь на ее разуме. Агапия разузнавала про все темное о барине и стремилась сгустить эту темень, внушая ему еще более шалые замыслы.
Когда раскольники потребовали навек успокоить Муромцева, она им обещала и даже взяла от них для расправы петлю из девичьих кос. Но и через год не выполнила обещанного, и тогда, по велению старцев, была проклята расколом. Агапия не испугалась проклятия. Она понимала: жизнь Муромцева в ее руках, и сама решит, что с ним сделать, но решение примет не по желанию тех, кто не поддержал ее там, в скиту, куда пришла она за утешением. Живя около Муромцева, следила за судьбой Тихона Зырина, и все же ни разу не осмелилась его повидать.
Пребывала у заводчика в роскоши. Не думала и не загадывала вперед. Правда, временами у нее появлялись мысли о будущем, но приучать себя к ним не пыталась, ибо сама еще не определила, как будет жить…
Рывком открылась дверь, мяукнули по-кошачьи петли. Услышав прерывистое дыхание, Агапия, приподняв голову, увидела горничную. Простоволосая девушка, запыхавшись, прошептала:
— Агапия Власовна!
— Опять, Глашка, как угорелая неслась по дому? Чего стряслось?
— И то стряслось. С Нового завода старшина караульной стражи пригнал. По виду не в себе мужик.
— Где сейчас?
— В людской трапезной.
Агапия встала с кровати, прошлась по комнате, остановилась у окна. Горничная спросила вполголоса:
— Сюды старшину звать?
Борзая подошла к хозяйке, лизнула ее руку, но Агапия строго сказала:
— Сиди, Мушка. — Обернувшись, посмотрела на горничную: — Пойдем.
Пропустив вперед себя девушку, Агапия спустилась по лестнице на первый этаж. Вошла в трапезную. Во мраке комнаты чуть желтила горевшая на столе свеча. Агапия не сразу нашла взглядом вставшего с лавки чернявого мужика с перевязанной головой. Даже кивком головы не ответив на его учтиво низкий поклон, Агапия, подойдя к старшине, заметила, что волосы бороды влажны от растаявшей изморози. Оглядела понурую могутную его осанку, спокойно спросила:
— По какой надобности пригнал, Егорыч?
— С глазу на глаз дозволь сказать.
— Ступай, Глашка. Да смотри — створу двери ухом не подпирай.
Когда горничная ушла, старшина, кашлянув в кулак, произнес:
— Не осерчай сгоряча за недобрую весть.
— Добрых вестей от тебя не жду. Сказывай про недоброе.
Старшина, тяжело вздохнув, перекрестился и глухо вымолвил:
— Стало быть…
Но, учуяв холодок во взгляде Агапии, смолк.
— Сказывай. Никак от стужи голос перехватывает?
— На Новом заводе…
— Опять пожар?
Старшина, отступив шаг назад, вновь кашлянул в кулак.
Агапия сурово крикнула:
— Не бормочи!
— Агапия Власовна! Великая беда на заводе! Домны остыли!
Агапия, от неожиданности встряхнув головой, переспросила:
— Как остыли?..
— Погасили домны злодеи-бунтари крепостные. Углежоги, кои томят уголь в Гнилом логу.
— Чего плетешь? Аль рехнулся? Разумей, что говоришь. Ты же их караулил день и ночь со стражниками…
— Смяли нас, варнаки. Нежданно людностью навалились. Доменщики их сторону держали. Должно, сговор был. Потому злодеи подоспели, когда чугун сварился.
— Рыло! Выкручиваешься? — выкрикивала Агапия. — Слыхал, когда сговаривались?
— Не слыхал.
— Так и не домышляй враньем.
Встревоженная известием, Агапия металась по трапезной, всплескивая руками. Вновь подойдя к старшине, оглядела его и, улыбнувшись, спросила:
— Вижу, били тебя?
— Перепало.
— Почему сам пригнал? На кого завод бросил?
— Стражники все до единого сильно покалечены.
— Доверенный где?
— Еще перед Новым годом он на Старый завод уехал, к Комару.
— Когда буйство стряслось?
— Позавчерась.
— А ты здесь только седни обозначился? Недосуг было с похмелья?
— Каюсь! Труса праздновал! Сами знаете, каков барин. Хочу слезно просить… Потому, ежели сам встану перед барином, он меня пришибет.
— Неплохо надумал: за бабьей спиной укрыться. Нет, мужичок. Самолично барину доложишь о своем страшном нерадении о барском имуществе. Он тебе доверил его сохранность.
— Не погубите, Агапия Власовна! Христом богом прошу! — Старшина рухнул на колени.
— Чего молчишь про пожар?
— Не было огня. Злодеи без красного петуха обошлись. Покалечили нас, погасили домны и тягу дали.
— Ишь ты. Стало быть, на новый манер изладили свое злодейство. Вставай! Так и быть, сама барину скажу, а то, в самом деле, покойником станешь.
— Благодарствую.
— Вставай, говорю.
Старшина проворно поднялся с пола.
Агапия, задумавшись, отошла к столу. Машинально на нем передвинула ближе к краю свечу.
— Господи, Господи, какая беда барина подкараулила! Кто ватажил над углежогами?
— Кто? Все тот же Степка Левша. Он мне голову окровянил.
— Крепкая она у тебя, коли Степанов удар выдержала. Ступай. Пожуй всухомятку, часок поспи, но, чтобы чуть свет твоего духа в доме не было. Заедешь на Старый завод. Велишь Комару немедля к барину явиться. Да пусть не позабудет доверенного с собой прихватить.
— Земной поклон, Агапия Власовна.
— Ладно. В своей избе лампадку засвети, чтобы Господь уберег меня от барского гнева, когда «обрадую» хозяина новой бедой. Ступай.
Агапия, погасив свечу, вышла из трапезной. По крутой лестнице в мезонин поднималась медленно, прислушиваясь к скрипу ступенек. О происшествии на Новом заводе барину решила сказать утром. Дойдя до двери своей комнаты, отворила ее, но тотчас плотно закрыла, сбежала по лестнице на второй этаж, по темному коридору добралась до палевой гостиной. Переступив порог, приблизилась к дивану, к лежавшему на нем Муромцеву. Кашлянула. Муромцев, увидев перед собой Агапию, обрадовался:
— Вовремя пришла, Гапа. Как же ты догадалась, что я весь коньяк выпил?
— Вовсе по другой надобности пришла.
— В чем дело?
— Домны на Новом заводе…
— Что домны? Чего мямлишь!
— Погасли они.
Муромцев мгновенно вскочил на ноги и, уставившись ошалело на Агапию, закричал:
— Погасли домны.
— Как погасли? Кто посмел погасить?
— Углежоги.
Муромцев, медленно попятившись назад, сел на диван.
— Углежоги? Так я и знал! Углежоги из Гнилого лога. А караул?.. — хрипло закричал Муромцев и, снова вскочив, заметался по гостиной, — Праздновали Новый год?.. Перепились до чертиков?.. Как доверенный и старшина допустили такое неслыханное преступление?
— Значит, барин, было у вас подозрение к углежогам?
— Они ненавидят меня. — Муромцев метнулся к столу и схватил пистолет.
Агапия подошла к нему:
— Неужели стрельбой злобу собираетесь сорвать? Обещали не пугать меня. Не сдержите слово — осерчаю на вас.
— Мне на это наплевать!
Агапия засмеялась:
— Вот развеселили! Чудной вы иной раз от злобы, барин. Разве осмелитесь наплевать на мои желания?
— Замолчи, дура! Неужели не можешь понять, что уничтожены новые домны. Ты же знаешь, сколько они стоили.
— Хоть и дура, но понимаю, что новые домны остыли от старой обиды работных людей. Вот оно как обернулось. И как додумались бунтари свою злобу на вас выплеснуть?
— Завод спалили?
— Целехонек завод. Вот и дивлюсь, что углежоги на новый манер пошли против барской власти.
— От кого все узнала?
— Караульный старшина Егорыч весть привез.
— Немедля его сюда!
— Обратно его услала. Завод без присмотра брошен.
— Без моего приказа?
— Виновата. Осмелилась без вашего дозволения. Завод без глаз оставлен. Аль неправильно поступила?
— Сейчас же туда сам поеду.
— За какой надобностью? Барским гневом домны не растопите.
— Боже мой! Страшно подумать, что я сделаю со злодеями. Всех перестреляю без всякого суда!
— Сперва надо их изловить, барин.
— Не люди, а бешеные волки.
— А у волков ноги дюжие на потайных тропках в наших лесах, да и от Сибири край Уральский заплотом высоким не огорожен. Так-то, барин.
Агапия взяла у Муромцева пистолет и положила в бархатный футляр.
— Коньяк сейчас принесу. Понимаю, что без вина вам нежданную напасть никак не осилить…
Зима на снег выдалась не скупая. Редкий день вплоть до Нового года обходился без снегопада. Следом дохнули ветры, неодинаковые по силе, переходя то в голосистые вьюги, то в бешеные бураны. Они, словно обрадовавшись обилию снегов, принялись передувать их волнистыми сугробами, занося овраги, заметая приметы дорог и троп.
Уральские снега, под любым ветерком оживая, начинают снежную певучесть разнообразными мотивами, схожими с иными печальными напевами русских песен.
Зима на снег выдалась богатая. На Верх-Нейвинский завод навалила его вовсе лишку. До сказочности разукрасила берега верхней Нейвы, и без того живописную местность возле Таватуйского озера.
В густых лесах скучились тут горы. Среди них скалы урочища Семь Братьев и Заплотного Камня, поодаль от них гора Букар.
На берегу озера вросло в лесистую землю раскольничье село Таватуй; по преданиям, почин людской жизни в нем положили сосланные на Камень стрельцы, бунтовавшие по наущению царевны Софьи.
Приглянулась местность Прокопию Акинфиевичу Демидову. Перегородив Нейву, он поставил возле пруда в тысяча семьсот шестьдесят втором году чугунолитейный завод. Селение дозволил строить просторно на склонах окрестных гор, а самой высокой из них дал имя — Сухая гора. По хозяйской воле, соорудили на ее вершине башню для наблюдения за округой на случай лесных пожаров.
Демидовским завод пробыл только семь лет. Прокопий Акинфиевич славился шальным характером. Обозлившись на сыновей за их нерадивость и пьяное мотовство, он неожиданно продал Невьянский завод вкупе с пятью другими заводами, в число коих угодил и Верх-Нейвинский. Демидовские родовые гнезда перешли к Савве Яковлеву.
В Верх-Нейвинске на подоле Сухой горы, где из-под земли били четыре родника, возвышалась усадьба постоялого двора Анфии Егоровны Шишкиной. Свое хозяйство Шишкина наладила с размахом. Два барака поставила, просторную хозяйскую избу, зимой в них тепло, летом не душно. Крытые дворы для постоя вмещали разом более семидесяти подвод. Хорошая молва шла про шишкинский двор. Даже дальние ямщики, направляясь в Екатеринбург, норовили вставать на постой у Анфии Егоровны. За год множество подвод пользовались пристанищем ее усадьбы. А по весне заводские молодки и старухи, встречая Шишкину в церкви, с завистью дивились добротности ее нарядов.
Анфия Егоровна — мужнина жена, но в управлении хозяйством кипучей энергией отодвигала супруга на второй план. На заводе у нее прозвище — Хромоножка. Для слуха оно не очень звонкое и дано ей завистницами зря, так как Анфия Егоровна не хромала, а только слегка припадала на правую ногу. Лицо у хозяйки постоялого двора пригожее, это и служило причиной женской зависти.
В Верх-Нейвинске объявилась Шишкина лет двадцать назад, после того как чудом спаслась от смерти на Южном Урале.
В первом законном браке состояла она с купцом-хлебником. Жила с ним не в полной верности, потому как вживался в ее сердце молодой каслинский кузнец, расторгуевский крепостной Мефодий Шишкин.
Однажды в осеннюю пору возвращалась она с мужем из Кыштыма с обозом муки. На глухой дороге напали на них душегубы. Мужа убили, а ее тяжко подранили. Анфия Егоровна от ножевых ран полгода лежала в постели, но выжила, только стала припадать на правую ногу. Оправившись от болезни, унаследовав мужнины капиталы, выкупила Мефодия Шишкина из крепости, уехала с ним в Верх-Нейвинск, там они и обвенчались.
С малолетства Анфия Егоровна питала особое пристрастие к лошадям, по этой причине обзавелась ими в Верх-Нейвинске, промышляя извозом. Потом поставила заезжий двор.
Любила она быть на народе. На постоялом дворе он всякий появлялся, и в каждом человеке своя житейская стезя. От ямщиков Шишкина про все на уральской земле знала, порой такое слышала, что кровь стыла.
С Мефодием жила в полной супружеской верности. Он по характеру был тихим, но лишнюю волю над собой жене брать не дозволял.
От работы по обширному хозяйству Мефодий не отлынивал, но тосковал по кузнечному горну, оттого и дружил на заводе с работным людом. Был он грамотным. Книжки читал. Однако пристрастие к чтению, молчаливость и задумчивость настораживали заводское начальство, ревностно охранявшее порядки царской власти. Не нравились начальству думающие мужики после частых волнений на заводах. Конечно, Мефодий Шишкин — владелец постоялого двора, но раньше-то он был работным человеком, да еще в Каслях. Из тех мест не первый раз выходила на свет рабочая смута против господской власти. Горное начальство убедилось, что смута живуча, умеет затаиваться в головах простолюдинов. Вот тихая молчаливость Мефодия и настораживала. К тому же начальству известно, что появились в Уральском крае сеятели смуты, на вид смиренные, с ласковыми взглядами, но с опасными мыслями о какой-то новой правде, будто бы нужной для жизни рабочего люда. Из-за этого кой-кому в уезде Мефодий и казался человеком себе на уме. Ведь он народился от холопского корня. Возле кузнечного горна потел, надышался железной окалиной. Посему и были на заводе люди, выполнявшие наказ приглядывать за Мефодием.
За ним наблюдали, но ничего зазорного не углядывали. Начальству доносили, что Шишкин хмельным не забавляется, водит знакомство с доменщиками, в летнюю пору ездит с ними на рыбалку, у костров беседует о немудрых житейских делах, про начальство хулы от него не слышно, господ-заводчиков ничем не укоряет. Но все же одним немаловажным обстоятельством снижает свою почтенность, ибо в церковь ходит совсем редко. А если придет с супругой, то за службой стоит, почти не крестясь, с закрытыми глазами. На вопросы, отчего прикрывает глаза в церкви, отвечает, что, слушая песнопение, не отвлекает себя взглядами, копит в разуме светлые мысли. Однако, о чем сии мысли, не объясняет…
После недавнего злого бурана прихватила Урал стужа. В это утро верхнейвинцам показалось, что даже солнце от мороза поднялось в прядях куржи.
Когда отошла ранняя обедня, на заводских улицах появился при двух офицерах конный отряд горной стражи в шестьдесят сабель. В селение отряд въехал с невьянской дороги и, миновав плотину, свернул ко двору Шишкиной.
Спешившись у ворот по команде, стражники начали заводить коней во двор. Офицеры направились к хозяйской избе, у крыльца их встретила Анфия Егоровна с присущей ей почтительностью. Офицеры объявили, что располагаются на временный постой, приказали для себя истопить баню, приготовить харчи для отряда, не забыли и о фураже для коней. Старший офицер в чине капитана был в годах, другой офицер — намного моложе и, видимо, из барского сословия.
Мефодий Шишкин проявил большой интерес к приехавшему отряду, чем немало удивил супругу. Он самолично отправился выдать фураж, прихватив с собой штоф казенного вина, вероятно надеясь соблазном зелья оживить беседу с промерзшими стражниками. Мефодий рассчитывал, что они кое-что порасскажут. Ну хотя бы зачем отряд появился на заводе и куда держит путь…
Приослабший днем мороз к вечеру взял прежнюю силу.
Когда в окнах заводского селения стекла порыжели от закатных лучей солнца, с Сухой горы по едва видной тропе, переметанной холстинами поземок, спустился монах. Под ленивый лай собак из подворотен он переулками направился к шишкинской усадьбе. Снег под его лаптями похрустывал с веселостью — мороз, пробрав путника в немудрой одежде, заставлял его идти скорым шагом.
Приблизившись к усадьбе и увидев стражников, путник приостановился, хотел было свернуть в переулок, но понял, что стоявшие его заметили, а потому решительно направился к воротам.
Пересмехаясь между собой, стражники пропустили пришельца в калитку. Миновав двор, переполненный конями, человек поднялся на крыльцо ближнего барака. В темных сенях нащупал рукой дверь, за скобу потянул ее к себе, но она не открылась. Тогда он рванул с силой и отодрал примерзшую дверь.
С клубами морозного воздуха пришелец очутился в бараке, затуманенном табачным дымом. Сняв с головы башлык, повязанный поверх скуфейки, с трудом разглядев в красном углу образа, он перекрестился, затем отвесил поклон находившимся в горнице стражникам. Они смотрели на нежданного гостя, по обличию духовного звания, с уважительным любопытством. Пришелец чувствовал на себе их взгляды — иные до того к нему липли, будто присасывались. Но, не выказывая смущения от внимания к своей особе, спокойно стоял перед ними, невысокий ростом, крепыш по сложению, с округлым лицом, со светлыми бровями над глубоким подглазьем. Под скуфейкой угадывалась лысоватость; хилая бороденка походила по цвету на лежалую солому, в темной синеве его глаз усталость. Незнакомец развязал ременную опояску, скинул армяк с обтрепанным подолом, оставшись в ветхом выгоревшем подряснике. Сел на лавку возле двери, снял лапти. Выколотил из них талый снег над бадьей у рукомойника, развернул онучи, босой направился к русской печке и, приложив ладони к ее боку, тихонько сказал:
— Морозец дельный, как гусак пощипывает.
Голос пришельца словно бы шелохнул затихшее с его приходом течение жизни в бараке. Шустрая девушка-служанка, вместе со всеми наблюдавшая за нежданным гостем, вдруг кинулась к двери, толкнула ее и выбежала в сени. Она скоро вернулась, запыхавшись, высказала:
— Хозяйка велит тебе, отче, в ихную избу идти.
— Мне, отрочица, и здесь не худо. Сама видишь, служивые не гонят.
— Оно так, но хозяйка обязательно велела идти.
— Обязательно? Перечить не стану, — Пришелец, не торопясь, взял лапти с онучами и тихо сказал:
Просторная горница хозяйской избы с побуревшими бревенчатыми стенами устлана половиками с синими и красными полосами. На простенке возле голландки, окованной листовой медью, стенные часы с гирями, раскачивая маятник, ворковали по голубиному. Горница тремя окнами, с тюлевыми шторками, выходила на закатную сторону. На полу подле окон деревянные кадушки с ветвистыми фикусами. Под их сенью стол, покрытый белой скатертью с широкой каймой, вышитой синими и черными петухами. На столе самовар, чайная посуда, вазочки с вареньем и медом, тарелки с наливными шаньгами и сладкими пирогами с морковью.
Возле стен стулья с мягкими сиденьями, два кресла и диван с высокими темными спинками, а на них накладные украшения из меди.
Пришелец увидел за столом двух офицеров, дородную женщину, с пуховой шалью на плечах, и в цивильном платье мужчину. Оглядев сидящих, отвесил им низкий поклон. И едва поднял голову, как услышал распевный голос женщины:
— Садись, отче, к горячему самовару. Почаевничай с нами. Гостям завсегда рады, понеже они у нас чаще всего нежданные. Ознакомься с господами офицерами, дорогими нашими гостями. А это супруг мой — Мефодий Палыч, а я, стало быть, супруга и хозяйка, Анфия Егоровна.
Пришелец задержал взгляд на хозяйке — бывает так иногда, с первой встречи человек может понравиться — и назвал свое имя:
— Инок Симеон.
Хозяин только скользнул глазами по гостю, хотя бровь у него над правым глазом на мгновение изогнулась дужкой, будто удивился чему-то.
Инок сел рядом с хозяином после того, как тот, подвинувшись на лавке, указал на свободное место рукой.
Капитан насупился и начал откашливаться. Ему не по душе пришлось, что хозяйка самовольно, не спросив дозволения, усадила за стол с господами офицерами какого-то пришлого монаха в неопрятной рясе с заплатами на локтях.
— Может, опреж чаю откушать пожелаешь, отче? — обратилась хозяйка. — Не стесняйся, изъяви какое желание.
— Достойно благодарствую. Дозвольте чайком согреться. Приозяб малость.
— Еще бы. Замерзнуть можно, босиком разгуливая, — густым голосом проворчал капитан и расстегнул высокий воротник мундира.
Офицер смотрел на пришельца осоловелым взглядом, а про себя думал, что неприглядный облик монаха его раздражает. Да и не было в нем подобающей почтительности к военным чинам. Капитан не сомневался, что неуважительность эта — врожденная, исходит от его холопского сословия, прикрытого монашеским чином. Капитан недолюбливал монахов, несмотря на то что они почитались божьими слугами. Пришелец не понравился капитану с первой минуты, когда не поклонился ему отдельно. Глаза у него были синие, хотя и усталые, но зоркие, видимо привыкшие разом все запоминать. Будто и не глядят на собеседника, а все видят. Такие глаза всегда непочтительны. Капитан нередко встречал подобные у холопов, коих приводил от смутьянства к повиновению.
За столом наступило неловкое молчание. Капитан, окрасив голос суровостью, спросил:
— Отчего, монаше, босиком ходишь? Неужели в обители такая великая скудность, что даже валенок нет?
— У братии обители водятся валенки. Только в дальнем пути пешим ходом я, ваше благородие, больше уважаю лапти из-за их легости.
— Но в лаптях по такому холоду можно ноги отморозить.
— Мороз не страшен ногам и в лаптях, ежели их по-ладному запеленать сперва в соломку, опосля в сухие онучи. Привычка к лаптям тоже подмога.
Капитан хмыкнул:
— У тебя к ним привычка?
— Выходит, так.
— Но пришел-то ты сюда босиком?
— Босиком. Не ожидал, что предстану перед вами. В бараке разулся. Позвольте недовольство высказать, ваше благородие?
— Недовольство? Чем? Говори.
— Мундирные молодцы ваши в казарме табачным дымом до ужасти начадили. Ну вовсе в жилье туман осенний, даже ликов святителей на иконах распознать нельзя.
Капитан откинулся на спинку кресла и громко засмеялся, его грузное тело заколыхалось, кадык затрепетал под жирным подбородком. Неожиданно он оборвал смех:
— Вы слышите, поручик?
— Так точно, господин капитан.
— Почему же не смеетесь?
— Виноват.
— Ступайте немедленно и убедитесь, действительно ли от табака икон не видно.
— Слушаюсь!
Поручик встал и, звякнув шпорами, вышел. Капитан оглядел сидевших за столом, протянул хозяйке свой пустой стакан:
— Плесните горяченького…
Анфия Егоровна налила офицеру чай и подвинула к нему стакан. Капитан положил малинового варенья в чай и, помешивая его в стакане, произнес:
— Если сказанное тобой, монаше, окажется правдивым, прикажу солдатам в избах табаком не забавляться.
Хозяйка все время исподволь наблюдала за иноком и приметила, как он поспешно съел шаньгу, запивая чаем. Догадалась, что человек голоден и только стеснительность не позволила ему воспользоваться предложением о еде. Налила второй стакан чаю, поставила ближе к нему вазочку с медом и тарелку с морковными пирогами.
— Кушай, отче, на здоровье. От стужи медок надежная заступа. Опосля в баньку сходишь. Господа офицеры ране помылись. А с тобой муженек мой за компанию помоется. Тебе обязательно надобно попариться. Верно говорю, Фодя?
— Обязательно попаримся, Анфия Егоровна. Баня у нас, отец, по-белому топится.
— Преотменная баня, — подхватил капитан. — А веники — восторг. От каких берез нарезаешь, хозяин?
— От уральских, ваше благородие.
— Но почему от них после запарки исходит особенный аромат?
— От умения в пору ветки нарезать, покедова в листве молодая зеленость.
— Неужели и веники надо вовремя готовить?
— Обязательно вовремя, ваше благородие.
Пришелец не принимал участия в разговоре, и капитану вдруг захотелось нагнать на него страх каким-нибудь неожиданным вопросом, заставить растеряться. Отхлебнув из стакана чай, капитан уставился на инока и громко спросил:
— В каком сословии значился, монаше, перед уходом в монастырь?
Пришелец погладил рукой бородку и ответил:
— Смиренно приняв постриг, навек схоронил память вместе с мирским именем, а заново народившись с именем Симеона, стал грешным рабом божьим.
— Может, скажешь, откуда путь держишь?
— Скажу. Из Табынской обители иду.
— Где же таковая находится?
— В сибирской стороне.
— И ты оттуда идешь пешком?
— Иной раз на обозные подводы подсаживаюсь.
— Повидал Сибирь?
— Повидал, но, конешно, не всю. Она большущая.
— Как в ней простой народ царский закон сохраняет?
— Как? — Инок пожал плечами. — Как подобает. Сибиряки — народ сурьезный, ваше благородие. Окромя всего и сторона таежная, посему вольности с законами не дозволяет.
— Холопам там вольготно. Без господской руки живут.
— А им, ваше благородие, одной царской десницы хватает.
— А отсюда куда пойдешь?
— В Первопрестольную.
— За какой надобностью?
— Послан братией повидать богатую московскую барыню, пожелавшую сделать денежный вклад в нашу обитель.
— В Москву идешь, а одет совсем нищенски.
— По вашему разумению, видать, одежа моя не совсем подходящая для Первопрестольной? Вот ведь как. А я думал, на мне ряса как ряса.
Капитан встал из-за стола и, напевая, прошелся по горнице.
— Не плохо живете, хозяева. Думаю, что мы и завтра у вас постоим. Попрошу посему к обеду поросеночка зажарить. Отменно готовите.
— Как прикажете, так и изладим, — ответила Анфия Егоровна, вспыхнув румянцем от похвалы.
— Пожалуй, до ужина и прилечь не грешно?
— Сделайте милость. Та дверь в опочивальню. Мы уж вам ее уступим. Невелика она, зато теплая. Постели давно изложены.
Капитан направился к двери, но вопрос пришельца заставил остановиться.
— Сами, ваше благородие, куда направляетесь?
— В Екатеринбург, по приказу генерала Глинки.
— Понадобились генералу?
— Мое дело — укреплять порядок среди рабочих на заводах.
— Неужли они рушат порядок?
— Бывает, что и рушат. Смутьяны среди них заводятся, один недавно посмел бежать из верхотурского острога.
— Не скажите. Из острога убежал? А караул чего глядел? — повысив голос, спрашивал инок.
— Караул? Нализались браги и проспали, сукины дети.
— Вот ведь как. Приставлены варнаков караулить, а они ворон ловят. Поди имечко беглого знаете?
— Не интересовался.
Возвратился в горницу поручик.
— Ну что выяснили? — полюбопытствовал капитан.
— От табачного дыма в бараке действительно туманно.
— Иконы видны?
— Никак нет.
— Приказываю! — Капитан, заложив руки за спину, прошелся по горнице, придвинулся вплотную к поручику: — Приказываю запретить нижним чинам курение табака в жилых помещениях.
— Слушаюсь! Разрешите выполнить приказание?
— Не торопитесь. Утро вечера мудренее. Сейчас составьте компанию поспать часок перед ужином.
— Слушаюсь!
Офицеры удалились в отведенную им комнату. Инок, напившись чаю, перевернул на блюдце стакан вверх дном.
В горнице с горящей свечой в руках появилась девушка. Сняв у порога валенки, поставила свечу на стол и начала собирать посуду.
Анфия Егоровна обратилась к мужу:
— Пора, кажись, Фодя, в баню идти.
— Пора так пора. Пойдем, отец.
— Только ты не вздумай, отче, в баню в лаптях идти. Муж тебе валенки даст. Слышишь, чего говорю, Фодя?
— Слышу. Без твоего наказа обул бы гостя…
Хозяин и пришелец, прихватив медные тазы и веники, вышли из избы в темноту крытого двора. Тускло горели три фонаря на подворье, едва освещая закуржавевших от инея лошадей, с хрустом жующих овес и сено.
К людям подбежали лохматые псы, деловито обнюхали валенки монаха и, учуяв знакомый запах, повиливая хвостами, проводили до огорода.
Хозяин первым ступил в предбанник и зажег сальную свечу. Следом вошел гость, запер дверь на засов, и тогда хозяин кинулся к нему, крепко обнял, шепотом выговаривал:
— Савватий! Савватушка, дружок! Живой! Дождался тебя!
— Земной поклон тебе за помощь, Мефодий.
Разжав объятие, Мефодий усадил Савватия на лавку.
Ему хотелось сразу обо всем расспросить, но волнение перехватывало голос. Не мог говорить и Савватий.
Отблески от огонька свечи вспыхивали искрами в их влажных глазах…
Мефодий Шишкин, по давней привычке не перечить твердому слову супруге, отвел Савватия ночевать в сторожку — и все потому, что, пока они мылись в бане, капитан высказал хозяйке недовольство пребыванием неведомого монаха под одной крышей с офицерами.
Постоянный обитатель сторожки — старик, по ночам на воле караулит хозяйское добро; он отягчен всякими недугами, из-за этого большой охотник тепла. Печь в сторожке истоплена по-жаркому, на стеклах окошка пушистый иней в водяных натеках.
Ночь с ветерком. Наносит он порой разноголосый собачий лай, нарушая торжественное безмолвие студеной ночи, и поди пойми, отчего у псов беспокойство, то ли от стужи, то ли недоброе чуют.
Отнесет ветерок лай в сторону, слышится перестук колотушек, и громко клохчет по-куриному колотушка хозяйского караульного, когда близко подходит к сторожке.
Савватий уже давно лежит на лавке на разостланном тулупе, а сна нет. Ворошатся мысли. Вот одна вдруг покажется дельной, но ее разом заслонит сомнение. Как не быть сомнениям? Часто Савватий ошибался в замыслах. Иные казались ему правильными, необходимыми на жизненной тропе, а на поверку заводили его в тупички, из которых по-трудному приходилось выбираться.
Не мог Савватий заснуть не от тревог, а от радостного волнения после встречи с Мефодием.
Прошло шесть лет с последнего их краткого свидания. Да разве можно встречи украдкой называть свиданиями? А в общем-то, двадцать зим отбуранило с тех пор, когда вдовая купчиха увезла кузнеца Мефодия из Каслей и порвала кольцо мужской дружбы.
От бессонницы у Савватия мечутся мысли. Суровую жизненную тропу протаптывает. Радостного было мало, да и кончились все радости, как минуло босоногое детство, когда даже голодуха переносилась только с морщинкой на лбу и забывалась во сне.
Далеко ушел от детства за прожитые сорок лет, а память будто ничего не потеряла. Помнит Савватий, как его родителей продал помещик скупщику с уральских заводов. Помнит, как гнали их утугой в шестьдесят голов, с ребятишками, по пыльным и грязным дорогам из Смоленской губернии. Помнит, как по ночам на привалах, чтобы бабы и мужики не сбежали, их приковывали цепями друг к другу за ноги. Помнит, как на уральской земле отцу Савватия, пахарю Зоту Крышину, приказали стать доменщиком, мать заставили поднимать тачкой руду на домну, а Савватий терся возле материнской тачки, помогая нагружать в нее комья железной руды. Шел Савватию одиннадцатый годок, когда он попался на глаза литейному мастеру Пахому. Тот выпросил паренька у приказчика себе в подручные и стал обучать, как кожух набивать, как колпак ладить, формы сушить перед отливом. Дельное литье выходит от правильной формовки. В ней вся сила литейщика. Старание Савватия пришлось по душе Пахому, и литейный умелец терпеливо учил его премудростям ремесла. Савватий бережно складывал в разуме заветы учителя, а потом стал и свои выдумки применять при формовке и при отливе формы, да так неплохо, что Пахом иной раз называл его «умельцем». Нравилось Савватию превращать серый чугун то в кружево, то в какую-нибудь занятную фигурку.
Чего только не приходилось Савватию отливать под ведущей рукой Пахома! Лил узорные, кружевные решетки, плиты с замысловатой вязью буквиц, ларцы, научился сам вырезать модели для отливок, вызывавших удивление. Постиг чекань на отливках и воронение. Своим умением укреплял по Уральскому краю славу каслинских литейщиков. Отлитые Савватием решетки из чугуна и меди увозились в стольный град на Неве, Москву, Екатеринбург для украшения оград дворцов вельмож и богатеев.
Став литейным умельцем, Савватий принимал близко к сердцу невзгоды работного люда.
Хотя и родился Савватий в курной крестьянской избе, ему не пришлось ходить по борозде за сохой, не довелось слушать звенящую песню косы на душистых покосных лугах в родном Смоленском краю.
По чужой воле, завод отлучил его от земли дедов и расплавленным чугуном сроднил с новой, рабочей судьбой; все же тянуло его весной к земле, когда она скидывала с себя зимнюю обузу снега и льда. Не мог он оторвать память от красот природы, недаром в формах его диковинных отливок переплетались узоры веток, цветов и колосьев.
Была в его отливках неповторимая правда о чудесах природы, будто лил он свои узоры не из чугуна, будто просто окаменели веточки, цветы и колосья, но колдовскому волшебству.
Молодым пережил придавившее душу первое большое горе. Как-то, вернувшись домой с работы, увидел на столе под домотканой холстиной мать — ее измученное сердце перестало биться. Вскоре ушел из жизни отец, так и не нажив смелости перечить заводскому начальству.
Савватий перенял характер деда с материнской стороны. Тот был гордым, непокорным и умер под плетями, не покорившись самодурству барина. У Савватия супротивность завелась с детства. Начав работу с Пахомом, он с его помощью осиливал грамоту. Однажды его застал с букварем приказчик и хлестнул нагайкой, а Савватий, кинувшись на обидчика, вырвал нагайку, исхлестал приказчика. За это парень был жестоко посечен плетями, брошен на две недели в комариную яму возле гнилых болот. В той яме и произошла его встреча с Мефодием Шишкиным, сдружился с ним. Был неразлучен с другом до тех пор, пока Мефодий не уехал из Каслей, сменив кузнечный горн на ласку купчихи.
Закралась и в сердце Савватия любовь, но не принесла счастья. Любимую барский сынок проиграл в карты. Осталась на душе саднящая рана от горя и обиды. Тогда-то иначалась у него иная жизнь, с помыслами не только о своей судьбе, а о судьбах всех, кто около него носил звание работного человека. Появились мысли, что именно руками работных людей создается сытость, покой, непобедимость государства. А господа, владеющие по ревизским спискам их душами, по барскому лихому наитию принижают людское достоинство, а то и меняют крепостных на гончих собак, проигрывают в карты, как будто это перстни, снятые с пальцев барских рук.
Савватий скоро убедился, что у многих работных людей тоже роятся мысли об иной жизни. Говорил ему о необходимости перемен вернувшийся с солдатчины дядя Емельян Крышин. Изрядно порассказал он племяннику о жертвенной смелости пахарей и работных людей, наряженных царем в солдатские мундиры, спасших отечество от нашествия Наполеона.
Дядины бывальщины помогли Савватию осознать, что в руках и разуме простолюдинов хранится неодолимая сила, что от грозной беды их грудью заслоняются господа, а в благодарность награждают сермяжных спасителей острогами, кандалами, нагайками.
Размышляя о вольности, о нраве на иную жизнь среди извечного бесправия, Савватий и накопил смелость испросить защиту для работного люда у царя Александра Первого, когда тот приезжал на Урал за год до своей смерти.
Передавая царю бумагу с мольбой о милосердии к простому люду на горнозаводской каторге, Савватий верил, что царь защитит от зверств заводчиков.
Савватий и сейчас помнит ласковое выражение царских глаз, почудилось ему тогда, что царь поймет его мольбу о бесправной участи работного люда, окажется отцом милостивым для своего народа.
С каким нетерпением несколько бессонных ночей ожидал Савватий царской милости и — дождался: как только царь покинул Урал, Савватия высекли плетями, взяли в железа и засудили за смутьянство на пять лет.
До чердынского острога, в котором сидел Савватий, дошла весть о господском бунте в Петербурге. Не мог он понять смысла, отчего офицеры взбунтовались против нового царя. Не мог поверить, что господа учинили бунт ради простого народа…
И все же весть о петербургском бунте пробудила в Савватии стремление к свободе, и он выискал случай для побега из острога. Убежав, скрадывался в глухих лесах Конжаковского Камня, тайком посещал тамошние заводы, прииски и шахты; работные люди вслушивались в его слова о том, что пора искать пути к вольной жизни. Последовал бунт в Богословском заводе госпожи Половцевой. Работные люди требовали убавить уроки и учинить справедливую плату. Своевольство и ослушание рабочих были подавлены воинской силой. Савватия и его друзей, по предательскому доносу, поймали и осудили. Савватия сослали в тюменский острог на восемь лет.
Нежданно пришел к нему на помощь верный друг Мефодий Шишкин и помог осуществить вторичный побег. Но не послушался Савватий совета Мефодия некоторое время пожить в Сибири и опять появился на Южном Урале, где о нем уже ходила в народе молва как о радетеле за судьбы работного люда.
Через два года после тайного укрытия Савватия начались волнения на приисках и рудниках, потом перекинулись на заводы Южного Урала, которые не так легко было усмирять даже воинской силой. На одном из приисков Савватий простудился, и больным был схвачен во время облавы, но не опознан. Ему удалось выдать себя за другого, и после суда над зачинщиками волнений он снова был посажен в верхотурский острог. А в народе жила уверенность, что Савватий из Каслей на свободе.
Волнения на Южном Урале по-прежнему не стихали…
В окошко просеивается мглистость зимнего рассвета.
В усадьбе пропели первые петухи. Донеслись со двора громкие людские голоса.
Так и не заснул Савватий. Встал с лавки, накинув армяк, вышел во двор. Фыркают лошади. Седлают их, переругиваясь, стражники и выводят коней в распахнутые ворота.
Орет капитан, отдавая команду, пересыпая ее крепкими словечками. Потом все стихло. На заезжем дворе Анфии Егоровны кончился постой воинской части. Савватий вышел в раскрытые ворота, к нему подошел, прихрамывая, караульный, перекрестившись, сказал:
— Убрались, слава те господи, мундирные живоглоты. Как послалось, отец?
— Благодарствую.
— Теперича мой черед соснуть. Малость продрог, ночь была с ветреным прихватом. Чать, слыхал, как псы во всей округе брехали? Верная примета на дюжий мороз. Сделай милость, подсоби ворота затворить, а то Егоровна начнет пилить за недогляд.
Исполняя просьбу караульного, Савватий стал закрывать створу ворот.
На третье утро Савватий пошел в церковь, чтобы не вызвать у кого- либо к себе подозрение.
Народу в богатом, просторном храме мало, да и топят его со скупостью, потому парок виден от дыхания молящихся. Пол выложен литыми из чугуна плитами, а в зимнюю пору от одного погляда на них в дрожь бросает.
Савватий встал возле колонны у киота с иконой Николая-угодника. Перед ней две лампады теплятся, оттого лицо Савватия на свету.
Священник, правящий службу, выходя на амвон с кадилом, приметил монаха, то и дело кадил в его сторону, на что Савватий отвешивал глубокие поясные поклоны.
Перед концом обедни с клироса сошел псаломщик, приблизился к Савватию и, недружелюбно оглядев его, нехотя, совсем неприветливо высказал:
— В алтарь ступай.
— Пошто? — удивился Савватий.
— По-ш-ш-то? — растягивая слово, передразнил псаломщик. — Велят, так иди.
Хмурое, изрытое морщинами лицо псаломщика, со взглядом слезящихся глаз, в оправе припухших красноватых век, Савватию не понравилось, он опасливо огляделся по сторонам, остановив взор на стражнике, водружавшем у распятия свечку, но все же последовал за псаломщиком.
Ступив в алтарь, перекрестился, подошел к священнику и коснулся губами его благословлявшей руки:
— Человек велел перед тобой, батюшка, обозначиться.
Священник оглядел незнакомца:
— Скажи, инок, из какой обители?
— Из Табынской.
— Стало быть, это ты. Только как-то неладно. Гостишь в заводе, а в церковь не ходишь.
— Истинно говоришь. Согрешил. Занемог малость. Видать, остуда меня прихватила.
Священник, взглянув на лапти Савватия, соболезнующе произнес:
— Обутки у тебя не ко времени. Видать, по обету носишь.
— Сподручно в них.
— Тебе видней. Стало быть, ты и есть из Табынской обители. Слыхивал про твой монастырь. Старинный… Как про тебя узнал?.. Вчерась запоздно по вечеру солдат конной стражи наведывался ко мне домой, чтобы дознаться, есть ли Табынская обитель в сибирской стороне.
— Знамо есть.
— Я его заверил в том, но полюбопытствовал, кто его ко мне дослал. Солдат доложил, что по приказу командира. Сказал, что его благородие сомневается, есть ли такая обитель. Ты где того командира повидал?
— У Шишкиных стою. С его благородием за одним столом чаевничал, а он, накось, вдруг сомнение возымел, что ему про обитель неправду сказал. И пошто засомневался?
— Ума к тому, инок, не клади. В нашем краю военное начальство недоверием к людям обороняется. Во всяком рабе божьем не того углядывает, кем он на свете значится.
— Так видать же, что монах я, а он все одно сомневается.
Священник взял с престола просвиру и подал Савватию:
— Возьми. У хороших людей стоишь. Поклон передавай хозяевам. Коли явится какая нужда, ко мне стучись.
— Благодарствую, батюшка. Христос тебе во спасение…
Вернувшись из церкви, Савватий застал во дворе хозяйку, наблюдавшую, как кучер из сена ладил сиденье в ковровой кошеве. Увидев пришельца, она спросила его:
— Никак от обедни?
— Отстоял раннюю. Просвирку вот тебе от батюшки принес. Кланяться велел.
— Спасибо за заботу обо мне, грешной.
— Так уж и от меня прими благодарение за душевное тепло под твоей крышей. Никак собралась куда?
— И то собралась. Решила в Екатеринбург сгонять. Овес в хозяйстве на исходе, стало быть, пора подкупать. Цены-то, слыхала, будто подходящие. Боюсь, чтобы не подорожал. Ты, сделай милость, без меня не уходи. — Заметив, что Савватий опять в лаптях, всплеснула руками и заговорила с обидой: — Господи боже мой, нет на тебя управы, упрямец! Пошто не в валенках?
Хозяйка перебила его:
— Ведь насмерть застудишься. А тебе вон куда надо! В Москву. Так, гляди, наказываю: без меня со двора не сходи. С Мефодием беседуй, он у меня мужик рассудительный. А уж по характеру такой сговорчивый, такой непоперечный, оттого и живем с ним душа в душу. Ступай в избу. Велела тебя чаем с горячими шаньгами угостить.
— Благодарствую. В городу поди долго прогостишь?
— Что ты. Завтре к вечеру обернусь, сам видишь, какое хозяйство на моих руках.
После полудня солнечный свет, пронизывая причудливые узоры инея на промерзших стеклах, золотыми полосами лег на половики хозяйской горницы.
Савватий с Мефодием сидели на диване.
После отъезда Анфии Егоровны, оставшись наедине, они получили наконец возможность поговорить без утайки. Савватий рассказывал о своем побеге из верхотурского острога.
— Дожжило в то утро, а у меня в ненастье на душе завсегда тоскливость. Нежданно выкликнули меня к караульному начальнику. Боялись мы его. Без причины, вродя, как для забавы, по зубам бил. И надо признать — мастером был на сей счет. Ну, объявился перед ним в правежной, вижу, стоит молодой парень. Кинулся он ко мне разом обниматься. Оторопел я, а он шепчет мне, чтобы тоже выражал радость. Караульный начальник, поглядев на нас, вышел. Тогда парень засыпал скороговоркой да выложил мне, что прислан тобой с умыслом о моем убеге. Парень велит верить каждому его слову. Чтобы не было у меня сомнения, что он от тебя, помянул имена моих померших родителей. Тут я поверил. Потому ты знавал их по Каслям. Парень толкует мне, а у меня во рту от волнения горечь, в ушах звон, но все слышу, что наказывает. Сперва велит прикинуться богомольным, ходить с арестантами в монастырскую церковь. Говорит, что под осень монахи для топки печей в монастыре нанимают в истопники острожных арестантов. Велит и мне напроситься.
— Ничего не утаивай, все припомни, как было, Савватушка.
— Да разве такое позабудешь? Слушай дале. Наказы человека я выполнил. Когда стал густо опадать желтый лист, определили меня вместе с другими арестантами в истопники. Под присмотром стражников начали в монастыре дрова заготавливать. И одинова, вовсе будто невзначай, подошел ко мне опять твой человек, но только уж в подряснике послушника, вроде как от монастыря за нашей работой присматривает. Стал меня обучать, как сподручнее чурки колоть, а сам опять наказывает ладом поглядеть бревна, наваленные возле монастырской стены. В том месте стена тянется по кромке лесистого овражка. Пока дрова кололи, твой парень в облике послушника частенько возле меня терся. Зима подошла. Выдалась, сам знаешь, споначалу снежная и морозная. Вот сказываю тебе, а самого то в жар, то в озноб кидает.
Савватий встал с дивана, подошел к печке, прижал ладони к ее медным бокам, помолчал и опять заговорил, не оборачиваясь к Мефодию:
— Недели за две перед Рождеством велели мне дрова к печам в покой игумена носить. Ношу охапки, а по пятам ходит стражник. Тащу, кажись, седьмую охапку и вижу на крыльце твоего парня. Стал он стражнику выговаривать, чтобы тот не ходил за мной в покои, потому, дескать, плохо ноги отряхает от снегу и на полах мокреть разводит. Говорит, что сам за мной в покое станет приглядывать и не хуже его меня укараулит. Стражник сперва в амбицию вломился, как это так перед ним такой запрет кладут, но потом махнул рукой. Вошли мы без стражника в покой, а парень мне и выложил, что через два дня в субботний день, за всенощной, надо мне бежать, да и помянул, какой даст в церкви знак для убега.
Савватий прислонился спиной к печке и задумался.
— Чего замолчал? — нетерпеливо спросил Мефодий.
— Вьюжило крепко с утра в ту субботу. Боялся я, что отменят поход в церковь, но, на мою радость, в церковь нас повели. Стою в третьем ряду арестантов. Самого дрожь бьет. Слушаю службу, а помыслы — о знаке для убегу. Запел хор «Свете тихий», и вдруг у амвона женщина заголосила не своим голосом, пала на пол, стала в припадке падучей корчиться. Это и был договоренный знак. В храме переполох поднялся. Люди кинулись к женщине, смяли ряды арестантов, заметались стражники возле нас. Гляжу, в подсвечниках стали свечи гаснуть в той стороне, куда мне бежать — в левый придел. Рванулся туда да сшибся со стражником. Звякнул его изо всей силы кулаком да — в алтарь, а там меня парень ждал. Вместе выбежали на монастырский двор, переулками между келий побежали к ограде. Сам не помню, как взобрался по бревнам на гребень стены, бегу по нему, а за мной парень. Велит прыгать. Я махнул в темень, по сугробу кубарем покатился в овражек. Теперича перед тобой. Вот только дельных слов для благодарности никак высказать не могу.
— Да мне их и не надо. Какой день счастливцем живу, на тебя глядя. Что пришлось обрядиться в монашескую лопотину, не серчай, Савватушка. Задумав вызволить тебя из острога, мы с тем человеком не сразу решили, как тебя попервости на воле от беды оберечь. Вот и замыслили, что в обличии монаха самое лучшее сбережение. К монахам всякое начальство меньше вяжется.
— Умно затеяли. Все так обошлось, что до сей поры дивлюсь, будто сон гляжу. Как велишь вызволителя поминать? Он мне так и не назвался.
— И от меня имени его не услышишь. Человек верный. Работником у меня два года жил. Беглый человек. В крае нашем после вызволения тебя след его простыл.
— Чего сдеялось?
— В Сибирь подался. Из неволи убег вовсе недавно. Барина его за столичный бунт в сибирскую каторгу услали. Все время таил в себе замысел, как ему к сосланному барину добраться. Дознаться порешил, по какой причине господа взбунтовались против царя. И верно ли, что хотели работному люду волю добыть. Хотелось ему дознаться, в чем господа в бунте ошибку сотворили. Пошто не осилили царскую сторону да сами угодили кто в петлю, кто в каторгу.
Савватия сказанное ошеломило, от удивления он даже рот рукой прикрыл.
— Вижу, озадачил тебя?
— Неужли считал, что из-за господской ошибки царь ихний бунт примял?
— Так и считал безо всякого сомнения, что у господ не хватило смекалки ладом взбунтоваться. Тревожусь, Савватий, за него. Доберется ли до своего барина? Рисковый характером. Ни дать, ни взять забубенная головушка. Вроде тебя, когда ты парнем был.
— Доберется, в том не сомневайся, Мефодий. Эдакий парень да чтобы не зажал в кулак желанное? Ведь как меня ловко вызволил… Вот бы поговорить с ним теперича. Может, и я какую ошибку сотворил, когда царю бумагу с «плачем» о нашей горькой доле подал. Может, вовсе не так надо было отписывать царю. А может, царь мою бумагу не читал, и начальники без его слова в острог меня упекли.
Савватий замолчал под пристальным взглядом Мефодия. Еще во время рассказа о побеге Савватий приметил удивление в глазах друга и спросил:
— Чего поглядом обскабливаешь?
— Дивлюсь, слушая. По виду ты будто тот же, да не совсем. Подумать опасаюсь, неужли верхотурское сидение за три года примяло в тебе душевные силы. Ты вроде уверенность утерял. Может, скажешь? Чтобы тревога во мне не завелась.
— Так скажу. Не острог, а одинокие думы меня наизнанку выворотили. А от этого ты и учуял разность во мне. Так скажу. Кабы ты с парнем не надумал вызволить меня из острога, сам я ныне из него не убег. Отсидел бы положенный срок и на воле оказался с дозволения начальства.
— Вон как? — Мефодий, волнуясь, встал, махнул рукой, опять сел. — Та-а-ак… Давай все высказывай.
— Врешь! Темнишь, Савватий! Утаить от меня хочешь, что веру в себя утерял. Пошто же раньше людям о себе неправду сказывал? Пошто заверял их, что станешь думать об их тягостной житейской доле да путь к воле искать? Пошто обманывал, ежели в совести твоей трещина была?
— Совесть мою, Мефодий, не хули. Она как была, так и есть совесть. Чистая она у меня, как родниковая вода. Но только уразумел, что не знаю, где для людей заступу от барского насилия найти. Может, у царя и дальше искать? Иль супротивным непокорством работных людей можно господ образумить?
— Не знаешь, говоришь? Парень на вызволение тебя пошел, тоже не ведая, как все для вас обоих обернется. Но в себя верил. И дело по-хорошему обошлось. В Сибирь теперича отправился, не зная, как все сбудется, думал только, чтобы беспременно узнать от барина, из-за какой ошибки господский бунт покончился неудачей, омытой кровью. А Пугачев народ подымал, знал он, чем дело обернется? Что выпадет доля ему за крестьян, за работный люд на плахе голову сложить? Вот и ты, Савватий, выискивай, допрашивай с пристрастием свой разум, а не пужай себя покаянием за промашки, в деле сотворенные. — Мефодий поднялся, подошел к Савватию вплотную и, ткнув пальцем в его лоб, горячо заговорил: — Думай! Не позабывая, сколь годов копишь в разуме мысли про волю. Вспоминай чаще, как мы с тобой о ней в Каслях беседовали. А главное, не позабывай, что люди осередь себя приметили. Кабы ты пустобрехом был, они к твоим мыслям веры не рождали, не признавали бы в тебе разум, коим способен помочь им отыскать надобную тропу к правде работной жизни. А ты голову склонил.
— Какая теперича будет у меня жизнь? Знаешь, как буду мыкаться? У зайца и то житуха спокойнее.
— Ишь ты! Даже про косого вспомнил. Аль надумал меня разжалобить до слезы, чтобы начал тебя жалеть? Аль тягостно будет тебе привыкать к такой жизни? Аль в диковину она тебе? Аль не убегал ты до сей поры дважды из острога? Да и не жил будто на виду в рубленой избе. Аль позабыл, что лес да горы тебя оберегали, а пуще всего люди работные? Сколько годов значишься у начальства в разных бумагах беглым? Пошто же теперича свою песню жизни хочешь на иной погуд выпевать? Не жалостливый я, Савватий. По голове тебя гладить не стану за то, что верить в себя не хочешь.
— Мучит меня, Мефодий, мысль, не все я правильно ладил.
— А совесть тебя не мучит, что в разуме не те признания завел, ее не спросив?
— Не тронь, говорю, совесть.
— Я все в тебе трону. Дышать тебе не дам на новый манер. В чем неправду своих дел углядел? В очи мне гляди.
Савватий, вскинув голову, сорвал с нее скуфью и угрюмо слушал Мефодия.
— Чего боишься языком пошевелить, спрашиваю? Неужли порешил, что зря за страдания собратиев поднял руку против господ? Аль не жалко себя со всеми вкупе, что в крепостной сбруе под плетями живешь? Худо, Савватий, разум свой блюдешь. Чать, не мальчонка-несмышленыш, чтобы прожитые годы пересчитывать, отыскивая в них промашки, как проигранные бабки. Неужли и впрямь понять не можешь, отчего у тебя душевные мучения?
— Да оттого, что, сидя в острогах, от людей себя отрывал. Оттого, что с тобой только и были твои же страдания. Господа не зря остроги придумали. Вовремя, выходит, я тебя вызволил, а то бы в пустых думах вовсе себя утерял.
— Одолевают сомнения всякие.
— Аль худо? Сомнения разум светлят. Сомневайся, да понимай, как надо ладить дело без промашек. Таким, как ты, на Камне работные люди надежду свою доверяют. Не думай, что только ты один людское горе видишь. Не думай, что только ты один в острогах сидел. Сколь людей за замысел о воле в лесах скрадываются, сколь их кандалами в Сибири брякают. Не думай, что без тебя не найдутся люди со смелым разумом о воле. От дури, видать, теперича беглой жизни испужался? Да кто ты? Аль уж не Савватий Крышин из Каслей? Пошто заверяешь меня, что в остроге с дурью сдружился? Разум не утерял, ежели ко мне путь отыскал. Жил ведь беглым. Хищничал на золоте. Отказывали тебе голодные люди разломить с тобой последний кусок черствого хлеба? Не спасали они тебя, когда стражники и солдаты, как волка, травили, загоняя в капкан? Вот даже Мефодий, коего другом почитаешь, купчишка новоиспеченный, и тот тебя из острога вызволил.
— Да пойми, Мефодий…
— Понял! Истинный Господь, понял! Не думай, Савватий, что за высказанное трусом стану почитать. Но скажу, что мысли в разуме крепко перепутал да перемешал в них истину с безверием. Ведь по своей воле с кличкой Бунтарь живешь в крае. Никто тебя не принуждал, сам понял, что надо оборонять людей от страданий. Сам встал на святую тропу борения.
— Не бунтарь я. Правде хочу защиту отыскать.
— Так зачинай думать мудрее ранишнего.
— Погоди, Мефодий, разве я отказываюсь?
— Не смеешь мысль в разуме о том заводить. Люди тебя помнят. Верят, что можешь искать путь к их правде о вольной жизни. Ты ведь заставил и меня поверить, поверить, что дознаешься, в чьих руках защита работного люда. Гляди, вот сподличал я сам перед собой, от любовного дурмана, а что вышло? Вольным живу, а себя стыжусь. Почему стыжусь? Потому, не помер во мне работный человек, кузнец Мефодий Шишкин под поддевкой купеческой, надетой на меня супругой. Не померла во мне боль о работных людях, коих некому выкупить. Глядя на меня, подумай, чтобы не стал ты после самого себя стыдиться. Вот я вольный, сытно живу, только работным людям я уже могу казаться чужим. Они думают, что могу и я, с господ беря пример, начать их плетью стегать. Аль мало таких водится? Люди тебе верят, сами посчитали, что водится в тебе разум, коим можешь помочь им догадаться, в каком месте их правда вольной жизни.
Мефодий говорил спокойно, но голос его временами перехватывало дыхание.
Савватий не двигался. От каждого слова Мефодия он только все крепче и крепче прижимался спиной к стене.
— Савватий, родимый, проснись от острожного дурмана! Не дозволяй слабодушию смять разум. На воле ты сызнова, зачинай дышать по-вольному.
Савватий слушал Мефодия, и его взгляд постепенно обретал прежнюю строгость.
А солнце все так же ярко светило в окна, отливая золотые полосы на половиках…
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Весть о найденном уральском золоте продолжала будоражить Россию. Екатеринбург считал годы второго столетия своего существования по-купечески, как барыши. Его новый облик постепенно стирал с улиц внешность былой уральской крепости. Уже далеко от застав отодвинулись вырубленные и пожженные леса, но отступили с упрямой неохотой — как бы отстаивая право на прежнее место: молодые побеги елочек и сосенок настойчиво вылезали из земли на улицах, пустырях, огородах и площадях города.
Промышленники и купечество, богатея, заново перестраивали Екатеринбург, соединяли свои задумки с помыслами русских и иноземных зодчих. Мозолистые руки рабочего люда, выполняя их веления, сковыривали с городских улиц унылую шаблонность.
К концу второго десятилетия девятнадцатого века, неустанно украшаясь, город изменился до неузнаваемости. Камень в строительстве все чаще и чаще вступал в спор с деревом и только пруд остался таким же, каким он был в давние времена, но в зеркальности его воды теперь отражались дома, схожие со столичными.
При Николае Первом власть главного начальника горных заводов Уральского хребта превратила Екатеринбург вроде государства в государстве, со всем тем уродством военного положения, кое царило в стране, и со всей мрачностью заводского крепостничества, не изменившегося со времен Петра, хотя теперь при экзекуциях первенство у плетей отнимали павловские шпицрутены.
В бурных потоках жизни Уральского края перед властью золота уравнивались в рангах и положениях дворянство, чиновничество и купечество. Все они в крае так или иначе были причастны к добыче драгоценного металла, при этом у них были одинаковые права на счастливые улыбки судьбы, одинаковые права стать возле золота более богатыми или нищими, и только приисковый и заводской люд неизменно владел одним правом на беспросветный каторжный труд.
В Российском государстве каждое столетие оставляло свои следы. По особенному они отпечатывались в Уральском крае. Урал утвердил над всем свой собственный кондовый горно-лесной быт. В нем были и суровые порядки, и законы, и даже ужас империи — крепостное право было здесь на иной, еще более страшный лад. Да и заводская каторга переносилась уральцами тоже по-особенному. Трудовой люд, шагая в сбруе крепостничества, нес в своем разуме гордость, мужество, непокорность и мщение. Он до конца таил в себе боль страдания, не унижая себя перед угнетателями стоном и слезами о пощаде.
Суровая правда уральского быта, перепевы лесов выращивали смелые души, воспитывали в трудовом народе мудрость житейского навыка, хитрую и острую сметливость.
Россия, покусанная блохами Екатерины, исхлестанная шпицрутенами Павла, истерзанная жестокостью Аракчеева, запуганная экзекуцией Александра, вскрикивая от зуботычин Николая, мало думала о судьбе Уральского края, омытого Камой и отгороженного камнем лесистых гор.
В крае несметных богатств наглые домашние и пришлые воры лишь хищнически выхватывали с его земли золото и самоцветы, железо и медь, оставляя втуне еще неведомые сокровища недр. Те, кто правил страной, те, кто гнал уральцев на каторжный труд, нередко, позевывая после сытной еды, говорили вслух: «Душа вон, найди, коли велено, а ежели на поисках надобного на Урале народ дохнет, то не шибко велика беда: чего-чего, а народишку у матушки-России хватит…»
Народ России уже девяносто два года знал, что в камне и песке Урала водится золото. Люди заслушивались диковинными сказами про нечистую силу, оберегающую уральское золото от людских РУК.
Девяносто два года прошло с того майского утра, когда Ерофей Марков, заложив шурф в Березовском логу, нашел золото, и богатеи, навеки завороженные его находкой, полоненные помыслом о наживе, непрестанно врывались в недра земли в поисках золотого счастья.
Легенды о первых счастливцах, намывших золотые горы, разносились ходоками по всей стране. Россия была наслышана про Расторгуева, Харитонова, Рязанова, Тарасова. Все они вышли из купечества, а поэтому и стали для него символами того, что уральское золото легче всего дается в руки купцов.
Путь купечества к золоту был мрачен и трагичен. Огромные состояния, скопленные поколениями, исчезали в перемывке «пустых» песков. Их хозяева, разорившись, сходили с ума, топились, вешались. Но тяга купечества к золоту не прекращалась. Врожденная страсть купцов к легкой наживе, болезненная жадность и мания тщеславия, несмотря на опасность разорения, гнала их к желтому металлу со всех концов России, они все плотней и плотней грудились на лесных тропах.
Не остались в стороне и дворяне, они срывали в России с земли целые деревни крестьян и перегоняли на Каменный пояс, ради прихоти стать золотопромышленниками. Барин даже в случае неудачи ничего не терял, он всегда мог продать на Урале живую рабочую силу, ибо покупателей на нее было много, и цена за душу стояла более высокая, чем в европейской части России.
И все же дворянство, осторожничая, явиться к золоту запоздало и пришло к нему, когда лучшие золотоносные места были в руках купцов. Но кое-кто из дворян сумел присоединиться к жирным пирогам новоиспеченных миллионщиков, так как у купцов была неизживная чесотка родниться с барами. Дикие деньги толстосумов были великим соблазном, и немало старинных дворянских родов породнилось с купцами через сыновей и дочерей.
Екатеринбург стал центром скопления богатств. В городе миллионщики селились размашисто. Хвастались друг перед другом удачами. Перекорялись из зависти, плели интриги, распускали сплетни. Сорили легко нажитыми деньгами без цели и смысла. В домах богатеев свивал пыльные тенета закостенелый быт домостроя.
В девятнадцатом веке в Екатеринбурге обитала стая миллионщиков из купечества, в руках которых было зажато золотое счастье Урала. В этой стае водились разные люди по характерам и ухваткам наживы…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
В верстах восьмидесяти от Екатеринбурга на холме раскинулось древнее торговое село. Холм, обрываясь, скалистой кручей нависал над рекой, за которой до самого Екатеринбурга тянулись дремучие леса. На вершине обрыва, в сосновом бору, уже четверть века хоронилась заимка Тимофея Старцева.
Хозяин заимки обозначился на Урале года за четыре до Отечественной войны, а род его по древним купеческим корням был новгородским. Он рано схоронил родителей. Потом его захватила золотая лихорадка, и Старцев с небольшими деньгами подался на Каменный пояс. На мокрети золотоносных песков следы его новгородских подборов отпечатались ровно через год после появления в крае.
Горщик Тихон Зырин, повстречавшись со Старцевым на лесной тропе, сдружился с ним, продал ему место со знаками на золото. Старцев, заведя делянки, но не имея понятия о золотом промысле, доверился ловким, продувным зимогорам и в первое же лето зарыл в пески дочиста все свои капиталы.
Осенью он снова повстречался с Зыриным. Тот, узнав о неудаче нового дружка, сразу понял, что Старцев стал жертвой артели старателей-хищников. Тихон Зырин помог неудачнику разжиться деньгами, уговорил его по весне вторично попытать золотое счастье. На этот раз попытка под приглядом Зырина неожиданно обернулась большим золотом и не только вернула затраченные капиталы, но и принесла прибыль. Везение пришло в ту пору, когда Лев Расторгуев выхватывал из песков шальные миллионы, начинала по серьезному богатеть Василиса Карнаухова, когда сказочные богатства наживались и терялись в течение недели.
Старцев, приобретя на золоте капитал, срубил заимку у обрыва холма, на задах торгового села. Однажды он встретил в старообрядческом скиту возле Саткинского завода статную девушку. Она обворожила его красотой, согласилась убежать к нему из скита, покрыться венцом, но только после того, как он отойдет от золотого промысла. Любовь к молодой кержачке вынудила Старцева выполнить условие. Он скрепя сердце отступился от золота и, став семейным, занялся скупкой и продажей пушнины. В торговле ему везло. Из года в год он увеличивал свое состояние. Но золото тянуло к себе Старцева. И как только поостыла любовь к жене, измученный завистью ко всем, кто наживался на золоте, он, не выдержав искушения, снова прилип к золотому делу. Купеческая жадность заставляла его идти на темные дела, он завел около себя дружков с давно потерянной совестью, стал пить. Часто упрекал жену, что она отвратила его от золота, пьяным бил ее; через несколько лет после рождения дочери несчастная женщина, не вынеся постоянных мужниных побоев, ушла в сибирский монастырь и там приняла постриг.
Развал семейного очага не образумил Старцева. По всему Уралу бродила худая молва о его разнузданном пьяном загуле; он избивал малолетнюю дочь, однажды так повредил ей ноги, что она стала калекой и ходить могла только на костылях.
Свои темные дела около золота Старцев обделывал всегда по букве закона. Разорил сотни людей. Он был беспощаден. Все знали, что иметь с ним дело опасно, вроде лезть в петлю, но, несмотря на это, все же находились жертвы, капиталы которых переходили в карман Старцева.
Так Старцев стал миллионщиком с прозвищем Филин, и прилипло оно к нему после того, как на воротах его заимки повесился разоренный им купец Лобанов.
Старцев научился дружить с кержаками, привлекать на свою сторону всесильных старцев-поводырей, а после смерти Расторгуева, не будучи раскольником, стал для них ангелом-хранителем, хотя через его руки и попадали в заводское крепостничество люди раскола. С помощью Старцева разоряли друг друга заводчики и промышленники.
Имея понятие о людской ненависти, Старцев после пятидесяти лет большую часть времени стал проводить в доме, постепенно отходил от темных изворотов около золота, но ссужал деньгами неудачников и за неуплату по векселям отнимал у них земельные угодья со всеми ведомыми и неведомыми богатствами их недр. На Урале никто точно не представлял размеры его состояния, зато все прекрасно знали, что принадлежащие ему земельные участки были всюду, куда простиралась уральская земля…
Внезапно налетевший буран застиг тройку Ксении Захаровны Курнавиной в открытом поле. Она возвращалась в Екатеринбург с мраморных каменоломен и вынуждена была свернуть с тракта на заимку Тимофея Старцева, укрыться от свирепой стихии.
* * *
Приземистые, одноэтажные хоромы Старцева срублены из кедров. Над простором трапезной низко нависает потолок, покрытый замысловатой резьбой.
Сквозь узоры инея на окнах зимние сумерки мутнили горницу сизоватостью.
Глухо доносился сюда вой бурана.
Тимофей Старцев стоял, прислонившись к изразцам голландской печи. Заметный обликом. Высокий. Широкоплечий. Из-под бровей проницательно смотрят темные глаза, во взгляде их мало доброты. Волосы с крутой проседью подстрижены бобриком. Еще более густеет седина в пушистой лохматой бороде. На нем синий кафтан, надетый поверх холщовой рубахи, расшитой по вороту и подолу.
В кресле, укутавшись в шаль, сидела Ксения Захаровна и, откинув голову на высокую спинку, обитую лисьим мехом, внимала напевным звукам девичьего голоса. Они ширились, заполняли всю горницу и гасли в темных ее углах, и тогда на какое-то мгновение слышались протяжные вздохи бурана.
Пела Ирина, дочь Старцева. Она сидела возле окна на широкой лавке. На полу у ее ног лежали костыли.
Свет лампады желтил древние медные образа-складни, восковой отблеск бродил по бескровному лицу девушки. Обликом Ирина тоненькая, как деревцо, чахнущее в мочажине болота. Спокойные, мягкие черты лица и тоскливый взгляд под взмахами длинных ресниц. Извивается по плечу и свисает почти до полу черная тугая девичья коса с алой лентой. На синем шелке сарафана вокруг шеи поблескивают грани изумрудных бус.
Пела Ирина, перебирая пальцами струны гитары. Пела старинную русскую песню, грустную, со словами про тоску от несчастной любви. Голос у девушки густой, низкий и душевный, пела она сегодня по просьбе заезжей гостьи.
Ксения Захаровна словно бы и слушала Ирину, да мысли ее были далеко — там, на каменоломне, в избе крепостного скульптора-умельца Сергея Ястребова. Ясен в памяти Ксении образ молодого каменотеса, думы о котором заставили ее в новогодние дни укатить в лесную глушь, погребенную под сугробными снегами.
Перепугав обитателей каменоломни нежданным хозяйским наездом, Ксения всего четыре дня гостила в избе парня и только накануне отъезда осуществила свою мечту о его ласке…
Ирина умолкла, безвольно опустила руку, затем опять тронула струны и запела новую песню. Под ее напев снова поплыли перед глазами Ксении картины недавнего. Видела стены в избе Сергея. Видела, как сама охватила горячую шею парня. Сама прижалась к нему в порыве ласки, успокоилась от его ответной на жестком соломенном тюфяке. Лежала счастливая, с закрытыми глазами, закинув руки за голову, вдыхая запахи свежей соломы. Потом в памяти ожила обратная дорога, наполненная сладкой дремотой от убаюкивающего скрипа полозьев, от монотонного перезвона колокольцев.
Она торопилась в Екатеринбург, везя в материнский дом обретенный покой утоленной страсти, торопилась, как будто боялась снова потерять его на лесных дорогах, но буран загнал ее в тепло чужого дома, под взгляды чужих людей.
— Совсем темно стало, — промолвила Ирина.
Вздрогнула Ксения и очнулась от воспоминаний.
— Так распелась и даже позабыла, что давно пора к ужину накрывать стол.
Ирина положила гитару на лавку. Наклонившись, подняла с полу костыли. Подложив их под мышки, встала, с трудом переставляя ноги, пошла мимо Ксении.
— Спасибо великое за песни, Ирина Тимофеевна.
Остановилась Ирина. Она ласково улыбнулась, в глазах вспыхнула радость.
— Что вы… Поди замучила их тоскливостью. Они старинные. Напеты еще при царе Петре, когда уносили в наши леса раскольники свою веру. Матушка научила меня их напевам. Мастерица была на песни.
Вспомнила мать, и разом погасла радость в глазах девушки, и опять в них прежняя тоска.
— Обещаю никогда не позабыть ваши песни.
— Благодарствую на таком высказе. Радостно мне, ежели они в самом деле поглянулись, — сказала Ирина и медленно вышла из горницы.
Ксения посмотрела на хозяина, увидела, как он поспешно смахнул рукой с глаз навернувшиеся слезы.
Почувствовав на себе взгляд гостьи, Старцев, смущенно склонив голову, прошелся по горнице. Поскрипывали его сапоги. Остановился у окна, не оборачиваясь, сказал:
— Умеет петь Иринушка, несчастная моя доченька. — Старцев повернулся к гостье лицом и продолжал шепотом: — Все еще дикая сила в буране. Мы рады с Иринушкой, что из-за его дикости к нашим воротам своротили. Не часты у меня гости. Ох, как не часты, Ксения Захаровна!
Вторые сутки не успокаивался буран, подвывал за окнами заимки.
Поздний вечерний час застал Старцева и Ксению в рабочей горнице хозяина. Увешаны ее стены старинным башкирским оружием, рогами диких коз и сохатых. На подвесных полках — чучела косачей и рябчиков. На полу, промытом с дресвой до белизны, медвежьи шкуры.
Ксения сидела на диване, укрытом рысьим мехом, поджав под себя ноги.
На столе в высоком подсвечнике горела свеча. У ее огня нет силы, чтобы осветить простор горницы. Ксении видна лишь пузатая печь, обложенная плитками малахита. Искусно подобранный узор камня похож на вспененные синевато-зеленые потоки воды.
Старцев, заложив руки назад, ходил по горнице. Широкая тень скользила за ним по полу, на секунды наползала на печь, скрывала от Ксении яркость причудливых каменных разводов. На Старцеве черная суконная рубаха с расстегнутым воротом. Бархатные шаровары вправлены в голенища оленьих бурок. Голос у Старцева глухой. Говорил он медленно, будто прислушивался к сказанным словам, будто проверял их звучание:
— Не зряшны, Ксения Захаровна, мои речи. Пора вам зачинать думать, как место матери заступить. Страшновато вам про такое думать, но все одно, пора подошла. Не только в нашем крае, а по всей империи годы проходят крученые. Промеж дворян и промеж купцов нет согласия. Каждый норовит в свою сторону тянуть. Того и гляди по миру пустят… Да и копится желчь в народе — обозлен мызганьем жизни пуще голодного волка. О-о-ох, и хмур… Вот и пора вам зачинать думать про то, в какое время заступать место матери придется.
— Матушка пока мне не велит об этом думать. Сама за всем смотрит и со всем управляется.
— Это понятно. Молодость вашу бережет. Хорошо знает, как свою молодость в старость обрядила. Она сюда в лихое время пришла… Помню, как впервые повидал вашу матушку, Василису Мокеевну.
Старцев торопливо перекрестился.
— Удалая походка была у нее. Пригоршни на весу держать умела. Знаю, что с самого почина жизни Мокеевны подле золота оно из ее рук, вымытое, в обрат не просыпалось в пески. Довелось поглядеть, как пестовала она свои промыслы. До дна докапывалась в песках. Не рвала с них богатства кое-как, только сверху. И вот сделалась миллионщицей, как Лев Расторгуев, стала в крае первой бабой золотоискательницей, не нося за пазухой страха. Не моргнув, вошла в круг шальной, грубой мужицкой погони за наживой. В народе про вашу матушку тоже всякое можно услышать. — Старцев кашлянул. — Молва здесь у каждой бабы цветаста. О каждом из нас молва бродит. Знают о Василисе Карнауховой по всему Камню, что молодухой, шаря золото, могла постоять за себя. Она иной раз таких мужиков пинала… Нелегко Мокеевна складывала кирпичины уральского житья. По самым глухим и скользким тропкам хаживала, по коим даже зверье побаивалось ходить. Вот кого вам придется скоро заступать. Пора усадить старуху в кресло, а заместо нее начать править вожжами карнауховской тройки. Мне на своем веку довелось всяких наследников повидать, но мало было среди них достойных своих родителей. Расторгуевских дочек сами знаете. Какие дюжие росли. Кровь с молоком в них переливалась, а как померли родители, дочки в перинах отечным жиром заплыли.
— Вот и я такой буду.
— Не положено вам быть такой. Не слепой Старцев. Вижу, что есть в вашей походке намек на матушкину поступь. Смелости только мало. А ведь была она у вас, да, видно, от столичной жизни поутратилась. Но это поправимо. Вы себе муженька простецкого, с крепкими кулаками отыщите, да с такой же смекалкой, как… у Тихона Зырина.
— Совсем меня за эти дни перепугали рассказами. Слышала, что народ на Камне до гробовой доски с ненавистью ко всем, кто прежде всего с плеткой к нему подходит. Мамаша мне о многом говорила. Сама я была свидетельницей, как Григория Зотова строгановский розыск оторвал с крепостного загривка. Это нам всем и урок — с народом надобно, как с детьми… Не все кнут да хомут, надобно и пряником. Мамаша верно говорит: что ладно, то ладно, а что ладнее, то еще прибыльнее. А Зотовы нам могут всю обедню портить — одно беспокойство.
— Вон вы какие речи молвите, Ксения Захаровна! Есть тут и ваша правда. Напрямки и медведь лезет. Весь край на силе держится. Вот и помощники Гришки Зотова, приказчики его, не все ухайдаканы…
— Кто же из них еще живой?
— Хрустов Михайло. Слыхивали про такого?
— Более десятка лет он в наших лесах скрадывается. Но и до него дотянут. Дойдет очередь и до него. Гришку Зотова граф Строганов с ног сшиб, но не успели его на Камне позабыть, как среди нас новый такой же объявился. Барин.
— Муромцев?
— Он самый. Он такое выкомаривает, что Зотову даже не снилось.
— Но правда ли это? Иногда у нас лишнее болтают.
— Бывает. А все же про Седого Гусара всякое слово истинное. Мы про него еще не все знаем. Но он пострашнее многих из нас. Муромцев собирается медь отнимать у всех. У вашей матушки она по жирности самая лучшая. У меня ее ведомо-неведомо.
— Но медная руда есть также у Харитоновой, у Сухозанета. Она почти на всех заводских и приисковых землях. Неужели у всех станет ее отнимать?
— У всех, мыслит.
— Это правда?
— Побасенками не балуюсь.
Ксения встала с дивана. Подошла к печи. Приложила ладони к ее малахитовым теплым плиткам.
— Вижу, вас встревожили замыслы Муромцева?
— Встревожили, — не оборачиваясь, отозвалась Ксения.
— В столице у него много покровителей. Они, конечно, помогут ему. У сановников под мундиром сердце тоже не каменное — кто же уступит, на золото глядючи? У вас, Ксения Захаровна, в столице больше, чем у нас, протоптанных дорожек. Вам надо туда катить и не давать ходу Муромцеву. Женщине легче на самых уросливых мужиков уздечку надевать. Чего в Екатеринбурге киснете? От сплетен можно одуреть. Матушка на вас не без умысла дворянскую ротонду сшила. Чуяла, что станете ей опорой.
Ксения резко обернулась и застыла у печи, скрестив руки.
— Прошу прощения, ежели мои слова не совсем по сердцу. Грешно такой женщине руками жар-птицу не поймать.
— Обжечься можно.
— На ожог подуть можно.
— Силы у меня может не хватить.
— А на чем тяжелом силушку свою пробовали? Со скуки приучили себя к таким мыслям. — Старцев приложил руки к своей груди и вкрадчиво продолжал: — Вы, Ксения Захаровна, понять должны. Нельзя Муромцева на медь пускать. С медью отнимет он у всех работную силу. С попами раскол из лесов выжжет и выгонит. За себя не боюсь. Я — Старцев, женщиной себя заслонять не стану, а вот вас с матушкой, пока время есть, советом заслонить собираюсь. Буран заставил вас, по совету ямщика, к моим воротам свернуть.
— Неправда. Заехала к вам намеренно. Могла к любому дому в селе свернуть. Заехала, чтобы своими глазами на вас посмотреть. И понимаю, что не зря заехала. Старцевых на Урале нечасто встретишь. После нашего разговора начинаю по-другому понимать. Но вы что-то недоговариваете. Высказывайте про все сразу. Обучайте уму-разуму. — Ксения немного помолчала и произнесла задумчиво: — Может, и впрямь надо мне в столицу податься. Правду сказали, что начала прокисать. Сказывайте, про что надумали.
— Скажу, а вы запоминайте. Слыхали, чать, про меня изрядно?
— Слыхала, а теперь увидела. Поняла, что умный вы, да и вроде бы монашескую рясу на себя про запас не надеваете.
— С понятием разговор ведете.
— При одной свечке, видать, с трудом распознаете?
— Дремлете по-кошачьи, а в норе мышь чуете? Прежде глядел на вас и зачинал думать, что вы, на манер наших купчих, с тоски не знаете, о который косяк головой стукаться. Другое думал раньше о вас, повидав с Плеткиным.
Ксения от последних слов насторожилась. Прижала спину к теплу печи.
— От встречных на пути за столбы не прячусь.
— От таких, как Плеткин, бабам надо в сторону сворачивать. Опоганить может.
Ксения оттолкнулась от печи. Прошлась до того угла, где шаркал маятник часов, приблизилась к столу со свечой, остановилась, заслонив свет, разом метнулась от нее тень на пол, вытянулась и слилась с темнотой на ковре возле дивана, на который присел Старцев.
— Правду хочу сказать вам про себя, Ксения Захаровна. Проклятый я человек. Всякой мерзости шибко много расплодил в себе. Для людей под старость стал вроде чудища. Из-за страха меня в покое оставляют. Верят, что нечистая сила оберегает меня от людского мщения. Мне неплохо оттого, что люди чепухе верят. У меня по сей причине на Урале угодий прорва. Все леса про Старцева шумят. Мои следы на всем Поясе от Конжаковского Камня до обоих Таганаев. Уж какой всесильный в крае генерал Глинка, а и он меня побаивается. Боится, чтобы не смахнул с него генеральский картуз. Не боится меня только ваша матушка, потому после смерти Луки Лобанова головы не шевелит на мои низкие поклоны. Зависть и жадность округ страшным человеком меня вырастили. Моя главная сила и защита от всего — раскол. Кержакам я не сделал большого добра. Но не пробуйте сказать им про меня худое слово. Ничему не поверят, а вас предадут анафеме, со света сживут. Вот каков Тимофей Старцев! Матушке вашей при случае скажите про мое слово. Она знает, что оно у меня крепкое. Начнет Гусар медь на наших угодьях отнимать, я для сбережения ее раскол на ноги подниму во весь его рост, по всему Камню. Вот какая у меня сила!
Замолчал Старцев и долго ходил по горнице. Потом снова заговорил:
— С вами, Ксения Захаровна, решил поговорить о самом дорогом мне человеке. Есть у меня, проклятого, такой человек. Дочь Ирина. Просить хочу вас, что ежели сгину в драке с Муромцевым, если сомнет меня, то примите в свои руки материнскую заботу об Иринушке. Не сходя с места, слово дайте, что приласкаете ее, когда я ноги протяну в остатний час. С поклоном прошу вас о том.
Не успела Ксения ответить Старцеву, как он тяжело опустился в кресло и закрыл лицо руками.
Ксения стояла растерянная. Похолодела от слов неожиданно пришедшей Ирины:
— Просьбы батюшки не пугайтесь.
Ксения подошла к Ирине, обняла ее, прижала к себе, не отводя взгляда от Старцева. Слышала шепот Ирины:
— От слез у него на душе отляжет. Болит у него душа. От всего болит. Есть она в нем. Найти ее под конец жизни не может, а я ничем не могу ему пособить. Второй раз в жизни плачет. Первый раз плакал, когда ноги мне поленом отшиб…
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
На земле Южного Урала в стороне от Сысертского завода находилась нерушимая вековечость лесной глухомани, изгорбаченная горными увалами. Лесины в ней тягались ростом. Листвень и обомшелые ели были выше сосен. Даже от легкого ветерка поскрипывали лесины, притомившись от старости считать годы. Но старость лесин не умаяла их могучести, не разучились они, размахивая ветвями, выводить шумовые напевы.
Бойкая горная речушка прокладывала себе путь по буреломам и завалам. Как слепой щенок, тыкалась она в выступы скал. Журчала, бурлила, шарахалась в сторону, забегала в чащобы, находила места поровнее на днищах оврагов. Столетия бежала безымянная речка, и только пятый год приисковый народ звал ее Василисин Погляд, после того как хозяйкой золотоносных песчаных берегов речки утвердилась Василиса Карнаухова.
Завалили глухомань снега. Метели накидали по приискам сугробы, похожие на замерзшие волны с пенистыми гребнями. Сгрудились они у избы сторожки караульного деда Фотия.
Фотий давний житель на речке. Лет тридцать назад без седины в бороде притопал он в глухомань, убежав от барина из поместья Пензенской губернии, замысля свою вольную жизнь подле уральского золота. Невзначай набрел в лесах на эту речку. Она понравилась ему водяной бойкостью. Отыскал тут золотишко и не ушел с ее берегов. Перемывал пески не торопясь, находил в них счастье на потребность жизни. Разбогатеть не разбогател, но и с голодухи не помер, а главное, был доволен, что никто в лесной заповедности не изловил его, никто сызнова не приписал душу к заводу или руднику.
Так он и жил тридцать долгих лет, пока не обнаружила его стариковскую жизнь Василиса Карнаухова, откупив под прииски речку с глухоманью. Найдя Фотия, она на старость его не позарилась, из избы не согнала, и он остался караульным чужого добра.
Январским вечером морозная темень надвигавшейся ночи вдруг порвалась, и на небо, над лесами глухомани, выполз золотой молодой месяц.
По плохо знаткой санной дороге, пересеченной холстинами метельных наметов, шагали гуськом четыре бабы. Впереди шла, прихрамывая, коренастая старуха Марковна, за ней следом богатырского роста, дородная телом молодуха Маремьяна, за ней Анфиса, обликом под стать Маремьяне, а последней шла девушка-сиротка Манька, беспрестанно покашливая.
Появление месяца сразу заметила Марковна и сказала:
— Глядите, бабоньки, какой рогастый уродился.
— И то верно, первый в новом году. Погадать бы под его пригожесть, — сказала Анфиса. — Десятый день плутаем по лесам — и все как бы зря.
— Молчи! — оборвала ее слова Марковна. — Коли порешили дело изладить, стало быть, надо изладить. Кыштымские бабы нам доверили свершить мирской суд над Мишкой Хрустовым. Небось другое пела, когда в его лапах корчилась. Забыла?
— Да я, бабушка, только к тому сказала, что новый годок в плутаниях проморгали, — оправдывалась Анфиса.
— Молчи, говорю. Новый год… Ишь ты! А чем новым он для тебя обернется? Разве опять какому хозяйскому приказчику приглянешься, и он тебя к себе в постель за патлы поволокет. Новый год что старый — для нас с тобой одинаков. Звание наше простецкое, и радости нам любое гадание под месяц немного добавит. Сколько я новых годков перевидала, а новенького от них ничего не нажила. С виду ты будто вовсе не дура, Анфиса. Баба уж, а все, как девка, в себе носишь мыслишку про гадание.
— Баушка, — окликнула старуху Маремьяна.
— Зачем понадобилась?
— Хочу порассказать, какой сказ про Новый год девчонкой слыхала. Старые люди сказывали, будто приходит он на землю обязательно в обличии босоногого парнишки.
— Ишь ты. Без лаптей, стало быть, с неба сходит?
— И дескать, по его следикам можно распознать, какой он для рабочего люда обернется.
— И я про такое слыхивала. Только за долгую жизнь поняла, что работному люду не больно досуг его шажки на сугробах распознавать. Сама знаешь, какие шажки у новорожденного парнишки, о землю он больше всего задницей стукается, а потому и не больно легко разглядеть его шажки осередь волчьих и заячьих следов. Ошибку можно дать и по волчьим следам себе волчью судьбу нагадать. Вот так. Верь мне на слово, что и в этом году на Камне не сыщется человека богатырской силы, чтобы одним махом пришибить живучесть барской трудовой каторги.
В морозной тишине шаги идущих почуяли собаки лесной деревушки и залились лаем. Марковна остановилась, прислушалась:
— Разбрехались. К Моховке мы подошли. Разумею, что ее нам надо обойти сторонкой по оврагу.
— В ней, стало быть, не станем его шукать? — спросила Маремьяна.
— Не станем. Понимать должна, что Хрустову в ней себе укромности не найти. Кержацкая деревня.
— Ну и что? — снова спросила Маремьяна. — Обязательно надо зайти в Моховку. От лишнего погляда не ослепнем.
— Не тебе меня, старуху, разуму обучать. Сказала, Моховку обойдем по оврагу, стало быть, так и будет.
— А куда пойдем по нему?
— Закудыкала. Ума в тебе, Маремьяна, столько же, сколько в моей пятке.
— Оврагом-то, поди, в глухомань залезем, а из нее в Сысерть экий крюк придется дать. Я глухомань знаю. Места здесь дремучие, да волков тьма-тьмущая. Не заплутать бы.
— В глухомань и пойдем, Маня.
— По моим понятиям, Хрустов обязательно в Сысерть ушел, — сказала Манька, пересиливая приступ удушливого кашля.
— Не спорь со мной. Порешила я, бабоньки, в глухомани зайти на карнауховский прииск.
— Вовсе страшнущее надумала. Да на нем сейчас только волки! — испуганно молвила Анфиса.
— А дед Фотий куда девался?
— Кто такой?
— Вот тебе и кто? Караульный. Старичок. Правильный человек. Поняла?
Остановившись, бабы сгрудились около Марковны. Головы у всех укутаны в шали, и видны только одни глаза. Шали от дыхания в пуху инея. На всех бабах немудрая, но теплая овчинная одежда, туго стянутая холщовыми опоясками, а за опояском у каждой заткнуто по топору.
Собачий лай в деревушке не стихал.
— Ишь, как наши шажки растревожили их.
Манька, кашляя, временами совсем задыхалась.
— Ох, Манютка, и кудахчешь ты седни. Говорила тебе не ходить с нами по такой стуже. В такую тишь кашель твой за версту слышен.
— А я виновата, что ли?
— Не виновата. Матушка твоя грудку тебе слабую народила. Айдате. — Марковна круто свернула с дороги в сторону и зашагала по гребнистому сугробу. Крепкий наст под ее ногами похрустывал, но не проламывался.
— Легко топать-то. Будто в барском доме по паркету.
— А вот я обязательно стану проваливаться. Тяжести во мне многонько, — посмеиваясь, сказала Маремьяна.
Некоторое время шли молча.
— Баушка, — окрикнула старуху Маремьяна.
— Ась? — ответила Марковна из темноты.
— А снежок-то меня держит. Только от натуги покряхтывает.
— Вот и хорошо. Эдак живенько до Фотия дойдем, а у него и заночуем…
В избе Фотия часы-ходики проворно отстукивали минуты, ведя стрелки по кругу девятого вечернего часа. На треснувшей дощечке часов нарисованы пунцовые маки. В печурке на рукавицах умостился, свернувшись в калачик, пушистый кот. На полу, возле дров у печи, лежал, навострив уши, огромный черный пес. В тишину избы проникал унылый волчий вой.
Топилась печь. Поленья в ее зеве горели весело, но были не очень сухими, а потому сгорали, шипя и чихая. Поодаль, у рукомойника, коротал зиму петух с пятью курицами и, видя в тепле птичьи сны, бормотал сквозь дрему. Отсвет пламени из печи отгонял в углы темноту просторной избы. Она опрятна. На полу расстелена шкура сохатого, а поверх ее от двери к столу постлан залатанный чистый половик. Вокруг косяков двух окон — веера из хвостов глухарей, косачей и рябчиков.
На столе чайник с чашками. Ломти нарезанного хлеба от ржаного каравая. Глиняная миска с кусками сотового меда.
Около окна за столом сидел Фотий, с виду совсем тщедушный старичок. Его реденькая бородка сильно подкрашена желтизной. Длинные пряди седых волос расчесаны на прямой ряд, а чтобы не спадали на глаза, охвачены обручем тонкого ремешка, на лбу он скатался и похож на глубокую морщину. На Фотии холщовая рубаха до колен с цветными заплатами на локтях, а пестрядинные штаны вправлены в валенки.
Напротив Фотия сидел рыжий, буролицый, могучий мужик. На его щеках, носу лупилась померзлая кожа. На мужике топорщилась красная суконная рубаха, обшитая по вороту черной бархатной тесьмой. Штаны из козлиного меха. На ногах серые валенки, подшитые кожей. Мужик пришел к старику из леса, загнанный бураном. Он назвался Феофилом Тарасовичем Хорьковым. Жил он у старика с кануна Нового года, счастливо избежал смерти, вовремя разглядев в глухомани свет в окнах избушки.
Чаевничать они сели в начале восьмого часа и разговорились про разное житье приискового люда.
— Как ни верчу, как ни прикидываю разумом, Тарасыч, а все ладнее понимаю, что вовсе не на радость народу сыскал на Поясу золотишко Ерофей Марков. От его сыска много беспокойства развелось. Охочи мы больно до всякого богачества. Прем на легкую наживу. Копнем, дескать, разок-другой песочек лопаткой и выгребем богачество, а на самом деле вовсе не так выходит. Мочалим, мочалим в работе силенку, а все с голым задом по миру щеголяем. Счастье-то, оно для всех лютое. Фарт на золоте человечьей судьбой верховодит.
Сладко зевнув, Фотий примолк. Обернулся к печке. Встал и, подойдя к ней, клюкой пошевелил горящие дрова, отчего они вспыхнули, затрещав, рассыпали пучки искр.
Прислушиваясь к волчьему вою, мужик сказал:
— Зверье, видать, близехонько до твоего жила подходит?
— Иной разок под самыми окошками зелеными шарами зырят на мою жизнь. — Фотий вернулся к столу и сел на прежнее место. — Волчье пристанище от меня близехонько. Напрямик версты три. В Завальном логу их видимо-невидимо. Свадьбы там правят. Ноне им голодно. Снега пали глубокие… Давай допивай. Я тебе свежего подолью, а то водица зря стынет.
Мужик большими глотками выпил содержимое чашки и, протянув ее Фотию, сказал:
— Налей. Медок у тебя больно душистый.
— В округе цвету разного много, вот и душистый. Дикий мед завсегда духовитее пасечного.
Фотий налил в чашку кипятку с наваром малиновых и брусничных листьев.
— Чаек у тебя самый уральский.
— Другого не завожу. От брусничного листа сердечная тревога утихомиривается. Сам видишь, одиноко живу. Дружки со мной не больно речистые: петух с курями, котовей-лежебока, да пес Сучок. С весны округ меня перегуд настанет. Закопошатся люди. И зачнется для меня от них всякая докука. Хлопотно мне на старости с приисковым людом.
— А мне, хозяин, одинокость в лесу не по нутру. К людям меня тянет. Песни люблю.
— А кто их не любит? — подмигнул Фотий. — Песня для разума человека, что деготь для колеса. Без песни у людей в душе скрип начинается. Старательствуешь поди?
— Водится за мной такой грешок. Давненько по приискам мыкаюсь, а польза от этого только хозяевам.
— Стало быть, с зимы на новые места перебираешься? Зимой хорошо бродить, потому метелица след заметает.
Мужик, нахмурившись, посмотрел на Фотия:
— Велишь понимать, что про метелицу не напрасно завел речь? Коли чего тебе во мне не поглянулось, ты лучше в лоб спроси. Аль приустал сказы бывалых людей про жизнь слушать?
— Про лишнее у людей не спрашиваю. Иной раз и без спросу распознаю, что к чему.
У печи стукнул лапами пес, поднялся, подошел к столу, зевнул, широко раскрыв пасть с большими острыми клыками, и улегся у ног хозяина. Мужик опасливо покосился на собаку:
— Ну и зверь! Прииск-то Карнаучихин?
— Ейный. Слыхал про мою хозяйку?
— Видал даже. Баба с головой. Только состарилась.
— Да, маленько уходилась. Моя хозяйка — дельная женщина. Зубов на рабочий люд по-зряшному не скалит. Дочку вырастила себе на подмогу.
— Дочку тоже видал, когда в Кыштым с Машкой Харитоновой наезжала. Сама Карнаучиха с Расторгуевым не больно ладила. Не глянулось ему, что баба возле него на миасских песках в богатеи вышагала.
— А ты, слышу, про многое нашинское по-дельному знаешь? — удивился Фотий.
— Знаю. При зверюге Зотове Гришке главным кучером состоял.
— Да быть того не может.
— Право слово.
— К золоту, стало быть, с Гришкиного облучка спрыгнул?
— Спрыгнешь, ежели жить захочется. Богатым надумал стать.
— Об этом каждый думает.
— Убежал я от Зотова.
— А по какой причине?
— Была такая. Вез его одинова с пьянки. Крепко он в тот раз хмелю набрался. Тряхнуло его на ухабе, а он, разозлись, меня по морде кулаком звякнул. Я не стерпел. Сам его в обрат по зубам саданул. Понимай, на кого руку поднял. Ох, и бил я его тогда, пьяного! Прямо до бесчувствия измолотил. Опосля разогнал коней, сам с облучка на землю пал и — в лес. Надеялся, что кони насмерть его зашибут. Расшибить его расшибли они, да только живуч оказался. Искал меня Зотов по всему Камню.
— Не нашел?
— Нету. В саткинских скитах у кержаков скрадывался. Не выдали кержаки. Потому Гришка Зотов сам кержак, но парил их плетями здорово.
Мужик отломил кусок хлеба и, обмакнув его в миску с медом, затолкал в рот, смачно зажевал.
— В Сибирь подаюсь, — пробурчал он.
— Это зря. Зачем наши леса на сибирскую тайгу менять?
— Покой для себя ищу.
— Раненько тебя к нему потянуло.
— Не больно стар, но все одно притомился. Пески здеся не напрасно перегребал, нашел толику золота.
— Вот про это мне ведомо.
— Как узнал? — мужик перестал жевать.
— Да так. Котомку твою оглядел в ту ночь, как пришел ко мне помороженный. Ножик в ней искал. Понимай. Старичок, а помирать от чужого ножика неохота. Шарился в твоей котомке, да и дошарился до мешочка с золотом. В нем, поди, фунтиков пятнадцать. Сам его намыл?
— Наполовину сам, — недовольно признался мужик.
— А остальным у кого разжился?
— От хозяйского в конторе отсыпал.
— А с тем, кто его охранял, что сотворил?
— Живой он. Поровну разделили с ним хозяйское добро. Тот мужик тоже в Сибирь подался. Чудной ты, хозяин. Золотишко мое нашел, а меня не пристукнул.
— Да на что мне твоя жизнь? От своей малость успел притомиться. Живи. У кого остатний год робил?
— У Седого Гусара на Старом заводе за барским домом присматривал.
— Скажи на милость! — покачал головой Фотий.
— Знаешь Муромцева?
— Знать не знаю, но слыхивать про него доводилось. В Сибирь, конечно, ступай. Держать тебя не стану. Но лучше всего до весны со мной побудь. Буран тебя ко мне загнал. Твою жизнь за песочек золотой я не отнял. Другой буран может тебя в другую избу загнать, а там твою жизнь возьмут, да и проткнут за золото ножиком, как рыбий пузырь. Вот ты и не дойдешь до желанного покоя в Сибири.
— Никак заботиться обо мне начинаешь? Может, задумал на меня начальству донести? — Мужик привстал.
Пес поднял голову.
— Чудной ты. Староват на такую окаянность. Хочу, чтобы правильной тропой до сибирского покоя добрался. Боишься со мной до весны остаться?
— Боюсь: золотой песок нелегко достался.
— Половина, может, и нелегко, а другая часть легче плевка досталась. Вороватость, как смола, прилипает к человеку. Раз чужое сопрешь, обязательно вдругорядь потянет.
Фотий выпрямился и, смотря в упор на мужика, сказал:
— Волк в тебе зубастый живет. Вижу его в тебе. Знаю, кто ты есть. Видал тебя в Кыштыме. Что кучером у Зотова состоял — это правильно. Только имечко у тебя тогда другое было, а в народе тебя не по-доброму прозвали.
— Чего мелешь?
— Позабыл? Кличет тебя народ в наших местах Обушком. Вспомянул? Пошто тебя так кличут? Помогал ты Зотову людей тиранить. Непокорных ты насмерть зашибал обухом топора. По темечку бил. Вот кто ты.
Мужик попытался встать. Фотий прикрикнул на него:
— Сиди безо всякого движения. До конца о себе дослушай. От Зотова ты убег не от его гнева, а от гнева людского. Гонял тебя этот гнев по лесам более десяти лет. Он тебя и от Седого Гусара прогнал. Он тебя и по Сибири будет гонять. От него нигде не укроешься. От моей правды у тебя даже лоб бисерным потом покрылся. Чуешь теперь, какой дошлый старикашка в глухомани сыскался.
— Все, стало быть, про меня знаешь?
— Как не знать. В лесу живу, шум лесин слушать умею, а они про все голосят. Так-то, Михайло.
При упоминании своего имени мужик вздрогнул.
— Имечка, при крещении обретенного, не пужайся. Матушка, родив тебя, не думала, что ты таким обернешься на белом свете. Зверь в тебе, Михайло. Приметил, что мой Сучок на тебя зубы скалит. Чует собака в тебе зверя. Людей легче обмануть, а пса не обманешь. Потому в Уральском краю в наше время в собачьей душе больше человечьего, чем в людях, кои вожгаются над золотом.
Собака вскочила на ноги и заворчала, обнажив клыки. Фотий, взглянув на нее, смолк.
— Почуяла кого-то? — испугался мужик.
Фотий, не ответив, подошел к окну и долго прислушивался. Мужик облегченно вздохнул.
— Нету. Померещилось мне. А все оттого, что больно ходко разговорились.
Фотий медленно обернулся:
— А ты гляди на собаку. Шерсть на загривке дыбит. Слушает.
Под окнами раздался удушливый кашель. Мужик вздрогнул.
В окошко негромко, но дробно застучали. Мужик шепнул старику:
— Не отпирай.
— Что ты, Михайло. Как можно такое сотворить? В зимнюю пору нельзя в глухомани перед живой душой держать дверь на запоре.
— Не смей отмыкать дверь!
Стук в окошко повторился, и кто-то нараспев сказал:
— Дедуся Фотий, пусти пообогреться.
— Вот видишь. Баба заплуталась.
— Не отпирай дверь!
Фотий пошел к двери, но Михайло успел схватить его за руку.
Фотий, вырвав руку, быстро метнулся к двери и скинул на ней крючок. Михайло выхватил из валенка нож, шагнул к Фотию, но остановился и попятился: на него шел Сучок, ощерясь и зло подвывая, словно волк. В открывшуюся дверь в клубах морозного пара вошла Маремьяна. Мужик, увидев ее, отошел к печке. Пес залаял. Фотий прикрикнул на него. В избе появились Марковна, Анфиса и Манька, постучали о порог валенками, обивая снег.
— Милости прошу, бабоньки.
Бабы не торопясь развязали шали и платки. Марковна подошла к столу, перекрестилась на образ. Обернулась и поклонилась Фотию в пояс:
— Не признал меня, дедушка Фотий?
— И то не признал… Батюшки светы, да ты Марковна Гусева. Прости старика. Сама видишь, в избе не райский свет.
Марковна, показывая на баб рукой, назвала старику их имена.
— В Сысерть путь держим. Думали, на перепутке у тебя заночевать, да, видно, придется без сна ее скоротать.
— Совсем одурел старый, — засуетился Фотий, — про гостя своего позабыл.
— Знаком он нам, дедушка. Не хоронись за печь, Мишка Хрустов. Аль неохота на Маремьяну взглянуть? Ты, дедушка, присядь на лавку, дозволь нам с ним по душам потолковать.
Фотий растерянно кивнул головой и сел на лавку.
— Начинай беседу, Марковна, — сказала Маремьяна строго. — Манька, зажги свечной огарок.
Манька закашлялась и, порывшись в кармане, достала огарок восковой свечи. Маремьяна зажгла его от огонька лампадки. Прилепила огарок к столешнице. Михайло Хрустов ясно обозначился возле печи. Он шагнул в сторону. Пламя из печи полосой упало на его руку, в которой блеснуло лезвие ножа.
Марковна из носика чайника отпила несколько глотков и, прищурившись, сказала:
— Разговор с тобой, душегуб, будет короток. Пришли за твоей жизнью. Матери сыновей, тобой погубленных, бабы и девки, честь коих предал надруганию, велели нам порешить тебя на земле безо всякого остатку. За сынка своего Костеньку, утопленного тобой в кыштымском пруду десять лет тебя искала. Анфиса в том мне тоже помогала. Ребеночка ты у ней своровал, да продал Седому Гусару. Маремьяна про то дозналась. Она отыскала твой след. Ноне третью неделю за тобой гоняемся. С того самого дня, когда на Старом заводе, убив господского приказчика, ты с золотом в леса бежал. В новогодний канун настигли тебя в Снегиревке, но, почуяв свою смерть, ты от нас ушел. Теперь не уйдешь.
Маремьяна, не спускавшая глаз с Хрустова, заметила, как он посматривает на окна, и неожиданно кинулась к нему, ударом кулака сшибла его с ног, закричала:
— Вяжи его, Анфиса!
Удар по голове оглушил Хрустова, и он, как куль, лежал на полу. Анфиса, распоясавшись, связала руки Хрустова.
— Манька, сволакивай с него валенки.
Девушка проворно стащила с ног Хрустова валенки, и только тогда, скрипнув зубами, он подал признак жизни. Приподнял голову над полом. Собака залаяла. Переполошились куры. И только кот продолжал спать в печурке.
— По-ладному ты его окрестила, — одобрила Анфиса.
— Она на это мастерица. Рука у нее мельенная, потому ни один мельен пудов песков лопатой перекидала, — сказала Марковна.
Хрустов встал на колени:
— Не убивайте меня, бабы!.. Помилуйте окаянного… Золото возьмите из котомки. Не убивайте, родимые!
Маремьяна раскатисто засмеялась, а от ее смеха по спине Фотия забегали мурашки.
— Убивать тебя не станем. Пальцем больше тебя не тронем. Мы только нагишом станем гонять тебя по морозу, пока в ледышку не обернешься.
Хрустов завыл не своим голосом:
— Не убивайте, бабоньки! Не по своей воле душегубничал. Зотов велел убивать. Подневольным был при нем.
— Будет лясы точить с душегубом! — решительно сказала Марковна. — Выволакивайте его на волю.
Бабы торопливо повязали платками и шалями головы.
— Готовы, что ли? — спросила Маремьяна.
Не дождавшись ответа, схватила Хрустова за ворот и поволокла по избе к двери. Хрустов кричал, болтал босыми ногами. Манька распахнула дверь. Маремьяна выволокла мужика на мороз. Крики Хрустова теперь были слышны на воле. Марковна поклонилась Фотию и сказала:
— Не серчай на нас за такое. Людской суд творим. Расторгуевские бабы вырешили: всех, кто людей наших губил, со свету убрать. Прощай! Про то, что повидал, лучше позабудь. Прощай!
Марковна вышла, плотно прикрыв дверь. Оставшись один, Фотий пустым взглядом окинул избу. Заметил на полу смятый половик. Торопливо встал с лавки и поправил его. На столе погасил огарок свечи, отлепил его от столешницы и, не зная, что с ним делать, долго мял в руке. Вздрогнул, когда Сучок вылез из угла и залаял, прижавшись к ногам хозяина. Старик погладил собаку, смекнув, отчего она волнуется. Фотий поднял серый валенок, нашел другой возле окна, быстро сунул их в печь на горячие угли. Валенки сразу занялись пламенем, и в избе запахло паленой шерстью. Фотий медленно опустился на лавку, но, вспомнив о чем-то, встал. Надел полушубок, достал из котомки Хрустова мешочек с золотом. Взял около рукомойника топор и вышел из избы в сопровождении собаки.
В лесной глухомани было тихо. Ее тишину нарушал только едва слышный отзвук волчьего воя. На небе горели яркие зимние звезды. Топором продолбил лед в проруби, высыпал в воду из мешочка золото. Отошел от проруби и втоптал в сугроб пустой холщовый мешочек. Спешно вернулся к избе, потом без мыслей постоял, прислушиваясь к тишине. Услышав лай собаки, покачал головой:
— Эх, дурная животина, по эдакому морозу вздумала гоняться за зайчишками.
Фотий вступил в избу, поставил на место топор, зачерпнул ковшиком из кадушки воды и жадно выпил. У двери заскулил пес. Старик, впустив его, запер дверь на крючок и перекрестился…
Снега под ярким солнцем искрились голубыми и алыми вспышками. От каждого кустика, от всякой лесины стлались узорчатые тени, схожие с паутиной. Исчерчены ими сугробы вдоль и поперек.
Тихий мороз. Гомонят синицы и чечетки. В чаще лиственниц пересвистываются рябчики…
Савватий вошел в глухомань, когда восход только начинал лудить вершины леса. Шел не спеша, под лыжами слегка похрустывал промороженный снежный наст.
Покинув Верх-Нейвинск, он добрался на попутной подводе до Уктуса и направился, как советовал Мефодий, в сторону Сысерти, в деревню Моховку, с надеждой, что в ней у старателя Никона Костыля удастся перезимовать. Но надежда не сбылась. Никона в деревне он сыскал, тот сначала принял его приветливо, но, узнав причину прихода, сразу помрачнел, сообщил, что скит, в котором можно было бы укрыться, прошлой осенью от лесного пожара выгорел. Безопасного убежища у себя в деревне не обещал, ссылаясь на то, что она числится за казной и ее навещает горная стража. Кроме того, жители Моховки — кержаки из секты полушкинцев — недружелюбны к чужакам, нестароверцам, а Савватий вдобавок пришел в Моховку в одежде монаха.
В Моховке Савватий все же скоротал ночь. Никон подал ему мысль искать приют в глухомани, в сторожке у верного человека.
У Савватия не было другого выхода, и он принял совет Никона. На рассвете, когда пришло время трогаться в путь, Никон снабдил Савватия лыжами и рогатиной, а главное, вызвался его проводить. Никон довел Савватия до чуть знаткого под снежными наметами русла речки, настрого наказал от него никуда не сворачивать, уверив, что речка выведет к той надежной избе. Пока шли, Никон предупреждал — в лесной чащобе не зевать, упоминал о волках и о том, что на пути будут попадаться никудышные для хода места.
Савватий перед полуднем осилил дебри завального елового леса. Идти было трудно, но он помнил наказ Никона и не сворачивал от корытца речки. Скоро от усталости пришлось сбавить шаг. Заслышав хруст ломаемых веток, Савватий останавливался, его настораживал неожиданный взлет тяжелых птиц, не то глухарей, не то филинов, досадовал, что за годы в остроге отвык от леса, от его звуков.
Началась чащоба осинника и чахлого березняка, но идти стало легче, наст хорошо держал Савватия. Исчезла лесная темень, всюду раскиданы снопы солнечного света, у Савватия повеселело на душе, невольно вспомнились слова Мефодия, что вольность природы вытеснит из разума все острожные сомнения. Подумал, что если и теперь его постигнет неудача, то пойдет в другие места, где у него обязательно должны найтись друзья с укромным укрытием до весны…
Стрелка ходиков в избе Фотия миновала второй час пополудни. Фотий возле печки щепал лучину, чтобы растопить печь: подошла квашенка ржанины. Его внимание привлек лай Сучка в лесу. Старик прислушался. Пес не отбегал от избы, видно, лаял на человека.
Старик, накинув на плечи армяк, нахлобучив шапку, вышел на волю, действительно, разглядел невдалеке путника, а тот, увидев Фотия, прибавил шагу.
Фотий прикрикнул на Сучка. Пес смолк.
Старик, щурясь от слепящего солнца, из-под ладони оглядел подошедшего чужака. Стоял он перед ним в овчинном латаном полушубке, надетом поверх монашеского подрясника. Полы его спереди заткнуты за опояску, чтобы не мешали при ходьбе.
— Никак заплутал, человече?
— К деду Фотию шел. Не ты ли им будешь?
Старик снова приставил ладонь ко лбу, оглядел чужака и без приветливости сказал:
— Ежели к Фотию, то — пришел. Шагай за мной. Пса не опасайся.
Сняв лыжи и воткнув их в сугроб, Савватий следом за Фотием вошел в избу, за ним вбежал и пес. Савватий обнажил голову и словно бы хотел перекреститься, но помедлил, Фотий наблюдавший за незнакомцем, строго сказал:
— У меня образа на месте.
— Не углядел разом.
— Видать, на очи слаб?
— Глаза в справности, но от снежного огня под солнцем в них красные шарики мечутся.
— Это пройдет.
— Снять одежу дозволишь?
— Обязательно.
Савватий скинул со спины котомку, снял полушубок. Все сложил на лавку около двери.
— Чего мнешь одежу? Вешай на стену.
Савватий повесил котомку и одежду на колок.
Собака, слыша спокойный голос хозяина, прониклась доверием к чужаку, обнюхав его ноги, полы подрясника, повиляла хвостом и легла возле печки, часто позевывая.
Савватий, отодрав с усов льдинки, намерзшие от дыхания, трижды перекрестился и поклонился в пояс хозяину. Фотий, ответив учтивым поклоном, спросил:
— Отколь же ко мне шел?
— Из Моховки. Послал к тебе Никон Костыль.
— Никон мужик правильный. Ты ему кем приходишься?
— Да вроде, как и тебе, — чужаком.
— Чудеса. Не возымев к тебе доверия, Костыль тебя ко мне дослал. Никак темнишь истину, человече? А ведь ты инок.
— Сущую правду сказываю.
Фотий, прищелкнув языком, уставился на чужака, заложил руки за спину и спросил:
— Какой краски волос в бороде Никона?
— Смоленый, но шибко припачкан сединой.
— Облик у бороды какой?
— Схожа с клином, коим бревна раскалывают. — Поняв, что старик чинит ему пристрастный допрос, Савватий сам добавил заметное в облике Никона: — Левая бровь у мужика надвое порушена. На правой руке у большого пальца нет ногтя.
— Тогда выходит, что Никон тебя прислал.
Фотий подобрал с полу лучину, сложил ее под дрова в печке, тоненькую щепань запалил от огонька лампадки и поджег ею лучину. Посмотрел на чужака и, увидев, что он все еще стоит, предложил:
— Садись. Лавок много. Отдохнешь, скажешь, зачем тебе Фотий понадобился. Может, поесть собрать?
— Благодарствую. Соснуть дозволь.
— Тут можно? — Савватий указал на приступок возле печки.
— Пошто тут. На печь лезь, там медвежья шкура расстелена.
Савватий снял валенки:
— Добрая то речь, что в избе есть печь.
— Спи вдосталь. Будить не стану, почитай себя моим гостем…
Савватий, проснувшись, слез с печки. Не сразу он увидел старика у стола в переднем углу, а тот заговорил без недавней сухости в голосе:
— Неплохо соснул, человече. Другой раз самовар подогрел.
— Разбудил бы.
— Жалел. Чать, не по большаку шагал, а глухоманью. Ополосни лик. В рукомое вода не студеная, утрось налил. Медок на столе. Лепешки ржаные седнишние. Удались. Самовар парит — садись за стол…
— Чьи угодья-то будут, кои караулишь? — спросил Савватий, допив первую кружку.
— Карнаучихины. Слыхал про такую хозяйку?
— Не помню. Как она к людям?
— По-всякому. В госпожи из нашего сословия вышагала. Все же от господ разнится. Приобыкла глазунью есть, посему курям иной раз и овсеца не жалеет, чтобы на яйца не скупились. Конешно, живет себе на уме, только скажу, что расположение к работным людям вконец не остудила. Но все одно: сколь волка ни корми, все в лес смотрит. Знамо, жить возле нее людям можно; хомут тот же, а люди робить идут, потому иной раз кашу маслом маслит.
Старик налил гостю вторую кружку:
— Ешь досыта и зачинай сказывать, чего тебе Фотий понадобился.
— Пришел к тебе на постой проситься до вешних дней.
Фотий от удивления даже расплескал из кружки воду на стол.
— Может, скажешь, чего в монастыре сотворил, что пришлось из него ноги убрать? Уж не своровал ли? Понимай, я человек к богу с верностью.
— Я не монах.
— Как так?
— Беглый я.
— Знамо, беглый, ежели у меня сидишь, а не в своей келье.
— Из острога убег.
— Господи Иисусе!
— Вот и прошу укрытия. Потому ловить меня станут все, кому положено.
— Погоди. Дай понять. Пошто же монахом обрядился?
— В эдаком обличье легче оберегаться.
Фотий улыбнулся:
— Пожалуй, и верно. Какой с монаха спрос. Ежели правду говоришь, то не утаивай, за что в остроге сидел?
— Бунтовал с заводскими.
— Из каких мест родом?
— Из Каслей.
— Кем робил?
— По литейному делу.
— Может, имя скажешь? Мое знаешь, а мне твое знать охота.
— Скажу, ежели пообещаешь укрыть у себя.
— Гнать не стану.
— Крышин я. Савватий.
Лицо Фотия мгновенно стало суровым, он стукнул кулаком по столу:
— Ты, человече, из меня на старости лет дурака не строй. Ты чьим именем себя помянул?
— Бессовестный! Эдакое вранье перед стариком чинишь? Не знаешь, видать, какой человек Крышин Савватий. Да как ты осмелился его именем заслониться!
— Ты его сам видал?
— Нету! Но доброго про него от людей многонько слыхал.
— Никон мне поверил.
— А пошто же укрытие не дал?
— Сгорел скит, в котором можно схорониться.
— От меня Никоновой доверчивости не дождешься. Слушай, что скажу. Савватия Крышина генералы да господа заводчики по всему Северному Уралу ловят. Вон где!
— Сказывал же тебе, что убег из острога.
— Из какого?
— Из верхотурского.
— Из верхотурского?..
Окончательно растерявшись, Фотий не отрывал глаз от гостя, не зная, чем еще проверить правду его слов, все же попросил:
— Перекрестись!
Савватий выполнил просьбу.
— Господи, да неужели ты и есть тот самый Савватий? Про него что слыхал? Будто такой смелый, что покойному царю бумагу с «плачем» в руки отдал.
— Надеялся работному люду защиту найти.
— Ох, человече, у господ воля на эдакое. Вот годок для меня зачался! Ну вовсе недавно Михайлу Хрустова порешили.
— Зотовского подручного по душегубству?
— Его самого. Бабы кыштымские всем миром присудили ему смерть.
— Туда ему и дорога.
— Не успел я одуматься от такого людского суда, как ты объявился. Ну как хошь, но поверить, что правда в твоих словах, мне боязно.
— Окромя честного слова, ничем другим не могу доказать свою правду. Выходит, и ты в приюте откажешь?
Фотий вышел из-за стола, мелкими шажками заходил по избе, видимо, молча разговаривал сам с собой, разводил руками, остановившись перед Савватием, хотел что-то сказать, но не сказал и опять заходил по избе. На лбу старика выступили крупные капли пота.
— Ладно, — бросил Савватий. — Заночую, а поутру уйду.
— Чего мелешь? Куда уйдешь? Да в этом месте тебя ни в жисть не сыщут, а надумают искать, так есть где схорониться. Живи. Ежели соврал, по весне узнаю. Сюда люди со всего Камня сходятся золотишко мыть для Карнаучихи, может, и придет какой работный человек, признает тебя либо за Крышина Савватия, либо за вруна бессовестного. Слово тебе свое сказал и — аминь!
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Карнаухова Василиса Мокеевна жила в Екатеринбурге в доме с колоннами, стоявшем при дороге в Шарташскую слободу. Жители города хорошо знали старый демидовский дом, укрывшийся в березовой роще с летней поры тысяча семьсот сорок седьмого года.
Дом выстроил Прокопий Акинфиевич Демидов после кончины отца и поселил в нем свою тагильскую утешительницу Анфису Семеновну, чтобы в его роскоши не горевала, когда отослал от себя, охладев к ее красоте.
Пятнадцать лет прожила в доме Анфиса Семеновна, а в одну глухую ночь по осени задушил ее кто-то из челяди в постели.
Темное дело, как многое демидовское, осталось неразгаданным, вернее, его даже никто и не пробовал разгадывать…
В царствование Екатерины сын Прокопия Демидова в столице проиграл дом в карты князю — офицеру, прославившемуся в сражении под Измаилом, но потерявшему в бою левую руку.
Дом, выигранный князем у Демидова, долго стоял в Екатеринбурге пустым, новый хозяин держал в нем лишь челядь. Князя жаловала вниманием императрица. Он водил дружбу и с наследником престола, в то время узником Гатчины, но, отняв у великого князя внимание его фаворитки — красавицы фрейлины, он потерял расположение наследника. Ненависть великого князя к офицеру была столь велика, что даже не угасла до того дня, когда гатчинский затворник стал для России императором Павлом Первым. Он круто расправился с удачливым соперником, приказав вместе с фрейлиной покинуть столицу и удалиться в Екатеринбург.
По дороге на Каменный пояс фрейлина простудилась и умерла. Сквозь метели и стужу тройка примчала в демидовский дом обезумевшего от горя князя и закоченевшее тело его возлюбленной.
По Екатеринбургу прошел слух о совершенно небывалом: князь схоронил любимую женщину под полом своей опочивальни.
Четыре года князь одиноко прожил в доме, никогда не покидая его пределов. В марте тысяча восемьсот первого года, недели через две после смерти Павла Первого, кем-то подосланный убийца под видом гостя проник в дом и ударом кинжала прервал жизнь однорукого хозяина. По завещанию покойного дом перешел к его сестре, жившей в Москве, а у нее откупил московский купец Захар Карнаухов, владевший на Урале рудными, мраморными и приисковыми землями.
Захар Карнаухов умер вскоре после изгнания французов из России, и во владение всем состоянием была введена законом его супруга, Василиса Мокеевна.
Девяносто лет стоял дом после своего основания, и караулили его старые, видавшие виды березы…
Буранная метель четвертые сутки погуливала по Екатеринбургу. Благовестили в церквах ко всенощной. Комнаты и залы карнауховского дома в густой мгле январских сумерек. По нижнему этажу шлепали босые ноги девушек-хохотушек, таскавших дрова к печкам и каминам.
Молодая хозяйка Ксения Захаровна поехала в церковь и наказала камердинеру Тарасу Фирсовичу после ужина затопить камин в книжной комнате, ибо ожидала к ужину гостью — Марию Львовну Харитонову
Верхний этаж дома, отведенный под жилье Ксении и ее брату Кириллу, зимой пустовал. Ксения предпочитала быть около матери, на Урале, а Кирилл жил в Петербурге или за границей.
Проводив молодую хозяйку, Тарас Фирсович надел парадную ливрею синего сукна и уже присмотрел своим глазом, как служанки накрыли к ужину стол. На столе стояло три прибора. К ужину был зван и учитель музыки Фридрих Францевич Шнель. Камердинер знал, что к ужину готовили рябчиков в сметане, а поэтому пошел на кухню разузнать у кухарки Алевтины, как доходит жаркое и все ли она изготовила для гарнира.
Вернувшись из кухни, камердинер прошел в книжную комнату, проверил, как сложены дрова в камине и достаточно ли для растопки надрано бересты. Но и найдя все в порядке, он поворчал на девушек за их веселость.
* * *
Тарас Фирсович Глушков оберегал покой хозяек. Он высокого роста. С пушистыми бакенбардами. Его холеная борода раздваивалась, как ласточкин хвост. Он, не горбатя спины, дошагивал седьмой десяток, хотя частенько вздыхал от усталости. По характеру ворчлив. Ворчал даже на старую хозяйку, на всю дворню, на самого себя и только на Ксению Захаровну не ворчал, ибо, по его понятию, все, сделанное ею, всегда правильно и неоспоримо.
Родом Тарас Глушков с берегов Плещеева озера. Захар Карнаухов выкупил его, тогда совсем еще молодого парня, из крепости от помещика для услужения в доме. Василису Мокеевну он знал с того времени, как хозяин привез ее из-под Киева. При нем она под венец пошла с хозяином, при нем стала миллионщицей. Он все знал про свою хозяйку, кроме тайного, что она сама умела носить в памяти и знала о котором только сама.
Руки Тараса поддерживали старую хозяйку на пройденных тропах, а потому все о ней слышал, что люди за глаза плели. Слушал и запоминал сплетки, об иных докладывал хозяйке. Разное говорили люди про старую хозяйку.
Ее молодость давно канула в Лету, а люди все не унимались, поминая про былое, что грешно жила, что по-тайному приобрела богатство, нарушая из-за него верность мужу. Толком никто ничего не знал, но все равно в городе продолжали вспоминать, что будто видали ее в дыму ночных любовных костров, иба слишком много туманного было в ее жизни, много дыма волочилось за ее подолом, а дым без огня не заводится.
Тарас хорошо помнил, какой была обликом Василиса Мокеевна в молодости. Ни один мужик не проходил мимо нее, не оглянувшись, Василиса Мокеевна знала цену своей женской пригожести. Умела вовремя бровь дугой изогнуть, глаза лукаво сощурить и таким взглядом подарить, от которого у мужиков перехватывало дыхание. С первого дня появления на Урале она заставила людскую молву ходить за собой по пятам. Немало разговоров про Василису Мокеевну было и в столице. Знали там и про ее коллекции золотых самородков и уральских самоцветов.
Хорошо Тарас помнил, как жила несколько дней в доме, отогреваясь от стужи, княгиня Мария Волконская, следуя к мужу в сибирскую ссылку. Комната, в которой она пребывала, стояла теперь в доме запертой. Сам Тарас два раза в неделю вытирал в ней пыль и подметал.
На глазах Тараса состарилась Василиса Карнаухова, и он приметил, как вот уж третий год начала утихать о ней речистость людской молвы, но перекинулась на дочь Ксению, вернувшуюся из столицы в Екатеринбург вдовой…
* * *
В зеленой гостиной куранты с громкой торжественностью вызвонили восьмой час вечера. Их звон ворвался в мелодию бетховенской сонаты, разносившейся из книжной комнаты и будившей тишину дома.
Книжная комната небольшая. Ее мутно освещали свечи в канделябрах на клавесине. За клавесином сидел дряхлый старик, одетый в малиновый фрак. Бывший органист из Гейдельберга Фридрих Францевич Шнель держался прямо, наклонив голову и прикрыв глаза. Его бритое, бледно-желтое морщинистое лицо застыло в упоении. Под его старческими руками оживала вдохновенная мелодия любви, мужественная и сдержанная в выражении страдания и горестного раздумья, неукротимая в разливе чувств.
Дымно топился камин. Сложен он из грубо обтесанных кусков Златоустовского белого мрамора с красными прожилками. Подсвеченные изломы камня загорались золотыми, синими и красными искрами. На камине две фарфоровые вазы, на них рукой неведомого живописца выведены сказочные птицы.
Вдоль стен комнаты низкие шкафы красного дерева с затейливой резьбой. На полках книги. Больше всего книг в кожаных переплетах с пожухлым золотым тиснением на корешках. Старинные книги. Есть и недавние книги сочинений Пушкина, Крылова, Кольцова, Бенедиктова, Марлинского.
Над камином висит картина, писанная Кириллом Карнауховым. На ней — Ерофей Марков в глухом лесу держит в руках камешек с вкрапинами первого уральского золота. На противоположной стене — портрет Ксении Захаровны кисти Ореста Кипренского.
В доме Карнауховых Шнель появился давно. Приехал из Санкт-Петербурга как учитель музыки. Двенадцать лет обучал Ксению Захаровну и так прижился к дому, что не покинул его и после замужества ученицы.
Шнель гордился ученицей, только жалел, что при всех ее незаурядных способностях она не стала музыкантшей. Его всегда огорчало то, что разум Ксении главенствовал над чувствами, и теперь окончательно уверился в этом, поняв, что даже замужество не помогло ее сердцу умерить власть рассудочности. Шнель внимательно следил за развитием характера девушки и пытался музыкой пробудить в ее душе нежность и ласковость. Но потерпел неудачу, убедившись, насколько сильным было в ней увлечение своей внешностью. Ксения любила музыку, но любила холодно и рассудочно. Ее музыка, безукоризненная по исполнению, не была согрета душевной теплотой. Ксения охотно принимала чужое самопожертвование как должное, но сама идти на самопожертвование не хотела. Она никогда не поступалась решением своего разума. Волевая непреклонность ее почти не знала поражения.
Старый учитель допускал, что рассудочность завладела Ксенией из-за постоянного созерцания сурового величия уральской природы и от одиночества, с которым сдружилась с первых шагов детства. Девочкой она росла, почитай, без участия матери, у которой не было времени для ласки, — сколачивалось карнауховское богатство. Но мать дала ей завидное для купеческой среды воспитание.
Премудрости русского языка ей передал весьма образованный обедневший отпрыск петровского дворянства. Французский язык и светские манеры она постигла от француза, легкомысленного пшюта. Это он научил ее любить только себя. Это с его слов Ксения уверила себя, что ее сила во внешности. Это от его похотливых прикосновений в ней слишком рано проснулась женщина.
Родителей в детстве и юности Ксения боялась. Особенно боялась мать. Ее решениям подчинялась беспрекословно, ибо от матери зависело ее благополучие. В ней, так же, как и в матери, было сильно стремление к богатству, а потому с юности вникала во все материнские дела по золотому промыслу.
Страх перед матерью у Ксении исчез, когда вернулась в родительский дом вдовой с капиталом мужа и вложила его в прииски да пошла по одному пути с матерью, исподволь перехватывая у нее власть на управление делами. Уже четыре года с самой ранней весны до первого снега жила в лесах, меряя их версты в переездах с рудников на промыслы, раскиданные на просторах Урала от реки Ис до реки Миасс. Мирилась с невзгодами кочевого бытия ради одной мысли — больше намыть золота.
Зимой жила в Екатеринбурге. Со скуки бывала на местных балах. По необходимости посещала семейные торжества в домах купцов и промышленников. Вела переписку со столичными подругами. Снисходительно принимала ухаживания чужих мужей. Порой, охваченная мрачной меланхолией, неожиданно для всех запиралась в своих комнатах, не выходила к гостям, по вечерам не пропускала церковной службы, а то играла на клавесине или часами слушала игру Фридриха Францевича.
Двадцать лет жил старый музыкант в доме, где от него никто ничего не требовал, где его уважали и любили музыку, как он любил ее сам…
Звуки клавесина негромким эхом отозвались в анфиладе комнат и растворились в сумеречном свете. Шнель расслабленно опустил руки, оборотился и вздрогнул — на него задумчиво, словно прислушиваясь к ускользнувшим звукам, глядел Бетховен.
Шнель никак не мог привыкнуть к этому каменному, но такому одухотворенному лицу композитора, высеченного из куска мрамора скульптором-самородком Сергеем Ястребовым. Одаренного, с «божьей искрой» крепостного парня откупила семь лет назад Василиса Карнаухова от кыштымского заводчика Петра Харитонова за сто тридцать рублей.
Долго смотрел на скульптурный портрет старый Шнель, потом встал, подошел к нему и сказал вслух:
— Ну что же, Сергей, может, ты растопишь лед в душе Ксении, иль она тебя остудит…
* * *
В просторной кухне карнауховского дома вкусно пахло свежеиспеченным хлебом. От жарко истопленной печи растекалось размаривающее тепло.
На столе под голубой холщовой скатеркой на круглом до блеска начищенном подносе затухал пузатый самовар. На самоварной конфорке расписной чайник гнездился, как курица-парунья.
В подсвечнике оплывала свеча, а вокруг нее наставлена посуда: вазочки с медом и вареньем, тарелки с шанежками и ватрушками, а над яствами возвышалась зеленая глазированная кринка с топленым молоком.
Чаевничали трое: садовник Поликарп, старшая стряпуха Алевтина и зашедший обогреться рыжий странник Осип.
Поликарп — старец, седой как лунь. Лицо его заросло пушистой, вихрастой бородой. Широкий лоб в морщинах. Серые глаза устало смотрели сквозь нависавшие брови. Чай он пил не торопясь. Долго дул на блюдце, прежде чем сделать глоток. Ворот рубахи расстегнулся, на впалой груди видна медная цепочка нательного креста.
Лицо кухарки Алевтины с пятнышками веснушек дышало здоровьем. Она пила чай с большой охотой, обжигаясь, пила его горячим, и лоб ее блестел от испарины.
Странник Осип изредка поглаживал свою наполовину облысевшую голову. Рыжая бороденка, похожая на обрывок мочалки, подрагивала, когда он, причмокивая, отхлебывал питье с ложечки.
Осип, допив чай, сокрушенно покачал головой:
— Спорая метелица расподолилась. И зачалась вдруг. Из Катайского села вышел — мело будто не больно шибко, а опосля как задуло, завертело, ни дать, ни взять истое светопреставление.
Алевтина налила страннику горячего чая, вступила в разговор:
— Полагаю, не к добру новый годок споначалу разметелился. Маята для меня непогода. Не сплю из-за нее, испытываю душевное беспокойство.
Поликарп, крякнув, протянул Алевтине порожний стакан:
— Плесни. О чем речь повела? Беспокойство. Ешь меньше на ночь, станешь спать безо всякой тревоги. Не тревога от тебя сон гонит, а чистая бабья блажь от сытой жизни.
— Я, дедушка Поликарп, чать, живая. Тревога во мне от горестных раздумий заводится.
— Вижу, что не покойница. Раздумия и у овечки водятся. Тревога твоя понятна. Вдовство одолевает.
— Слушай мой сказ. Ешь на ночь не досыта. Не опасайся, во сне от этого на тело не спадешь.
За столом наступило молчание. Алевтина, покраснев, пила чай, не поднимая глаз. Неловкость нарушил странник:
— Замысловата людская жизнь. Ты, видать, добрая душой, Алевтинушка. Меня, как желанного гостя, приветила.
— У нее все ходоки-топочи в почете.
— Уважаю прохожих странников. Тебя пустила оттого, что голос твой разом поглянулся.
— Голос у меня ничего. Глянется людям, когда сказы сказываю.
— И много знаешь?
— Про уральскую старину сказы ведаю. Про Полоза. Про девку-поскакуху. Про хозяйку горы Медной. Про малахит-камень узорчатый. Много сказов ведаю. Сказываю их с душевностью, чтобы сим антирес разжечь. Да прямо скажу, что иной раз сказами из-за бедности ночлег и прокорм отрабатываю.
Осип, почувствовав пристальный взгляд Поликарпа, нерешительно пододвинул Алевтине пустой стакан:
— Коли не осудите, налейте еще стакашик. Водица у вас — бархат по мягкости.
— Ключевая, оттого и мягкая, — сказал Поликарп.
— Гляди ты. Вот и думаю, что не схожа она с речной.
— В роще ключ бьет из-под вековой березы. Напористый. В лютую стужу не поддается морозу.
— Дозволь подумать, что ты здеся при хозяйстве вроде смотрителя?
— Угадал. Гляжу за березами. Старость ихную оберегаю по приказу хозяйки. Про нашу рощу люди сказы говорят. Строгость порядка понимаю, а посему приставлен к такому делу. За все непорядки подле господского дома держу ответ перед хозяйкой. А ты, человече, меня слушай, а чайку стыть не дозволяй. Студеный чай в зимнюю пор нашему брюху без пользы. Душа людская от чайного тепла, как окошко в ясный день, распахивается.
— Вот ведь как! А напиток вовсе бусурманский, но все одно гожь для православного человека.
— Вы ватрушечки попробуйте, дяденька Осип.
— Не торопи, голубушка. Добрую пищу потреблять надо со вкусом, чтобы ладом распознать.
— Радостно мне, что завернул к нам. С новым человеком новым словом люблю перекинуться. Со своими-то уж обо всем пересказано, переговорено. От странствующих людей про диковинное услыхать доводится.
— Правильно судишь. Мы люди на особицу. За это Господь пути-дороги к хорошим людям нам скрозь метелицы да бураны указует. Только одно беда, не ото всех людей одинаковое уважение углядываем. Прямо скажу, на Святой Руси всяки люди водятся. Есть такие поганые, кои норовят обидеть либо в жуликов обрядить. С виду будто в Христа верят. На храм глядя, лоб крестят, а нас, воинство христово, ворами да жуликами величают. Под рождество меня в Шадринске здорово отмолотили. Кровушка из носу вытекла. А спросите, за что отмолотили? Прямо зря. Показалось одному купцу, что у него со двора я гуся слямзил. Избил меня на улице, при народе, а потом, когда пригляделся, прощения за ошибку просил, в ноги кланялся — ликом обознался. Меня, честного человека, за ворюгу признал. Обидчика, конешно, пришлось простить, только в разуме заноза обиды на него крепко засела… Пододвинь, голубушка, вазончик с малиновым вареньем. Хочу с ним еще стакашик выкушать. Малость поостыл в пути. Малинкой надо застуду упредить в теле. Староват стал. Застужу ноги, зачинает кашель душить по ночам.
Поликарп, закончив чаепитие, перевернул на блюдце стакан вверх дном, отодвинувшись от стола, спросил странника:
— Звать тебя как?
— А я сказывал.
— Не расслышал. Туговат на уши.
— Осипом крестили.
— За сбором по краю топаешь?
— Шестой десяток без устали.
— Кукушкой живешь. Муторно, поди, без своего-то гнезда?
— Про кукушку отчего помянул? Рабом божьим проживаю.
— Все мы рабы божьи. И жулики, и праведники. Беседуйте, ежели есть охота, а мне на боковую подошел час.
Поликарп пристально оглядел Осипа.
— Сокрушаю, видать, тебя? — Странник смиренно вздохнул.
— Чудно, Осип. Шестой десяток живешь, а седины в волосе нету. Видать, легко живешь?
— Неужли не знаешь, что рыжий волос дольше всех в себе огненную краску держит?
— Может, и так. Про это не знаю. Только водится у меня один знакомец. Он куда рыжеватее тебя, но от забот да от работы в шахте на третьем десятке начисто побелел. Конешно, у всякого человека в волосе своя краска. Одна стойкая, другая линючая… Доброй ночи вам. Гостя, Алевтинушка, проводи почивать в сторожку, к деду Капитону. Тулупчик мой прикрыться ему прихвати. Под ним гостю тепленько будет.
Поликарп, шаркая валенками по полу, покряхтывая, вышел из кухни, прикрыв за собой скрипнувшую дверь.
— Сторожкий старичок.
— Хороший. Только странников не почитает. Побаивается их. Сказывал, что одинова странник его начисто пообокрал. Добрый старик. Мудрый в меру, но этим ни перед кем не похваляется. У дворни нашей первый советчик и заступник.
— А велика дворня у вас?
— Не совру. Более пяти десятков. Да как без народу? Домина, сам видишь, дворец.
— Дозволь узнать, кто хозяйка ваша?
— Да ты что? Не знаешь, куды зашел? Карнаухова — наша хозяйка.
Странник удивленно всплеснул руками:
— Батюшки светы, Василиса Мокеевна?
— Она самая.
— А я, пустая голова, думал, что совсем в незнакомом доме ночлег сыскал. Заплутал в метелицу. Шел к Кустовым, а попал к Карнауховой. Сказать кому, так не поверят, что на вашей кухне чай пил. Как здравствует хозяюшка?
— Дома нету. Уж два месяца как в Петербург укатила, да и к сыну в Москву собиралась наведаться.
— Слыхать доводилось, что сынок живописец.
— Обязательно. Только дома живет наездами. Все более по столице и по заграницам раскатывает. У матери денег много, вот его и тянет в сторону от родного дома. Парень из себя видный.
— Так, так… Экой чести Господь меня, грешного, удостоил! В эдаком доме ночую. Про хозяйку вашу наслышан. Жизнь живет как хочет и ни перед кем ответа не держит. Сказывал мне о ней камышловский богатей. Женушка его, Любава Лукишна, дружит с вашей хозяйкой.
— Порошина, что ли?
— Да не дружит она с хозяйкой. По секрету тебе скажу. Она тайная зазноба молодого хозяина.
— Быть того не может.
— Право слово. Видать, муженек у нее староват.
— Ледащий муженек. Хворый. В постели преет, но десять месяцев в году.
— Тогда дело понятное. Молодая. Скушно с ним.
— И тебе секретец скажу. Муженька она не любит. Живет подле него с надежой, что богатой вдовой во всю ширь развернется. Из твоих слов уясняю, что Любава Порошина у сынка Карнауховой вроде как незаконная супруга.
— Вот уж про это, упаси бог, ничего не знаю. Напраслины наговаривать не стану. Баловство в любовь — это одно, а тайное супружество при живом муже — вовсе другая статья.
— Не изволь сумлеваться. Она ему тайная супруга. Потому, что зазноба, что тайная супруга — все одно. Да против такой бабы разве может мужик устоять? Да она только глазом моргнет. Гостит у вас частенько?
— Частенько наезжает, когда молодой хозяин здеся.
— С ее красоты тоже патреты пишет?
— Да с них и началось все. Много их написал. И так, и эдак. На одном она во весь рост срисована. Он у нас в верхнем зале на самом видном месте висит.
— Вот бы взглянуть.
— А как же.
— Это можно. Утречком молодая хозяйка поедет провожать Харитониху. Домоправительница в часовню молиться пойдет. Я и свожу тебя.
Встав из-за стола, Осип стряхнул крошки с одежды, в пояс поклонился Алевтине:
— За угощенье благодарствую, голубушка. Теперича укажи путь к ночлегу… Икона в сторожке водится?
— Капитон набожный.
— Вот и хорошо. Утречком не позабудь об обещанном.
* * *
В зеленой гостиной куранты пробили одиннадцатый час ночи.
Музыка старого учителя больше не тревожила тишину дома, в нем погуливало эхо от завываний ветра расходившейся метели.
В камине книжной комнаты кумачовыми лентами косматился огонь. Тарас Фирсович, заходя в комнату на носках, уже дважды подбрасывал в камин поленья, и каждый раз они, разгораясь, потрескивают, разметывая искры.
У камина грелись Ксения Захаровна и Мария Львовна Харитонова.
Ксения сидела в кресле, поджав под себя ноги, в бархатном халате, вдавив плечи в мягкость штофной спинки. На шее Ксении на бархотке медальон с бриллиантиками, вспыхивают они голубыми холодными блестками. Ее лицо бледно. Глаза под серпами тонких бровей. Темные волосы лежат на плечах кольцами и на висках прошиты сединками, такими преждевременными для прожитых ею тридцати двух лет. Пальцы ее рук на темном бархате халата кажутся особенно тонкими, на левой руке ободок обручального кольца.
Против Ксении, в таком же кресле, сидела Мария Львовна. Она вытянула к огню ноги, обутые в сапожки на меху из красного сафьяна, руки положила на мягкие подлокотники кресла. Лицо строгое. Мало тепла в ее зеленых глазах. Под ними отечные мешки в тонкой паутине морщинок. Рыжеватые волосы с прошвой седины. Кожа на щеках дряблая.
Марии Львовне доходил пятый десяток, но одета она пестро и по-купечески богато. И все же пестрота наряда не могла скрыть следы подступающей старости.
Тени беседующих ворошились на полу, на книжных шкафах и походили на взмахи крыльев больших черных птиц.
Возле кресла Харитоновой на столике в хрустальном графине коньяк. Она всегда любила выпивать понемногу, а после того как проводила мужа в финляндскую ссылку, стала пить сильнее и даже в одиночестве. За последний год как-то разом расползлась и отяжелела. Перестала следить за своей внешностью и только холила пухлые руки, унизанные кольцами.
Поужинав у Ксении, осталась ночевать из-за метели…
У Вольского купца, баснословного уральского богача Льва Расторгуева было две дочери — Мария и Екатерина. Их девичья пора прошла среди пьяного разгула родительского «расторгуевского дворца». Мария была старшей. Отец по своему выбору и желанию выдал «своих девок» замуж. Мария стала женой Петра Харитонова. Соединение с новым капиталом дало возможность Расторгуеву еще шире развернуть собственную власть над заводским и золотопромышленным Уралом, так как появление Карнауховой с ее состоянием мешало ему быть непревзойденным миллионщиком.
Катерина стала женой Александра Зотова. Его отец, Григорий Федотыч Зотов, давно привлек внимание Льва Расторгуева. Слава про него гуляла самая мрачная. Он управлял заводами корнета Яковлева и по жестокости к работному крепостному люду затмил свирепство прошлых Демидовых. Но это не волновало Расторгуева. Он знал, что Яковлев, доверив управление заводами Зотову, наживал дикие деньги. Расторгуев решил, что Зотов для него находка, именно он сможет все выжать из крепостных и умножить расторгуевские капиталы. Чтобы получить Зотова к себе, он породнился с ним, выдав дочь Катерину за его сына.
Это было время, когда Расторгуев, стремясь к славе, скупал земли Южного Урала с заводами и приисками, когда откупил от наследников Демидова весь Кыштымский округ.
После замужества обе дочери с мужьями поселились в Кыштыме. Мужья числились управителями, однако никакого участия в делах округа не принимали, а всем правил Григорий Зотов. Поощряемый Расторгуевым, он уже через два года наладил самую страшную кабалу горнозаводского крепостничества, и главным средоточием его лиходейства стали скрытые в лесах Соймовские промыслы. Человеческая кровь обильно заплескивала земли расторгуевских владений.
Мария первой почувствовала, что управление «Гришки из Кынггыма» могло окончиться для расторгуевского благоденствия катастрофой. Ей было известно, как часто на заводах и приисках округа вспыхивали рабочие бунты, жестоко подавляемые Зотовым всеми способами. Из столицы по разным доносам все чаше стали наезжать следователи, но Зотов, хитро подкупая и обманывая их, заметал следы своих деяний.
Скрытая домашняя неприязнь Марии к Зотову ничего не меняла. Расторгуев не слушал дочь и, чтобы отвязаться от ее приставаний, обещал все обдумать и разузнать, а пока, суть да дело, откупался от назойливой дочери подарками в виде приисков и рудников, переписывая их на ее имя, но не отнимая из-под надзора Зотова.
Расторгуев и сам прекрасно знал про «художества» Зотова над рабочим людом, но упорно не хотел с ним расставаться, ибо прибыли его росли невероятно.
Неприязнь Марии к управляющему раздражала отца, и он приказал ей покинуть Кыштым, жить возле себя в Екатеринбурге.
Вскоре отец умер. А потом произошло то, чего опасалась Мария: длительные и бурные волнения рабочих заставили Петербург заняться заводами Расторгуева, и в Кыштымский округ неожиданно прибыл следователь — граф Александр Строганов.
После трех месяцев следствия по приказу Строганова была спущена вода заводского пруда. На его дне нашли десятки человеческих скелетов. Обнаружилась страшная картина убийств. Преступление получило широкую огласку, и Строганов вынужден был донести министру Канкрину в Петербург о злодействах во владениях Расторгуева, довольно верно описать тяжелое положение заводских рабочих. А над его донесением витал откровенный страх миллионщиков перед упорными, все более настойчивыми и частыми выступлениями рабочего и крестьянского люда на российских просторах — утихомирить бы все это, а в согласии работники и прибыток увеличили бы.
Григорию Зотову и мужу Марии — Харитонову, как главному управителю, грозило наказание шпицрутенами и вечная каторга. Спасая мужа, считая его виновным только в безволии, Мария, хотела того или нет, вместе с ним спасла и Зотова. По решению императора их обоих отправили только в ссылку, в финляндский город Кексгольм.
Проводив мужа, Мария в течение десяти лет пыталась оградить отцовское богатство от рук Александра Зотова. Обе сестры уговаривали его не распродавать заводы и шахты, но Александр Зотов, обвиняя Марию в гибели своего отца, упорно продолжал самовольничать. Мария добилась раздела состояния, но управляла всем примитивно и неумело: приказчики и управители то и дело обводили ее вокруг пальца, наживались.
Жила Мария, как прежде, окруженная приживалками, прихлебателями в огромном отцовском доме, подаренном ей в день свадьбы. Она пристрастилась к вину. Появлялись и исчезали друзья, слетавшиеся в ее дом с единой надеждой — поживиться возле ее богатства, все еще очень и очень значительного…
Тепло камина разморило плотно повечерявшую Харитонову. Ее одолевала дремота. Прищуривая глаза, она поглядывала на хозяйку дома. Не только метель заставила ее остаться в гостях с ночевой. Была и другая причина. Она выжидала подходящего момента затеять разговор. Но Ксения нынче на редкость хмурая. Зная ее вспыльчивость, Харитонова не решалась начать беседу. Такого настроения Ксении она не любила и побаивалась, но ей не терпелось передать совсем свежие сплетни, расползавшиеся по городу о молодой Карнауховой.
Вздрогнула от слов Ксении:
— Не узнаю тебя сегодня, Марья Львовна. Прикатила ко мне новости рассказывать, а сама словно в рот воды набрала.
— Да какие такие новости. Сущие пустяки, — оживилась Харитонова.
Ксения пристально и вопросительно посмотрела на нее.
— Чего ты на меня, Ксюша, эдак уставилась?
— Дожидаюсь, когда начнешь рассказывать.
— А к чему у тебя больше интерес?
— Начни хотя бы с того, как у Зарубиных пироги ела.
Харитонова широко открыла удивленные глаза, сокрушенно покачала головой:
— Слыхала?
— Смотря о чем.
— Про себя слышала?
— Слышала, что Плеткин меня на людях назвал своей любовницей. Рассказывай.
— Уволь. Не люблю сплетни густить.
Ксения засмеялась:
— Как очевидица рассказывай. Выпей для храбрости и начинай, не крестясь…
Ксения пошевелилась в кресле, а от ее движения Харитонова даже поежилась.
— Нервная ты стала, Марья Львовна. Рассказывай мне гольную правду, ни о чем не утаивай.
— Сама велишь. Ежели чего не поглянется, не серчай. Пьяным-пьяно было вчерась у Зарубиных. Пироги пекли. За столом уместилось двадцать четыре души. Плеткин к концу ужина явился. Прикатил без благоверной и шибко на взводе.
— Ну да. Покачивался. Садясь за стол, старухе Сидельчихе платье вином окатил. Та на него крик подняла. Угомонилась только, когда Плеткин пообещал ей новое платье из столицы привезти. За столом стал он хвастаться, как свою жену в крепком решпекте держит. Молодой инженер Хохликов вступил с ним в спор. Доказывать стал, что домострой — подлость. Слово за слово — и спор разгорелся не на шутку. Гости стали их подзадоривать. Одним словом, стали в огонь масла подливать.
— Зарубин что говорил?
— Прокоп Зарубин молчал. Только хмуро на всех поглядывал. Плеткин, выпучив глаза, стал поносить Хохликова, а под конец и высказал: «Ты, говорит, еще щенок меня уму обучать. Тощаешь от светлых идеалов. Сохнешь по столичной вдовушке Ксюше Карнауховой. Как на икону на нее молишься. А я тебе вот что скажу. Самая она обыкновенная смазливая бабенка. Нет в ней ничего особенного, хотя и была замужем за столичным сановником…» Хохликов Петюша от его слов как бумага белым стал. Не стерпел парень и заорал на Плеткина, что не смеет он так об тебе говорить. А Плеткин как расхохочется, да и сказал, от чего все за столом обмерли: «Говорить про нее я все смею, потому Ксюшка была моей полюбовницей. Ежели кто не верит, сами у нее спросите». Родимая! Что тут за столом сделалось. Содом и Гоморра. Хохликов Петюша, утеряв разум, кинулся на Плеткина, стал его хлестать по морде. Так молотил, что из плеткинского носа сурик потек.
Ксения поднялась с кресла, прошлась по комнате. Харитонова молча налила рюмку коньяка и выпила.
— Дальше! — потребовала Ксения.
— Ничего больше не слыхала, не видала. Но знаю, что Плеткина в кошеву на руках из дома вынесли. Я до полуночи с хозяйкой дома отваживалась. С перепугу она в обморок грохнулась. А ведь она на сносях. Что скажешь, Ксюша?
— Ничего не скажу.
— Ты только подумай, что посмел на тебя наплести.
— Плеткин правду сказал.
От удивления Харитонова замерла.
— Что рот открыла, как рыба без воды?
— Ксюшенька. Подумай, что на себя сказала.
— Правду Плеткин молвил. Но — подлец. Поганый подлец, если посмел выдать тайну моей ласки. Женщина я. Самая обыкновенная женщина, со всеми желаниями и помыслами, как у всех. Молодая я, Марья Львовна. Подлец! Для кумушкиных языков теперь надолго забава.
— Ночами не сплю, Ксюшенька, как подумаю, что будет тебе, когда Василиса домой воротится. Упаси бог, ежели про сплетки узнает.
— Ничего не будет. Спи спокойно. Сама скажу матери, как тебе сейчас сказала.
— Да как же, Ксюшенька, с ним спуталась?
От ее вопроса Ксения вздохнула:
— Будто сама не знаешь, как это случается?
Неожиданно Ксения закричала на Харитонову:
— Будто сама за спиной мужа не спутывалась?
Харитонова в испуге замахала на нее руками:
— Господь с тобой!
— К чертям бы вы все провалились! — Ксения в раздражении ходила по комнате, остановилась у камина, положила в него полено, приблизилась к Харитоновой и сказала шепотом:
— Мне жаль Петю Хохликова. Хорошие слова от него слышала. Запомнила те слова, а понять их не захотела. Нет любви! Мужики выдумали это чувство, чтобы легче нашу ласку выпрашивать. Вот скажи, ты испытала любовь?
— А как же…
Ксения медленно подошла к клавесину и резко обернулась:
— Врешь! Я не верю в любовь. Все вы любите, а своих любимых обманываете на стороне. Любовь — это преданность любимому. Если любовь существует, если она когда-нибудь заведется во мне, то я никогда не осмелюсь обмануть любимого лаской с другим.
— Мудрено говоришь.
— Про неиспытанное чувство по-другому говорить не могу. Разум мной правит. Сердце во мне только работает. Понимаешь? Терпеть не могу про любовь говорить. Все мужья на словах жен на руках носят, а на самом деле плетью, кулаками, бранью в гроб загоняют. — Ксения задумалась. Дотронулась до клавишей, струны ответили нестройным аккордом. — Жаль мне Петю Хохликова. Тебе, Марья Львовна, обидно, что не по тебе парень сохнет.
— Будет тебе. Постыдись ко мне с эдакими словами вязаться. Истая ты карнауховская порода. Вся в мать. Что на уме, то и на языке.
— Нет, не все на языке. Про многое умею молчать. Про Плеткина бы тебе сама никогда не сказала, если бы мужик не оказался подлецом.
Ксения потушила в канделябрах свечи и, подойдя к креслу Харитоновой, налила в ее рюмку коньяка и выпила.
— Зря пьешь, Ксюшенька, в таком состоянии.
— Злая сейчас. Понимаешь, злая. На себя злюсь, что подлеца в Плеткине не разглядела. Пойдем спать.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Мели по всему Уралу январские метели. Они лихо отплясывали по казенному Кушкинскому заводу, замели избы по самые крыши. Глубокими были переметенные снега на улицах и площадях завода, а укатанные дороги по ним шли с бугра на бугор.
Разрослась, отстроилась Кушва с тех пор, как у нее под самым боком в заболоченных лесах отыскали платину.
Находка нового для этих мест драгоценного металла свела с ума уральских богатеев, а кушвинских купцов вытряхнула из тулупов лабазного сидения. Даже приисковый народ около платины стал жить сытнее, заменял лапти на сапоги со скрипучей музыкой в подошвах.
Кушвинское купечество превращалось в промышленников, устраивало свою жизнь в каменных домах — совсем как в Екатеринбурге.
В воскресный день после обедни смотритель платиновых промыслов дворянина Шумилова всеведущий Никодим Стратоныч Зуйков позвал гостей на пироги.
Изба Стратоныча стояла в сосновом бору на склоне Малой Благодати. Жил шумиловский смотритель по-богатому. Был бездетным вдовцом. Его хозяйством управляли часто сменявшиеся хозяйки-солдатки либо приисковые женщины, примеченные Стратонычем за смазливость лица и стройность.
Гостей угощала Дарья, родом из Рязани, второй год державшая Стратоныча возле себя. По заводу и промыслам бродили слухи, будто она до того крепко прибрала мужика к рукам, что от ее кулаков у него расцветали синяки то под одним, то под другим глазом.
За столом, покрытым кружевной скатертью, гости ели пироги с крепкой выпивкой. Дарья суетилась у печи и, потчуя гостей, почти не присаживалась к столу. Гости — известные люди на всем заводском и приисковом Урале. Один из них — старатель Тихон Зырин. Не гнушались водить с ним крепкую дружбу самые именитые богатеи, так как благодаря Тихону в их карманы немало пересыпалось золота из тех мест, которые он указал им.
Зырин вдоль и поперек исходил уральскую землю, высматривая пески с россыпями золота и платины. Сам находил золото, сам давно бы мог стать богатеем, но не привычен был к оседлой жизни и потому с весны до зимы жил в лесах, а зимой — то в одном, то в другом месте у дружков, согреваясь около чужого тепла. Деньги в карманах держать не любил. Раздавал их беднякам, у кого ребята табунились по избам. В одном себе никогда не отказывал — в хорошей одежде. Никто из приисковых людей не видел его, даже на промыслах, в драной лопотине.
Про Тихона в народе разговоров ходило немало. Старые люди утверждали, что отцом его назывался Петр Зырин и был он тем самым пареньком, коего от дедушки увел с Елупанова острова через зыбуны и трясины пришлый мужичок.
Тихон прожил жизнь бобылем. Леса, реки, болота, золото, самоцветы стали его стихией. Про все это он знал многое и недаром иной раз зимой, зайдя к кому-нибудь на ночлег, при случае начинал сказывать свои бывальщины, от которых хозяева, заслушавшись, забывали про сон на всю долгую зимнюю ночь.
Приисковый народ любил Тихона за сердечность, за то, что всегда мог рассчитывать на его помощь. Но бродяжила и другая молва про него, пестрая, как ситец. Говаривали, что за погляд Катерины Расторгуевой Тихон открыл ее отцу тайну Кочкарских золотых россыпей. За кое-что большее он отдал золото Миасса в руки Василисы Карнауховой. Но это были разговоры. Сам Тихон про подобное ничего не помнил, а когда его спрашивали об этом, отмахивался и сердито хмурился.
Второй гость — Григорий Павлович Тихвинцев, беглый сынок вятского купца, по приисковой кличке Одуванчик, обличьем щуплый, косоплечий, с выщипанной бородкой и начисто лысый, у правого его уха нет мочки. Всю свою жизнь на Урале он одурачивал различными виртуозными выдумками пришлое в край купечество, торгуя якобы отысканными им золотоносными местами. При торге были богатые знаки на золото на указанных Одуванчиком местах, но после покупки новый хозяин ничего на них не находил. Из своих проделок Тихвинцев всегда выходил сухим, как гусь из воды, и только один раз был так сильно избит обманутым, что три месяца не вставал с постели, а во второй раз другой купец за обман откусил у него мочку уха.
Состарившись, Тихвинцев от мошенничества отошел, занялся скупкой золота у старателей, платя на несколько копеек дороже казенной цены за золотник, а сам перепродавал желтый металл промышленникам. Приобрел два дома: в Кушве и Нижнем Тагиле. Жил в них ни бедно, ни богато, но всегда в тепле укладывался спать. Одуванчик имел веселый характер, со всеми водил дружбу, а за Тихоном ходил тенью.
Про Стратоныча на Ису слава была недобрая. Двадцать лет назад привез его на Урал из своего поместья покойный отец нынешнего барина и поставил смотрителем над промыслами. Лютость Стратоныча к рабочему люду неуемна. На каждого цепной собакой кидался, видя в унижении людского достоинства свое превосходство над крепостными. На приисках, заменяя хозяина, чувствовал себя владыкой и нагайку носил с собой, как нательный крест. За гнусность его дважды подкалывали ножами, но, и сильно раненный, он все-таки выживал. Прошлой весной его кинули в вешнюю воду Иса с камнем на шее. Однако он выплыл, вовремя порвав веревку. Избежав смерти, любил тем похвастаться на народе, намекая, что его спас бог. Мстя неведомым врагам, Стратоныч прошлым летом полосовал нагайкой всех, кто попадался на глаза, и утихомирился только тогда, когда испугался ответа за смерть женщины, запоротой им. Ему недешево стоило откупиться от суда…
Гости досыта наелись вкусных пирогов. Выпивка сильнее всего одурманила Стратоныча и Тихвинцева, а Тихон, хотя и пил не меньше, был, как говорится, ни в одном глазу. Дарья убрала посуду с объедками и поставила на стол самовар. Она разлила по стаканам чай и, приметив подмиг Стратоныча, ушла в другую горницу.
За чаем Тихвинцев стал похваляться былой удалью, вспоминая, как дурачил купцов. Стратоныч и Тихон от души посмеялись над его рассказами, но смех нагнал на Стратоныча хмурость, и, оглядев гостей, он махнул рукой, резко выкрикнул:
— Будет смехом тешиться! Серьез для вас ношу в разуме. Как понимаете, зачем это позвал вас на пироги?
— Так и понимаем, что воскресный день, — ответил Тихвинцев.
— Нет, Григорий Палыч, для сего завелась у меня другая важная причина. Праздновал, вспрыскивал с вами мою скорую вольность. Бежит ко мне вольность, прописанная на бумаге, от нашего барина из самой Белокаменной.
Раскуривая трубку, Тихон оборвал речь Стратоныча:
— Яснее и покороче сказывай.
— Можно. Слушайте. Весть мне барин по осени подал. Не воротится больше в Екатеринбург. Вдоволь я нагреб ему золота в карманы. Он теперича… тю-тю… Продал барин прииски. Все до единого продал, а мне за верную службу вольность дал.
— Кому продал? — нетерпеливо спросил Тихвинцев.
— Какой прыткий. Так я тебе сразу и скажу. Погоди. Объявится новый хозяин, тогда узнаешь.
— Годить мы не станем. Знаем, кто купил, — прищурившись, безразлично сказал Тихон.
— Хвастаешь? Ничегошеньки-то ты не знаешь про тех, кто купил. Скажу только вам, что промыслы теперича не в православных руках.
— Турки, что ли, купили? — засмеялся Тихвинцев.
— Турки не турки, а вроде их. Да, теперича поживу, а глядишь, годков через пяток сам стану барином.
— Высоко лезешь, не оборвись с гнилого сучка вниз башкой.
— Не беспокойся, Тихон. Новых хозяев так околпачу, что молитвы запоют. Под орех их отфугую.
— Да кто они? — снова настойчиво допытывался Тихвинцев.
— Как кто? Иноземцы.
— Иноземцы?
— У, лысый дьявол, изловил-таки меня на слове. Смотрите у меня оба. Никому ни слова про такое. Коли что — зашибу.
— Обоих зашибешь? — усмехнулся Тихон.
Совсем охмелевший Стратоныч, уставившись на Тихона удивленным взглядом, громко захохотал:
— Господь с тобой, Тихон Петрович, тебя не трону. Одурю иноземцев дураков и стану на промыслах хозяином. Ты мне помоги, Тихон, их округ пальца окрутить. Поможешь?
Тихон стукнул по столу кулаком, отчего его стакан с недопитым чаем опрокинулся и залил чаем скатерть. Вышел из-за стола.
— На кого осерчал, Тихон Петрович? — спросил Стратоныч.
— Всей душой осерчал, что твой барин иноземцам в руки эдакое богатство отдал. Подумать страшно, что деется. Иноземцев к золоту допускают. Раньше от руды отшугивали, а теперь иноземцев кто станет отшугивать от золота и платины?
— А царь на что? — многозначительно спросил Тихвинцев и в ответ услышал хохот Стратоныча:
— Уморил… Царь. Ему нужно наше золото, платина, а зачем знать, кто их намывает.
— Погоди, погоди. Тише про такое, Стратоныч. Упаси Господь, — покраснев от испуга, прошептал Тихвинцев и погрозил смотрителю пальцем.
— Не желаю молчать! Вольный теперича! Хочу в полный голос разговаривать. Будет молчать! Вдоволь напрыгался осередь вас в крепостном хомуте. Понатер себе мозоли.
— От нагайки они у тебя на руках. Хлестал народ.
— Хлестал, а теперича стану для народу святым. Потому вольным
— В наших лесах поговорка водится, будто у серого волка лютость от воли заводится, — усмехнулся Тихон.
— Про что намекаешь?
— Понятней скажу. Кем родился, тем и ноги в гробу протянешь.
— Не веришь, что характер наизнанку выверну?
— Вестимо, не верю. Характер у человека не портянка, от пота не отстирывается, — серьезно сказал Зырин.
— Вот это верно. Не стану характер менять. В страхе стану народишко держать. От страха из нашего народа в труде чудеса объявляются.
— Сволочь ты после таких слов.
— За что обзываешь, Тихон Петрович? Тебе теперича со мной дружить надо, а не ссориться. Ишь как злюще на меня смотришь! Ладно, не стану больше плохо про людей говорить. Не любишь, когда их даже словом поносят.
За окнами раздался веселый трезвон колокольцев.
— Кто-то подкатил к твоим воротам. Может, вольность привезли, — сказал Тихон.
— Не смей надо мной насмехаться!
Во дворе залаяли собаки.
— Кажись, в самом деле кто-то пожаловал.
Встав из-за стола, Стратоныч, сильно покачиваясь, подошел к окну с промерзшими стеклами:
— Не видать ни черта. Дарья!
— Чего надо? — спросила Дарья, выйдя из другой горницы.
— Ступай за ворота и погляди, кого черти принесли не вовремя.
Дарья вышла в сени, но через минуту вернулась в избу, широко
распахнула дверь с поклонами и засыпала скороговоркой:
— Милости просим, матушка-барыня. Ниже клони голову. Дверь у нас низко прорублена.
В избу вошла и выпрямилась высокая, статная женщина, и все узнали Василису Мокеевну Карнаухову.
— Затворяй дверь, молодуха, не студи избу, — сказала Карнаухова и, прищурившись, осмотрела стоящих перед ней мужиков.
Ее усталое лицо в морщинах. В колючих глазах властная суровость. Нос с горбинкой. Одета в бархатную ротонду на собольем меху. На голове капор из лисьего меха. На руках меховые варежки. В левой руке посох черного дерева, до половины окованный золотом с вставками из самоцветов. Карнаухова сняла варежку с правой руки, перекрестилась на иконы и, не увидев огонька в лампадке, насупилась:
— Без огня перед образами живешь, Стратоныч?
Дарья, закланявшись, виновато сказала:
— Погасла лампадка. Сама утрось возжигала. Масло у нас ноне не больно доброе.
Все еще стоя у порога, Карнаухова не сводила глаз с мужиков.
— Христос вам навстречу, знакомцы. Онемели от нежданной встречи со мной?
Стратоныч растерянно подошел к ней и ткнулся губами в ее руку.
— Милости прошу, Василиса Мокеевна. В эдакую погоду не бережешь себя. Стужа, метель, ветер. А ты на тройке. Да разве можно?
— Не печалься. Поживу еще на белом свете.
— Может, чайку откушаете с пути? Гостья для меня во всякую пору желанная.
Карнаухова не спускала глаз с Тихона, и ее взгляд подобрел.
— Вот где, Петрович, нынче берложишь? Сыската тебя. Давненько мне глаз не казал.
— Не люблю, Василиса Мокеевна, по пустякам своей особой людей тревожить.
— За поданную с осени весть говорю тебе спасибо. С поклоном благодарю тебя.
— Как здравствуешь, матушка?
— Об этом, по правде сказать, сама ладом не знаю. Умаялась в столицах, а домой подалась, так вовсе кости в себе перемешала.
Карнаухова перевела взгляд на Тихвинцева и улыбнулась:
— Да неужли это ты, Гриша Одуванчик?
— Он самый, матушка.
— Эх, мужичок, мужичок, а еще вятского роду. Облез вовсе, как баран по весне. Голову будто кипятком ошпарили.
— Облысел малость.
— Какое малость! Начисто лысый. Жив, стало быть? Прыгаешь?
— Живой. Только прыгать вроде отпрыгался.
— Рада с вами встретиться. Домой катила отлеживаться, да и решила по пути к Стратонычу наведаться.
— Осчастливила ты меня.
— А ты, Тихон, будто ростом мене стал. Спина, видать, согнулась. Молодуха, прими ротонду. Все плечи оттянула.
Карнаухова скинула ротонду, но ее вместо Дарьи подхватил Тихон. Карнаухова подошла к печке; потрогав ее рукой, села возле нее на приступок.
— Так вот, Стратоныч, Христос тебе навстречу, навестила тебя не гостьей, а твоей новой хозяйкой.
Стратоныч, дернув головой, перекрестился.
— Правильно! Крестись!
— Поверить страшно!
— Страшно не страшно, а верить придется. Дворянина Шумилова прииски платиновые на Силимке, да на Талой со всеми живыми и мертвыми, с тобой в придачу, теперь мои. Выпивали с какой радости?
— За будущую вольную смотрителя откушали винцо, — ответил Тихвинцев.
— Слышала об этом от дворянина Шумилова. Хотел он тебе волю дать, да я его отговорила. Обузданный, ты вконец залягал народ, а без крепостной узды всех раньше срока в гроб загонишь.
— А иноземцы-то как же?
— Они остались ни при чем. Лезли к платиновому богатству, а я им дорожку переступила. Рановато еще иноземцам вплотную к нашему золоту и платине подступать. В их лапы прииски не отдала. При них тебе, Стратоныч, зажилось бы неплохо. Напихал бы в карманы платины. Со мной тебе туговато будет. Я старуха пронырливая. Дорогой думала о тебе. Надумала тебя с платины убрать.
— Не верь, матушка, людским наговорам.
— Не причитай. Тебе это не к лицу. Завтра поутру всю книжную писанину про прииски покажешь. За все подчистки ответишь. Постой. Ты лучше все это Тихону покажешь.
— Матушка!
— Помолчи! Через неделю явишься ко мне в город со всеми манатками. В каменоломни поставлю тебя, за мрамором доглядывать. А тебя, Тихон, прошу заступить место правителя приисков. Будет тебе по свету мыкаться. Согласен?
— Как велишь.
— Спасибо за сговорчивость. Ну, кажись, все сказала. Прощайте. К руке, Стратоныч, не прикладывайся. В гроб лягу, тогда на радостях обе мои руки облобызаешь. Вести я тебе чернее сажи привезла, но на то и Карнаучиха, чтобы за богатствами Урала доглядывать. Жадная. Подумай только, Стратоныч, сколько свечек приисковый народ затеплит перед святыми, как узнает, что убрала тебя отсюда.
Карнаухова обернулась к Дарье:
— Люб, что ли, тебе Стратоныч?
— Пошто люб? Велел жить, вот и жила. Его сила была.
— Пойдешь с ним на мрамор?
— Мне все одно. Пока молода, мужики будут вязаться.
— Правильно говоришь. Знаешь, что дана нам, бабам, сила волку пасть зажимать при встрече с ним с глазу на глаз. Давай ротонду. Сразу домой тронусь. Бывайте здоровы, мужики, провожать меня не ходите. Дарья проводит.
Карнаухова и Дарья вышли из избы. Тихон, подойдя к столу, налил себе стакан чаю. Стратоныч, опустив голову, сел на лавку. Тихвинцев с удовольствием нюхал воздух:
— Какой аромат в избу напустила! Будто розы с ландышами расцвели. Чего приуныл, хозяин? Ишь, как расстроился, что даже хмель потом на лоб вылез.
Тихон, отпив чай, подошел к Стратонычу и хлопнул его по плечу:
— За угощение, хозяин, спасибо, а на это все-таки взгляни. — Тихон поднес к носу Стратоныча кукишку. — Ловко тебя Карнаучиха под свою власть подмяла. Да и подмяла-то вместе с волюшкой. Работенка теперь у тебя будет спокойная. Поглядывай, как народ из камня могильные плиты вытесывает. Станешь плохо присматривать, покойникам это не поглянется.
— Будет тебе над моим горем измываться.
В избу вернулась Дарья и, отряхивая с себя снег, сказала:
— Ну и оказия у нас в избе приключилась. Ждал Стратоныч волю с иноземцами, а прикатила Карнаучиха.
— Молчи, Дарья! — прикрикнул Стратоныч.
— Чего? — спросила Дарья и, подбоченившись, подошла к нему. — Смотри у меня! Шепотом зачинай со мной разговаривать. Отцарствовал. В ноги мне кланяйся, что согласилась с тобой на мрамор податься. Там обучу тебя по-иному по земле ступать. А сейчас ложись спать. Завтра надо тебе Тихону Петровичу со светлой башкой писанину книжную показывать.
— Да не лезь ты ко мне в такую минуту…
— Топай спать! Понял! Заморский петух с выдерганным хвостом, прости меня господи…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
Сплетни о пьяном бахвальстве Плеткина в гостях у Зарубина, порочащие честь Ксении Курнавиной, расползлись по Екатеринбургу и не миновали ушей всесильного в крае горного начальника — генерала Глинки.
Разузнав о причинах драки горного инженера Петра Хохликова с Плеткиным, грозный генерал, пресекая сплетни, принял самые суровые меры.
Глинка приказал Плеткину в течение суток покинуть пределы края сроком на два года, а горного инженера Хохликова уволил со службы в горном управлении.
Прослышав о приказе генерала, промышленный и купеческий город, как оглушенный громом, растерянно притих.
В защиту Плеткина все же вступились некоторые его приятели-промышленники, подали на имя генерала петицию о помиловании провинившегося, но в ответ получили свою петицию, разорванную на клочки.
Екатеринбург знал, что с генералом шутки плохи. Трезвые головы посоветовали защитникам Плеткина временно убраться из города, долой с глаз генерала. Они послушались совета и разъехались из Екатеринбурга в разные стороны, якобы по неотложным делам. Перетрусивший Плеткин выполнил приказ генерала без замедления и, покинув город, перебрался в Тобольскую губернию…
Генерал Глинка с первых дней воцарения на Урале зажил с промышленниками и купечеством не очень-то дружелюбно. Во всем крае чувствовалась власть генерала. Знали, что отменить наказание Плеткину бессилен даже пермский губернатор. Порядок, заведенный Глинкой в управлении краем, быстро свел на нет власть губернатора, она теперь простиралась из Перми только до границ реки Чусовой, оставляя весь край под единоличным владычеством главного горного начальника. Воцарившись на Урале, Глинка разом нарушил всю систему управления краем, заведенную его предшественниками, — порядок, когда вся власть главного горного начальника сводилась к разбору дрязг и споров в промышленном мире, да к исполнению прихотей миллионщиков и укрывательству их изворотов.
В крае знали, что только Василиса Карнаухова нашла в себе смелость вступить в спор с генералом и возразить против применений телесных наказаний, но и она не довела своего спора до конца, пошла на примирение с волей генерала.
Военное положение, введенное в стране при Николае Первом, поставило Глинку на Урале на особый уровень. Решительно воспользовавшись всеми полномочиями, он сосредоточил в своих руках власть военно-гражданскую, власть полицейскую, военных и секретных судов, создав этим сосредоточием потрясающий хаос беззакония, узаконенного законом.
Угодливое и хитрое чиновничество, безропотно подчинившись новшествам, проводило их в жизнь по своему усмотрению, разведя беспримерную волокиту, невиданное самоуправство, истязавшее население. Прикрываясь именем грозного генерала, чиновничество продолжало по старинке копаться в бытовых дрязгах, по-прежнему исполняло волю богатеев и еще более пристрастилось к взяточничеству. Около Глинки собралась стая алчных, вороватых высших чиновников, удобными для себя путями утверждавшая «генеральский правеж», дававший возможность и мелкому чиновничеству поживиться.
По-солдатски грубый, прямой, со своим понятием о справедливости, Глинка, упоенный диктаторской властью, рассчитывал на то, что страх перед ним позволит держать чиновников в руках; вначале он не допускал и мысли о корыстных «делишках» подчиненных. А когда заметил вороватость чиновников, то попытался поубавить зло, но так и не преуспел в этом.
Урал, как будто замиренный следствием графа Строганова по делу Григория Зотова и Петра Харитонова, в действительности не прекращал волноваться. То тут, то там вспыхивали волнения на промыслах, заводах и приисках. Народ не мирился с ошейником неволи, не было в нем и прежней покорности крепостного раба, и, хотя часто терял своих лучших вожаков и поверенных, держался теперь он стойко, мужественно, смело бросая вызов богатеям.
Нарастающая нехватка рабочих рук в крае усиливала стремление промышленников принудить к труду все еще вольный раскол, укрытый в лесах. Заводчики, пользуясь гонением на раскол, изыскивали новые пути, чтобы добывать рабочую силу. Но раскол отчаянно отстаивал неприкосновенность своей лесной судьбы.
Генерал Глинка жестоко подавлял волнения работных, но это не усмиряло их, а еще более разжигало страсти. Генералу нужен был тихий, покорный край.
Однако смиренства трудового народа генерал добиться не смог…
В мглистом морозном тумане январского вечера над Екатеринбургом всходила полная луна. Ее шар с пятнами, как давно не чищенный медный таз, поднялся над частоколами уктусских лесов.
В обширном кабинете генерала Глинки в горном управлении на плите яшмовой столешницы в двух канделябрах горели свечи. Высокие окна наглухо закрыты малиновыми портьерами. В простенке между окон большие часы, на их циферблате стрелки проходили последние минуты седьмого часа.
Посередине комнаты на персидском ковре стол в окружении позолоченных кресел с обивкой из муарового шелка. На стене в лепной тяжелой раме портрет императора во весь рост. Вдоль глухой стены расставлены шкафы с книгами и образцами горных пород. К столу от входной двери протянулась ковровая дорожка.
За столом восседал генерал Глинка. Его мундир был полурастегнут. Пухлые щеки с седыми бакенбардами нависали над краями твердого воротника. Перед ним в кресле, закинув нога на ногу, сидел заводчик Муромцев в сильно потертом гусарском доломане. Генерал принимал посетителей по вечерам.
Муромцев явился к генералу с запоздалым ходатайством о Плеткине. Заводчик, объяснив генералу причину своего появления, заметил, как лицо горного начальника от гнева покрылось красными пятнами.
— Удивлен! Премного удивлен, Владимир Аполлонович, увидев вас в облике заступника недостойного обитателя вверенного мне государем края. Поведение купца-промышленника… — Генерал сделал паузу, нахмурил кустистые брови и повторил: — Поведение купца не заслуживает того, чтобы дворянин империи просил об его помиловании. Властью, данной мне, он наказан справедливо и неоспоримо правильно. Приказ отменен быть не может. С прискорбием вынужден еще раз выразить удивление вашей просьбой за человека, позорящего славу Екатеринбурга. Его пьяное поведение и оскорбление женской чести уже давно вызывали мое негодование. Будучи справедлив и милостив, я до сего времени не наказывал Плеткина, полагая, что он поймет невежественность своих поступков и одумается. В городе, столь внешне привлекательном, не должно быть примеров недостойных отношений между имущими людьми. Пороку могут подражать низшие сословия. У меня достаточно власти, чтобы наконец остановить беспутство. И у меня есть намерение сделать это по всей строгости. Плеткин первый безнравственный сорняк, вырванный мною с корнем.
— Но почему именно его наказали так сурово, притом за такой пустяк?
— Вы называете его поступок пустяком?
— Грязное хвастовство, позорящее честь женщины, в вашем понятии дворянина является пустяком? Неужели вы настолько…
— Виноват.
— Прошу меня не перебивать. Да именно, настолько опростились и забыли, что такое честь женщины для дворянина.
— Ваше превосходительство…
— Не перебивайте меня. Когда всякие Плеткины… Когда заводчики, промышленники, купцы в стенах своих домов непристойно обращаются с женами, любовницами и дочерями, я вынужден находить в себе терпение сносить скрытое надругание над женщиной. Ибо если бы я поступал иначе, то в городе многие дома стояли бы пустыми. С этого дня все будет по-новому. Буду приказывать публично пороть всех, кто будет тиранствовать над женщинами. Пороть всех, несмотря на положение и звание.
— О дочери Карнауховой тоже говорилось за домашними закрытыми дверями.
— Верно. Но, несмотря на это, сказанное стало достоянием всего города.
— Сплетни по нашему городу ходят о каждом маленьком скандальчике. Город населен людьми с ничтожными жизненными интересами.
— В моем присутствии недопустимо говорить столь необдуманно. Купеческие сплетни еще могут меня не касаться. Но меня касаются все сплетни о дворянстве и чиновничестве. Честь Ксении Захаровны, волей судьбы ставшей дворянкой, будет защищена мной, несмотря на то, что вы, дворянин, осмеливаетесь передо мной защищать не ее, а грязного мерзавца. Инженер Хохликов, видимо, лучше вас понимает, что такое честь женщины и достоинство мужчины. Поймите, господин Муромцев, я хочу, чтобы дворянство в сем городе не плясало вприсядку в общем хороводе разночинцев на глазах у простого народа.
— Дворяне вынуждены жить здесь по пословице: с волками жить — по-волчьи выть. Нам самим приходится оберегать свои интересы, ибо ваша власть и ваша защита не всегда уберегают нас от бунтующей черни. Я обратился к вам о помиловании Плеткина во имя простой человечности.
— Господин Муромцев, не произносите слов о понятиях, не соответствующих вашим стремлениям. Позволю себе сказать прямо: вас заставило это сделать, конечно, не чувство сострадания.
— А что же?
— Думаю, собственная выгода. Ходатайствуя о Плеткине, в глазах купечества вы становитесь их защитником. Понимаю, вам нужно теперь заводить дружбу с купцами, чтобы они не мешали осуществлять ваши честолюбивые идеи.
— Какие такие идеи?
— Не вы ли мечтаете прибрать всю медь на Урале к своим рукам? Я все знаю, что вы делаете с помощью моего чиновничества. Я не трогаю вас. Щажу вас за заслуги перед отечеством.
— Так почему же мне не помогаете ради блага отечества создать для него медную промышленность? Почему не помогаете мне осуществлять это великое дело?
— Всемерно буду помогать вам развивать медную промышленность, столь нужную государству, но только после того, когда встанете на линию законности, иначе…
Генерал встал и прошелся по кабинету. Задержался около собеседника, заложил руки за спину.
— Иначе не обессудьте. Щадить вас перестану и поставлю императора в известность, что ваше пребывание в крае угрожает его спокойствию, что на ваших заводах творится много скверного, приносящего вред государству. Выкрадываете из скитов подростков, наворованных детей растите в лесах Таганая. Такого даже Акинфий Демидов не заводил у себя в Невьянске, хотя и имел Елупанов остров. Мне известно, сколько и кому вами заплачено за то, чтобы горное управление заставило Карнаухову продать земли с самородной медью. Вы пытаетесь действовать именем государя… Я многое знаю, и доносят мне ваши люди.
— Возводя на меня столь тяжкие обвинения, вы заставляете меня сугубо бдительно подумать о защите своей особы. Несмотря на все сказанное вами, также смею заверить, что с пути своего к достижению цели не сверну. Даже тогда не сверну, если он приведет меня к гибели. Бесстрашие мое закалено в битвах за отечество, оно не поколеблется здесь, на пути за обладание медью Урала.
— Похвально! Однако запомните сие: дела ваши против раскола сугубо предосудительны и затрудняют нам перевод их в единоверие. Ваши действия могут привести к тому, что на Урале укрепится фанатизм староверов, а он приведет к бунту раскольников. А посему приказываю вам помнить о вашем звании дворянина, жить во вверенном мне крае по законам империи. Выполняя волю и повеление императора, я облечен властью сохранять спокойствие на Каменном поясе — государства горного в империи Российской. А посему любому человеку, любого звания не позволю нарушать мою законность. Не позволю выказывать неподчинение моей власти, утверждающей в крае законы империи, благоденствующей под скипетром Николая Павловича!
— Разрешите беседу считать для себя законченной? — спросил Муромцев.
Генерал, словно бы не слыша вопроса, продолжал:
— Запомните, господин Муромцев, уральскому расколу нужно мученическое подвижничество. Он скоро постарается создать из вас антихриста, станет на этой почве объединяться, чтобы начать движение за неприкосновенность своей старой веры. Такой оборот дела недопустим. Мы закрываем их молельни, монастыри, предостаточно у нас волнений. Мне все равно, что произойдет с вами, но мне небезразлично, что произойдет в крае.
Генерал подошел к окну и, раскрыв портьеры, стоял в снопе лунного света.
— Имею честь кланяться, господин Муромцев. В будущем прошу вас просьбами малозначащими меня не беспокоить.
Муромцев без поклона вышел из кабинета…
В доме генерала Глинки в парадном зале звучала музыка.
На клавесине стоял канделябр с горящими свечами. Восемь огоньков, с лукавством лисьих глаз, старались спорить с темнотой, но силы их света хватало только на то, чтобы очертить у клавесина сухощавого старика да ослабить темень у глухой стены, увешанной картинами и портретами, среди которых выделялось живописное полотно в массивной золоченой раме.
На клавесине играл пермский губернатор… Он прибыл в Екатеринбург гостем Глинки на этот раз без обычного предупреждения и без подобающей его сану дорожной пышности.
Переступив порог дома горного начальника, гость, встретив сухой, официальный прием хозяина, догадался, что прибыл некстати, а поэтому оказался гостем не только нежданным, но и нежеланным. Однако это не очень-то огорчило его, ибо, будучи главой губернии, он мог рассчитывать на светски вежливое гостеприимство, да и не сомневался, что грубоватый генерал Глинка все же не осмелится быть неучтивым хозяином, особенно когда узнает, чем вызван внезапный январский визит губернатора в Екатеринбург…
И все-таки прошло уже четыре дня после приезда, а ему не удалось еще побеседовать с хозяином дома. То генерал был занят спешными, неотложными делами, то гостя навещали назойливые знатные просители, докучавшие сплетнями, наговорами друг на друга или жалобами на беспорядки в горном крае. От всего этого пермский губернатор давно отвык. От подобных забот избавил его самовластный Глинка, чему губернатор был весьма рад, и спокойно пребывая в Перми в почести, мог часто заниматься любимым делом — музыкой.
В первый же день губернатору стала ясна и причина неласкового приема. Генерала Глинку озадачил приезд высокого гостя в то время, когда в доме не было генеральши, укатившей на рождественские праздники в Санкт-Петербург. Генерал просто злился, что ему самому придется занимать гостя, вспоминая все необходимое для светского обхождения, а главное, быть подтянутым даже в домашней обстановке, ибо губернатор есть губернатор, к тому же его супруга располагает родственными связями с царствующим домом.
Отсутствие в доме хозяйки чрезвычайно огорчило и губернатора. Он был большим поклонником ее недюжинного ума, с ней он всегда находил темы для интересных бесед о загранице, о музыке и живописи. Он знал, что генеральша старательно и с пониманием коллекционировала изделия из уральских самоцветов, знал, что ее страстью было выискивание уникальных полотен живописи, завезенных на Урал его былыми хозяевами, а потому не был удивлен, узнав в новом большом живописном полотне, висевшем среди изрядного количества картин, кисть прославленного Рембрандта.
Он только поражался, как генеральша так ловко находила пути к тайникам сокровищ Демидовых, Яковлевых, Расторгуевых и извлекала немало редкостных по живописи холстов.
Конечно, для губернатора, как и для многих в Екатеринбурге, не было тайной, что генеральша умела обвораживать и располагать к себе нужных людей, но все же главным ее помощником в приобретении ценностей был страх, который испытывали заводчики и золотопромышленники Урала перед грозным ее супругом.
Губернатор тоже любил живопись, у него тоже была по-своему очаровательная жена. В их пермском доме и в орловском имении тоже были картины французских, итальянских и голландских мастеров, но разве они могли идти в сравнение с коллекциями, собранными госпожой Глинка в Екатеринбурге!..
Свечи на клавесине горят весело. Бегут легкие мысли губернатора. На свету добродушное с виду лицо сановного музыканта. Взгляд серых глаз прикрыт стеклами очков. Весь облик губернатора мало похож на сурового владыку губернии. Но его невозмутимо спокойная внешность слегка обленившегося помещика обманчива, в этом уже в губернии убедились многие. Он мог преображаться, менять обличье и неожиданно кричать на подвластных знатных горожан и чиновников, умел стучать кулаками на купцов, поносить бранью слуг, но не бил их, опасаясь, чтобы от чрезмерного волнения не остановилось его больное сердце. Чаще всего он напускал на себя спесивую важность, Подчеркивая всем своим видом, что является губернатором Уральской губернии, что его на этом посту утвердил всемилостивейший император.
В зале держалась прохлада. Губернатор накинул на плечи пуховую шаль, которой снабдила в дорогу заботливая супруга. Стыли от холодных клавишей пальцы. Мысленно он жалел, что не приказал слугам разжечь в зале камины. Стыли пальцы, а от этого в его исполнении любимой моцартовской мелодии нет чистоты звука. Подумал, что, может быть, прервать игру, завернуть руки в шаль, ощутить тепло в пальцах, а потом тепло разольется по рукам, дойдет до плеч…
Но он не в силах оторваться от клавишей и погасить минорную мелодию. Тем временем его слух уловил звон шпор в коридоре. Перестав играть, он обернулся к распахнутой двери, увидел в ней яркий свет от множества свечей, а в ореоле света силуэт генерала Глинки, за ним двух слуг с канделябрами в руках.
— За помеху приношу извинения! Узнал, что музицируете в студеном зале. — Сурово взглянув на слуг, генерал продолжал: — У моих олухов не хватило смекалки затопить камины. Немедля зажечь оба по-жаркому.
Слуги начали расторопно разжигать камины. Огонь в них ожил быстро.
— Ступайте.
Слуги с поклонами вышли из зала, бесшумно закрыв за собой тяжелые створы широкой двери.
— Как можно, ваше превосходительство, в ваши годы быть в холоде. Не бережете здоровье. — Генерал пытался говорить тихо и озабоченно. — Вы мой гость. О вашем благополучном пребывании у меня я в ответе перед милейшей Ксенией Митрофановной. Как ей можется?
— Благодарствую. По-прежнему досаждают мигрени.
— А моя Ирен совсем невовремя оставила меня в одиночестве. Я без нее в доме беспомощен, а тут вы, нежданный гость.
— Не извольте беспокоиться, генерал. Совсем по-домашнему чувствую себя.
— Какое там! Разве сумею подобающим образом принять. Как доехали?
— Без происшествий.
— Не советую вам ездить с малой охраной. На дорогах пошаливают, и на студеность нынешний январь тороват.
В зале заметно посветлело. От колонн, деливших его на две половины, легли на паркет и ковры косые расплывчатые тени. На окнах обозначилась роскошь парчовых занавесей. Заблестели зеркала. Хорошо освещены теперь картины.
Губернатор, подойдя к камину, протянул к огню руки, спросил:
— Давно ли в вашем доме объявилось сие замечательное творение кисти Рембрандта?
— Спрашиваете о той картине?
— Разве это Рембрандт? Впрочем, припоминаю, совершенно справедливо назвали художника. Ирен так же называла его. Картину привезли нам осенью из Нижнего Тагила. Она из коллекции Демидова. Подарок прислала для Ирен жена Павла Николаевича. Вы, конечно, знаете, что в прошлом году Павел Николаевич женился на петербургской красавице Авроре Карловне Шернваль?
— Как же, слышал.
— Вам нравится картина?
— Святой боже, да разве может не нравиться творение Рембрандта!
— Ирен, получив подарок, больше месяца жила с восклицаниями восторга. Но я в живописи профан. Этот Рембрандт меня не привлекает. Какая-то тусклость в красках. Люблю в красках озорную яркость. Прошу садиться, да поближе к огню.
— Пожалуй, я немного постою. Кровь в ногах не движется. Кроме того, беседуя, люблю бродить.
— Как угодно. Меня прошу извинить. Сяду. Ездил сегодня в Шарташскую слободу и поостыл. Солдат, но начинаю ощущать холод. Годы. Да и домашний уют, созданный моей Ирен, видимо, не на пользу солдатской закалке.
Глинка сел в кресло возле камина, вытянул ноги к огню, прикрыл глаза. Губернатор, взглянув на него, подумал, что он может задремать, и громко сказал:
— Сегодня в управлении меня посетил господин Муромцев.
— Мне доложили, — отозвался генерал, не открывая глаз. — Жаловался на меня?
— Жаловался, что не изволите понимать его стремления, не оказываете помощи в осуществлении их.
— Муромцев любит прикидываться казанской сиротой.
— Признаться, я не совсем понял, каковы его стремления, хотя он говорил о них очень пространно. Неужели надеется стать единоличным владельцем уральской меди?
— У Муромцева частенько появляются подобные мечтания. Очень неприятен. Недавно явился ко мне ходатаем за купеческого мерзавца. Я его выпроводил, так он посмел пригрозить, что пожалуется на меня его величеству. Видимо, теперь поразмыслив, решил поплакаться губернатору.
— Сделал это больше для самоуспокоения. Совсем напрасно являлся ко мне. Я полностью доверяю вам, полагаюсь на вашу мудрость и справедливость…
— Благодарю, ваше превосходительство. — Генерал открыл глаза; увидев перед собой губернатора, улыбнулся, встал: — Благодарю, ваше превосходительство, что доверяете мне править всем горнозаводским Уралом. Я не скрываю своих действий — ради благополучия империи частенько приходится превышать законы.
— Всегда готов поддержать вас. Край в надежных руках, слава богу, что в ваших, а не в чьих других. Летом побывал у меня граф Строганов. Высказал недовольство чрезмерной назойливостью Муромцева. Видимо, граф прав в таковом суждении, коли вы тоже о сем дворянине невысокого мнения.
— Мое мнение о всех заводчиках Урала давно сложилось. Есть среди них самодурствующие пакостники, и при этом трусы. Муромцев и Сухозанет среди подобных фигуры первостепенные. И это законное явление в крае. Корни самодурства заводчиков настолько глубоки, что искоренение его немыслимо. Уральские промышленники всех сословий барахтаются в путах страха перед ненавистью своих крепостных. Когда возникают громкие скандалы, я их без особого труда усмиряю. С ослушниками поступаю по велению совести, а она у меня неуступчива. Благо в империи после памятного декабря для непокорных обозначена тропинка в Сибирь. Но в крае появилась другая забота для верных слуг его величества. Появилось кое-что до сей поры совсем необычное…
Слушая генерала, гость задержал на собеседнике вопросительный взгляд.
— Говорю о сословии, кое в империи принято называть работным людом.
— Говорите о холопах? — уточнил губернатор.
— Нет, ваше превосходительство, я говорю о работном люде. Чаяниям работных людей подчиняются все холопы, кои крестятся двумя и тремя перстами. На приисках, рудниках и заводах среди работного люда завелась опасная для наших устоев смелость в их речах и деяниях. У иных смельчаков даже перед нашими чинами и мундирами хватает храбрости высказывать неудовольствия.
— Святый боже! Да как же так! Мне доносили, что в крае не так уж опасно, сравнительно покойно, будто только староверы по лесам бродяжат.
— У работного люда крепнет ненависть прежде всего к дворянству и ко всем, кто и в других сословиях держит в руках вожжи крепостного права. У работного люда заводится опасное бесстрашие перед штыком и кнутом. Они теперь не только жгут, но заливают шахты, рушат плотины прудов, остужают доменные печи, уничтожают на корню заводское производство. Видимо, вы уже наслышаны, как углежоги остудили домны на Новом заводе Муромцева, остановив работу завода по меньшей мере на год, нанесли владельцу тяжелый ущерб?
— Надеюсь, преступники схвачены?
— Нет, ваше превосходительство. Их ищут день и ночь по всему Уралу, но не находят даже следов. Я склонен думать, что ненависть работных людей находит себе покровителей и среди полиции, и среди горной стражи.
— Не густите ли вы краски? Разве возможно?
— Возможно! Ненависть работного люда просачивается всюду, как вода. Повторяю, наше счастье пока в том, что ненависть разрознена. Мы не можем забывать, ваше превосходительство, кыштымский бунт. Ведь тогда работный люд, если помните, бунтовал разом на многих заводах. А возмущение на Ревдинском заводе, принадлежащем наследникам Демидова… Медлить не подобает, ваше превосходительство! Негоже допускать преступный сговор работной черни. Не скрою, приходится выискивать новые способы. Жестокость уже недостаточна, ибо тотчас вызывает ответную жестокость заводского народа к своим хозяевам. Мы все, конечно, не задумываемся над тем, кто повинен в осмелении работного люда? Однако нам не хватает мужества сказать: мы сами частью виноваты, что после декабрьского бунта дворян на Сенатской площади позволили себе завести в разумах порочное сострадание к крепостной доле холопов.
Губернатор слушал, нервно потирая руки, затем вновь накинул на плечи шаль и сел в кресло, склонив в раздумье голову. Глинка, оглядев его понурый облик, спросил:
— Кажется, напугал вас на ночь глядя?
— Про страшное сказали. Я знаю, что в империи нет мира и благодати, но вы сказали, что у работных людей ненависть к государевым слугам. Все это нечто иное. Прискорбное.
Генерал искренне удивился:
— Неужели нынешнее состояние умов низшего сословия для вас новость? Вы же знаете, как холопы ненавидят господ. Ваше имение жгли крестьяне.
— Но это было раньше. Не скрою, слухи о сказанном вами до меня доходили. Но не верил им. Да и мог ли, будучи верноподданным, допускать мысль, что после декабрьского гнева монарха кто-то может в империи помышлять о новом бунтарстве! А оказывается, все мы не властны над чернью. Это слишком…
— Да, ваше превосходительство. К сожалению… В некотором роде.
В гостиной воцарилась тишина. Оба собеседника, не отрываясь, глядели на бушующее пламя, хищно пожиравшее березовые поленья в камине. Губернатор нарушил молчание:
— Вы, наверное, задаете себе вопрос: что заставило меня навестить Екатеринбург в лютую январскую стужу? Я прибыл к вам за советом. Меня требуют в столицу по личному приказу императора.
— Вас? В такое время?
— Да! Государь, как вы знаете, без важной причины никого к себе не требует. Он, несомненно, спросит меня обо всем, что творится в губернии, в том числе и на Каменном поясе.
— Вероятно, — озадаченно произнес Глинка.
— Что же я ему скажу? Я… недостаточно осведомлен.
— Может быть, государь просто захотел взглянуть на уральского губернатора. Или, по примеру брата, надумал побывать на Урале. Хотя… Оборони, Господь, нас, грешных, от… — Генерал кашлянул. — Нет, это маловероятно. Он со столицей расставаться не любит. Если вам действительно нужен мой совет… Что же… Конечно, пугать столицу ненавистью работных людей вы не станете. Не к чему это. Император любит слушать о смирении перед его волей, а вы о смирении Уральского края сможете рассказать. Однако постарайтесь похвалить полицию, это тоже будет ему приятно, а главное, поднимет вас в глазах Бенкендорфа. Нужно ли объяснять, что для нас с вами именно отношение Бенкендорфа не менее важно, чем самого государя? Не смотрите на меня так. Мы сейчас с вами наедине. Желаю вам счастливого пути в столицу в теплой кошеве. Поможет вам Господь не сробеть перед взглядом государя. Сегодня вы уже устали, поговорим завтра обо всем более подробно. Я кое-что подготовлю для вас…
Генерал замолчал, увидев, что седобородый лакей в малиновой ливрее распахнул широко створы двери, ступил в гостиную и с поклоном произнес:
— Ужин подан. Прошу к столу, ваше высокопревосходительство.
Глинка ободряюще улыбнулся губернатору:
— Ну что ж, не вредно и перекусить. Прошу, ваше превосходительство. Однако, чтобы не портить за столом аппетита, сообщу здесь неприятную новость. Смею надеяться, знаете, что опять в крае объявился…
— Этот бунтарь? Как его?..
— Холопы зовут его здесь Савватием из Каслей.
— Господи! Неужели что-то натворил?
— Пока нет. Притаился. Зима. Так вот, ваше превосходительство, по моему глубокому убеждению, Савватий может натворить небывалое.
— Новые бунты на заводах?
— Любые бунты можно усмирить. Нет, он может натворить поистине небывалое. Научить работный люд единению, а это… Вы понимаете, ваше превосходительство. Его необходимо изловить. Пока зима. Летом он неуязвим. И тогда — жди неприятностей. Поэтому обращаюсь к вам с просьбой: пока будете в столице, предоставьте в мое полное распоряжение всех, кто в губернии приставлен для того, чтобы искоренять крамолу… Пожалуйте к столу, ваше превосходительство.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
В тумане морозного утра над Екатеринбургом плыл медный гул колоколов. Яркое солнце золотило перины снегов, вспыхивали искры в курже на пушистых ветвях деревьев.
Белая тройка Василисы Карнауховой, заливчато гуторя веселым набором колокольцев и бубенцов, отныряв на ухабах тракта, лихо бежала по улицам Мельковки, снежная пыль, поднимаемая копытами коней, блестками искрилась под лучами солнца.
На последней ночевке Карнаухова увидела озадачивший ее сон, а поэтому решила в родном городе, не заезжая домой, прямо с дороги помолиться у обедни.
Кучер Наумыч, получив наказ от хозяйки, гнал коней по сугробным улицам слободы и осадил тройку перед оградой Екатерининского собора.
Скинув тулуп, Василиса Мокеевна, покряхтывая, вылезла из ковровой кошевы, велела Науму ехать домой и прибыть за ней в легких санках после обедни.
Не торопясь, по ступенькам она поднялась на паперть, сощурившись, пересчитала стоявших на ней нищих. К ней подбежала с причитаньями и поклонами хромая нищая и протянула руку. Карнаухова положила ей на ладонь серебрушки, сурово сказала:
— Смотри, Авдотья, не вздумай жадничать, а каждому из своей братии дай денежку.
Народ в соборе стоял густо. Среди молящихся преобладали женщины, выделялись разодетые купчихи. Появление Карнауховой вызвало среди них перешептывание. Раскланиваясь со знакомыми, исподволь наблюдая за присутствующими, Карнаухова догадалась, что они обсуждали ее наряд, особенно, почитай, модный лисий капор, купленный перед самым отъездом из Москвы…
Возвращение тройки без Василисы Мокеевны вызвало в доме переполох. Тарас Фирсович подробно расспросил кучера о самочувствии хозяйки в пути. Оставшись рассказом кучера довольным, он приказал без промедления затопить баню. Потом обошел комнаты и залы дома, проверив в них порядок, попутно надавал легких подзатыльников девицам-уборщицам и, одевшись в праздничную ливрею, поехал с Ксенией Захаровной встречать хозяйку от обедни.
Напившись чая после бани, Карнаухова ушла в опочивальню и позвала с собой Тараса Фирсовича.
Беседа со старым слугой затянулась часа на два. Камердинер без утайки подробно поведал обо всем, что произошло в городе и в доверенном ему доме, конечно, упомянул о молве про Ксению Захаровну. Карнаухова выслушала все внешне совершенно спокойно, но слуга понял, как глубоко взволновала старуху сплетня о дочери.
* * *
Ксения Захаровна, возвратившись с матерью из собора, провела весь день в своей комнате. Она была уверена, что Фирсович, как обычно, обо всем поставил мать в известность, и понимала, что ей не миновать неприятного разговора. В сумерки, устав от чтения, она прилегла на постель, невольно задумалась о себе. Ей снова стало мучительно стыдно, что из-за болтливости Плеткина стала предметом грязной молвы. Вспомнила, как нелепо началась короткая угарная связь с ним прошлой осенью без намека на какое-либо чувство. Влечение к Плеткину быстро прошло. Он настойчиво искал продолжения связи. Эго ее раздражало. Она нарочито разжигала его ревность, кокетничая с другими. Иной она быть не могла, не умела, а главное, не хотела. Требовала от всех забывать о том, о чем не имела охоты помнить сама.
Ксения о многом, многом передумала. Вспомнилось, как без ее согласия мать выдала замуж за столичного сановника. Подчинившись матери, не испытав любви, она стала женщиной в девятнадцать лет. Мать, выдавая Ксению замуж, объясняла ей причину поспешного решения тем, что давно искала родства с человеком, стоявшим около трона и державшим в своих руках судьбу Урала. Будущего мужа Ксения видела мельком два-три раза, когда он был в свите, сопровождавшей царя Александра Первого в поездке по Уралу. Она плохо рассмотрела его лицо, одно лишь знала, что ему было шестьдесят, а ей на исходе девятнадцать. Уже тогда у нее была ухоженная внешность, которую хорошо рассмотрел сановник. Она всегда боялась, что может стать женой какого-то купца, и, когда мать приняла решение выдать ее за сановника, она даже обрадовалась: ее прельстила возможность жить в столице.
Поклонники, наполнявшие ее дом, уже на второй год семейной жизни в Петербурге заставили старого мужа насторожиться. Муж знал нравы столицы. Он не заблуждался на сей счет и понимал, зачем молодые повесы толпились подле его молодой жены.
Между супругами все чаще возникали ссоры из-за поездок на балы. Ксения нашла спасение от опеки мужа. Она окружила себя поклонниками, от которых могло колебаться положение мужа, и он, сознавая это, обуздывал свою стариковскую ревность. То было время, когда Ксения еще не осмеливалась лгать супругу, а просто бездумно предавалась увеселениям света. Она смеялась, невинно кокетничала, упивалась блестящей мишурой беспечности.
Побывав с мужем за границей, Ксения вновь вернулась в Петербург и более смело начала ходить по дорожкам, по которым ходили, не всегда оставляя следы, первые красавицы столицы.
Бывая в салонах петербургской знати, Ксения, прислушавшись к светским разговорам, улавливала намеки на то, что тайное в жизни женщин в столице редко становится явным для общества. Шел год за годом. Ксения все более убеждалась, что жизнь дворян и купцов почти одинакова. Она видела в столице такое же стремление к славе, к богатству, роскоши и те же людские слабости, уже виденные ею в обществе уральских миллионщиков. Может, и была во всем лишь та разница, что петербургскую суету сопровождал не лесной шум, а смех, звон шпор и музыка.
Ксении потребовался небольшой срок, чтобы усвоить несложные заповеди светского общения. Она без труда научилась льстить всем, кто встречал ее улыбкой. И у нее появилось две жизни. Жизнь в доме мужа и жизнь в чужих домах. Вторая из них была для нее более интересной, так как в своем доме ее тяготила ревность старого мужа. Поклонение кружило ей голову. Легкомысленность толкнула ее на подражание, когда она уверилась, что виновники и виновницы действительно умеют хранить тайны. Атмосфера интимностей без всяких обязательств, отравляя сознание, приучила разум часто переступать порог уже изведанного ворованного счастья. Молодость Ксении продолжала цвести. В доме не звучали детские голоса. Ксения жила, как все окружавшие ее женщины, которым скучно в семейной обстановке. Так ее семейное бытие тянулось семь лет и неожиданно переменилось в один из зимних вечеров. Все случилось просто. Муж уехал в Москву. Вернулся домой без предупреждения, когда в ее спальне был любовник. Испуг мужа Ксении так был велик, что его сердце не выдержало. В столице никто не знал, что напугало старика на пороге спальни. Но его смерть не очень-то огорчила Ксению. Через два месяца под вуалью вдовы она вернулась в уральский родительский дом. Крупное состояние, независимость, дворянство поставило Ксению в первый ряд именитых людей Екатеринбурга. Она осознала, что здесь все более просто, цинично и примитивно, что мужчины не умеют хранить тайны того, что скрыто темнотой ночи или дверью, запертой на ключ.
Шесть лет, прожитых на Урале после смерти мужа, не заставили Ксению забыть столичную жизнь, но понудили быть к ней равнодушной, как к платью, не раз надетому. Даже призывные письма друзей не смогли ее соблазнить вернуться в Петербург из уральской глуши. Жизнь возле золота, около людей, вымывающих его из недр, привязывала все крепче Ксению к себе.
Скрипнула дверь. Очнувшись от воспоминаний, Ксения села на кровати. Увидела пришедшую мать.
— Неужли спала?
— Нет, матушка.
Ксения, встав с постели, зажгла свечу, оправила перед зеркалом помятое платье. Карнаухова прикрыла дверь, внимательным взглядом окинула дочь, а потом села в кресло подле круглого стола.
По тому, как мать вошла, тяжело опираясь на посох, как посмотрела, Ксения поняла, что предстоит тот неприятный разговор, которого она ожидала весь день.
— Исхудала-то как без меня. Дома, поди, только ночевала, да и ночь у тебя начиналась с первыми петухами? Правильно говорю?
— И так случалось, — тихо ответила Ксения.
— От этого и худоба, а она тебе не к лицу. Вот и стоишь к матери спиной. Будто не рада, что зашла после долгой разлуки. Никак, недовольна мной?
Ксения обернулась:
— Простите, матушка.
Смотрели друг на друга, не улыбаясь.
— Вот и хмуришься. Видать, какую вину за собой чувствуешь?
— Перед кем?
— Передо мной. Аль не виновата? Раньше храбрей была, признавалась.
— Ни в чем перед вами не виновата.
— А перед своей совестью?
— О чем вы, матушка?
Карнаухова, покачивая головой, пристально смотрела на дочь; та, не выдержав материнского взгляда, скрестив руки на груди, начала ходить по комнате.
— Молчишь?.. Тогда о другом тебя спрошу. Как тебе мой гостинец понравился? Примеряла кружевное платье?
— Неужли интерес к нарядам утеряла?
— Не успела… К каждому слову придираетесь.
— Кирюша посоветовал такое платье тебе купить. Сказал, что сестренка в нем будет принцессой. А тебе, видишь, недосуг даже примерить. Гложет тебя беспокойство.
— Успею примерить, мое ведь оно.
— Твое. Соскучилась по тебе, а ты неласковая.
— Сами этому не научили. В детстве прогоняли, когда с лаской подходила.
— Ершишься? Про давнее вспоминаешь? — почти шепотом сурово спросила Карнаухова и повысила голос: — Гляди, чтобы я не стала ершиться. Тоже умею. Пришла тебе спасибо сказать.
— За достойное поведение без меня.
— Узнали?..
— Как не узнать. Про дочь Карнаучихи сплюнул Плеткин дурную молву, а она и пошла бродить по всему городу, потом по всей губернии расползется. Начнет к карнауховской чести налипать, как деготь, бесчестие на воротах, оттого что любимая доченька хуже дворовой девки подолом виляет.
— Матушка!..
— Помолчи перед материнским голосом!
— Худая слава шла обо мне, да спотыкнулась.
— Помолчи, говорю! Спотыкнувшись, все же твой подол грязью забрызгала. Баба ты, и честь твоя — стеклянная. От нечаянного удара расколоться может.
Ксения шагнула к матери, резко спросила:
— Опять о карнауховской чести заволновались? Видимо, опять моя судьба понадобилась для карнауховской славы?
— Ксения, с матерью беседуешь, посему голос побереги!
— Не кричите на меня, матушка, не служанка!
— На служанок редко кричу, а с тобой сейчас не могу своим голосом говорить. Ты чего сотворила?
— Знаете… Может быть, моя неприятность планы ваши разрушила? Может быть, опять в столице по своему вкусу жениха присмотрели?
— О чем говоришь? — стукнув посохом об пол, Карнаухова хотела встать, опереться на посох, но не встала, положила посох на колени и гладила его рукой.
Ксения вздохнула:
— Понимать должны. Мне и без ваших наставлений тошно.
— А когда с Плеткиным миловалась, не было тошно?
— Не надо, матушка!
— Мать! Все вольна высказывать! Рано про честь стала позабывать. Что ласку испытала, в том не виню. Живая. Но отхлестать тебя готова до синяков, что с таким поганым мужиком. Сама молодой была. Сама губы о чужие обжигала. Но тебе простить не могу, как эдакому негодяю свои губы дозволила замарать. Спрашиваю и ответ услышать хочу.
— Не знаю…
— Ишь ты, какая несмышленая. А ты бы лучше, коли приспичило тебе блудить, то в столицу сгоняла. Там ты не больно приметная, а здесь у всех на виду — Карнаучихина дочь, да и люди здесь не по-столичному судят о таких бабьих поступках. Легко от материнского вопроса отмахнулась. Не знаешь?.. Так я тебе растолкую. Все оттого, что услады захотелось, а сердце не спросила. Пора понять, что сердце надо спрашивать, когда туман от мужского взгляда разум заволакивает. Без сердечного дозволения всегда будешь оступаться на тропе женской судьбы. Не дурой выросла, а правую руку с левой перепутала. Да сядь ты! Бродишь как неприкаянная! В глазах от тебя рябит!
Ксения, исподлобья взглянув на мать, не села, остановилась около кровати.
— Ишь как смотришь? Надеялась, что мать по головке погладит. Нет, голубушка, утешения от меня не дождешься! Ты знала, на что шла! Думать должна, кого к себе подпускаешь. Не о себе одной думать, а и обо мне, да и о том, что можешь оплошностью бабьей доброе карнауховское имя замарать. Не смеешь забывать, в каком гнезде родилась, и не всякому мужику дозволять до себя касаться. Стука сердца слушайся, Ксения, когда по ласке скучаешь. Одним разумом жить студено. Мороз в разуме. Сама разумом долго жила, да его холодом и тебе душу застудила. Зря думаешь, что во вдовьей сбруе легко жить. Пока молода, даже пыль на подоле будет людям приметна. Замаралась легко, а как станешь отмываться?
— Не беспокойтесь, отмоюсь.
— Ох, Ксения, бездумно слова кидаешь! Злишься на мать, что узнала про твой любовный ухаб, который надеялась скрыть. От меня разве скроешь? Чутьем угадываю любое поношение карнауховской чести. Не знала, что у тебя за пазухой ко мне злоба. Выказала ее, когда укорила, что тебя венцом с дворянином покрыла. Надо было мне так сделать. Понимаешь, надо было. Материнская у меня воля над тобой. Поступила правильно, потому твоей молодостью карнауховскую славу крепила. Не для себя в жизни богатство наживала, а для тебя с Кириллом. Да и не тебе меня осуждать.
Карнаухова встала, прошлась по комнате.
— Теперь про другое слушай. Злюсь и виню тебя за худое поведение, потому дорога мне. Любовь мою в тебе воплотила. Во взгляде твоем лазурь небес для моей памяти родила, чтобы до самой смерти не забыть той небесной лазури, под которой обрела твое зачатие.
Прикрыв глаза, Карнаухова пошла к двери. Ксении от слов матери сначала стало холодно, а потом радостно:
— Мамочка!
Карнаухова задержалась у двери и, обернувшись, спросила:
— Что скажешь?
Спазма сдавила дыхание Ксении. Она бросилась к матери, встала перед ней на колени, охватила руками ее ноги. Прижалась к ним. Готова была поведать, что недавно ездила к Сергею Ястребову. Сказать матери про ту ночь… Карнаухова услышала шепот дочери:
— Простите, матушка…
Карнаухова хотела погладить голову дочери, но задержала руку на весу:
— Встань, Ксения. И на коленях не заставишь меня сразу позабыть твою ошибку. Дай сперва отойти от обиды на тебя. Одинова на жизненном пути тебе ножку подставила. Сама находи свое бабье счастье, только про спрос сердца не позабудь. Главное — не заставляй мать краснеть на людях при упоминании твоего имени.
Метели с окружных полей намели сугробные снега на улицы города Камышлова, а избы на его окраинах оснежило по самые крыши, и они походили на курганы.
Приземистый сруб просторного дома купца-хлебника Никанора Порошина, окруженный высоким забором, примостился в городе в саду древних лип и черемух. Сад почти на полверсты вытянулся по кромке крутого берега речки Камышловки.
Светила ущербная луна, от ее света еще холоднее казалось безоблачное небо с ярко мерцающими звездами. Лунный свет серебрил парчу снегов. Лежали на земле резкие тени, а дом Порошина в их полосах представлялся опутанным толстыми канатами.
В хозяйской спальне, заставленной сундуками, комодами и зеркалами в тяжелых рамах, в красном углу перед множеством икон теплились огни в девяти лампадках. Возле окон из кадушек тянулись к потолку ветвистые фикусы. Одеяла на супружеской кровати разворошены, на помятой перине возле горки подушек спала, свернувшись в клубок, сытая черная кошка. На стене над постелью мотался медный маятник часов. Пол застлан половиками, по ним, тяжело ступая босыми ногами, опираясь на сучковатую трость, ходил Никанор Порошин.
На конторке — стопки книг, в серебряном подсвечнике, сильно мигая, оплывала свеча. Никанор в исподнем белье, накинув на плечи бобровую шубу, ходил по одной линии: от постели к конторке и возвращался обратно.
В горнице жарко, а Никанора даже в шубе трясло в ознобе от мыслей, поднявших его с постели. С утра, перемогая боль в пояснице, он весь день проверял торговые книги. В шестом часу вечера проводил жену в гости, собрался было поиграть в шашки со старшим приказчиком, но неожиданно появился в доме странник Осип, вернувшийся из Екатеринбурга. Он подробно описал Никанору убранство второго этажа в доме Карнауховой, рассказал до тонкости о виденных там портретах купеческой жены, Любавы.
Потеряв ясность мыслей от ревности, Никанор только через час отпустил Осипа на кухню. Оставшись один, испугавшись дум о неверности жены, долго метался по горнице в припадке злобы. Обессилев, обливаясь слезами, повалился на колени перед иконами и, крестясь, начал читать знакомые молитвы, а помолившись, сбросил с плеч шубу и улегся в постель. В жаркой перине он ворочался с боку на бок, вслушивался в шорохи пустого дома. Тревожные мысли никак не давали ему покоя. Где-то, совсем по соседству, завыла собака. Никанор встал с постели, опять забродил по горнице. Вести, принесенные Осипом, всполошили его не на шутку, а главное — они подтверждали дурные толки, слышанные им на ярмарке в Ирбите. А услышал он, что карнауховский сын сохнет по его жене. Никанору было известно, что Любава дружила с Карнауховой и с ее дочерью, но не допускал мысли, что этой дружбой она прикрывала тайную любовь к сыну миллионщицы.
Никанор с первых лет семейной жизни чувствовал, что жена ему неверна, но для своих подозрений никогда не находил доказательств, а поэтому сегодня был рад, что наконец-то ему как будто удалось отыскать доказательства. На их основании построит свое обвинение жены. Он начал утешать себя, что, уличив Любаву, запрет ее в доме и заставит подчиняться во всем мужниной воле. Но едва он возмечтал о жизни с покорной Любавой, как вдруг испугался, что она, уличенная им в неверности, убежит от него и он не сможет вернуть ее домой. Подумав об этом, Никанор с головы до пят покрылся испариной, готов был отказаться от задуманного плана, лишь бы только голос Любавы звучал в доме, и она позволяла греться около своей молодости.
Никанор, подойдя к часам, удивился, что наступил уже одиннадцатый час. Вздохнул, сокрушенно покачал головой.
Желая успокоиться, стал перебирать в памяти прошлое. Тридцать пять лет Никанор всеми правдами и неправдами наживал свое купеческое богатство и только на пятьдесят восьмом году от роду, после встречи с Любавой, задумался о семейной жизни. Любаву первый раз увидел в Тюмени на берегу Туры и разом потерял голову. Разузнав, что она дьяконская дочь, сирота-бесприданница, Никанор заслал сватов. Мать Любавы легко согласилась отдать за него дочь, уже встретившую свою двадцатую весну. Но их семейная жизнь не сложилась. Любава была в меру послушна, но сама никогда не проявляла ласки. В голову Никанора запала подозрительность и ревность, он начал пьянствовать и куролесить.
За девять лет, прожитых с Любавой, он испробовал все, чтобы подчинить себе своенравную жену. Раз даже пробовал ее побить, но в ответ жена так жестоко его избила, что он два месяца пролежал в постели. Пробовал Никанор задабривать жену подарками, деньгами и, не добившись желанного, терзался подозрениями и ревностью…
С улицы донесся перезвон колокольцев. Никанор остановился посередине спальни и прислушался. Перезвон все ближе и ближе. Бубенцы стихли у ворот. Никанор услышал мужской крик, женский визг, похолодел, когда заливчато рассмеялась Любава. Вот стукнула калитка. Скоро распахнулась и дверь спальни. На пороге остановилась Любава, взявшись руками за дверные косяки. Ее плюшевая ротонда в снегу.
— Ну до чего же я пристала. — Ленивым движением руки сдернула с головы шаль. Осмотрев мужа, она звонко расхохоталась: — Не спишь, Никанорушка? Полуношничаешь, меня, гуляку, поджидая?
— Чего хохочешь? Погляди на себя, вся в снегу вывалялась.
— И то правда. Снег не сало, в тепле живо водичкой сбежит. Дважды по пути на ухабах из кошевы вываливались. Весело! Ох, весело!
— Кто тебя подвез?
— Алешка Ласточкин.
— Зачем такому куроеду ночью себя доверяешь? Свои кони у нас не перевелись. Для тебя отдельного кучера держу.
— А я своих коней берегу. Мне кони для другого нужны. Нужны, чтобы от тебя, мучителя, на край света укатить. — Любава все еще стояла на пороге, слегка покачиваясь. — Дурной ты, Никанорушка. Ревнивец. Я с Алешкой не одна ехала. Попадья, отца Михаила, со мной была.
— Стало быть, это она поросенком визжала?
— Она. Алешка к ней с поцелуями лез. Пьяный он. Ноне у Трифоновых весело было. Народу набилось прямо впритирку. До упаду после ужина наплясались.
— Весело, говоришь? Веселилась? Мужа одного с горемычной тоской кинула? Меня, болящего, ради бесовского веселья покинула?
Любава скинула с плеч ротонду прямо на пол. Подошла к зеркалу, шурша шелком сарафана. Осмотрела себя. Высокая. Стройная. Глаза темные с поволокой. Открытый лоб. Упрямый подбородок. Нос с горбинкой. Стоя перед зеркалом, подумала: вот так же стояла у мраморной колонны в зале харитоновского дома, когда ее первый раз увидел Кирилл Карнаухов. Такой она приходила к нему на свиданья в карнауховскую березовую рощу.
Никанор зло смотрел на жену и, когда она, сделав шаг, пошатнулась, испуганно спросил:
— Ты никак опять вино пила?
— Угадал. С Романихой на пару по рюмкам прохаживались. Романиху вино под стол уложило, а я, как видишь, только пошатываюсь.
— Да что творишь, непутевая? Нельзя тебе пить. Позабыла наказ лекаря?
— Плевать мне на его наказ. Сама себе хозяйка, что хочу, то и делаю. Седни мне вина хотелось. Ух как хотелось! Вот и пила.
— Упаси бог! От вина у тебя младенца не будет.
В ответ на его слова Любава снова захохотала:
— Вот насмешил! — Но тотчас сощурила глаза и побледнела, перестала смеяться, зябко пошевелила плечами и с горечью выговорила шепотом: — Стану пить, не стану — все одно ребеночка у нас не будет. Ты, старый, тому виной.
— Не смей такого говорить. Бог милостив.
— Замолчи. Милостив он, да не к нам.
— Грех на бога роптать.
— У тебя все грех. Смеяться грешно. Жить грешно.
Любава обернулась к мужу и почувствовала его ощупывающий взгляд.
— Ишь, как уставился.
— Нельзя, что ли? Чать, муж тебе.
— Гляди. Взглядом меня к себе не подманишь.
Никанор подошел к жене, погладил ее по спине:
— Красивая ты седни. Моя. Ишь, какая у тебя спинка холеная.
— Поди ты к черту. Прямо тоска одолевает, когда вижу тебя в исподнем. Жарища в горнице, а ты в бобрах. Забирай свои шмотки с постели и топай спать в залу на диван.
— Не пойду.
— Сама туда пойду.
— И сама туда не пойдешь.
— Да ну? Не пустишь, поди? Силой богатырской дорогу мне заслонишь?
— Слово сейчас тебе такое скажу, от него разом у тебя пятки к полу прирастут.
— Не пужай на ночь глядя. Пужливая я. Сна лишусь.
— Как слово мое услышишь, ни за что не заснешь. Кончилась твоя власть над моей горемычной судьбой. Ты теперича у меня в кулаке. На замок тебя запру. Ноги мои лобызать заставлю. Конец для тебя настал. Не будешь боле осквернять мужнину честь.
— Нет, не сдурел. Ты вот от страху сдуреешь, когда правду про себя услышишь.
Любава, потянувшись, сладко зевнула:
— Говори. Только покороче, потому спать охота.
— Раскрыла мне правду про тебя старуха Карнаучиха. Доброго человека ко мне с весточкой послала. Собиралась ты ее сына к себе лаской да любовью прилепить. Патреты заставляла его с себя срисовывать. Скажешь, вру?
— Вон ты про что? Рисовал. Красота моя ему приглянулась.
— Да как ты осмелилась на такое, не получив от меня дозволения? Ты, чать, не царица, чтобы с тебя патреты срисовывать.
— Портреты, муженек, не только с цариц рисуют. Вот я — купчиха, а Кирилл Карнаухов сколько их с меня нарисовал!
— Знаю, почему срисовывал с тебя… эти самые… Знаю.
— Скажи. Только сперва хорошенько подумай, чтобы не ошибиться.
— Грех свой ими прикрывала.
— Думай, говорю, и всех слов с языка не спускай.
— Молчи, Любава. Ведешь разговор с законным супругом. Не позабывай про учтивость. Я теперича начну говорить с тобой полным голосом. Улики для меня эти патреты. Улики твоей супружеской неверности. Будет! Натерпелся от тебя обмана. Грешила? Не поверю, что без греха он с тебя патреты срисовывал.
— Плевать мне на то, веришь ты или не веришь.
— Вот как?
— Так. Командовать мной собрался?
— Да, голубушка. Своенравности твоей теперь пришел конец. Кайся мне перед образами…
Но Никанор не досказал фразы. Любава наотмашь ударила его по лицу, и он упал.
— Опять покаяния моего захотел? Понравилось, что однажды в церкви перед тобой сдуру каялась?
Потеряв с плеч бобровую шубу, Никанор, заслоняя рукой лицо, отполз к кровати и закричал:
— Не смей драться! Не бей хворого!
— Да замолчи, проклятый!..
Любава схватила Никанора за ворот рубахи и поставила на ноги. Губы его дрожали.
— Кто тебе весть о портретах принес? Правду говори, а то… Карнаучиха послала весть?
— Она, Любавушка.
— Думай, Никанор.
— Прости. Соврал сгоряча. Ревность мне разум застила. Сам узнал про патреты. Странника Осипа посылал про тебя разведывать к Карнауховым. Ихная кухарка водила Осипа по дому. За труды Осипу красненькую дал.
— Паскуда ты, Никанор.
— Позабудь про то, говорил из-за ревности.
— Этого тебе никогда не забуду. Завтра ноги моей здесь не будет. Не хочу с тобой жить, ежели мне не веришь.
— Верю, родимая… Чистая моя голубица. Сплетки людские мне ум путают. Прости старого дурака, что осмелился сомневаться в твоей верности.
— Не скули. Спать хочу. Не видишь — перепила малость.
— Ложись, голубушка, в постельку. Постельку сейчас поправлю.
— Не тронь. Поутру приведи ко мне этого Осипа, сама с ним поразговариваю.
— Как велишь.
— А теперь не вертись перед очами мелким бесом. Сбегай живо на кухню и принеси студеного кваса.
— Принесу, принесу, голубушка.
Никанор, забыв про боль в пояснице, торопливо вышел из горницы. Оставшись одна, Любава прошлась и остановилась перед иконами. Хотела перекреститься, но вместо этого закрыла лицо руками и спросила себя вслух:
— Господи! Неужели Кириллу не понадобится моя любовь?..
Стены в спальной комнате Василисы Карнауховой отделаны полтавским дубом. Высокие окна и двери наглухо занавешены синими бархатными гардинами, а напуски из пышных складок обшиты бахромой и перехвачены потемневшими серебряными шнурами. Ворс на бархате гардин местами вытерся, а может быть, плешинки на них появились от моли, но, несмотря на это, они совсем не потеряли своей пышной торжественности.
Около камина на медвежьей шкуре — кресло-качалка. Посредине комнаты круглый стол, на нем чернильный прибор, хрустальный подсвечник на четыре свечи. Вокруг стола диван и четыре кресла. У глухой стены — кровать резного ореха под бархатным балдахином. Возле кровати — туалет и круглое овальное зеркало в раме из слоновой кости.
Над свечами шевелились огненные цветки. В камине языки пламени облизывали сухие поленья. Дверь комнаты распахнута в темноту коридора, доносятся звуки музыки.
Василиса Карнаухова лежит на кровати, обложенная подушками. Страдает от приступа ревматизма, нажитого в мочажинах Урала и разворошенного в старческих ногах на ухабах зимних российских дорог.
В кресле, придвинутом к кровати, сидит старуха Анисья Степановна Ведеркина — управительница всех золотых промыслов Карнауховой. До того, как Анисья попала на Урал, она жила в селе под Москвой. В Отечественную войну потеряла мужа и сына, верховодила партизанами, помогала армии Кутузова истреблять врагов на лесных дорогах. За проявленную доблесть была освобождена от крепостного хомута. Встретившись с Василисой Карнауховой, пошла бродить с ней по уральской земле.
Двадцать третий год жила Анисья в Уральском крае, правила приисковым людом, на свой вкус обламывала любые характеры.
На промыслах Василисы Карнауховой работали мужики и женщины, но верх над мужиками держали женщины. Все смотрители на приисках — женщины, старшая над всеми — Анисья, по людскому прозвищу Самородные Сапожки. Дали ей это прозвище люди за то, что шагала на тропах Урала в сапогах, на голенищах которых нашиты узоры из мелких самородков. Обликом Анисья все еще видная, хотя волосы ее седые и лицо заштриховано морщинами.
С середины февраля Анисья почувствовала в дуновениях ветра одной ей понятные запахи идущей весны. Она приехала в Екатеринбург в гости к хозяйке, чтобы, не торопясь, за обедами и чаепитиями обсудить с ней, как начинать новый год на золотом деле. Вышагав в главные доверенные, Анисья уже давно имела свою копейку на старость, давно могла сама, намывая золото, жить хозяйкой. Но дружба с Василисой Карнауховой не позволяла покинуть госпожу, которая с первых дней одиночества Анисьи относилась к ней по-родственному.
Богатство Карнауховой Анисья считала своим богатством, так как собственными глазами видела, что ее имя не на последнем месте в завещании хозяйки.
Порядок на промыслах Анисья установила железный. Когда кто-нибудь пробовал жить не по ее порядку, кулак Анисьи тотчас вразумлял виновного.
Ее плеть плясала камаринскую даже на спинах чужих приказчиков. Характер Анисьи однажды узнал и «кыштымский волк» — Гришка Зотов. За недоброе слово о Карнауховой Анисья вытащила его из-за свадебного стола и скинула с крыльца в крапиву. А всесильный Зотов даже голоса не подал из зарослей жгучей травы.
У Анисьи был свой закон: для нее не было виноватой женщины, она считала, что в женском сердце и уме без мужской обиды и обмана ничто темное и недоброе гнезда не свивает. За этот закон мужики ее не любили…
Неспешно текла беседа двух женщин.
— Как видишь, Степановна, задумала дело немаленькое. Порешила не подпускать иноземцев к золоту и платине, — проговорила Карнаухова.
— Это понятно. Только дозволь сказать.
— От всех иноземцев не убережешься. Ты станешь не допускать, а другие хозяева за ручку их за собой к золоту приведут.
— Для меня главное — к жирным пескам не допускать. Сама знаешь, какие исовские прииски. Какое там богатство схоронено, одному богу ведомо. Нелегко мне удалось их прибрать. Питерские сановники, когда торг с Шумиловым вела, сколько мне палок в колеса совали, но, как видишь, все переломила. Теперь исовские пески с платиной мои. Власть над платиной впервые за всю жизнь в мужские руки отдала.
— Чего сказала? — удивленно спросила Анисья, не поверив своим ушам. — Кому доверила?
— Тихону Зырину.
— Ух ты! Да как уговорила вольного волка от лесу отказаться?
— Не верится? По правде сказать, у самой дух перехватило, когда Тихон согласие дал. Состарился, вот и решил тихонько жить. Для нас с тобой платина — дело новое, темное. А Тихон, кажись, в ней смыслит, ну а если чего и не знает, то додумается. Людей туда перегонять не стану. Но одного мужика оттуда к тебе все же перекину.
— Говори. Удивляй одним разом.
— Смотрителя Стратоныча.
— Слыхивала про него, — нехотя произнесла Анисья.
— Брови не хмурь. Сучкастый мужик. Приглядывать за ним тебе придется в оба глаза, потому до нашего брата, женщин, как лиса до курятины охоч. Водится за ним главное зло: деньгу любит, а наживать ее норовит вороватостью. Старым хозяином так приучен.
— Куда его перекинешь?
— Смотрителем на мраморные каменоломни.
— А Серега Ястребов чем тебе не угодил, что хочешь парня обидеть?
— Упаси бог. В мыслях такого не имею, чтобы Серегу обижать. Надумали мы с Ксенией его мастером сделать. Понимай. Чтобы он, кроме ваятельного дела, ничем другим не занимался. Сереге надо в его таланте волю дать.
— Поняла. По-ладному надумали. Парень обрадуется. Не по сердцу ему в приказчиках ходить. Характер у него восковой. Всякий плут норовит его обойти, а он по доброте на своих плечах немало чужой работы выносит. О Сереге-то наверняка Ксюша надумала, а ты только поддакнула?
— Угадала. В таланте Сереги Ксюша души не чает.
— Что и говорить. Надумали дельное. Но мне охота знать: кумекает ли Стратоныч в мраморе?
— Научишь. Одно знаю, что порядок на каменоломнях будет. Но посматривай за тем, чтобы он по-шибкому на людей зубы не скалил: забить человека — ума не надо, а вот чтобы прибыток от него заиметь, помыслить должно. Так ты за ним доглядывай.
— Одного догляда мало. Взглядом ему зубы не притупишь.
— А о другом, матушка, не мне тебя учить. Зачешется у тебя кулак — и на спине Стратоныча его почешешь.
— Тоже верно.
— А вот личико твое, Степановна, мне ноне не глянется. Какой тебя по осени повидала, такой ты и осталась. Видать, волосы чаще мыть стала, потому примечаю, будто в них седины больше завелось.
— А уж на тебя, хозяюшка, прямо и глядеть тошно. Ну что это такое: подругу принимаешь, лежа в постели? Глаза твои все пуще от лазури отцветают. Воробьиные лапки возле них развела. Неужли в зеркале морщинки не углядываешь?
— Старею, Анисьюшка. С горки скатываюсь.
— Эку новость сказала. Не поддавайся старости. Из разума лишние беспокойные думы прогоняй. Пусть их заместо тебя Ксюша в своем уме таскает.
— А какие у меня лишние думы? Примечаю, что Ксюша возле золота старается моим шагом шагать, но, притомляясь, мельчит шаг, да и по сторонам лишку оглядывается. Тебе ли, Степановна, говорить, что пугливость возле золота — самое плохое и гиблое дело. От страху кулак не туго сжимается, золото сквозь пальцы просыпается.
— Я что-то в Ксюше пугливости не примечала. Но другое приметила. Пора ей сердце любовью занозить, да такую занозу в него вогнать, чтобы из глаз слезы брызнули. Она по-столичному любовь заводит. А любовь нашу бабью надо в сердце гнездить.
— Ловко высказала. По-правильному говорить можешь, а сама почему себя любовью не тешишь?
— Я ее под Москвой сожгла. Свое тепло любви за один раз мужу и сыну отдала. Здесь во мне сердце стучит, чтобы тело в гроб не легло. Последним моим сердечным теплом дружбу нашу угреваю.
Встретились взглядами две подруги и прикрыли глаза. Раздумались. Каждая о своем.
Но вот Анисья громко кашлянула и проворно встала на ноги. Вытерла глаза кулаком, отошла к камину.
— Состарились мы с тобой, Василиса Мокеевна. От погляда друг на дружку мокреть в глазах разводим. — Заложив руки за спину, Анисья прошлась по комнате, прислушалась к музыке. — Экое уменье у немца эдакую трогательную музыку выигрывать. Вчера ее слушала, и казалось мне, будто в лодке по тихой заводи плаваю. — Походив, Анисья остановилась у кровати, пригладила руками волосы. — Все забываю спросить, как в городе люди взглянули на то, что иноземца заместо платины кукишем угостила?
— Многим это не поглянулось. Особо тем, кто около себя таких компаньонов заводит. Седой Гусар злобой исходит. Сказал, что из-за жадности в уральской земле богатства гнить заставляю. Не нравлюсь Гусару за то, что не отдаю ему медную руду.
— По пути к тебе тоже кое-что слыхала. Управитель Муромцева, тот усатый, Комаром еще народ кличет, про тебя так сказал: ваша хозяйка высоко занеслась, ведь государю такая заносчивость обязательно не понравится; государь велит всякого иноземца уважать. Выслушала его учтиво и ответ словесный выложила.
— Чего сказала?
— Сказала, что мы, русские люди, дельным иноземцам за науку седальные места в благодарность плетью не хлещем. Поим и кормим за пользу до отвала. Дозволяем им комодами отращивать пузо, деньгами задариваем, в шелка обряжаем. Сказала еще, что ворюг иноземных по зубам и рукам стукаем, потому иноземец ноне в край лезет вороватый. Не велела ему беспокоиться о твоей судьбе из-за того, что ты высоко занеслась. Сказала, что Карнаучиха куда залезет, оттуда не упадет. Насчет царских дум об иноземцах промолчала оттого, что с царем незнакома и ни разу с ним не беседовала.
— А как управитель ответ выслушал?
— Только и смог сказать, шевеля своими тараканьими усами, что я очень смело разговариваю, да еще о таком, о чем мне и думать непозволительно. Нет у него храбрости передо мной. Потому… — Анисья скосила глаза в угол комнаты.
— Чего замолчала?
— Замолчала. Не надо тебе про такое знать.
— Вон как? И то заметила, что ты какая-то молчаливая стала. Пятый день в доме живешь, а про приисковые дела ни гу-гу.
— А это с умыслом. Чтобы возле тебя подольше побыть. Расскажи все сразу, ты и скажешь, чтобы восвояси в Ксюшино убиралась. Мне возле тебя побыть охота. По паркетным горницам да по коврам вдоволь походить. Окромя всего, ты сейчас хворая, сказами беспокоить тебя нельзя. Брякну по привычке что не так, а ты разволнуешься. Дочь твоя сразу сказала, чтобы твой душевный покой ничем не тревожила.
— За Ксеньину спину не хоронись. Позову ее, живехонько тебя во вранье изобличу. С муромским управителем часто видаешься?
— Не забываем друг друга. Нельзя. Соседями стали. Он ноне один в Старом заводе зимует. Гусар больную жену в город перевез.
— Что про ее разум слыхала?
— Все такая же. Глядит на свет божий, а во взгляде лед. По осени ее дважды видала. Писаная красавица. Глянет, а у тебя ноги холодеют. Ну, стоит перед тобой бледная, точно живая покойница, и только. Гусар побаивается, чтобы в Старом заводе кержаки, со злобы на него, с ней чего не сотворили.
— Охота мне самой на нее поглядеть, — задумчиво произнесла Карнаухова.
— Есть на что глядеть. Будто сказка. Волосы золотистые, только вот заместо глаз — голубые льдинки.
— А нет ли, Степановна, какой другой причины, из-за которой Комар на Старом заводе зимует?
— А ты дошлая. Есть такая причина.
— Медь самородная в тамошних моих угодьях покоя его барину не дает! — раздраженно сказала Карнаухова.
— Об этом не тревожься: за медью у меня надзор крепкий. Из-за этого надзора подарочек даже тебе привезла.
— Какой подарочек?
— Придется, видать, рассказывать.
— А тебе неохота слово молвить.
— Неохота. Потому не дело хозяйку во всякие мелкие горные делишки впутывать. На то поставлена, чтобы без тебя для тебя добро выглядывать, — строго проговорила Анисья.
— Рассказывай, рассказывай! — поторапливала Карнаухова.
— Беспокойная ты, однако. Особливо с тяжестью у тебя характер, когда хворая. До всего тебе охота дознаться.
— Хворость у меня в ногах, а голова здоровая.
— Тебя не переспоришь. Ну слушай. С прошлого лета повелела за Комаром особый надзор держать. Как зачал на березах лист желтиться, он чуть не каждый день стал на твои промыслы наведываться и все норовит проезжать по тем дорогам, возле которых покоится медная руда.
— Чего ему надобно на моих промыслах?
— Татарочка у меня на них робит. Амине ее зовут. Понравилась она Комару. Подарки ей привозил. Она девка хват. Подмигами ему башку совсем задурила. Одним словом, стреляная девка.
— Откуда к тебе пришла?
— С хищниками на промыслы завернула, да так и прижилась. Одинова она меня упредила, что в то время, когда Комар будет на прииске возле нее тереться, его люди в горах станут пробу на медь брать.
— Ну?.. Да не тяни ты!
— Дай передохнуть, потому к интересному подхожу. — Анисья помедлила. Умостилась поудобнее в кресле. — Так вот. Перед приездом Комара я с мужиками в лес подалась. Комар явился на прииск, а я в лесах и застукала Комаровых людей на пробной вороватости. Привезла их на промысел, а самому Комару крепкими словцами панихидку отслужила. Так. Через неделю моя татарочка, по моему наказу, подалась жить в Старый завод. Вскорости она опять мне весточку дельную подала. В жар меня от этой весточки кинуло. Не поверишь, такая дельная девка оказалась.
— Все? Аль нет? — нетерпеливо сказала Карнаухова.
— Что ты! Послушай! — зачастила Анисья. — Зимушка накатила. На промыслах ноне снега глубоченные. Столь снегу навалило, что на три зимы бы хватило. Жила я в Ксюшине преспокойненько, боками перину выглаживая. Как вдруг перед самыми Святками объявилась перед моими очами татарочка.
— Да не тяни из меня душу! — Карнаухова даже приподнялась на постели.
— Не торопи. — Анисья перевела дух. — Рассказала мне татарочка, что Комар с мужиками опять сбирается на наши угодья за медными пробами податься. Собрала своих работных. Самых дюжих. С каменоломен кое-кого взяла. По-справному объяснила людям, зачем они мне понадобились. И ушла с ними в лес на дозор. Неделю мы гостей караулили. И что думаешь? В одно метельное утречко уследили в лесах незваных воров. Крадутся они по лесу, а мы за ними. К вечеру дошли они до одного оврага и заночевали. Мы тоже на ночлег неподалеку от них зарылись. Тем местом оказался овражек возле кварцевых пригорков, что тянутся по правому берегу речки Монашенки. Скоротали ночку на дюжем морозе, а поутру к гостям наведались и увидали, что они в кварце ковыряются. Навалились на воров. Кто с чем. Мужики хорошо в драке погрелись. Крови большой, однако, не пустили. Комара связанным в Ксюшино привели. Разговор я с ним в холодной бане с глазу на глаз вела. Не поглядела на то, что он важный гусь, хорошо его кулаком по всем местам припечатала, да и заставила выложить из карманов обломки кварца с крапинами самородного золота.
Карнаухова от удивления села на кровати, забыв про боль, спустила ноги на пол.
— Жильное золото?
— Да ты лежи спокойно. Куда бежать собралась? Давай, давай, ложись! Ну, до чего беспокойная стала!
Анисья уложила хозяйку, лукаво прищурившись, сказала:
— Не глядя на праздник, нарядила людей да с Серегой и подалась на то место, где воров застукала. Ты в то время от Уралу далеко была. Без твоего дозволения наковыряла из кварца золота осьмнадцать фунтиков.
Много его там, но жила в глубину ушла, и без шахты золота не взять. По весне добудем. А подарочек, золотишко, с собой привезла.
— И про такое до сего часа молчала?
— По пословице живу: молчание — золото…
— По загривку надо тебе за такое молчание надавать.
— Лупи. Загривок у меня ничего, твою руку выдержит. Поняла? Комар, по приказу Муромцева разведывая руду, напоролся на золото, хотел его сложить в свой кармашек.
— Как не понять. Муромцев передо мной мелким бесом метался. А как смекнул, что медной руды ему не продам, стал меня стращать, что царю на меня пожалуется. И до того меня обозлил, что я его из дому выгнала. Тебе на промыслах возле Старого завода надо быть начеку. Там у нас жирное золото. Боюсь, чтобы он пруд не спустил да как бы не смыл все наше хозяйство на промыслах. Плотина у пруда старая. По весне воды будет страсть, может, не сдюжит, а тогда — не приведи Господь…
— На такое дело Гусар не пойдет. Трусоват он. Плотина, конечно, старая. Но у меня на плотине сторож Гусара на хорошем откупе, вовремя весть подаст.
— О людях и скотине тревожусь. И так их немало калечится возле золота.
— А как без этого? В грязи золото лежит, а в ней даже в Екатеринбурге кони с телегами тонут. Гусар на такое самоуправство не пойдет. Про судьбу Зотова и Харитонова помнит.
— Нажила я, Анисья, богатство, а от него меня иной раз оторопь берет. Скупая пески промыслов, я с ними кое-что и другое прихватила. Да видишь — захотелось Муромцеву на меди Демидовым стать.
— Я об одном бога молю, чтобы Гусар генерала Глинку на твою медь не науськал. А тот ее в казну заберет.
— Генерала не боюсь. Он законник. Угодья с медной рудой по закону мои. Не хочу их продавать? Не хочу. Станет генерал напирать на меня, сама буду копать медную руду.
Анисья быстро поднялась с кресла, размашистыми шагами заходила по комнате, но к доносившейся музыке теперь не прислушивалась. Заговорила резко, неуступчиво:
— Нет, не станешь медь копать. В мой лоб упрешься. Не дозволю тебе. Баба я вовсе темная, а посему со всякой лесной нечистью дружбу водить должна. Все колдовские запреты нашего края знаю. Полоз дозволил Карнауховой Василисе золото из песков брать, и незачем ей на старости лет дружбу с Медной Хозяйкой заводить. Не пара она тебе.
После Анисьиных слов Карнаухова повела глазами на иконы, вздохнула и перекрестилась…
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1
В опочивальне Марии Львовны Харитоновой темно. Перед образами в большой серебряной лампаде судорожно помигивал совиный глазок огонька.
В огромной комнате — тяжелая дубовая мебель, вывезенная из Англии. Ее подарил Марии Львовне отец в день свадьбы. На каждом стуле и кресле цветная эмаль и выкованные из меди гербы древнего рыцарского рода. Средневековая мебель в комнате перемешалась с комодами и сундуками невьянского подела. Мраморные статуи греческих богинь расставлены по углам.
Мария Львовна, раскинув руки, спала на кровати.
В опочивальне три двери. У одной из них дремала тучная старуха в пестром сарафане. Она в дремоте то закидывала голову, то, наклонив ее вниз, клевала воздух крючковатым носом. Вторая дверь была полуоткрыта. В опочивальню доносился монотонный голос монашки, читающей стихиры. В соседней комнате-молельне третий год монахини молились о здоровье Петра Харитонова, болеющего в финляндской ссылке.
На кровати в ногах у спящей хозяйки лежала кошка сиамской породы. Бесшумно растворилась третья дверь, и в нее проползла худая женщина, впустив на секунду утренний свет во мрак комнаты. Вошедшая прикрыла за собой дверь, отвесила низкий поклон в сторону хозяйской кровати. Вытянув шею, осмотрела кровать и поняла, что хозяйка еще не проснулась. Женщина обернулась к дремавшей старухе. Метнулась к ней боком. Ткнула старуху кулаком в голову. Та ойкнула и вскочила, истово крестясь, но снова села, когда увидела перед глазами предупреждение — костлявый кулак первой доглядчицы за хозяйкой, кержачки из таватуйских скитов. Звали ее Анимаисой. Направляясь к кровати, Анимаиса нечаянно стукнула об пол каблучком.
Мария Львовна приоткрыла глаза; не разглядев со сна, кто перед ней стоит, позвала хриплым голосом:
— Анимаиса…
Сидевшая у двери старуха кинулась к кровати, но, увидев злобное раздражение Анимаисы, остановилась на половине пути.
— Здесь я, матушка-барыня, — пропела Анимаиса.
— Не разгляжу.
— Как послалось?
— Муторно мне. — Мария Львовна провела рукой по лбу.
— Бабушка Ираида, неси парного молока, — приказала Анимаиса.
Старуха, непрерывно кланяясь, вышла из комнаты. Мария
Львовна поманила пальцем Анимаису:
— Чего нахмурилась?
— Муторно вам, а мне горестно про то узнать.
— Давно пришла?
— Шестой раз наведалась.
— Заспалась я…
Харитонова приподняла голову, но, застонав, снова опустила ее на подушки.
— Головушка у меня тяжелей пудовой гири. Лишку вчерась коньяку напробовалась.
— Не бережете себя.
— Не берегу. Масленка на то и дана, чтобы всласть покушать. Ох уж эта масленка! — Мария Львовна глубоко вдохнула воздух и с шумом выдохнула. — В городе она ноне вовсе непутевая, сдурел народ. Сколько живу, а не упомню, чтобы Катеринбург так масленку праздновал.
— Пухнут богатеи от золота, вот и дуреют, — поддакнула Анимаиса.
— Господь с ними. Осуждать их не станем. Потому вчерась я тоже в компании с ними дурела.
Старуха вернулась с кринкой молока на серебряном подносе.
Анимаиса подала Харитоновой со столика хрустальный стакан, но Мария Львовна стала пить молоко прямо из кринки, белая струйка сбежала ей на грудь. Напившись, она поставила кринку на поднос и, вздыхая, легла.
— Еще станете кушать аль унести? — спросила старуха.
— Унеси, — ответила Харитонова.
Старуха, поклонившись, боязливо взглянула на Анимаису и ушла. Мария Львовна, лежа, потянулась:
— Ух ты! В животе от блинов тяжесть, будто кирпичей наклали.
Анимаиса умильно улыбнулась:
— Не печальтесь. Молочко блинную слипкость разведет, окромя того, вас травяным отваром попою.
— Чем хочешь отпаивай, только помоги мне к вечеру оправиться. У меня в доме нынче званый бал. Сам генерал быть обещался. Народу всякого, конечно, до лешего наберется. Все приползут, потому Седой Гусар обещался с женой явиться.
Анимаиса всплеснула руками:
— Быть того не может! Она ж у него полоумная.
— Может, ежели говорю. Это тебе, милая, не фунт изюму. Ее никто ране в глаза не видал, а вот Харитонова ее к себе в гости залучила. Шесть годков про нее разговор по краю.
— Да как же с полоумной-то решился на бал прибыть?
— Ко мне и с мертвой придут, ежели пальцем поманю. По крови я, чать, Расторгуева. Дочка Льва Расторгуева. А от имени моего батюшки, царство ему небесное, до сей поры эхо гремит по всему Хребту. Какой час-то?
— Одиннадцатый на исходе.
— Батюшки! А молчишь. Шли скорей Клашку волосы чесать. Погоди. Сперва помоги ладом подняться. Пусть сегодня меня в постели чешет.
Анимаиса, обхватив Харитонову, приподняла, удобно посадила в постели, обложив со всех сторон подушками.
— Пошла я, матушка-барыня?
Харитонова, прищурившись, осмотрела комнату. Улыбнулась, когда увидела, что на голову статуи греческой богини нахлобучена, как папаха, ее муфта из бобров. Задумалась об инженере Хохликове. Прикрыла глаза, вспомнив, что целовалась с ним в возке, когда тот провожал ее домой с бала, который давал управитель Верх-Исетского завода. Вскоре Анимаиса вернулась к Клашкой. Девушка, шмыгая носом, поклонилась хозяйке и тихо сказала:
— С добрым утречком.
Харитонова вздрогнула, потеряла нить воспоминаний, открыла глаза, сухо проговорила:
— Чеши лучше. Помни, что не на кобыле гриву чешешь. Волос не рви.
— Упаси бог…
— Упаси бог! Плохо он тебя пасет, ежели вчера целый пучок моих волос надрала.
— Секутся они у вас.
— Без тебя знаю. А ты легче с ними орудуй.
Девушка залезла на кровать. Начала приводить в порядок волосы хозяйки. Харитонова тут же потребовала:
— Покажи гребешок.
— Чистехонек. Ни единого волоска к нему не пристало.
— Покажи гребень!
Она выхватила из рук девушки гребень и осмотрела.
— Темень какая! Анимаиса, распахни шторы.
Опочивальню залили яркие солнечные лучи, донесся звон бубенцов с колокольцами.
— Неужли с утра катаются? — удивилась Харитонова.
— Да, всю ночь не переставали, — пояснила Анимаиса. — После блинов охота песни горланить. Слыхала, что за вчерашний день осьмнадцать душ на пруду подавили. Экое дело творит вино. Люди с лошадьми наперегонки гоняются. Прямо светопреставление.
Прислушиваясь к шуму улицы, Мария Львовна гладила спину кошки, а та, мурлыча, бодала ее обнаженную грудь.
— Ишь как отяжелела! Каких-то мне на этот раз котяток принесешь?
Анимаиса сердито сказала:
— Добрых не жди, матушка-барыня. Оженилась животная на сей раз с мурашкинским котом.
— А как он к нам попал?
— Исай перепутал. Велела ему от Муравиных кота достать, а он от горного инженера Мурашкина кота приволок.
— Стало быть, руду с золотом смешал. Какой масти кот?
— Кот неплохой. Рыжий, как огонь, прямо сатана огненная.
— А это неплохо. Может, котята редкой масти будут, — усмехнулась Харитонова.
— Ден через десяток увидим.
— Поглядим, что за котятки будут у Пушинки. Сестрица Катенька спит?
— Спит. Разбудить велите?
— Пусть почивает. Хуже моего вчера притомилась — плясала до упаду. Наскучалась в Кыштыме с ледащим муженьком. Эдакая женщина, а кому в жены досталась!
— Всякому своя судьба.
— Не судьба, а покойного батюшки воля. Он нам женихов высмотрел.
Девушка, закончив чесать волосы, распушила их по плечам хозяйки и спросила:
— Глянец велите розовым маслицем навести?
— Погоди, пусть отлежатся. Ступай. Как встану с постели, позову прическу ладить, тогда и наведешь глянец розовым маслом.
— Как велите.
Соскочив с постели, девушка ушла. Мария Львовна, задумавшись, перебирала волосы на плече.
— Совсем жиденькие стали. Прикрой дверь. Голос у монашки больно докучливый.
Анимаиса притворила дверь.
— Какой наряд велите к балу приготовить?
— В сиреневых кружевах седни гостям покажусь. Ксюшка Карнаухова тоже в кружевном явится, которое мать из Москвы приволокла.
— Баское, поди, платье из Москвы?
— Не видала. Всякое платье хорошо, ежели на красивую бабу надето. Вот и решила надеть кружева к кружевам. Пусть люди судят, на ком они лучше: на Ксюше или на Харитонихе. А теперь, Анимаиса, зачинай меня мять. Во всем теле у меня тяжелое окаменение.
— Мять вас седни не буду, потому в вас блины и винные пары, а вот плечики ваши да спинку ребрышками ладоней, как сечкой, порублю.
— Тебе виднее… Чуть не забыла. На руках у меня кожа шершавится. Перед вечером подогрей молока. В нем немного попарю. Горный инженер Хохликов плясать со мной будет. Понимай. Нельзя мне седни быть ни одним местом шершавой…
По всему харитоновскому дворцу разносится гул людских голосов. В парадном зале свет в хрустальных люстрах слепит глаза. Гости танцуют под два оркестра, но смех и говор заглушают по временам звуки музыки. Вдоль стен расставлены кресла, на них мамаши, тетки, бабушки — все смотрят да судачат по-громкому и шепотком. Во всех покоях большого дворца народ. Всюду звенят бокалы. На балу представлен весь золотопромышленный, горный, чиновный и торговый Екатеринбург. Уже второй час идет веселье, а кое-кто из гостей все еще не появляется, к огорчению хозяйки.
В промерзших окнах шевелятся отсветы горящих масляных плошек, костров, возле которых острословят, переругиваются и хохочут кучера гостей Марии Львовны…
В малахитовом зальце переполошились гости, когда в него вошли Василиса Мокеевна Карнаухова, Ксения Захаровна и Анисья Ведеркина. Мужчины, побросав своих дам, с учтивым поклоном подходили к руке Карнауховой.
Василиса Мокеевна, улыбаясь, медленно шла под руку с дочерью и Анисьей. Со всеми раскланивалась. Мамаши, забыв про дочек, уставились на новых гостей, едва они вошли в парадный зал. Харитонова и Карнаухова расцеловались. Василиса Мокеевна села на свободное кресло в самой гуще гостей, сказала хозяйке:
— У тебя сегодня, Маруся, хорошо.
— Радуюсь, что люди не забывают меня. Мне с ними легче горе мыкать. — Харитонова поднесла платок к глазам.
— Не надо, Маруся. Слезой глаза не мочи, а будь довольна, что гостям весело. Ступай к ним. Обо мне не заботься, не соскучусь. Знакомых полно.
Карнаухова, разглядев в толпе старуху Белобородову, крикнула ей:
— Как здравствуешь, Осиповна?
— Благодарствую, Василисушка. Ты-то как? Слыхала, будто после Москвы постель боками грела?
— И не говори. Ноги мои ревматизма корежила.
— А кто это с тобой, Василисушка?
— Да ты что? Анисью не признала?
— Батюшки! А я-то голову ломаю, кто это с тобой эдакой барыней седовласой в ряд вышагивает. Анисья! Иди ко мне. Взглянуть на тебя охота. Я вовсе слепая стала.
Анисья, протиснувшись между креслами, подошла к Белобородовой, они обнялись и расцеловались.
— И тебя, Степановна, старость догоняет, — качая головой, сказала Белобородова.
— Догоняет, Пелагея Осиповна. Я от нее, а она за мной. И в лесу от старости укрыться не могу.
— Садись подле меня. Поспрошаю тебя кой о чем…
Оркестры заиграли вальс. Ксения Захаровна, отстав от матери, очутилась в кольце молодых мужчин. Когда она закружилась в танце с Петром Хохликовым, гости начали шушукаться. Старуха Шуганова, наклонясь к рябой купчихе-рыбнице Шубиной, тряся головой, зашепелявила:
— Гляди, Дуняша, стыда у бабы нет. С кем пляшет-то!
— Кто пляшет? — переспросила Шубина.
— Ксюшка Карнаучиха!
— А он-то кто такой?
— Не знаешь, что ли?
— Ксюшку знаю, а его нет.
— Хохликов он. Слыхала поди, что с Плеткиным из-за Ксюшки у Зарубиных дрался.
— Про это слыхала. Какой же он? Не разгляжу ладом.
— А ты погоди. Скоро мимо нас закружатся.
— А я слыхала, что Харитониха на Хохликова зубы точит.
— И не удивляйся. Живая она. Думаешь, легко без мужа жизнь коротать? Парень с виду видный. Живем-то один раз. Гляди на Хохликова теперь ладом. К нам они выкруживаются…
В мраморном зальце тоже людно. В полутемном углу собралось несколько промышленников. Все изрядно навеселе. Высокий, словно на журавлиных ногах, вихрастый бородач Грудников, тыча пальцем в грудь сидящего с ним рядом лысого толстяка Муравина, выкрикивал:
— Говорю тебе, что на Хребет к золоту дворянский Гусар приполз!
— Даты что, мне не веришь? Глядите на него, православные. Верно говорю, Ростислав Фадеич?
— Значит, гнать этого Гусара в шею! — прорычал глухим басом Муравин.
— Тише ты! Ревешь, как медведь, на весь покой, — останавливал Ростислав Фадеич.
— Не пускать его к золоту! Наше оно! — продолжал рычать Муравин.
К промышленникам подошел грузный хромой старик Зарубин.
— А ты не больно пужайся за золото, Тихоныч. Пускай Гусар ссыплет денежки в песок. Не первый он и не последний. Завсегда помни, что на Поясу вымывать золото зачали купцы. Золото в дворянских карманах не держится.
— Все одно надо гнать! — мотая головой, ревел Муравин.
— Да чего ты затвердил одно и то же. Гнать да гнать! — осерчал Зарубин.
— Потому мне жалко золота, — всхлипнул Муравин. — Чего к нему чужаки лезут? Наши деды его из божьих рук получили. Жалко мне золота. Слезы меня долят. Михей Гаврилыч, вытри мои слезы, потому платка в кармане нащупать не могу. Обронил где-то.
Дремавший в кресле Михей Гаврилович, не открывая глаз, отмахнулся от Муравина. Муравин опять что-то сказал, но его никто не слушал, ибо внимание всех привлекли к себе вошедшие Харитонова и Ксения Захаровна в окружении именитых людей города. Харитонова говорила, по-видимому, о чем-то забавном, так как Ксения заливалась смехом. Потом вся компания вошла в полумрак другого покоя, а Ксения возвратилась в парадный зал. Мария Львовна под руку с Хохликовым замедлили шаги и остановились у колонны, возле которой в фарфоровом вазоне стояла пальма.
— Мария Львовна, вы сегодня очаровательная, как эта пальма, — шепотом сказал Хохликов.
Харитонова громко воскликнула:
— Вы невозможны!..
— Фу, черт возьми, поспать не дадут! — раздался басовитый голос с кресла, стоящего рядом с ними.
— Мы вас не приметили, — сказала Харитонова.
— А я ваших секретов не слыхал.
— Кто это? Не разгляжу никак, — пыталась узнать сидевшего в кресле Харитонова.
— Как кто? Я, Марья Львовна, Степан Хомутин. С тоски, дорогая хозяюшка, вдоволь у тебя зелья всякого нахлебался. Вино меня здорово нагрело. Удавленника опять скоро будете хоронить.
— Бог с тобой, Степан Василия.
— Истину говорю. Хомутин вот-вот удавленником станет.
— Да будет тебе! Веселье кругом, а ты про такое речь заводишь. Как можно? Пойди лучше в трезвую горницу да сосни малость. Там служки тебе диванчик, а то и постельку укажут.
— Нет, Марья Львовна, сделай милость, послушай меня. Свою смерть нехристианскую чую. За долги Седой Гусар у меня медные рудники заберет. Коршун Гусар. Заклюет Хомутина.
Харитонова махнула рукой:
— Мне тоже должен, но я тебя обижать не собираюсь. Я женщина сердобольная. Начнет тебя Гусар прижимать, вступлюсь и не дам ему твоей рудой завладеть. Не печалься, Степан Василия. Харитонова за твоей спиной. Мне ты больше должен?
— А посему считай, что руда до той поры будет твоя, пока сама не надумаю ее за долг отобрать. Нынче мне руды не надо. О петле думать брось. Помни, за тобой Харитонова стоит.
Рядом послышался шепот, она обернулась:
— Кто это к нам крадется?
— Я, повелительница. Недорезов Николай. От кого Хомутина заслоняете?
— От беды.
— Его нельзя спасти. Он в руках Гусара жертва вечерняя.
— Вот что, Николай Иваныч, вовремя ты подошел. Продай мне твои медные рудники.
— А на что они вам, моя повелительница? Неужли желаете Гусару ножку подставить?
— Продашь?
— Да они у меня в запустении.
— Беда поправима. Согласен?
— Подумать надо. Голова у меня сейчас тяжелая-тяжелая.
— Я тебя не тороплю. Думай. Мне надо только твое согласие на будущий разговор.
— Ладно. На все согласен. Бери мою медь. Потому все одно к ней Гусар лапу тянет.
— Спасибо. Господин Хохликов и Хомутин свидетели твоих слов, Николай Иваныч.
— И без свидетелей от сказанного не отопрусь. А вот ты, Степа, должок мне отдай. Деньги должен небольшие, но все равно деньги.
— Сколько он тебе должен? — спросила Харитонова.
— Ни копейки, Марья Львовна. Это его на испуг беру. Он всем должен, а потому и пужается. Обреченный человек. Приговор подпишет себе трусливостью. Дурак он. Не может понять, что мы его все обидеть Гусару не дадим, потому наш он. Нам он свой брат, а Гусар нам чужак.
В зальцу вошла Ксения Захаровна; увидев беседующих, подошла к ним:
— У вас секреты?
— От вас нет секретов, Ксения Захаровна. Хозяйка сейчас у меня медные рудники выторговала.
— Значит, окончательно согласны? — обрадовалась Харитонова.
— Согласен. Айда покупку обмывать.
— Обмывайте на доброе здоровье. Вина у меня хватит, а вот во мне для него места нету. Поглядите, какая бледная.
— Вам бледность к лицу, — вкрадчиво сказал Недорезов.
— Помилуйте меня, Николай Иваныч. Обмывайте без меня.
— Ладно, так и быть. Тогда заступайте ее место, Ксения Захаровна. Обучите меня по-столичному пить.
— Пойдемте. Только знайте, что на Урале у нас лучше пьют.
— Вот это женщина! — Недорезов взял Ксению под руку и вышел с ней.
Харитонова томно посмотрела на Хохликова:
— Нигде мы с вами, Петя, не можем найти укромного уголка. Но вы не печальтесь. В сердце моем вы уже нашли себе заветное местечко.
Бал продолжался.
В парадном зале сестра Харитоновой, Катерина Львовна Зотова, в паре с Григорием — сыном купца Чечёткина — отплясывала русскую огненно и вдохновенно. Гости, захваченные танцем, неистово хлопали в ладоши. И вдруг Катерина Львовна остановилась: она увидела в дверях Седого Гусара под руку с женой. По залу пронесся приглушенный гул удивления. Жена Муромцева была в голубом платье. Глаза у нее тоже голубые. Волосы золотыми прядями падали на плечи. Муромцев подвел жену к Карнауховой:
— Разрешите, Василиса Мокеевна, познакомить вас с моей супругой, Еленой Павловной.
Карнаухова, встав, слегка поклонилась ей, пожала протянутую холодную руку.
— Вот какая она у вас. Счастлива, голубушка, повидать вас.
Елена Павловна смотрела пристально на Карнаухову. По спине
Карнауховой от ее взгляда пробежали мурашки. В зал вошла Харитонова, увидев Муромцевых, махнула оркестрам рукой. Зазвучал вальс. Муромцев поклонился жене. Обнял стройный стан, закружился в вальсе. Ни одна пара больше не танцевала. Все наблюдали за Муромцевыми. Катерина Львовна подошла к сестре и сказала:
— Дыхание у меня захватило, как ее увидала.
— А я просто глаз от нее оторвать не могу. Смотри, живая, а взгляд как у покойницы. Слава богу, увидал Катеринбург жену Гусара. Красавица. Другого слова не скажешь. Понять не могу, отчего это женская красота дуракам, подлецам да зверям достается…
Около одиннадцати часов, когда веселье было в разгаре, в зал, звеня шпорами, вошел адъютант главного горного начальника края и, подойдя к Марии Львовне Харитоновой, сидевшей с Карнауховой, подчеркнуто учтиво поклонился:
— Его высокопревосходительство генерал Глинка приказали мне принести вам, Мария Львовна, извинения за невозможность для него посетить бал. В настоящее время его высокопревосходительство заняты беседой с фельдъегерем, только что прибывшим из Санкт-Петербурга с необычайным для нашего края известием.
Офицер сделал многозначительную паузу, чтобы последующими словами произвести необходимый ему эффект.
— Его величество государь император Николай Павлович дали свое монаршее соизволение на посещение Уральского края наследником цесаревичем и великим князем Александром Николаевичем.
Слова офицера четко разносились по притихшему залу.
— Честь имею кланяться, Мария Львовна.
— Но разве вы не разделите наше веселье?
— Лишен возможности. Прошу извинить. Лишен возможности. Снова, учтиво поклонившись дамам, офицер покинул зал. После
его ухода еще минуту стояла тишина, и вдруг, разрушив ее, грянул оркестр.
Бал в просторном дворце Марии Харитоновой продолжался…
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
1
В карнауховском доме венецианские окна серебряной гостиной фонарем выдавались в березовую рощу. Стены гостиной обиты штофом, завешаны гобеленами, вытканными в Бельгии в годы семнадцатого века. Мотивы рисунков на них — все больше рыцарские турниры. Переменно расставлена мебель красного дерева с обивкой из золотой парчи. Продуманно размещены горки с серебром, финифтью и хрусталем.
В оттаявшие от зимних узоров стекла окон проникал в гостиную мутный свет хмурого утра.
На диване сидела Карнаухова. На ней платье из черного муарового шелка. На стене, над диваном, портрет Василисы Мокеевны в подвенечном наряде, исполненный крепостным художником. Теперь Карнаухова мало схожа с той, на портрете, в глазах старухи не осталось и следа прошлой радости, так мастерски и живо запечатленной в глазах портрета.
У окна стояла Любава Порошина в темном сарафане. На ее шее изумрудное ожерелье. Любава, скрестив на груди руки, не шевелясь, задумчиво глядела, как за окном сквозь густую пелену падающего пушистого снега едва маячили березы в саду — зима, уступая права весне, все еще старалась забелить землю. Не оборачиваясь к Карнауховой, не отрывая глаз от туманной завесы, словно высказывая давнюю обиду, тихо говорила:
— Думаешь, не знаю, думаешь, не чувствую, почему, вернувшись домой, не подала мне вести о своем приезде?
— Сказала тебе сейчас на родном языке о причине молчания. Хворала. Ногами маялась. Ежели мне не веришь, Ксению спроси.
— Иной раз мать с дочерью заодно стоят. Правду от меня укрыть хотела.
— Про какую правду намекаешь?
— Что Кирилл нынче по весне домой не приедет. Вот какую правду.
— Приедет.
Любава обернулась. Отошла от окна. Остановилась у дивана. В ее глазах надежда.
— Когда приедет?
— Этого не знаю. Должно, как всегда, падет снегом на голову.
— Врешь поди?
— Не позабывай, голубушка, что я тебе не одногодка, Христос тебе навстречу, а посему разговаривай со мной как подобает.
— Правду говоришь. Совсем одурела. Дома от мужниной ревности голова кругом ходит, а тут еще тоска по Кириллу. Тошно мне без Кирилла жить, Василиса Мокеевна. Мучаю себя всякими думами о нем. Больше всего боюсь, чтобы какая баба в его судьбу не впуталась. Как подумаю про такое, совсем разума лишаюсь.
— Зря думаешь про такое. Не до баб сейчас Кириллу. Работой да обучением занят. С художником Венециановым дружбу водит и обучается у него живописи. А какие он портреты пишет! Живые люди на холстинах!
— Сама виновата в том, что без него сейчас живу. Не бросила мужа, когда звал с собой в Москву.
— Звал. Да только не хотела быть ему обузой, а потому и не выполнила его просьбу. За кольцо обручальное на цепь себя посадила в Камышлове. Надо было не отпускать Кирилла в Москву. Ежели бы попросила, он не поехал бы. Слушался тогда меня. Ох как слушался!
— Про любовь тебе говорил?
— Почему о таком спрашиваешь? Тайное это. Только мое да его.
— А ты мне ответь.
Любава рассеянно посмотрела на окна и, казалось, не понимала, чего от нее хотят, но потом обернулась и глухо проговорила:
— Про любовь с Кириллом никогда и слова не молвили. Ласками друг друга травили, а про чувства не поминали. Тепла в нем искала. Грелась. И до того мне с ним хорошо было, что ни о чем задумываться не хотелось. Тогда я себя уверила, что навек его к себе привязала. А теперь чую…
— Что чуешь?
— Что ошиблась. Больно гордая. Думала, что лучше меня для него никого нет на всем божьем свете. Ты про любовь помянула. Для меня теперь это самое страшное слово. Любовь к Кириллу всю меня опутала. Вошла она в мое сердце, видно, еще тогда, когда мы о ней и не помышляли. Люблю твоего сына. Так люблю, так тоскую по нему, что в груди все выжжено. Понимаешь?
Закрыв лицо руками, Любава замерла и долго молчала. Когда отняла руки — Василиса Карнаухова от удивления даже встала: в неживых глазах Любавы остылые слезы.
— Да успокойся! Ишь до чего довела себя пустыми раздумьями.
— Не жалей меня. Даже словами не смей меня жалеть, а то перед тобой разревусь на весь дом. Мать ты Кириллу, и слез я не стыжусь. Будь довольна. Ведь даже родная матушка — и та не видала слезы моей. Кириллу скажи, что от любви у меня слезы. Сама ему об этом не скажу. А лучше и ты ему об этом не говори, потому не поверит нам обеим.
— Гордыня мешает? Из-за нее ты, пожалуй, и о любви своей не скажешь?
— Скажу, но только тогда, когда сама от него про любовь к себе услышу.
— Сколько лет тебя знаю, а вот только сейчас по твоим слезам душу твою учуяла, хорошую бабью душу. И верится мне сейчас, что Кирюша ее раньше меня, раньше тебя самой учуял, да только не осмелился возле нее остановиться, потому что обручальным кольцом твоя душа огорожена.
— А к телу моему не побоялся коснуться? Крадучись от мужа, ласкать меня не побоялся? Не такой уж он пужливый.
— Не стану больше про такое с тобой говорить. Виновата перед тобой, что помогала встречаться с сыном. Хотела, чтобы лаской своей ты Кирилла возле меня удерживала.
— Такое задумала? — горько вздохнула Любава.
— Потому ране в тебе другую бабу видела. Думала, позабавишься и позабудешь без тяжести.
— А я не забыла. Нельзя просто так Кирилла забыть. Полюбила его. Прятала любовь от себя и от него.
Страшной силой моя любовь сейчас кажется. Она и тебя испугала.
— Испугала. А любовь не должна быть страшной. Она святой должна быть. Скажи Кириллу про свою любовь. Постой. Кажись, лишнее тебе сказала?
— Жалеешь, что такое сказала Порошиной. Не поймет, дескать, дура влюбчивая.
— Не жалею. А испугалась, что сейчас тебе чуть-чуть не сказала про свое самое тайное. И я была молодой. Растревожила ты меня… Теперь ступай. Свидимся еще. Любава попрощалась и, растерянная, покинула дом Карнауховой.
Село Уктус примостилось под боком у Екатеринбурга на берегах мелководной реки, именем которой и называлось селение. В версте от него, на склоне горы, в еловом лесу ютилась заимка знаткого гранильного мастера Дорофея Егоровича Квашнина. В давние годы срублена она наподобие сторожевого острога — с башенками на бревенчатых стенах. Ее стены теперь сильно обветшали, их бревна в заплатах зеленого бархатного мха. Но Дорофей Квашнин разрушаться им не давал и оберегал починками. Ров вокруг заимки уже задичал ельником, а в углядных башнях жили голуби и галки, но издали заимка по-прежнему казалась усторожливым жильем, людская жизнь в коем на крепком запоре от всякого недоброго помысла.
Дед Дорофея Квашнина — боярский сын Родион — по московскому прозвищу Дорога. Петр Первый отправил Родиона в Швецию для обучения гранильному делу.
Премудрости гранения драгоценных камней Родион у свейских мастеров постиг по всем статьям. Вернувшись в Петербург, повстречался с берг-советником Татищевым. Тот стал звать молодого мастера с собой на Урал.
Татищев скоро уговорил Родиона, и он вместе с берг-советником покатил по дорогам в неведомый край. Помогая создать в Катерининской крепости гранильную мастерскую, Родион свел знакомства с шарташскими кержаками. Обзавелся семьей, а после встречи с Ерофеем Марковым стал и сам бродить в поисках дорогих каменьев.
Родион завел свою мастерскую, срубил себе заимку на Уктусе.
Жил Родион долго. Не забывал он, как страдал за находку уральского золота Ерофей Марков, который в последние годы перед смертью часто гостил у Родиона на заимке. Родион обучил искусству огранки камней своего сына, Егора. Время неудержно выказывало властную силу. Умер Родион. Теперь стал Егор передавать мастерство своему сыну, Дорофею. В ту пору на Урале уже водилось немало знатких гранильщиков, но Дорофей все же среди них первенствовал.
Дорофей рано овдовел. Вырастил сына. К великому огорчению, сын к науке гранильщика не пристрастился, а ушел к золоту и стал жить с семьей в Златоусте. Вскоре случилась беда: в лесу от разбойной руки сын погиб. Дорофей перевез вдову с внучкой, Настенькой, к себе в Уктус, и, к радости деда, внучка приняла ремесло гранильщика, продолжила родовую цепь мастеров гранильного дела.
Почувствовав в девушке страсть к оживлению камня, Дорофей с благоговением передал ей свой опыт. И нынче, когда внучке шел двадцать первый год, Дорофей почувствовал, что ее уменье сравнялось с колдовством его рук и не грех иной раз спросить у нее совета.
На уральскую землю шла весна. Наступил апрель. Под припеком солнечных лучей заячья белизна сугробных снегов посерела.
Яркое солнце, дыхание потеплевших ветров топили снежные заметы, а талая вода говорливыми мутными потоками и ручейками сбегала в речку Уктус, разводя у берегов полыньи с пенистыми воронками. Речка, наполняясь вешней водой, ломала лед, разливалась заводями по мочажинам. Набухали почки тальника. Вербы покрывались серовато-белыми шелковистыми барашками.
Склон горы около заимки почти освободился от снега. По-иному начинали шуметь еловые леса, славя подошедшую весну.
Но зима нет-нет, да и порошила снегом по старой привычке, ненароком остужая весенние страсти.
Солнечным утром вороная тройка главного горного начальника Уральского хребта пронеслась по улицам Екатеринбурга на уктусскую дорогу. Кони шли резво, разламывая, с хрустом дробя копытами подмерзший снег и застывший на лужах ледок. Генерал Глинка, прищуривая глаза от слепящего света, смотрел на лесную дорогу. Он ехал к Дорофею Квашнину, чтобы выбрать подарок для наследника престола. Из-за приезда на Урал царственного гостя забот у генерала полон рот, и все же он решил лично посетить знаткого гранильщика.
За последние недели наезды именитых горожан к Дорофею стали особенно частыми.
Екатеринбургские богатеи, готовясь к встрече с царским сыном, обязательно хотели сделать ему какое-нибудь подношение. Однако личный приезд начальника края Дорофея озадачил. Он попотчевал гостя чаем. По просьбе Глинки показал заимку и гранильные мастерские. После осмотра мастерских генерал заглянул в летнюю половину дома, ознакомился с изделиями гранильщиков и, залюбовавшись малахитовой шкатулкой, принес ее в трапезную. Поставив шкатулку на стол, Глинка, причмокивая губами от удовольствия, продолжал рассматривать ее со всех сторон.
— Хороша! Вот это работа! О таких шкатулках только слышал. Хороша! Скажи, Дорофей, предназначена ли она для продажи?
— Не знаю, что вам ответить. Обладила сию вещицу внучка, Настенька. А для чего предназначала ее, ничего о том не говорила.
— Тогда немедля спроси внучку о шкатулке, могу ли я ее откупить.
— Нет Настеньки дома.
— Куда же в такую рань подалась?
— В Петербурге она. С поделками уехала.
— Шутите?.. Какая незадача. Без нее судьбу шкатулки не решить?
Дорофей молчал.
— Ну так как же?
— А куда денешься… Настеньке уж как-нибудь отвечу.
— Вот и прекрасно. Назови цену.
— Не знаю, как вам и сказать…
— Ну! Ну!..
— Мы с Настенькой при оценке поделок никогда не находим единого мнения…
— В гранильном деле, Дорофей, я тоже смыслю.
Глинка, заложив руки за спину, ходил по трапезной, звеня шпорами, поглядывая на шкатулку.
— Хороша вещица! Питаю уверенность, что его высочество тоже будет ею любоваться.
Дорофей даже привстал:
— Никак в подарок царевичу?
— Воля ваша — берите.
— Возьму сейчас даром, — генерал потер мизинцем переносье, — но оставлю за собой право лично с твоей внучкой говорить о цене.
— Что же, берите…
Генерал досадливо нахмурил брови:
— Да как же ты отпустил внучку в такое далекое путешествие?
— Пора ей ко всему привыкать. После моей смерти все в руки ее перейдет, а посему надо ей знать про все пути-дороги.
— Да-с. Но отпускать девушку в такую дорогу…
— В пути ее бог сохранит, а в столице сама себя в обиду не даст. Сама у меня напросилась. Захотелось столицу своими глазами повидать.
— Конечно, в этом есть резон. Однако…
Генерал остановился около шкатулки:
— Хороша! Но пустую ее в подарок подносить нельзя. Прав я в моем суждении, Дорофей? Что скажешь, если мы наполним ее самоцветами?
— Какими? — обеспокоился Дорофей.
— Разными. Всеми, кои имеются в уральской земле.
— Достать будет трудновато. Пора сейчас весенняя. До поиска еще далеко. С прошлого лета надо бы подумать об этом.
— А я подумал. Вот. — Генерал взял с кресла привезенный с собой кожаный мешок и поставил его на стол.
— Посмотри. Собрал, кажется, все виды.
Генерал развязал мешок. Дорофей Квашнин, засунув в него руку, вынул горсть кристаллов, генеральская рука тоже нырнула в мешок.
— Все они сырцы, Дорофей. Что скажешь про камешки?
— Скажу, что есть среди них дельные.
— А почему хмуришься?
— Прикидываю, успею ли выполнить заказ. Камешков тут немало. Все разные. А вам известно, у меня для каждого камня полагается своя грань.
Генерал покачал головой и сказал с укором:
— Понимай, кому подарок делаем!
— Я не отказываюсь. Попрошу только дозволения, чтобы ускорить дело, кое-какие сырцы заменить уже готовыми, одинаковой породы.
— Делай с ними все, что хочешь, главное — успеть.
— В краю я не один мастер. Есть такие, кои лучше моего гранят камни. Мастерами край не обеднел… Может, им передадите заказ?
— Знаю, что много у нас мастеров. Но знаю также, что славится на Урале «фасетка Квашнина». Вот я и приехал.
— За честь благодарю. Да вот Карнаухова еще заказ дать собиралась. Сейчас ногами мается, так просила к ней наведаться. А ехать, прямо скажу, страшновато.
— Неужли не знаете ее повадок? С уросом женщина. Выдумщица. Поди, такое надумала, что и изладить не под силу. Чудная старуха. У самой есть гранильщики. Сергей Ястребов у нее, а как задумает поделку, так и шлет за моим советом. Сговориться с ней трудновато. Превеликая спорщица.
— С этим согласен. По характеру кремень. А ум какой! Упаси бог от такого бабьего ума. Когда к ней собираешься?
— Сегодня думал. Веселый денек для пути.
— Хорошо, Дорофей, подвезу тебя. А теперь продолжим наш деловой разговор. Вон та ваза из раухтопаза, надеюсь, не внучкина работа?
— Та ваза старинная.
— Понимаю. Может, дед изготовил?
— Угадали.
— И цена на нее должна быть тоже старинная.
— Ее для себя берете?
— Намерен подарить ее высокому гостю в свите наследника. Отдашь вазу?
— Отдам. О цене за нее подумаю.
— Ты добрейший человек.
— Не для всех. К вам у меня свой подход.
— Да уж потому только, что вы краю главный начальник. Да еще какой!..
— Какой же?
— Да уж такой. — Дорофей развел руками. — Судить вас не стану. На то вы и генерал. Легко в нашем омуте чертям на хвостах петли завязываете…
Генерал рассмеялся:
— Веселый ты человек, Дорофей! Постараюсь бывать у тебя чаще, но, конечно, не всякий раз буду брать у тебя малахитовые шкатулки и вазы из раухтопаза. Ну, иной раз… — Генерал неопределенно повертел в воздухе пальцами.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
1
Старый завод — главная вотчина Муромцева на Урале — раскинул свои селения по берегам большого пруда. Вокруг завода стены лесной глухомани. Старый завод основан раньше, чем демидовский Невьянск, ибо на нем заводское устройство начало выплавлять железо еще в XVII веке.
Вокруг завода неоглядные лесные чащобы укрывают горные увалы, лога, речки, болота и озера. По лесам проходит никем не означенная межа соперничанья между Муромцевым и Карнауховой.
В одиннадцати верстах от плотины завода начинаются промыслы Василисы Мокеевны, растягиваются на многие версты, сначала по берегам широкой реки, а потом по оврагам, прорезанным горными речушками с золотоносными намывами.
Карнаухова пришла в эти места в годы, когда преемники почившего промышленника грызлись из-за дележа наследства, когда Муромцев, оттеснив всех, стал на Урале единоличным хозяином Старого завода. Василиса Карнаухова крепко укоренилась подле владений Седого Гусара.
Муромцев, одержимый стремлением завладеть уральской медью, именно из Старого завода совершал набеги на все медные месторождения края. И всего только лет шесть назад узнал, что совсем близко, в горах, лежит лучшая медь. Но лежит она на земле Карнауховой. Медь, о которой так долго мечтал Муромцев, и которая в одно мгновение могла принести ему столь желанную славу, была рядом…
Хозяйский дом с колоннами окружали старые раскидистые липы. Из его окон селение завода и пруд видны как на ладони.
О доме исстари бродило в народе недоброе слово. Многое можно услышать про его подвалы с тайниками. Завелось в этих подвалах страшное для работного люда еще при давних хозяевах. Муромцев лишь перенял по наследству заведенный образ пыток, прибавил к ним свои новшества по истреблению на заводе крамольного духа. Стремясь к осуществлению заветной мечты о меди, Муромцев метался по краю в поисках ее залежей, находя их, наталкивался на различные препятствия, осилить которые у него не всегда хватало сил. Часто, потерпев неудачу, он предавался пьянству в компании своего управителя — Комара. Пьяный разгул Муромцева тянулся неделями. Тогда от истязаний по заводу шел стон: Муромцев запарывал целые улицы, вымещая злобу за свои неудачи на спинах ни в чем неповинных людей.
Необъятным шатром укрыла Старый завод темная звездная апрельская ночь. Ветер, высвистывая протяжную мелодию, гулял в хозяйском парке, мотая ветви лип с набухшими почками. Как немазаные телеги, скрипели старые деревья.
В кабинете хозяина на столе горели свечи. Полумрак углов походил на дым. На стенах ковры. Муромцев в халате стоял у окна, всматривался в ночной мрак. Видны ему на берегу пруда тусклые огоньки в окнах избушек, а за ними безбрежная темень. Муромцев был уверен, что в этой темноте для него нет ничего доброго, в ней укрылась людская ненависть всего подвластного ему крепостного народа. Только неделю назад он прискакал в барский дом на взмыленной тройке, чтобы вести розыск о пожарах на заводе и обвалах на шахтах. Вот уже неделю из подвалов дома выносили людей, потерявших сознание, исхлестанных приказчиками Муромцева, но, несмотря на изощренные пытки, заводчику так и не удалось что-либо узнать о виновниках заводских бедствий. Прошлой ночью он сам видел пожар. Сгорели конюшни, а сегодня утром управитель с радостной улыбкой доложил ему, что на лесной дороге поймали старика раскольника, якобы виновника поджога.
Нередко Муромцев, напившись, лично вел допросы. Его душила злоба. Она мешала дышать. Самые мрачные мысли не давали покоя. Он перебирал в памяти недавние события. Который раз вспоминал слова генерала Глинки о ненависти к нему раскольников. Всего один раз довольная улыбка скользнула по лицу Муромцева, когда подумал, что, несмотря на строгое предписание генерала, он не отменил наказа своим людям вылавливать в скитах детей.
У него теперь не было сомнения, что пожары, обвалы, затопления шахт — дело рук мстительных раскольников. Муромцева главным образом пугало то обстоятельство, что с его рудников разбегались рабочие. Они покидали Урал, уходя в неведомую сибирскую тайгу. Муромцев сознавал, что против тайной силы раскола он не нашел еще успешного способа борьбы.
В голове, отуманенной вином, разворошились мысли о далеком прошлом. Опять ясно представилось сумасшествие жены в брачную ночь. Холодок пробежал по всему телу Муромцева, когда вспомнил, как она дико хохотала и вдруг, смолкнув, уставилась на него неживым взглядом.
Прислушиваясь у окна к посвистам ветра и скрипу старых лип, он вздрогнул, услышав сзади себя шаги. Обернулся. Увидел пришедшего управителя. И оглядел его так, словно бы впервые видел.
Перед ним стоял малорослый, жирный, лысый человечек. Его одутловатое красное лицо лоснилось, над губой топырилась рыжая щетина усов. Он тоже был пьяный.
— Чего тебе? — наконец произнес Муромцев.
— Кержака привел.
Управитель кивнул головой.
— Как покойник.
— Веди сюда.
Пятясь к двери, управитель вышел, и через минуту, склонив голову, чтобы не ушибиться о притолоку, появился в дверях могучий старик с широкой седой бородой. Пришедший с ним управитель держал в руке плеть. У старика руки скручены назад и связаны сыромятным ремнем. Муромцев долго рассматривал богатыря. На нем еле висела порванная белая холщовая рубаха, залитая кровью. Борода во многих местах подпалена огнем. Хмуро и независимо смотрел кержак на заводчика.
— Звать как? — спросил Муромцев.
Не отводя взгляда от заводчика, кержак спокойно ответил:
— Про то Господь ведает. Незачем тебе знать мое имя. Дружбу с тобой водить не собираюсь.
— Из каких скитов на мой завод явился?
Раскольник молчал. Управитель, наклонившись к Муромцеву, угодливо спросил:
— Прикажите стегнуть?
— Погоди, дай сюда.
Взяв из руки управителя плеть, Муромцев прошелся по комнате. Кержак, встряхнув головой, выпрямился и сказал:
— По очам моим стариковским стегай, барин, чтобы они тебя, окаянного, не видели.
Муромцев сильно хлестнул старика плетью по лицу. Удар рассек кожу на его широком лбу, из раны потекла кровь.
— Бить и то, гад, по-настоящему не умеешь, — с прежним спокойствием произнес старик.
Муромцев, потеряв самообладание, заорал:
— Кто такой? Сказывай, откуда явился на завод?
— Христов сын я. За грехи богом наказан с тобой вместе на земле жизнь вытаптывать.
Муромцев вновь хлестнул старика. Бил и слышал его спокойный голос:
— Шибче бей, слабосильный барский ублюдок.
— Зачем на завод пришел? — кричал Муромцев.
— На тебя поглядеть пришла охота. Себя тебе показать. Чтобы, взглянув на меня, понял, что ты вошь на нашем теле. Гляди, какой я. В кулаке твою головенку, как огурец, раздавлю.
— Зачем на завод приходил?
— Спалить тебя приходил.
— Кто подослал?
— Совесть моя послала. Не удалось дом твой запалить, так конюшни сжег. Тоже твое добро. Жалею, что не удалось тебя в дому спалить. Другие тебя спалят.
Муромцев закричал во весь голос:
— Врешь! Всех вас этим летом в лесах пожгу!
— А мы и сожженные станем по твоему следу ходить. Не таких, как ты, притаптывали. Перед нашей силушкой сам Демидов шапку снимал. А ты ему не чета.
— Врешь! Всех вас на колени перед собой поставлю. День и ночь будете работать. Старую веру из вас вытравлю. Христа в себе признать заставлю. Иконой для вас стану!
— Нишкни, сволочь барская. — Кержак зло плюнул в лицо Муромцеву. — Вот какая ты нам икона!
Комар, подскочив к Муромцеву, платком отер его лицо.
— Сейчас же его удушить! — прохрипел Муромцев.
— Не беспокойтесь. Веревочка уже готова…
— Удушите меня, а назавтра новый кержак мое место заступит. Придет за твоим дыханием. Нам мученическая смерть — радость. Она в нас веру крепит, а об нее антихрист голову расколет. Боишься меня, потому и велишь удушить.
Раскольник захохотал. Не помня себя от злости, Муромцев с кулаками кинулся к старику, но не ударил, а только заскрипел зубами. Раскольник хохотал:
— Укусить хотел! Горло мое хотел вырвать. Цари нас скопом грызли, да не загрызли.
Срок прибытия на Урал наследника приближался. Все «столпы» горной власти — от главного горного начальника до самого захудалого чиновника на казенных заводах — сбились с ног.
К концу апреля, к удовольствию губернатора, градоправителей и сельских старост, на дорогах края, по которым должен проследовать высокий гость, ухабы были засыпаны, канавы прорыты, гати проложены, деревни подчищены, мосты сколочены и даже подкрашены верстовые столбы.
И все же в крае не было покоя.
Волновались владельцы крепостных: они понимали, что работный люд, приводимый плетями к повиновению, только с виду казался замиренным. Все помнили, как в год приезда царя Александра народ показал свою непокорность хозяевам. Уже тогда смельчаки совали в руки царской свиты бумаги с жалобами на беззакония. Неприятные бумаги в руки царя не попадали, но за то, чтобы они залежались в карманах сановников, хозяевам приходилось платить большие деньги.
Многое волновало и генерала Глинку, больше всего — неспокойствие на заводах и приисках. В очереди его волнений стояло также и пестрорылое взяточничество и казнокрадство подвластного ему чиновничества, о которых он хорошо знал. За сим шли «крайности» на заводах приказчиков, полиции. Замыкала цепочку тупая вороватость старост. Все это тревожило генерала: везде тонко, не знаешь, где порвется.
Осведомленные о беспокойствах генерала городничие, пристава и стражники, загоняя лошадей, рыскали по заводам, вынюхивали крамолу в народе, лупили нагайками направо и налево. Особо непокорных хозяйской воле ковали в цепи, увозили в шахты заброшенных рудников, в укромные лесные места, близ которых на уральской земле не отпечатается след коляски наследника престола.
Заводчики и промышленники всеми способами прятали улики издевательств над крепостными. Чиновники всех рангов старательно очищали собственные мундиры от жирных пятен. С помощью попов они засылали в народ разных странников, монахов-провидцев и просто «божьих людей». А те к своей болтовне о воле божьей, о тленности и греховности людской жизни, о Страшном суде приплетали побасенки о надобности быть кротким и терпеливым, покорным хозяйской воле, смиряться перед судьбой.
На заводах и приисках не утихали волнения, усмирять которые приходилось порохом и плетями. Кулаки приказчиков и смотрителей не успевали затыкать рты недовольным. Пожары в Старом заводе стали настолько частыми, что для его охраны Глинка был вынужден послать солдат.
Не было спокойствия и в среде раскольников. В казармы заводов и на прииски засылались из скитов «пророки», вещавшие истины «священных книг», распевавших псалмы о страстотерпии раскола от царской воли, произвола заводчиков и горного начальства.
На разворошенный муравейник походил и сам Екатеринбург. По всем улицам латались тротуары, прозванные «александровскими», заколачивались в заборах и воротах дыры собачьих лазов, бутился камень и доменный шлак в жижу грязи на площадях. Купола церквей отскребали от птичьей срамоты. И лишь заскорузлую скверну семейного житейского бытия старался никто не трогать, а только пробовали поукрасить его чисто вымытыми окнами да побеленными стенами. Все та же жизнь скрипела по половицам разных домов богатеев. Те же в них запахи ладана, щей и винного перегара. Правда, кое-что в этом быту все же изменилось. Хозяйские кулаки стали реже кровянить губы и подкрашивать синяками глаза у челяди.
Карнауховский дом тоже побелили. Неожиданно для хозяек, в самый разгар домашней весенней перетряски к ним заехал столичный гость — генерал Мамонтов. Проезжая через Екатеринбург в Сибирь, он выполнял просьбу своей супруги — навестить Ксению Захаровну.
Наступил вечер второго дня пребывания Мамонтова в доме Карнауховой. Над городом метался беспокойный ветер. Его теплым дыханием весна отогревала горы и леса Урала. Высоко в небе с утренней зари до первых вспышек звезд тянулись стаи перелетных птиц. По всему краю вздыхала природа, разбуженная от зимнего оцепенения…
За ужином Ксения расспрашивала генерала о столичной жизни. Но на все ее вопросы он отвечал коротко и осторожно, как будто хотел показать Ксении, что, ослабив связи со столичным обществом, она теперь не может рассчитывать на его откровенность. Ксения чувствовала: гостю в доме скучно, и он сожалеет, что, исполняя просьбу жены, вынужден проводить время с людьми, для него не интересными. Генерал постарался перевести разговор на уральскую жизнь. Он расспрашивал Василису Мокеевну о золотых промыслах, о генерале Глинке, о заводчиках. Старой хозяйке гость не понравился с первого взгляда надменным обращением и манерой задавать вопросы.
После ужина, продолжая беседу, хозяйки и гость сидели в книжной комнате. Ксения по просьбе генерала играла на клавесине, прислушиваясь к разговору гостя с матерью. Ксения знавала Мамонтова еще в Петербурге, но никогда к нему не питала симпатии. Теперь она замечала, что он сильно постарел и в его внешности стало меньше барского лоска. Генерал сидел в кресле против Василисы Мокеевны в одеревенелой позе. Его седые волосы подстрижены бобриком. Бакенбарды на дряблых щеках спутались с усами. В столице о нем говорили, как о выскочке и карьеристе, втершемся в доверие императора благодаря дружбе с Бенкендорфом. Образование он получил в Англии, а поэтому во всем подражал манерам британцев.
Увлекшись рассказами про свою жизнь на Урале, Василиса Мокеевна, вздохнув, закончила словами:
— Вот так и прожила жизнь в лесах, вдоволь намыкавшись по горному краю. Когда ушли годы, то стала мыкаться по дому да от скуки былое в памяти перебирать. Старость меня не любит, все чаще начинает донимать всякой хворостью. От этого я начинаю ворчать на всех и на все. Ворчливость мою терпят, морщатся по углам, но терпят, как-никак хозяйка.
В роще, совсем близко около дома, послышался крик птицы. Карнаухова замолчала, обернулась к окнам, а потом перевела взгляд на Ксению:
— Слышишь, Ксюша, опять кычет?
— Кто же это так кричит? — недоумевал Мамонтов.
Генерал поморщился:
— Какой нудный звук! Вас, кажется, тоже ее крик раздражает?
— Не люблю я его, — ответила Карнаухова.
— Почему же вы живете в Екатеринбурге?
— А где же мне жить-то?
— Вы достаточно богаты, чтобы жить в столице.
— Пустое говорите. Через неделю без Урала помру.
— Конечно, осуждать вас, Василиса Мокеевна, за то, что, стремясь к богатству, вы похоронили свою молодость в лесной глуши, я не стану. Но все же считаю с вашей стороны неразумным сейчас оставаться здесь после того, как нажили богатство в этом забытом богом Уральском краю. Но вас можно понять. Вы не знали столичной жизни. Я не могу понять другое: зачем вы закрепостили Ксению Захаровну, которая создана для жизни в столице?
Перестав играть, Ксения закрыла крышку клавесина:
— Я живу здесь по своему желанию.
— Тогда это просто ужасно. Неужели по доброй воле обрекли себя на жизнь среди разбойных глухих лесов? Но почему? Ваш покойный супруг, Ксения Захаровна, оставил вам завидное наследство. Вашей жизни на Урале не понимает весь светский Петербург. Скажу больше. Вы не имели права покидать столицу. Вдруг сменить светский образ жизни на прозябание в крае, в который со всей матушки-России сбегается всякий темный, преступный и крамольный людской сброд! Нанять управителей и — пусть ведут дела.
— Зря, батюшка, изволите так говорить. Здесь кроме Ксюши и другие дворяне живут. Иные, почитай, каких древних кровей.
— Я их тоже осуждаю. Считаю их отступниками от законов дворянства. Зачем дворянам разъезжать по империи дальше границ родовых усадеб? Место каждого дворянина возле царского трона. К нашему дворянству всякая грязь липнет. Чуть оторвется от столицы — и начинает опрощаться. Ксения Захаровна, вы обязательно должны вернуться в столицу. Правда, внешне здесь ваша жизнь обставлена вполне прилично. Признаться, даже не ожидал увидеть такую обстановку в вашем доме. И все же, Ксения Захаровна, вы не должны забывать, что стали дворянкой. Ваше место в Петербурге. Что хорошего в том, что я вынужден бросить дела, семью, уют, трястись в коляске по всей империи? Но я выполняю приказ императора. Мне поручено его величеством взглянуть, как живут-поживают в сибирском захолустье жены декабристов, и разузнать об их нуждах, приметить — не стали ли от скуки их головы седыми.
— Христос вам навстречу, батюшка генерал. Да разве можно про них говорить такое? Мученицы они.
— Для вас, а для меня только бывшие дворянки, наряжающие свою блажь в ризы мученичества. Заступаетесь за них. Мне уже известно, что одна из них жила в вашем доме по пути к месту ссылки мужа. Страшную опрометчивость тогда совершили, — многозначительно произнес генерал.
Василиса Мокеевна и Ксения переглянулись.
Василиса Мокеевна встала и заходила по комнате. Мамонтов, не меняя позы, сидел в кресле.
— О вашем положении в крае по пути сюда многое слышал. От пермского губернатора узнал о вас совсем не шуточное.
— Чем это вас напугал губернатор?
— Тем, госпожа Карнаухова, что вы, используя свой авторитет у горных властей, чините иноземцам преграды на пути к богатствам края. Не доведет это вас до добра. Упаси бог, если об этом донесут его величеству. Было бы вам известно, что в столице имеются люди, кои советуют государю отдать в иноземные руки весь Урал. Наши заводчики и горное начальство плохо пользуются богатствами края.
Карнаухова громко рассмеялась:
— Ловко страшные словечки передо мной столбиком сложил. Да выходит, батюшка, ты только с виду важный начальник. А ты балагурить умеешь. Спасибо, что рассмешил нас. Долго тебя слушала, а теперь настала твоя очередь меня послушать. За наш край ни перед кем не испугаюсь заступиться. Ты вон что посмел про Урал сказать. А доложи ты мне, в каком месте, как не здесь, пушки да ядра лили, когда государство от врагов отбивалось? Молчишь, ваше превосходительство? Отдай Урал иноземцам, так они нас живо заглотают, потому без уральского железа нет у Руси на груди кольчуги. Первый он край для России.
— Напрасно вы так горячо приняли мои слова к сердцу.
— Я все близко принимаю к сердцу, потому и комариный писк почитаю за музыку, ежели нудит мой слух.
— Успокойтесь, матушка, у господина Мамонтова обо всем всегда свое особое мнение, — сказала Ксения.
— Без тебя это понимаю, потому и свое мнение ему высказала. Кабы не был нашим гостем, я бы ему за такое мнение о Камне еще не так высказала.
Наступило неловкое молчание. Карнаухова частыми шажками ходила по комнате. Ксения взяла со столика раскрытую книгу и, чтобы сгладить напряженность, спросила Мамонтова:
— Скажите, как здравствует Александр Сергеевич? Еще вчера хотела об этом спросить.
— Не пойму, о ком спрашиваете? Кто такой Александр Сергеевич?
— Позвольте, разве вам ничего не известно о его печальной участи?
— Что с ним случилось?
— Убит на дуэли бароном Дантесом.
Ксения испуганно взглянула на Мамонтова. Карнаухова, остановившись, перекрестилась. Генерал недоуменно развел руками:
— Вот уж никак не ожидал, что смерть камер-юнкера, всего только камер-юнкера, Пушкина может вас так взволновать.
— Мы на днях читали здесь вслух стихи Пушкина, — рассеянно произнесла Ксения.
— Всего лишь камер-юнкер, — пожал плечами генерал и приторно улыбнулся: — Представьте себе, в Петербурге в одной газете назвали его даже солнцем России. А он всего только камер-юнкер.
В комнату вошел камердинер Тарас Фирсович с намерением сменить свечи. Карнаухова сказала ему:
— Не утруждай себя, Фирсыч. Нам до конца беседы хватит и этих огарков.
— Слушаюсь.
— Скажите, генерал, долго ли еще будете гостить в Екатеринбурге?
— Думаю, что…
Карнаухова не дослушала, что хотел сказать Мамонтов, и обратилась к Фирсычу:
— Прикажи сейчас же генеральскому кучеру поутру коней для дороги изготовить. Дорогой гость от нас уезжает.
— Слушаюсь. — Поклонившись, камердинер вышел.
— Гостить в моем доме дольше не уговариваю, генерал. Понимаю ваше спешное высокое поручение от государя-батюшки…
Проводив гостя, Карнаухова зашла в комнату дочери и, не найдя ее там, направилась к себе в опочивальню, встретила в коридоре Фирсыча.
— Ксюшу видал?
— В рощу недавно вышла.
— Вот и хорошо. Пусть ее ветерком от всех столичных новостей обдует. Новости-то страшнущие. Сочинителя господина Пушкина насмерть порешили.
— Сказала мне о том Ксения Захаровна.
— Эдакого сочинителя со свету сжили! А мы про то ничего не ведаем. Ну и времечко подошло! Ну и порядки заводятся!
Фирсыч открыл дверь в хозяйскую опочивальню.
— Огонь зажги. Сразу не лягу. В креслах малость посижу.
Фирсыч, вздыхая и бормоча невнятное, зажег свечи.
— А ты не вздыхай на весь дом. Мы с тобой скоро успокоимся и, бог даст, помрем не от чужой руки. Ступай, спи. Меня пораньше разбуди, сама гостя провожу.
— Слушаюсь.
— Не позабудь.
— Слушаюсь.
Фирсыч, усадив Карнаухову в кресло-качалку, пошел к двери, но, приоткрыв ее, остановился:
— Генеральский кучер сказал мне, что перед заездом к нам гостенек ваш к Муромцеву заезжал и ночевал у него. Они будто сродственники друг дружке.
— Все может быть. Дворяне — все сродственники. Ты на ночь глядя про чужое не больно раздумывай, потому у тебя от своего волосы начисто побелели.
— Ладно. — Взглянув на хозяйку и покачав головой, Фирсыч ушел…
Оставшись в одиночестве, Карнаухова откинула голову к спинке кресла, закрыла глаза. Слушала подвывание ветра. Подумала, что от суматохи в природе начинается суматоха в памяти и унять ее она не может. Услышав тревожный крик совы, открыла глаза. Кровь прилила в голову. В правом ухе зазвенел колокольчик. От спины до пяток пробежал в теле холодок. Смолк колокольчик в ухе, и, слушая тишину комнаты, вспомнила, как боялась такой немоты в первый год жизни в доме. Сейчас не могла понять, чем больше всего взволновала ее беседа с Мамонтовым. Но потом поняла, что больше всего взволновалась о судьбе Ксении и решила: не тверда дочь еще во всем, из-за этого может оступиться на жизненном пути. Задумалась о детях.
Прикрылись ее глаза, когда вспомнила, как сама росла в деревушке Орловской губернии. Как любила запахи родной избы! Особенно любила зимой запах сена. Память стала складывать в разуме год за годом, и в каждом годе помнила одно — все новые и новые обязанности трудовой повинности; уже к двенадцати годам она не успевала справляться с ними от утренней до вечерней зари. Но юность научила не только кулаком вытирать слезы, а и петь песни. Она пела звонкие песни, хотя от усталости ныла спина. В хороводах стала кружить девичью пору, в них она была замечена барином. Попала в горницу барской усадьбы. Учитель-танцор начал обучать ее танцам и грациозной походке. Вместе е другими девицами для хозяйских гостей в барском театре изображала греческих богинь и весталок, наряжаясь в прозрачные хитоны. Стала крепостной актрисой. Слава об ее умении представлять собирала в хозяйском театре соседних помещиков, иной раз от господских похвал у нее туманилась голова. На барской сцене ее увидел заезжий богатый московский купец Захар Карнаухов и сразу запомнил. А потом актрису выиграл у барского сынка в карты. Купец увез в Москву. Нелегкими были ее первые шаги в купеческом доме, где все в своем кулаке держала суровая мать хозяина. Старая купчиха шлепками и подзатыльниками быстро отучила ее от походки, жестов и улыбок «греческой богини», но приучила к истовой богомольности. На всю жизнь намолилась Василиса за первые четыре года в доме купца. Все церковные службы не хуже попов знала наизусть. Но если была безропотной перед властью хозяйки, то своего молодого хозяина томными взглядами привадила за собой ходить неотступно. Баловаться даже поцелуями не позволяла и чуть что — грозилась пожаловаться матери. Вскоре поняла, что Захар Карнаухов полюбил ее, и надумала через его любовь сама стать купчихой. Она умело распаляла в Захаре к себе горячее чувство и так всем услаждала старую хозяйку, что та дала наконец сыну дозволение назвать Василису женой.
Повенчавшись с Захаром, перешагнула порог дома с правами молодой хозяйки, но к полной власти в нем пошла исподволь, не становясь поперек желаний суровой свекрови, зато лаской и твердостью характера добилась беспрекословного послушания мужа.
Завела дружбу с именитыми московскими купцами. В их кругу от бывалых людей наслышалась про Уральский край. Запомнила рассказы про его золото. После смерти свекрови уговорила мужа отпустить ее попытать счастья. Захар не сразу согласился доверить в руки Василисы родовые капиталы, но в конце концов уступил ее настойчивости, и одна, без мужа, она подалась на Урал.
Тогдашний Каменный пояс напугал Василису угрюмой природой и людьми. Хотела даже вернуться в мужнины московские хоромы, но нежданно на лесной тропе, у костра, столкнулась с молодым горщиком Тихоном Зыриным и после беседы с ним, за одну ночь, научилась на всю уральскую угрюмость смотреть совсем по-иному. Тихон вызвался быть ее помощником. Месяц с ним в лесах искала золотоносные места и нашла их. А вместе с золотом нашла и свою любовь к Тихону. В его объятиях поняла, что по разуму, а не по любви стала купчихой Карнауховой, что ее первая любовь вожглась в ней от душевной теплоты к Тихону Зырину. Но и к Тихону чувству своему она полной воли не дала.
Через год муж перебрался на Урал. Началась жизнь в екатеринбургском доме. Двойная жизнь для нее. Родилась Ксения… И когда память подвела Карнаухову к этому году, то она открыла глаза и перекрестилась. Тридцать три года боится этих воспоминаний, нося в себе материнскую тайну, что отцом детей был не Захар Карнаухов, а Тихон Зырин. От Захара, как и от всех, скрыла она свою тайну, прикинувшись верной женой. Не знал этой тайны и Тихон Зырин.
Через годы, увеличивая свое влияние в крае, наживая богатство, она научилась и без помощи Тихона находить золото. Овдовела. Для людей предстала без пятнышка на своей супружеской чести и еще смелее пошла рядом с теми, кто возле дикого золота наживал богатства…
Кашель Фирсыча у дверей опочивальни заставил Карнаухову очнуться. Слуга вошел, не прикрыв за собой дверь. В опочивальне от этого посветлело.
— Доброе утречко, хозяюшка. Не ложилась?
— Как это не ложилась? Встала. На воле-то как?
— Хмурится погода. Конечно, не ложилась. Платье на тебе вчерашнее, да и постель не мятая.
— Ладно. Стыдился бы меня в неправде обличать. Помог гостю в дорогу собраться?
— Уехал. Велел вам кланяться да благодарить за хлеб с солью. Разбудить вас не дозволил. Сказал, что с ночи с вами простился.
— Учтивый какой. Столичный человек. Ксюша спит?
— Кажись, еще не вставала, потому Даша в людской чай пьет.
— Вот и хорошо. Помоги мне на ноги встать. Сходим сейчас в парадный зал.
— Чаю бы сперва напились.
— До чаю сходим туда. Во всем норовишь мне перечить? Все, видишь, надумываю не на твой лад.
Поднявшись из кресла, Карнаухова в сопровождении слуги вышла из опочивальни и коридорами направилась в парадный зал. Войдя в зал, она остановилась перед портретом императора Николая Первого:
— Вот что, Фирсыч, вели людям царя этого снять. На его место повесь хотя бы покойницу императрицу Лизавету Петровну, ту самую, которая здесь при Демидовых висела.
Фирсыч удивленно смотрел на хозяйку.
— Чего уставился на меня? Велю снять, потому для портрета рама неподходящая. Пышности в ней мало. Столичный генерал мне на это намекнул. Новую раму придется изладить. А пока суть да дело, поживем без Николая Павловича на глазах. Ступай, зови людей да не забудь царицу Лизавету принести, помнишь, поди, в каком чулане она хранится?
— Недоволен?
— Доволен. Давно пора раму сменить. Возле царского портрета должна быть пышная рама.
— Ну вот и хорошо, что со мной на этот раз согласен.
Фирсыч бормоча вышел из зала…
У Екатеринбурга совсем под боком был Березовский казенный завод с толчеями, с промывочной фабрикой для извлечения золота из горнокаменных пород. Вокруг него среди горных увалов находились золотоносные рудники.
Верст за двадцать от завода золотоносные угодья, утягиваясь по берегам речки Березовки, за трясинами, болотами и озерами упирались в горные отроги под покровом извечных лесов. По-всякому тут искорежена уральская земля первозданным камнем, а леса на ней сильно приуглены пожарами.
В этих местах, выискивая от истока себе путь, Березовка вымыла русло с замысловатыми изгибами и петлями. С крутым характером горная речка. То совсем сузит и углубит водяную дорожку, то разольется тихими заводями, уняв течение, то разворчится, вспенивая струи, не осилив мешающие бегу неразмывные породы утесов и замшелые валуны, которые закатила в речку вешняя вода.
И никто, может, и не дал бы имя речке, если бы возле нее в березовском логу раскольник Московского уезда горщик Ерофей Марков не добыл из шурфа кварц с первым русским золотом. И стала у Березовки громкая слава. На уральской земле при любом упоминании о золоте невольно приходит на память ее имя. Да и в столице о ней наслышаны. Разве мало золота с ее берегов ссыпано в царскую казну?..
На одном отроге огонь особо лихо позабавился, выжигая вековые богатырские лесины. Многие из них испепелить полностью все же не смог. Стоят их обуглившиеся черные и рыжие сухостойные стволы с острыми рогатинами сучьев. Огонь, выжигая древние чащобные леса, поочистил отрог от завалов валежника и хвойных настилов. Могучая сила земли, возрождая жизнь леса, спешила спрятать место огненного пиршества и поднимала на просторах пожарища новую лесную поросль. Тянулись к солнцу пушистые елочки и сосенки, белоствольные березки, сизоватые осины, густели среди них кусты малины, шипицы и вереска.
Лесистые горные отроги вплоть до истока Березовки были золотоносные, а потому и не без людской жизни. Копошились в лесах в поисках золотого счастья старатели, приписанные к казенной и господской крепости, просто беглые из крепостной неволи люди из разных губерний и со всего Уральского края.
До пожара на этом отроге тоже шумела людская жизнь, о ней напоминала чудом уцелевшая от огня, но обгорелая избушка; в ней-то, уйдя от Фотия, и нашел приют Савватий Крышин.
* * *
Тусклый свет утра проник в избушку через оконце под потолком, похожее скорей на щель и прикрытое пластинками рыжей слюды.
Савватий проснулся от кашля вогула Тимохи. Кашлял он надсадно, дергаясь всем телом. Савватий, со слов вогула, знал, что хворь с тягостным кашлем мучила его каждую весну и отпускала к поре, когда с черемух облетал цвет.
Тимоха — хозяин избушки. Зимой охотится на белку, летом работает старателем. Живет в избушке восьмой год. Набрел на нее поздней осенью, когда пришлось ему уйти из родного стойбища на Северном Урале у реки Турьи, возле Богословского завода, после участия в бунте рудокопов на медных рудниках. Тимоха православный. За новый зипун принял крещение у русского шамана в Лайском заводе. В избушке в углу, над хозяйской лежанкой, на полочке стоял обвитый пыльной паутиной образок Николая-угодника под охраной двух вогульских божков. Справа — вырезанная из дерева фигурка двухголового зловредного Чохрын-Ойка, слева — сплетенная из разноцветных волосяных мхов куколка еще более злого Люмминар-Ойка, хозяина всех звериных троп.
Савватий сел на лавке, прислушался к звукам лесной жизни. Разглядел в сумраке подвижное белое пятно. То борзая бродила от лежанки хозяина к двери и обратно. Собака тотчас подошла к Савватию и начала лизать руку. Тимоха сказывал Савватию историю появления борзой в избушке. Лет пять назад, по весне, Тимоха нашел в канаве Полевского завода полуживого щенка. За пазухой принес его в избушку, вырастил, дав собаке имя Быстрая. Уж очень ему полюбилось это русское слово. Собака была хороших кровей, по масти белая с черными подпалинами. Но за долгую зиму поотощала, на боках пушистая шелковистая шерсть скаталась в комки. Савватию нравилась Быстрая, особенно когда она, вышагивая, покачивала гибкой спиной.
Поглаживая собаку, Савватий спросил хозяина:
— Видать, худо тебе ноне?
— Вовсе грудь кашель расколотил, — проговорил Тимоха и попросил: — Подай питье.
Савватий взял со стола берестяной туес, открыл тугую крышку, налил в кружку пахучего настоя из сосновых шишек и черемуховой коры. Тимоха, приподнявшись на локте, опорожнил кружку большими глотками и, закашлявшись, лег.
Савватий вышел из избушки. На него пахнула утренняя прохлада весеннего леса.
Избушку обступали стайки елочек, а над ними, затесавшись в чужой хоровод, возвышались тоненькие белоствольные березы. На их ветках уже набухли почки. Савватию, глядя на них, думалось, что деревца хвастаются перед елочками, будто так и хотят сказать, что, может, елочки сейчас и красивее их, но ростом поотстали.
В елочках и сосенках еще путалась трепаная куделя ночного тумана от земной испарины, рождавшей таинство весенней природы.
Когда Савватий вернулся в избушку, Тимоха спросил:
— Светает, кажись?
— Утренняя рань восхода ждет.
— На воле, поди, птичья радость? По душе мне эта пора. Не серчай. Кою ночь рушу тебе сон. Человеку на рассвете он самый нужный.
— Нашел, о чем говорить. Тебе, вижу, плохо.
— Осилю. Не по первости. Чую, об эту весну хворь в могилу не затолкает. Скоро опять на ноги встану. На черемухах ноне цвет пеной вскипит. Снега досыта землю напоили. Под лесную духовитость пойдем на старательство. У меня есть заветные места на примете, одному-то в них было боязно… Душит меня седни.
— А чего ж молчал? Оттого и душно, что взаперти всю ночь дышали.
Савватий взял с лавки полушубок, под которым спал, накинул его на Тимоху поверх рваного стеганого одеяла.
— Дверь растворю. Духовитость на воле такая, что голову обносит.
Захватив медный приконченный чайник, Савватий вышел, оставив дверь открытой настежь. Поставил чайник на завалину. Из вороха валежин надергал сухих веток. Наломав их, сложил горкой на кострище. Высек из кремня искры на пучок сухой травы, сунул огонек под хворост. Подождал, пока пламя начало перекусывать сушняк, взял чайник и направился к роднику. Уже по пути Савватий слышал громкое чуфыркание косачей. Чуть поодаль от родника, на полянке среди рыжей косматой летошней травы, распушив хвосты, метались черно-синие птицы. Наскакивая друг на друга, выдирая перья, решали в сражениях право на любовь тетерок, терпеливо ожидавших в сторонке исхода поединков. Тетерки замерли, слились окраской оперения с сухой косматой путаной травой, примятой зимними сугробами.
Подставив чайник под струю родника, Савватий с любопытством наблюдал за косачиными боями, их задорной горячностью.
Уже давно наполнился чайник ледяной водой, а Савватий не отрывал глаз от птиц.
Подбежав, борзая лизнула его руку, и только тогда он взглянул на чайник, улыбнулся, взял его и пошел к избушке.
Весело горел костер. Повесив чайник на рогульку, Савватий присел на пенек. Услышал шуршащий полет тяжелой птицы. Подняв голову, увидел, как глухарь, сделав два круга среди сухостойных лесин, опустился на сук дерева всего в нескольких саженях от избушки. Под тяжестью птицы сук скрипнул и заставил ее насторожиться. Не почувствовав для себя беды, глухарь отряхнулся, почесал клювом перья на груди. Он долго усаживался поудобней на суку, вытягивая толстую сизую шею, внимательно вслушивался в лесные звуки, покачивая головой с черной козлиной бородкой под клювом, будто с кем-то вежливо раскланивался.
Савватий следил за ним, не шевелясь. Красные веки временами томно прикрывали бусины птичьих глаз. Расслышав знакомый ему посвист самки, глухарь встрепенулся, медленно начал расправлять крылья, черно-бурые с примесью ржаво-красного цвета, потом нахохлил черноватые с пепельными крапинами перья на спине. Гордо закинув голову, победно крикнул, развернул веером хвост, вытягивая шею, мотая головой из стороны в сторону, закашлял, отчего мешочек под клювом надулся, бородка судорожно задрожала, будто птица захлебывалась водой, а из раскрытого щелкающего клюва полетела белыми клочьями вспененная слюна. Затем послышались звуки, похожие на точку косы.
Лучи взошедшего солнца осветили вершины сухостоя, они заблестели, как лакированные. Оперение на глухаре мгновенно окрасилось переливами сапфира.
Неожиданно близко залилась лаем борзая, гоняясь за кем-то по лесу. Глухарь, захлопав крыльями, сорвался с дерева, рухнул сперва вниз и, набрав высоту, улетел в сторону восхода…
* * *
Савватий сидел на завалине возле створы открытой двери. Намокшая от росы борзая, растянувшись, лежала у загасшего костра — видимо, в золе все еще сохранялось тепло. Савватию слышно, как в избушке храпит уснувший Тимоха, измученный бессонницей и кашлем. Савватий доволен, что хозяин, поспав днем, сможет легче коротать грядущую ночь. С мальчишечьей поры нажил Тимоха грудную хворь, когда, спасаясь ранней весной от медведя-шатуна, едва не утонул в студеной Вишере. Сородичи уверили Тимоху, что его болезнь лечит черемуховый цвет. Вот почему он ежедневно, хотя и держится еле на ногах, ходит в лог глядеть: скоро ли нальется душистый цвет на деревьях?
Время шло к закату. Тени погожего, теплого дня стали длинными и густыми. Колонны горелых лесин на фоне оранжевого неба видны резкими черными полосами. Вот-вот небо, раскаленное от солнечного жара, начнет остывать под сизыми наплывами сумерек.
Меньше месяца живет Савватий в избушке Тимохи, а ему кажется, что давно. Многое вошло за этот месяц в его жизнь после памятного мартовского утра, когда его вызволил из болота Тимоха. Случилось все как-то разом для Савватия, нежданно. Притаиваясь у Фотия, он начал свыкаться с мыслью, что проживет лето возле карнауховских золотых песков, встретится с приисковым людом. Но случилось такое, чего он не мог ожидать. В середине марта привез Фотию хозяйский нарочный припасы. За едой он порассказал: в городе только и разговоров, что о наезде царского сына. Как кипяток, ошпарила Савватия эта весть. Вновь его обратила давнишняя мечта, из-за которой тринадцать лет назад он начал знакомство с острогом.
Карнауховский нарочный уехал из глухомани, а для Савватия начались бессонные ночи. Опять давние мысли, оживая в разуме, убеждали, что должен снова попытать судьбу и передать в руки царского сына новую грамоту.
Бессонницу его приметил Фотий, стал расспрашивать о тревожности. Савватий без опасений поведал о своих замыслах и был удивлен и обрадован, что Фотий поддержал в нем уверенность.
Немало часов скоротали они в разговорах о том, как надо написать царскому сыну, чтобы он понял надобность вольной жизни для людей. Чтобы мог царевич вникнуть во всякую букву просьбы и задуматься над горемычной долей крепостного народа в горных заводах, на рудниках, промыслах.
Долгие часы проводили они в спорах. Фотий подал Савватию мысль: быть к приезду царевича поблизости от Екатеринбурга. Сказал ему, что на Березовских рудниках есть у него дружок, одержимый думой о вольности, рудокоп Иннокентий. Если Савватий явится к нему с приветом от Фотия, тот обязательно найдет для него укромную щель для житья.
Наступил день ухода Савватия. Фотий несколько раз старательно объяснил ему дорогу к Березовскому руднику, рассказал, как миновать большаки. Заставил запомнить названия деревень, наказал не заходить в них дальше околиц, потому сам слышал от нарочного, что ищут беглого бунтаря из Каслей, а кроме того, неповинных людей, взгляд коих не нравится большому и малому начальству, прячут в дальние, глухие углы.
Направляясь в Березовский завод, Савватий знал, что на его рудниках работные люди закрепощены казной. Знал Савватий и про то, что чаще всего выказывать возмущение начинали именно казенные люди, недовольные тем, что казна частенько отдавала их на посессионное право заводчикам и промышленникам. Живым товаром казна торговала выгодно: из хомута в хомут — и вся недолга! Только плеть барина да управителей и смотрителей-злыдней по-новому свистит над головой обреченного раба.
На четвертый день пути Савватия настигла внезапно налетевшая снежная пурга. Он сбился с дороги, перед самым Березовским заводом зашел в болото, из которого не мог найти выхода. В сумерки его встретил Тимоха — он возвращался с промысла и, сокращая дорогу к избушке, шел знакомой тропой по болотам.
С тех сумерек минуло три недели. Тимоха вместе с Савватием побывал в Екатеринбурге. Они навестили Емельяна Крышина. На Березовском руднике Савватий повидался с рудокопом Иннокентием. Тот, выслушав Савватия, загорелся его замыслом, но жить велел у Тимохи и реже обозначать себя на руднике, потому как новый человек сразу станет заметным стражникам охраны, которых нагнали больше нужного, ибо начальство знало, что народ на рудниках непокладистый.
Но Савватий все же бывал на рудниках, знакомился с надежными людьми, посвящал их в свой замысел. Иннокентий поддерживал его, а это усиливало доверие работного люда к Савватию. Однажды Иннокентий завел его в избу к молодой вдове рудознатца. Муж ее два года назад сгинул на разведке золота от когтей зверя.
Увидев Степаниду Митину, Савватий не мог оторвать взгляда от ее глаз, в которых таилась радость, будто они знали о том, чего еще не знал никто. В течение месяца он встречался со Степанидой несколько раз, а оставаясь с собой наедине, удивлялся: его память неизменно приберегала подробности общения с этой женщиной.
Степанида после смерти мужа не поддавалась настойчивым ухаживаниям смотрителя и была поставлена им на тяжелую работу возле толчеи…
Вот так жизнь людей — Степаниды, Тимохи, Иннокентия, — еще недавно неведомых Савватию, сливалась в одно русло с его жизнью. Ему было радостно, что, обретая в людях понимание, он находил в себе прежнюю уверенность для поисков пути к правде, о которой ему запретил забывать в Верх-Нейвинске Мефодий…
На небе пожар заката. А тут уже сумерки густили пряжу мглистости. Из избушки по-прежнему доносилось похрапывание Тимохи.
В дальнем логу начинали похохатывать совы.
Поутру, в начале пятого часа, в селении возле Березовских рудников подали голоса первые петухи, а на пожарной вышке жалобно взвыло чугунное било. По нему наотмашь колотил обушком караульный, пластина била, раскачиваясь от каждого удара, изменяла тональность призывного завывания.
На лесной вырубке, среди пней и уцелевших лесин, в приземистых рабочих казармах распахивались окна и двери. На волю выходили или высовывались из окон их обитатели — мужчины и женщины. Кидали взгляды на окружающее, на небо. Говорили о погоде, о том, что надеть на работу, а то молча кивали головой друг другу в знак приветствия…
Третье по счету майское утро вставало в золоте солнца, а потом начали наползать тучки, затягивая небесную голубизну сероватым пологом, как будто наскоро сметанным из лоскутов плохо отбеленного холста.
Недавний предрассветный покой округи, даже редко нарушаемый лаем собак, разом разрушило людское бурливое разноголосье, смешиваясь с петушиным пением, ржанием коней, мычанием коров. Под набат побудки люди наспех старались утолить постоянный мучительный голод от тощих казенных харчей и спешили на работу.
На Березовских шахтах наступало трудовое утро, и двести сорок работяг разных возрастов шли в штольни и штреки, к местам толчеи, к молотам кузниц, к тачкам и корытам, груженным отбитыми комьями горных пород, таящих в себе золото.
Изба Степаниды Митиной стояла на кромке лога, под плакучими березами. Побудка подняла раньше всех девочку Аниску. Проворно вскочив на ноги, она потянулась и подбежала к маленькому окну. Распахнула створки и, высунувшись наружу, увидела возле завалины привычную солнечную полоску, села на лавку и улыбнулась. Потом рывком встала и, шлепая босыми ногами, подошла к спавшей на лежанке хозяйке избы. Прикоснувшись к ее голому плечу, тихо сказала:
— Мамонька Стеша. Утро, чать.
— Не сплю, девонька.
— А глаза затворены.
— Неохота мне из них сон терять.
— Про что сон?
— Про радостное. Николка спит?
— Знамо дело. В утрешнюю пору его только водой можно от сна отлучить.
— Болезный он.
— Знамо, болезный. Водой его по утрам прыскаю из озорства. Он мне вроде брат.
Аниска волосом русая и голубоглазая. На кончике носа, на щеках песчинки веснушек. Девочка высокая ростом и до того худая, что всякий, кто ее видит, невольно думает: в чем только ее душа держится. Но по характеру веселая и быстрая в движениях.
Аниске шел десятый год. Она второе лето работает в штольне вместе с Николкой ползункой, вытаскивает на лямке корыта с кусками породы, отбитой кайлом и обушком рудокопа деда Иннокентия.
Аниска надела поверх серой холщовой рубашки кофточку из потерявшего цвет ситца и длинную юбчонку из мешковины с заплатами, перепачканную рудной ржавчиной.
Оглядела себя в зеркале, встав на цыпочки перед комодом.
Степанида Митина миловидна и тоже русоволоса. Одевшись, она перед тусклым зеркалом причесывала волосы. Аниска, поглядывая на нее, прыскала в кулак.
— Чего веселишься? — спросила Степанида.
— Ты меня на смешок наводишь. На воле солнечные зайчики, и в глазах твоих лучики.
— Сказывала, что сны хорошие глядела.
— Да про что?
— Мало ли. Пойди чайник вскипяти.
— Николку разбудить?
— Пока не тронь. Опять у него сердце болело. Только под самое утро заснул.
— Пусть спит.
Аниска выбежала из избы, а Степанида крикнула вслед:
— Умыться не позабудь!
На широкой лавке, головой к переднему углу, спал, укрывшись овчиной, паренек Николка, одногодок с Аниской.
Степанида, повязав голову платком, помыла лицо под рукомойником. Перекрестившись, поставила на стол три кружки. С полки взяла початый каравай ржаного хлеба. Отрезала от него три толстых ломтя, густо посыпала их солью, положила возле кружек.
Степанида, овдовев, тяжело переживая одиночество, выпросила у рудничного управителя разрешение взять в избу Аниску и Николку. Ребятишки до этого жили в казарме среди пятнадцати других ребятишек — сирот, у которых родители измочалили себя до смерти на рудниках.
С Аниской и Николкой было по-другому. Возле Березовских шахт появились они семи лет от роду. По руднику среди женщин бытовала молва, что ребятишек приписали в казенную неволю по приказу Горного управления, отобрав ребят в женском монастыре, к воротам которого они были подкинуты еще младенцами.
Мурлыча песенку, Аниска вернулась в избу с чайником и, поставив его на стол, вновь взглянула на себя в зеркало.
— Умылась? — спросила Степанида.
Девочка под рукомойником поплескала водой на лицо, вытерлась рукавом кофты.
— Косу переплети.
— Переплела уж.
— А локоть когда успела ободрать?
— Вчерась в мокром штреке.
— Опять без налокотников робишь?
— В них неловко.
— Беречься должна. Чать, девчонка ничего себе. С ободранными локтями и коленками кто тебя замуж возьмет?
— Не больно и надо. Так проживу. Ты вон какая баская, а вдовеешь.
— С чего вдруг про это вспомянула?
— Потому и вспомянула. Чать, вижу, как подолгу уснуть не можешь.
— Ладно, ладно, всевидица. О вас думаю, вот и не сплю. Родными мне стали. Своими-то Господь обошел.
Степанида погладила девочку по голове, прижала к себе; увидев в косе обтрепавшиеся концы выгоревшего лоскута, вздохнула. Достала из сундучка синюю ленту:
— На вот, вплети в косу.
— Мамонька Стеша, неужели навовсе отдашь?
— Молчи и вплетай, разговорчивая.
Аниска быстро вытащила из косы старую ленту и, начав вплетать синюю, спросила:
— Мамонька Стеша. Седни суббота, может, лучше завтра вплету, как к обедне пойду.
— Сейчас вплетай. Не нищенка, а работница горная.
— В штольне-то она намокнет.
— Не беда. Прячь косу на спину под рубаху. Да не рассуждай, ради Христа, по пустякам. Глянь, сколь время?
Аниска взглянула на ходики, висевшие на стене, и засмеялась:
— Да они еще вчерась остановились. Позабыли гирю поднять.
Девочка снова подошла к зеркалу.
— Не можешь на себя налюбоваться?
— Вовсе не то. Погляди, сколь у меня гречки на носу.
— Весна, вот и веснушки.
Аниска метнулась к рукомойнику, намочила руку, хотела брызнуть Николке на лицо, но Степанида остановила ее:
— Не тронь. Одна седин поробь. Иннокентию я скажу. Парнишка крепко занемог.
— Как велишь. И то одна управлюсь. Чать, управлялась ране.
— Поди тяжело будет?
— А когда мне легко? Завсегда из Николкиного корыта в свое породу перекладываю.
— Смотри не надсадись.
— Все лучше, чем от смотрительской плети приплясывать.
— Разве?..
— Да ладно, мамонька Стеша. Хлестнет — поболит и проходит.
— Садись. Ешь.
В это время от казарм в окружении женщин, девушек, парней и мужчин, выделяясь из всех своим высоким ростом, шел с кайлом на плече рудокоп дед Иннокентий.
Поравнявшись с избой Степаниды, он отстал от народа, а подойдя к открытому окну, заглянул в него и громко спросил:
— Никак спите?
— А вот и нет. Ране тебя встали, чай допиваем, — ответила Аниска.
— Николка как?
— Плох! Не бужу седни. Можно? — спросила Степанида.
— Должно так. Пусть спит.
— Мы так и решили, — сказала серьезно Аниска.
— Как смотритель на такое взглянет? — вздохнула Степанида.
— Этого чёмора под свою десницу беру. Буду его на глазу держать. Пошел я.
Аниска с куском хлеба в руке выпрыгнула в окошко, крикнув:
— Будь здорова, мамонька Стеша!
Догнав деда Иннокентия, она, широко шагая, шла с ним рядом, путаясь ногами в обтрепанном подоле юбчонки.
Народ на рудниках почитал Иннокентия за свою совесть. К нему шли за советами для разрешения всех личных докук, и никому он не отказывал в помощи и добром слове. Считалось с ним начальство рудников, а смотритель Нестор Куксин под взглядом рудокопа переставал шевелить языком, потому не раз испытал на себе крепость горняцкого кулака, когда слишком переступал порог крепостного беззакония.
Тихий, при кремневом характере, Иннокентий из шестидесяти семи прожитых лет пятьдесят отдал рудникам.
Суеверное начальство признавало за Иннокентием большие знания золоторудного дела, а главное, было уверено, что он ведун, постиг колдовство, за это люб великому Полозу — хранителю уральского золота, потому в любой шахте, в любой штольне, где рушит породу кайло или обушок старика, там неизменно водится жирное золото.
Люди об Иннокентии знали много диковинного, и было одно диво, о котором сказывают, а у слушателей мурашки начинают щекотать спину. А дело такое. Лет шесть назад за открытую Иннокентием богатую золотую жилу в кварце с медной зеленью начальство решило дать ему вольную. Это ли не самая заветная мечта крепостного человека? Но Иннокентий заставил начальство онеметь от удивления, когда потребовал дать вольную всем, кто вместе с ним начал работать на Березовских рудниках. Конечно, желание его не выполнили, но и сам он наотрез отказался от вольной, оставшись в одинаковом положении со всей крепостной братией.
* * *
В полдень пролился крупный дождь. Он так сердито клевал землю каплями, будто собирался пробиться в подземелье, в шахты. Лил недолго. Как нежданно начался, так внезапно и кончился. Потом солнечные лучи прожгли тучевой полог и радостно принялись высекать блестки в лужах.
Шахты и штольни по Березовскому угодью раскиданы неподалеку друг от друга. Кипела возле них разнообразная работа, стоял шум, от которого могло стать не по себе. Тут крики, ругань — мнимая помощница в тяжелой работе, редко слышны пересмешки. От горных выработок — шахт и штолен — тянулись к большим кучам породы ленты деревянных плах, вдавленных в землю. По ним женщины и девушки в тяжелых тачках отвозили добрую породу к навалу. Колеса тачек пронзительно взвизгивали. Возле воротов, подымавших бадьи с породой, фыркали и ржали кони. От больших куч породу снова на тачках, снова женщины и девушки возили в амбары к толчеям.
В амбарах — грохот. Над широкими корытами, обитыми железом, висели бревна-песты. На их концы были насажены литые из чугуна наконечники. На наковальни, под песты, ребятишки ложили комья породы. Женщины надевали на плечо лямки, прилаженные к веревке, скользящей по колесу, оттягивали песты на высоту сажени, потом, сбрасывая лямку, отпускали пест с грузилом в двадцать пудов, а он, падая, дробил породу на мелкие части. И так без конца.
Перед амбарами на наковальнях старики и парни молотами дробили такую же породу, а раздробленную в толчеях и молотами отвозили на подводах в грохоты Березовского завода для окончательного размельчения. Потом вымывали золото.
Тяжела работа рудокопов под землей, но нелегка она и на земле.
Шахты и штольни Березовских рудников славились на Урале богатством жильного золота, но также и тем, что содержащие его твердые кварцевые породы с великим трудом отдавали в руки людей драгоценный металл. Самым страшным бичом рудников были подземные воды, заливавшие шахты, штольни, штреки и нередко губившие людские жизни. Вода появлялась неожиданно. Ее откачивали ручными насосами день и ночь, но она не убывала, тогда пробитые с таким трудом штольни приходилось бросать. После многоснежной зимы воды было особенно много.
Люди в промозглых подземных норах, промокая до костей от воды, окисленной разными металлами, при сальных свечах кайлами и обушками вгрызались в глубины золотоносных пород, вели мозолистыми руками единоборство с природой.
По узким штольням с глубины в пятнадцать-двадцать сажен, задыхаясь от удушливого воздуха, подростки, где на четвереньках, где ползком, выволакивали в корытах из забоев куски породы и, выпростав корыта, вновь заползали в штольню за новым грузом. Работа шла с шести утра до густых сумерек.
Управлял Березовскими рудниками Карл Францевич Блюме с помощью нескольких смотрителей на разных рудничных угодьях.
На одном из угодий таким смотрителем был Нестор Куксин. Попал он на эту должность десять лет назад, когда его хозяин, владелец медных рудников, разорился и казна за долги отняла у него рудники с приписанными к ним живыми душами, в числе которых был и сам Куксин.
Горное управление за ретивое обхождение с работным людом определило его смотрителем на это угодье.
Куксин развернулся на новом месте вначале жестко, но вскоре на путях его бесчеловечия появились смелые люди, вроде работницы у толчеи тетки Глафиры, кузнеца Павла, деда Иннокентия, и ему приходилось, похлестывая людей нагайкой, поглядывать по сторонам, чтобы не быть битому под мешком.
У Блюме смотритель Куксин был на хорошем счету, но и тот предупреждал его быть осторожным. Куксин умел перед начальством, особенно с кокардами, угодливо в поклонах складываться пополам. Умел выслужиться доносами перед полицией и горной стражей.
Беспощадный к работным людям, он был снисходителен к тем из них, кто соглашался содействовать ему в краже золота. Сам помогал управляющему обогащаться, скупая для него за бесценок золото, выносимое хищниками-старателями из горных заповедных мест, известных пока только им.
Прошедшую ночь смотритель Березовского угодья дома не был. Возвращаясь в полдень верхом, он попал под дождь и промок. В тяжелом похмелье, обозленный тем, что дождь залил его новую бордовую поддевку, он прежде всего, чтобы на ком-то сорвать злость, поехал к амбарам с толчеями. В амбар въехал прямо на коне и остановился около толчеи, на втором песте которой работала Степанида Митина.
Оглядев Степаниду, он громко крикнул:
— Как послалось, бабоньки?
Одна из женщин, хохотнув, ответила:
— Да какой сон, когда по тебе всех тоска грызла.
— Ну ты у меня гляди. Языкатая.
— Сам спросил. Ответила.
Не сводя тяжелого взгляда со Степаниды, Нестор поманил ее пальцем:
— Подойди ко мне.
— Я отсюда тебя вижу.
— Подойди, говорю!
Глафира, работавшая у первого песта, натягивая веревку, прошла совсем рядом с конем и ткнула его гвоздем в бок. Конь тотчас вздыбился, а смотритель грохнулся на дощатый грязный пол. Глафира, сочувственно охая, наклонилась над ним, помогая ему подняться, сердобольно причитала во весь голос:
— Надо же! Господи, как же вы неловко уронили себя, Нестор Лукич, да еще в новой лопотине, а у нас как на грех грязновато.
Куксин заорал на Глафиру:
— Ты меня с коня сшибла!
— Бабоньки, чуете, чего на меня клепает? Да разве посмею такую особу пальцем тронуть? — Глафира кричала не своим голосом с расчетом, чтобы услышали мужики, коловшие породу возле амбаров.
— Молчи! Перестань голосить, как чушка под ножом.
Но ее крики мужики услышали, с молотами в руках столпились в воротах амбара. Глафира обращалась теперь уже к ним:
— Оговаривает меня. Винит, что я его с коня скинула. Да разве хватит у меня силы?
— Молчи, дура! Пошли вон, мужики! Не в себе баба от дурости.
Прихрамывая, расталкивая мужиков, смотритель поспешил уйти
из амбара. Увидев стоявшую у входа свою лошадь, он изо всей силы огрел ее нагайкой, и та понеслась по руднику. Из амбара доносился заливчатый женский смех.
Смотритель, заложив руки за спину, волочил по земле нагайку. Медленно, пошатываясь, шел к пятой шахте, у которой парни и девушки откачивали воду ручными насосами. Поглядев на работу, пожевав недовольно губами, Куксин хлестнул ближнего парня по спине. Тот, вскрикнув, смачно выругался, но смолк, увидев смотрителя. Подойдя к штольне, Куксин оглядел сваленную в кучу породу, припачканный железняком кварц, присел на корточки и крикнул:
— Иннокентий!
Не услышав из штольни ответа, крикнул еще раз, но в этот момент из штольни вылезла Аниска и выволокла на веревке корыто с породой. Щурясь от яркого солнца, девочка стояла перед смотрителем в мокрой, перемазанной глиной юбчонке.
Оглядев девочку, недовольный тем, что не услышал от нее приветствия, смотритель сердито спросил:
— Парнишка где?
— Дура! Николка где?
— Хворает. Дома лежит.
— Кто дозволил ему дома лежать?
— Я с мамонькой Степанидой. За двоих седни роблю.
Оглядев в корыте куски породы, смотритель зарычал:
— Опять помалу таскаешь?!
— Сколь кладу, столь и вытаскиваю. Седни вода деда долит, по колено в ней в потемках долбит.
— Врешь! Ленишься, паскуда!
Смотритель неожиданно схватил Аниску за косу и поставил рывком на колени.
Аниска закричала:
— Отпусти косу! Ленту помнешь! Новая лента!
— Я тебе покажу ленту! Целуй, паскуда, сапог!
Аниска, заливаясь слезами, кричала:
— Добром прошу, отпусти косу! Ленту пожалей! Бей нагайкой, но ленту не мни! Подаренная она!
Бросив тачки, на крики Аниски бежали женщины и девушки, оставив насосы, мчались парни, от амбаров тоже поспешали люди.
Смотритель яростно тыкал голову Аниски в свои грязные сапоги. К смотрителю подскочила Степанида, вырвала косу Аниски из его рук и замахнулась на него лопатой, но не ударила, услышав за своей спиной голос Иннокентия, появившегося из штольни с мокрым кайлом.
— Обожди, Степанида.
Увидев Иннокентия, Куксин хотел уйти, но натолкнулся на плотную стену женщин. Иннокентий, оглядев вымазанное грязью лицо Аниски, сдержанно сказал смотрителю:
— Лукич, вытри Анискино личико платочком.
Смотритель, сплевывая сквозь зубы, огляделся по сторонам.
Увидев вокруг себя живое кольцо с недобрыми взглядами, вынул из кармана платок и начал вытирать лицо Аниски. Смотритель вздрогнул, услышав хриплый голос:
— Чего сдеялось?
В кольцо рабочих вошел кузнец Павел, черный, лохматый, держа в руках клещи, в которых калил железо в горне. Клещи были горячие, потому зашипели, когда опустил их на мокрую землю. Посмотрев на Аниску, кузнец молча клещами захватил на груди смотрителя поддевку и раздельно спросил:
— Ты никак позабыл, что давал слово ребятишек не обижать?
— Ты что, Павел? Пальцем ее не задел.
— Чем обидел тебя, Аниска?
— В сапоги морденкой тыкал.
Кузнец притянул смотрителя клещами к себе и сказал:
— Удавить тебя, кат? Долго будешь мучить людей?
Смотритель рванулся, захваченное клещами сукно поддевки затрещало и порвалось.
Кузнец не отпускал клещи.
— Остатний раз упреждаю… А теперь ступай!
Смотритель, не подняв оброненную нагайку, вышел из толпы, втянув шею. Он ожидал услышать за спиной людскую насмешку, но толпа молчала. Кузнец положил клещи на плечо и сказал:
— Ну чего, братцы? Робить надо…
Суббота на пути к полуночи. В вешней темноте сгинул Березовский рудник, слышно только, как собаки лают по-буйному. Возле рудничных конюшен и смотрительского двора псы на все голоса изводят себя до хрипоты. А все оттого, что пятую ночь, по приказу смотрителя, спускают их с цепей вольно бегать и кормят через день, чтобы злее были.
Работяги на руднике по-разному толкуют о причинах, вызвавших приказ, но все в один голос согласны, что отдан он смотрителем неспроста.
Действительно, Нестор Куксин отдал распоряжение после того, как порвал кузнец ему поддевку, тогда от бессонницы завелось у него опасение, что, не ровен час, могут ночью навестить его рудокопы. Кроме того, весенние ночи стоят темные, а это ли не подмога тем из мужиков, коим не по душе начальственная особа смотрителя.
Куксин принял во внимание, что за Аниску рудничные бабы на него обозлились. Со слезой жалели обиженную девочку, да и кого из ребятишек не покусывала его нагайка. Куксину известна великая сила материнской жалости, может она разжечь и мужскую злобу против него.
Сегодня смотритель засветло подался с рудника, но, опять на удивление обитателей, не верхом, а в тарантасе и прихватил с собой двух дюжих конюхов…
Суббота все ближе к полуночи. Несмотря на позднее время, на руднике мало кто спит по разным на то причинам, да и нерабочий день завтра. Вешняя пора суматоху в людских разумах заводит. Черемухи окрест по логам цвет набирают. В лесах совы взахлеб хохочут. Конечно, у сметливых уральцев на вешние совиные хохотки водится исконная дедовская примета. По ней выходит, что именно ночами перед цветением черемух шалопутные лешии о рогатины сучков счесывают с себя зимнюю шерсть, а совам это забавно, вот и заливаются пересмешками, будто ребятишки от щекотки. Для сов ночная темнота не помеха, они и в ней любую бедокурь нечистой силы углядывают…
Всего сажен сто с небольшим гаком до лесной дремучести от приземистой казармы, обжитой рудокопами-бобылями. Два ее окна растворены настежь, и слышен из казармы людской говор. В одном окне, свесив ноги на волю, сидит дозорный парень, слушает — не заскоблят ли тропку шаги какого путника, потому не надо мужикам, чтобы кто-нибудь прознал, о чем трудно беседуют в такой поздний час. За спиной парня мужики в темноте разговаривают. Беседа настолько затянулась, что в фонаре давно погасла сальная свеча, а другой в запасе не оказалось. Пришел к мужикам из лесу Савватий Крышин со своим дружком Тимохой, коего все еще донимает удушливый кашель.
— Что же это, братаны, деется? Который час по-всякому словами кидаемся, а Савватий молчит. Будто нет его осередь нас. Мы его слова-совета ждем, а он молчит. И выходит, будто нет у него внимания к нашим словам. Может, в обиде на нас. Пусть выскажет ее. Виноваты — повинимся. Только, по моему понятию, его советы вроде стороной не обходили.
Савватий знал: говорил рудокоп Гаврила Соснин. Хмурый с виду мужик был Савватию приятен. Умел он о самом важном говорить просто, с душевной теплотой.
Все, о чем сейчас высказывались рудокопы, Савватию хорошо известно, но он внимательно вслушивается в мужскую откровенную беседу, улавливая новый смысл их житейских тревог и забот. Люди старались нащупать путь для защиты себя от притеснений, чинимых таким же, как они, крепостным, только облеченным властью смотрителя, дающей ему право унижать любого, кто на руднике носит звание работного человека.
— Так домышляю, братаны, — продолжал Гаврила Соснин. — Как ни верти, а сдается мне, что смотритель укатил к управителю дознаться, как ему быть с кузнецом-обидчиком. Надо Куксину заполучить дозволение наказать кузнеца, а заодно и нас.
— Так он же куснул, и неплохо.
— Верно. Куснул, но ему мало. Это он только свою ярость на нас выместил.
— Нам даже лишку, а ему мало. Вот и подался, чтобы теперь управитель свой гнев на нас излил. Куксин наказал, но не порол. Со стороны начальства даже милостиво. Кузнецам рабочий день удлинил на два часика. У нас, работяг, от хлебного пая две осьмушки оттяпал да, как привесок ко всему, еще один постный денек завел. Опрежь их было три, стало четыре. Вот, Савватий, и надо нам услыхать от тебя, как поступить. Терпеть ли изгальство безропотно либо выказать какую нашу рабочую волю? Еще раз сказываю. Советов твоих опрежь не ослушивались. Посему подай голос.
— Голос подать — небольшой труд, — сказал Савватий громко, но, помолчав, начал говорить спокойно, отделяя слово от слова. — От вас, мужики, мне ваше бездумное послушание не надобно. Мне надобно ваше ясное разумение, чтобы на любом житейском решении вы друг дружку по-крепкому плечом подпирали. В чем у вас надобность объявилась? В том, чтобы Куксин сделал на носу зарубку. Трудовой люд на руднике в помыслах о человечьих правах слитно укрепился. Когда надумает по-сурьезному оборонять свой покой, то не сдрейфит перед смотрительским кулаком и нагайкой, у работяг пониже спины заячьи хвосты не вырастут…
Слова Савватия прервали несколько возгласов:
— Дельно говоришь.
— Дума наша такая.
— В дружбе правда.
Савватий продолжал:
— Слушал сейчас высказы и должон признать, что на словах в храбрости у вас недостачи нет. Даже страшновато становилось за Куксина. Но одна беда. Храбрость ваша больно разнобойная. Нет в ней единой умной ярости, коя должна сжать пальцы в один кулак до окаменелости. Несмотря на темноту, чую, сколь неприятны сказанные слова, но сызнова должон напомнить вам про хлипкость из-за неустойчивости в разумах. Припомните, как поступали, когда смотритель обижал Аниску? Со стороны поглядывали. Женщины уже окружили его тесным кольцом, а вы только начали подходить. Немало мужиков глядело, как Куксин изгалялся над ребенком, а заступиться за Аниску смелости хватило только у Иннокентия да у кузнеца. Так аль не так?
На вопрос из темноты кто-то ответил шепотом:
— Так. — Но, откашлявшись, добавил полным голосом: — Ты, того, Крышин, не позабывай принимать во мнение, что у нас, мужиков, была к тому особая причина.
— Не вижу особенности в вашей причине. Причина давнишняя, мужики. Покорность злу. Смиренно предаем себя власти другого. Веками смирение в наших мыслях по наследству накапливалось. Куксин был один, да плеть в руке. А вас много. Но лишь кузнец пересилил в себе покорство и дал волю рукам, хотя не раз был порот нагайками. Что помогло кузнецу забыть повиновение?
— Жалость, понятно. Чать, забижали ребенка.
— Нет, не жалость. Кузнец сумел заставить себя понять, что есть у него, крепостного человека, право защищать не только обижаемого ребенка, а защищать всякого, обиженного несправедливо. Вижу я: не все еще мужики уразумели, что от смелости кузнеца у барского холуя Куксина объявился испуг. Верьте на слово. Кузнеца он теперь боится. Жалею, что не пришел к нам сейчас кузнец. Поклонился бы я ему до земли. Не пришел кузнец на нашу беседу из-за обиды. На вас обиделся до горячности в крови. Нашлись среди вас умники, кои заместо благодарности обвинили кузнеца в том, что из-за его заступы смотритель отнял две осьмушки хлеба. Так, али не так? — Не услышав ответа, Савватий продолжал: — И с Гаврилой на сей раз не согласен. Смотритель укатил к управителю не жаловаться. Шкуру свою укатил спасать. Потому знает, что попадет на орехи, ежели, не дай Господь, управитель узнает о постигшем Куксина на руднике конфузе. Так об этом думаю, так и понимаю. Вот сказывал Гаврила, что кузнецам рабочее время начислили.
— Верно Гаврила сказывал.
— Не спорю. А как кузнецы отнеслись к смотрительскому приказу? Знаете?
— Известно как. Выполнили.
— Спрашивали кузнецов?
— А зря. Следовало бы полюбопытствовать. Увериться, как кузнецы после смелости товарища по-иному взглянули на смотрительскую волю. Кто из кузнецов осередь нас?
— Я тута, Савватий.
— Кто таков? Не угляжу.
— Кто? Прохор Шептун.
— Сделай милость, скажи мужикам, как лишние часы робили.
— Глядели сложа руки, как уголья в горнах дотлевали.
— Все слышали? — возвысил голос Савватий.
— Знамо дело.
— А теперича подошло время припомнить, мужики, про ваше позавчерашнее твердое решение. Слыхал, собирались не прикасаться к урезанному хлебному пайку, а за ночь другое надумали и хлеб без двух осьмушек взяли. Видать, побоялись отощать?
— Аль не впроголодь живем? — вопросил бас. — Семейным, тем легче. Мукой получают. Отнятые осьмушки привесом перекрываются. А нам, холостякам да бобылям, как быть? Без хлеба жить?
— К чему сейчас про это упомянул? Не корить хотел, а чтобы поняли: вам, мужикам, сызнова женщины носы утерли и сызнова своей разумной слитностью. Женщины слов на ветер не кидали, не хвастались, а все, как одна, отказались брать хлеб и муку без двух осьмушек. И попомните мои слова. Твердостью заставят Куксина отменить незаконное приказание.
— Гляди, Савватий, не споткнись на этой надежде. Ни в жисть Куксин не отрекется от своего приказа. Карактера его не знаешь. Потому вроде новый ты человек осередь нас, — на одном дыхании выкликнул визгливый голос.
— Чужаком тебе кажусь? — укорил Савватий.
— Именно чужаком.
— Назовись, кто будешь?
— Изволь. Лаптевым на Камне значусь.
— Слыхал про тебя. Будто в дружки к Куксину набивался? Ходил к нему жалеть порушенную поддевку, да только малость ошибся — заместо благодарности он тебе крепко по шее дал. Ты тот Лаптев?
Из темноты за Лаптева ответил молодой голос:
— Он самый и есть!
В казарме раздался дружный смех, но Лаптев в свою защиту выкрикнул:
— Не жалеть я ходил к смотрителю! Дознаться хотел, что надумал для нас недоброго. Чать, весть про восьмушки я людям принес.
— Ты до конца сказывай про свое хождение! — потребовал Савватий.
— Скажу! Окромя всего говорил Куксину, что возле рудника в лесах беглый Савватий хоронится.
В казарме угрожающе загудели. Визгливый голос Лаптева перекрыл шум:
— Опять же надо мне было дознаться, каким манером к такой вести отнесется, чтобы в случае чего упредить Савватия. Смотритель сказанному не поверил и выдал мне пару зуботычин…
В казарме наступила та особенная напряженная тишина, которая обычно длится недолго, и нарушил ее сдавленный волнением голос:
— Уйди отселева, Лаптев.
— Погодите. Дайте мужику все сказать, — попросил Савватий.
— Истинный Господь, мужики, за небылицу Куксин весть о Савватии посчитал. Так было. Не прогоняйте! — слезливо просил Лаптев.
— Сиди, — сказал старческий чей-то голос, но все узнали деда Иннокентия.
И в тот же миг в открытые окна донесся звериный рев. Парень, сидевший в окне, крикнул:
— Мужики! Никак косолапый по руднику бродит!
Савватий посоветовал парню:
— Коли страшно, то перекинь ноги к нам.
Казарму всколыхнул смех.
— Загоготали! Чать, я про дельное, — обиделся парень.
Мужики враз заговорили, обсуждая оказию:
— Скажи на милость, позавчерась был медведь и опять заявился.
— У зверя от мурашиного спирту в голове чехарда.
— Нажрется мурашей и куролесит.
— А мы давеча дивились, чего это псы надрываются.
— Не потревожил бы пасеку. Зверь к меду рвется.
— Да какой тебе мед об эту пору? Вовсе на днях колоды выставили…
— Все одно зверь медовый дух от них чует.
— Вот пора подошла…
— Чего весну хулишь? Скоро черемуха цвет выльет, и не станет кашель мою грудь скоблить.
— Бедняга ты, Тимоха. Дивимся, как живешь с эдакой хворостью.
Как бы в ответ на последние слова Тимоха удушливо закашлялся, а из темноты Савватию неожиданно задали вопрос:
— Тебя, Крышин, плетями стегали?
— По-всякому, да и по зубам в острогах перепадало, — ответил Савватий.
— Архип, будет любопытствовать, — строго сказал Иннокентий.
— Как дознался, что я молвил?
— Всех вас по голосам наторел распознавать. Теперича помолчи.
Переждав приступ кашля Тимохи, Иннокентий спросил:
— Велишь понимать, Савватий, будто на сей раз учуял Куксин нашу гневность?
— Да он ее всегда чуял. А ноне уверился: можете дать ему отпор. Ежели поймете, что слитность — ваша сила супротив самоуправства Куксина, то заставите его всурьез призадуматься, как ему осередь вас вышагивать. А про хлеб натвердо порешите. Встанете в ряд с бабами, добьетесь, что не посмеет Куксин обворовывать вас осьмушками. Понятно, вступить в спор с брюхом вам боязно, но придется. Всю жизнь не досыта едите, вот и отыщите в разуме зацепку, как потуже на животах затянуть опояски.
— Выходит, даешь наказ? — вступил Гаврила Соснин.
— Наказа не даю, а советую. Сами спрашивали. Ваше дело — поразмыслить. В жизни без смелости и канаву не перешагнешь. На нашем пути много канав понакопано, и все до единой придется перешагивать. Не раз вам говаривал. При решении любой заковыки главное — не забывать, что в краю Уральском вся людская жизнь нашими руками излажена. Все в здешней земле отыскано нашими руками и разумом. Работный люд железо с медью нашел, самоцветы, своими слезами золото вымывает. Так неужели ему не под силу отыскать для себя тропу, коя выведет его к надобной правде? Есть эта правда, мужики! Должны мы ее обязательно отыскать, потому без нее жизнь в тягость!
Вновь донесся рев зверя.
— Мужики, да он вовсе близко. Надо взглянуть, весной косолапый спросонья дурнее зимнего шатуна.
— И то верно! Досыта наговорились! Решение про хлеб обмыслим! — заключил Соснин.
Рудокопы выходили из казармы не торопясь. Кое-кто из них поеживался от холодка весенней ночи. Савватий выбрался на волю с Иннокентием.
— Бывай, Крышин. До пасеки дойду. Может, и впрямь медведь бедокурит.
— Сторожись, дед, — ответил Савватий.
— Не замай. Об Аниске не тревожься. Она при мне, но есть дума, что Куксин зачнет к Степаниде вязаться.
— За этим я догляжу. Понадобится, так и побеседую с ним с глазу на глаз, — недобро отозвался Савватий.
— Ты что? Тебе сторожиться надобно.
— Одним словом, о Степаниде заботой себя не докучай.
— Рисковый ты мужик, Савватий! Только послушай старика. Под ноги ладом гляди. Степанида тебя присушит, вольность спеленает, а будет ли тебе от сего радость? Она в крепостных путах, а ты в бегах.
— Души у нас вольные. В каменном мешке, а думка на воле.
— По эдакому судишь?
— Так, — твердо сказал Савватий.
— Тебе виднее. Опрежь по-твоему судил, да дал промашку. Потому, видать, не нашлось ума распознать бабью душу.
— А жизни без промашек не бывает. Зверя все же в эдакой темени сторожись, — посоветовал Савватий.
— Спасибо на добром слове…
Савватий, расставшись с Иннокентием, пошел к избе Степаниды Митиной и вскоре невольно вздрогнул, уловив шорох встречных легких шагов. Шаги торопливы. Тихо произнес:
— Ты, Стеша?
В ответ услышал ласковый голос:
— Да кому же быть еще?
Подошла Степанида. Дышит порывисто.
— Никак бежала?
Степанида положила руки на плечи Савватию и по-быстрому заговорила:
— Понимай. Напужалась, когда Тимоха из казармы без тебя пришел. Ты-то где, думаю? Экая темень. Медведь ревет. Ишь как темно, аж лица твоего не вижу.
— Полуночь скоро, а не спишь, — не то с укором, не то обрадованно сказал Савватий.
— Ложилась, да разве до сна? Псы будто вовсе одурели.
— Зверя чуют.
— Пойдем, — попросила Степанида.
— Постой. В твоих глазах, Стеша, искорка от звезд блеснула.
— Придумаешь тоже.
Степанида, склонив голову, прижалась лбом к груди Савватия, а он, боясь пошевелиться, гладил рукой мягкие волосы.
— Пойдем, — повторила просьбу Степанида, и они, прижавшись плечом друг к другу, медленно пошли. — Совы седни хохочут все одно что девки на посиделках. Знаешь, чего боялась? Вдруг не нашел бы мою избу в темноте?
— Скажешь, неверно шел?
— Нет, вроде верно, но тута две тропы.
— Но обе к твоей избе.
— Точно, — сказала Степанида.
Когда подошли к избе, Савватий предложил:
— Посидим на завалинке, Стеша, а то ребятишек побудим. Окно надо прикрыть.
— Душно в избе. Комары еще силы не взяли.
— Тимоха на сеновал спать лег?
— Должно там. Рада, что кашель его реже бьет.
— Как Аниска?
— Лучше не спрашивай. Беда с ней. Эдакая бесстрашная. Подумай. Вчерась возле штольни столкнулась с Куксиным и поклона не отдала.
— Молодчина!
— Хвалишь? Он ведь ей этого не простит. Припомнит при случае.
— Вряд ли после клещей кузнеца.
— Смелость в девчонке завелась, как тебя узнала. Слушает наши разговоры, ну и воображает.
— Побольше бы таких Анисок. С ребячьих годков надо гнездить в их разумах помысел про людскую вольность. Не от меня, а от тебя в Аниске храбрость. Скорее, это светлость разума, потому возле тебя живет, твои руки радость материнскую ей дарят. Я раненько этой радости лишился.
— Не тревожь память. И так устал через край. Холодно, Савватий, как подумаю, до чего неухоженная у тебя жизнь.
— Сам такую выбрал.
— Для людей надумал жить?
— Так вроде. Только уж больно много у меня всяких вопросов накопилось, иные есть трудные.
Савватий ждал, что Степанида сейчас спросит, какие же у него трудные вопросы, но она спросила о другом:
— По какой причине мужики на беседу с тобой женщин не позвали? Ведь обидели нас по-крепкому. А зря. Без нас мужикам трудно. В одной упряжке робим. А они нас обидой одарили.
Помолчали. Степанида сокрушенно вздохнула:
— Как же ты-то не надоумил мужиков не обижать нас?
— Верно говоришь. Вышло неладно. Правду таить не стану: мне об этом мысль в голову не пришла.
— А все от мужицкой гордыни. Слов нет, силой мы поотстали, но душевностью далеконько вас обошли. Главное, у нас передо всем в жизни страху меньше. Лишает нас страха материнство. Слушая меня, поди, ухмыляешься, пользуясь темнотой?
— Славно говоришь. Душа у тебя добрая, с ясным светом. Возле тебя и мне радостно, Стеша. Возле тебя про все тягостное, что ношу в разуме, позабываю. Только возле родимой матери было мне так радостно.
— Что тебе хорошо со мной, я поняла по твоим глазам. Вижу иной раз, что нужна тебе моя помощь. Вот сказал, что вопросов у тебя много, а отчего не скажешь, в чем их трудность? Может, считаешь, не пойму? Ума не хватит, так душа — тоже неплохая советчица. Аль неверно?
Савватий взял Стешу за руку и почувствовал в ней дрожь.
— Продрогла?
— Нет. Слова твои разволновали. Пройдет. Меня завсегда знобит, как разволнуюсь.
— Правду сказал.
— Счастье мне подарил, а оно мне ох как нужно! Греха в том не вижу. Дай срок, и у меня для тебя радость найдется. Должна осознать, смогу ли тебе покой возле себя наладить.
— Стало быть, не против того, что возле тебя?
— Как просто о таком спросил. Да эдак сразу.
— Сразу и ты ответь.
Степанида встала. Ходила возле завалинки. Савватий не видел Степаниду в потемках, но слышал ее легкие шаги.
— Звезды-то седни какие. Поди где-то осередь них и моя.
— Обязательно. Вот та, самая светлая, да и свет у нее синевой отливает. Родная ты мне, Стеша. Без тебя мне в жизни нельзя быть.
— Это так. Тебе одному в жизни нельзя быть. Мы по ней обязаны вместе шагать. Слитно, рядышком, взявшись за руки.
— Стало быть?..
— Что ты? Погоди! Сейчас про такое не спрашивай. Чуток обожди. Сама про такое скажу. Обязательно скажу…
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
1
К встрече наследника престола Екатеринбург приготовился и считал дни до его приезда.
Василису Карнаухову в эту майскую пору одолевали совсем другие заботы, заставившие ее больше думать не о приезде цесаревича и не о прибывшем домой собственном сыне, а серьезно размышлять о новостях, которые ей привез из Петербурга человек, присланный верными столичными друзьями. Она узнала от приезжего неприятное. Узнала, что в столице решили Муромцеву дать право главенствовать в разработке уральской меди. Об этом уже готов и указ главному горному начальнику: царь повелевал всемерно содействовать заводчику, поощрять его начинания. В указе также значилось, что известные уже медные месторождения, которые еще не разрабатываются их хозяевами, надлежит принудительной продаже Муромцеву. Кроме того, Карнаухова узнала, что покупка ею платиновых промыслов на Исе вызвала большое неудовольствие в Берг-коллегии, так как за спиной иноземцев, захотевших их приобрести, оказались влиятельные сенаторы.
Петербургский посланец прямо сказал Карнауховой, что, по доносу Муромцева, главному горному начальнику будет отдано распоряжение отобрать у нее месторождения медной руды. Посоветовал ей без промедления сделать заявку на месторождения и начать разработку их до выхода указа. От всего узнанного Карнаухова плохо поспала две ночи и, пораскинув умом, приняла твердое решение. На третье утро послала нарочного к Тихону Зырину с наказом явиться в Екатеринбург. Отослав нарочного в Кушву, Василиса Мокеевна, принарядившись, поехала к генералу Глинке и подала ему заявку, в которой указала, что месторождения меди на ее угодьях около Старого завода отдает в собственность Тихону Зырину и новый хозяин немедленно приступает к их разработке.
Таким решением Карнауховой генерал Глинка был ошеломлен. Ничего не зная о подготовленном царском указе, генерал пытался отговаривать владелицу меди от такого шага, но, поняв ее непреклонность, обещал лично за всем досмотреть, чтобы ее заявка о введении в права нового хозяина рудных богатств была утверждена без лишнего волокитства.
Весть о необъяснимом желании Карнауховой, как только она покинула кабинет начальника края, сразу же слетела с языков чиновников и пошла гулять по улицам.
Заводчиков и промышленников молва о дарственной Зырину буквально сбила с толку. Все гадали-рядили: почему вдруг Карнаухова решила обрядить известного в крае горщика в звание промышленника? Затея матери поразила Ксению и Кирилла не меньше, чем всех горожан. Но, зная о прежних услугах Зырина семье, зная о притязаниях на медь Муромцева, они не стали осуждать материнский поступок.
Дело Карнауховой в умах жителей города отодвинуло все мысли на задний план, даже о приезде наследника. Екатеринбург, привыкший к разным выходкам миллионщиков, такого «художества» никак не ожидал. Шутка сказать — знаткий по краю, удачливый старатель ни с того ни с сего оказался в рядах богатеев, стал владельцем редкостных залежей уральской медной руды. Узнал о решении Карнауховой и Муромцев. Ошеломленный известием, он сгоряча до бессознания избил своего управителя, обвинив его в том, что, зная о царском указе от генерала Мамонтова, выдал якобы тайну Карнауховой. Муромцев понимал, что обнародование указа теперь уже не даст права главному горному начальнику отобрать карнауховское месторождение в казну. Сделав рудные богатства собственностью Тихона Зырина, Карнаухова дала ему возможность в течение полугода начать рудные разработки, а указ мог получить силу только в том случае, если Зырин не начнет добывать руду. Седого Гусара приводила в бешенство мысль о том, что все его хитроумные попытки овладеть карнауховской медью провалились и теперь ему придется вести с Зыриным унизительный торг о продаже медной руды для своих заводов. И Муромцев уразумел, как его может Зырин прижать, ибо волен предложить руду для плавки казенным заводам.
На пятый день после того, как Екатеринбург пережил на редкость громкое событие, новый хозяин вместе с Карнауховой в коляске, запряженной белой тройкой, на виду у всего города поехал к обедне в Екатерининский собор. А вечером, в тот же день, промышленный Екатеринбург буквально ахнул, узнав еще одну ошеломляющую весть — Тихон Зырин предложил Муромцеву покупать у него выработанную руду…
Просторная комната во втором этаже карнауховского дома. Старинная мебель. На стенах развешаны картины, портреты и среди них большой портрет Любавы Порошиной. На холсте Любава во весь рост, в пестром сарафане. Стоит, опершись на прясла, под нависшими ветками цветущей черемухи.
Окна в комнате раскрыты, в них видна березовая роща, залитая остывающим светом заката.
Кирилл Карнаухов, засунув руки в карманы, ходил по комнате, а в кресле сидела Любава Порошина. Недавно она приехала в Екатеринбург вместе с мужем. Случайно узнала о возвращении Кирилла. Третий раз встречаются они наедине за это короткое время и опять не знают, о чем говорить. Оба понимали: у каждого есть что сказать другому, есть чем поделиться, но разговор не налаживался.
Любаву обескуражила сдержанность Кирилла при первом их свидании — уже теперь, когда он вернулся в Екатеринбург, и она сразу замкнулась. Задетая гордость, неясные предчувствия заставили ее умолчать о том, о чем хотела сказать Кириллу при встрече. Сейчас ей хотелось одного — откровенности. Она чувствовала какую-то неискренность в их отношениях. И ждала, что обо всем без утайки скажет Кирилл, готова была в ответ, тоже не таясь, высказать свою правду, выношенную в одиночестве.
Кирилл остановился у окна, сел на подоконник. Взглянул на березы под лучами майского заката.
— В Камышлове в твоем саду черемухи, наверно, в полном цвету?
— Цветут, — едва слышно произнесла Любава.
Посмотрели друг на друга. Любава, испытывая тревожную неловкость, спросила:
— На все лето приехал?
— Еще не решил. Хочу пожить около матери и сестры. Соскучился.
— Не шутишь?
— О чем скажешь?
— Что с тобой? Какая-то встревоженная. Не узнаю тебя.
— Позабыл меня, вот и не узнаешь. Даже разговаривать разучились.
— Почему не скажешь, о чем вчера обещала?
— Позабудь про это. За ночь раздумала. Лучше скажи разом, нужна тебе так же, как до разлуки?
— Почему спрашиваешь?
— Надобно мне знать. Не бойся ответить… Чего молчишь?
Кирилл отошел от окна. Остановился под портретом Любавы.
— Какой ты молчаливый стал. Боишься правду сказать? Может, мне за тебя ответить?
— Не понимаю, о чем спрашиваешь? Говори яснее.
— Спрашиваю про старое. Нужна тебе? Говори. Правды не напугаюсь. В ногах у тебя со слезами валяться не стану.
— Уже говорил тебе.
— Так это раньше. Теперь скажи. Может быть, уже надоела? В столице, поди, лучше нашел? Это только здесь хорошей казалась.
— Перестань, Любава. Должна понять. Время…
— А у меня, думаешь, не было такого же времени? Обними, как раньше, так увидишь седины в волосах. Отчего они? От радости седины не заводятся. Тоска и мне стала знакома. Да, Кирюша, совсем ты другим для меня в этот приезд обозначился. Совсем изменился. Утратил смелость правду говорить. Ну что ж, молчи. Правду твою сердцем чувствую. По тому, как поцеловал при первой встрече, все поняла. Смешно. Зачем целовал? Зачем не оттолкнул, когда на шее у тебя повисла? Видно, оттого, что обучился столичному обращению с женщинами…
Любава встала. Хрустнула пальцами. Кашемировая шаль, зацепившись концом за ручку кресла, соскользнула с плеч, упала на пол.
— Говори со мной, о чем хочешь, только не молчи. Расскажи о подружке столичной.
— Успокойся…
— Успокоиться просишь? Заботливый какой! Не хочешь, стало быть, ни о чем меня спрашивать? Не интересно? Тогда слушай меня. Зазнобой твоей стала от скуки. Скучно было, оттого что опостылела жизнь со старым мужем, а может, и оттого, что краденой ласки захотелось. Неплохой была зазнобой. Помню, хвалил. По пятам ходил. Знала, что не навек с тобой соединилась. Только одно позабыла: я тоже обыкновенная баба, у меня тоже водится душа и привязанность тому, кто меня лаской согревает. Душу в себе нашла первый раз этой зимой. Стала она меня бессонными ночами мучить. Стала острыми коготками скрести сердце под вытье метелей. В церковь гоняла да о твоем покое молилась. Душила в себе тоску по тебе. Плюнуть на все хотела да нового кавалера завести. Душила, но, как видишь, задушить не смогла. Каюсь теперь: полюбила тебя. Так сильно полюбила, что о такой любви и слов-то не сыщешь. Встречи с тобой ждала. Верила. Хотела о своей тоске порассказать. Но разом прежней Любавой Порошиной стала, когда, словно покойницу, меня в лоб поцеловал при нынешнем первом свидании. Так-то вот, Кириллушка! Никогда раньше не думала, что посмеешь меня забыть. Но, видно, и то может случиться, чего не ждешь. И не ждала я между нами такого конца. Обидно. Мнила, после разлуки сам мне душу откроешь, сам догадаешься, что люблю тебя. А вижу, трудно тебе этому поверить. Трудно поверить, что Любава вдруг про любовь заговорила. Но ежели мне не веришь… Мать спроси — она слезы мои видела. Но ты горя моего не увидишь. Сумею любовь к тебе петлей из моих волос удавить. Моя эта любовь. Нету больше для тебя Любавы. Канула в Лету.
— Погоди, Любава. Неужели сейчас правду сказала? Неужели ты могла сказать это? Раньше всегда высмеивала любовь. Зачем сказала о чувстве так поздно, а не тогда, когда звал тебя с собой на всю жизнь? Почему тогда не нашлось сегодняшних слов?
— Не знаю. Всему свое время. Скажу тебе: не знала раньше таких слов. Разлука любовь отыскала.
— Но мы расставались и раньше?
— Расставались. Верно. Но встречались после разлуки не так, как в этот раз встретились. Ты помнишь…
— Поздно теперь сказывать об этом. Не могу говорить сейчас, что люблю тебя. Но весь подчинюсь тебе.
Любава засмеялась:
— Стало быть, если захочу, то ласками смогу тебя удержать?
— Не надо смеяться.
Любава наклонила голову и медленно подошла к Кириллу вплотную. Подняла глаза, смотрела на него не мигая.
— Нет! Не стану больше к тебе с ласками спешить. Не могу ласкать тебя, как прежде, потому люблю, ласки у меня теперь тоже должны быть другими.
Кирилл сжал руками ее плечи, припал головой к груди:
— Любавушка!
— Не тронь меня! Пусти!
— Любавушка!
— Пусти, говорю!
Любава мягко отстранила его руки. Отошла к креслу. Подняла шаль с полу. Накинула на плечи.
— Студено мне стало от твоих рук. Прощай!
Пошла к двери.
— Подожди, Любава.
Остановилась, не обернувшись.
— Прошу, останься.
Обернулась и посмотрела на него с усмешкой.
— Останься прежней.
— Не могу, потому во мне мало прежнего осталось. Да и остаться просишь меня ненадолго. Почему скрыл от меня? Все равно узнала. От меня трудно правду скрыть. Вчерась в одном доме внучку Дорофея Квашнина повидала. Она мне рассказала, как с тобой вместе от самой Москвы ехала. Завидовала ей, что у ее тарантаса ось переломилась как раз на твоем пути. Понравился, видать, гранильщице — уж больно много о тебе говорила.
— Это дорожная встреча. От скуки ей было со мной занятно.
— От скуки и я к тебе с ласками пришла. От скуки и ты скоро станешь навещать Настеньку Квашнину. Может, ей скорее поверишь, ежели скажет тебе о своей любви. А вот как мне теперь от скуки забыться? Может быть, мою любовь муженьку отдать? Да и сжечь насмерть его стариковскую немощь! Посоветуй, Кириллушка… Опять молчишь. Прощай. Не провожай…
Кирилл пошел за ней следом. У двери Любава остановилась. Покачнулась и ухватилась рукой за косяк двери. Обернулась:
— Голова у меня кружится… В глазах темень… Провожать меня не смей. Сама дорогу найду. Не забыла, как тишком из этой комнаты уходила.
Любава посмотрела на Кирилла и начала беззвучно смеяться. Ее плечи нервно вздрагивали. Она порывисто повернулась и вышла из комнаты. И Кирилл услышал в коридоре ее громкий, раскатистый смех…
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
1
Майским поздним вечером багряная луна прожгла фиолетовую темень и немигающим глазом филина уставилась на глухомань по берегам речки Василисин Погляд. Туман прикрыл причудливые очертания. По всему протяжению карнауховских приисков в седоватых потемках шевелились огни костров кумачовыми петушиными хвостами. Земля дышала в вешней истоме, ее могучее дыхание дурманило голову человека.
Люди в глухомань начали собираться, едва под лучами солнца стали со вздохами оседать сугробы. Люди приходили на обжитые прошлым летом места, мастерили жилье, починяли помятые снегом шалаши. Артели старателей изладили свою жизнь в лесу ко времени, когда на утренних зорях глухомань стонала от любовного исступления глухариных токов.
Воды от глубоких снегов натопилось много, горная речка разлилась до завалинки сторожки деда Фотия, с глухим воем вспенивала свои струи. Высокая вешняя вода долго не спадала, уже и ветлы укрылись мелкой листвой, а в мочажинах зацвели ландыши. Убывала вода медленно, и никак не хрусталилась прозрачностью.
Старателей на промыслы пришло изрядно. Иных людей Фотий, увидав впервые, хмурил брови, подробно расспрашивал обо всем: и кто такие, какого племени, откуда пришли, умеют ли по-дельному на золоте робить. Весна для Фотия выдалась тревожная. С первого подтаивания снегов его привычный покой встревожил перестук топоров в глухомани, доносившийся издалека, со стороны непроходных лесных трясин. Тюкали топоры от зари до зари. Старик уже не один, а с пришлым народом прислушивался к их стуку. Сначала Фотий думал: лес воруют. Он обошел версты границ хозяйских угодий и, никого не увидев, все равно слышал веселое отстукивание топоров. Топоры смолкли, как начались глухариные тока. Однажды утром к его избушке вышли седобородые старики в одежде скитников, поклонились и поведали, что расположились скитами в пихтовых увалах, в глухомани, за болотами и трясинами. Кержаки, не торопясь, по-дельному рассказали Фотию и старателям, как выводили свои семьи из дальних лесов угорья в поисках укромного места для спокойной жизни по канонам старой веры. Рассказали и ушли. Потом появлялись из скитов молодые мужики с женками, девками — готовились к старательству. Фотий радовался появлению народа, густо оседавшего на промыслах. Пришлый люд надеялся именно в песках речки Василисин Погляд найти фарт, а значит, и пропитание.
Фотию известно, что старательская каторга по всему Камню одинакова. Только в каждом месте по-разному постегивают хозяйские плети. А в иных угодьях народ понукают лишь крепким словом. Люди такие места запоминают, идут туда с охотой, понимая, что крепкое слово на спинах корост не оставляет.
Работа на промыслах уже началась, но шла еще вполовину силы, хотя давала добрые знаки на золото там, где раньше их в помине не было. Вешняя вода нанесла новые пески из размывов глухомани, однако вода по-прежнему мешала работе, ибо от медленного таяния снегов все еще держалась высоко.
Возле каждого костра этим вечером шла своя людская жизнь. Слышался девичий смех, плач грудных ребят и песни — о тоске, о счастье и надежде.
На багрянец луны, с ее краев, наплывала серебристость, и вот весь шар ярко засиял. Седая дымка заискрилась блестками от лунного света. Туман, поднимаясь ввысь, расчесывал косматые бороды о ветки лесин и исчезал с земли. Небо перекрасилось в бирюзовую поливу. Луна стремила свои лучи в речку, а там они плавились и блестели на воде серебрушками. От дремучего леса на берега легли густые тени. И только избушка Фотия четко обозначилась на светлине.
Перед завалинкой избушки таяли угли в догоравшем костре. У костра и на завалинке сидели старатели, зашедшие к старику в гости. Мужики собрались годами немолодые, все как на подбор бородатые, хмуроглазые.
Поодаль от них, на пеньке, выброшенном вешней водой на кромку берега, примостился кержак и неотрывно глядел на реку, где вертелась воронка с лунными серебрушками.
Мужик, сидевший рядом с Фотием на завалинке, говорил глухим голосом:
Так скажу вам, православные, ежели еще недельку водица такой постоит, то песочку натащит сюда богатимо. Где-то, видать, старую речнину подняла и по нашему промыслу кладет ровной россыпью. Прошлым летом на моей делянке пески постные были, а ноне, помоги Господь, знаки шибко радуют.
— Не сглазь, Антон. Знаки знаками, а и от них иной раз промашка выходит. Ложилось золотишко в песках, а погодя его может сызнова водой смыть. Ноне в воде уроса много. То тихонькая, то шальная по прыти выказывается. Видал, поди, что натворила в глухомани на своем пути. Прежние заводи занесла песком. Старые пески до глины смыла. Камни у Лешачьих Зубьев так подрыла, что того и гляди, в речку падут и запруду наладят, а тогда на моей делянке вода пески начисто зальет.
— А ты чего молчал до сей поры про такое? Делянку грозит у мужика затопить, а он молчит. Утром поглядим. Может, что и надумаем всем миром, — шевельнулся мужик у костра.
— Будто меня, Кронид, не знаешь. Молчал. Потому и молчал, что у всякого на делянках свои заботы. Подмыло камни, и козырек вышел. Сдается мне, что коренья лесин удержат тяжесть камней и грохнуться в воду им не дадут.
— Все одно подмыв надо всем миром оглядеть. Сейчас помочь можно ватагой. Как начнем в полную силу робить, недосуг будет вызволять из беды. Делянка у тебя вся в низине, и даже малая запруда неминуче в нее воду нагонит.
— Пособите, братаны. Таиться не буду — ночи не сплю, все водяной шум слушаю.
— Чуете, мужики? Ночами не спит от тревоги, а к народу за советом не идет. Ждет. Молчит. На авось надежу кладет. Негоже такое в нашем миру заводить. У тебя пятеро душ, и у каждой голодный рот.
— А ты на него за скромность не наступай, Кронид, — увещевал длиннобородый мужик. — Девонтия с парнишек знаю, и скромность в нем завсегда такой была. Поутру поглядим. Ежели понадобится чего наладить — наладим. Пески нонешнего намыва надо от любого затопления беречь.
— И убережем, потому в них наше золотишко.
— Карнаучихино оно.
— Так-то оно так, только возле Карнаучихи вроде бы хлебушко себе добываем без зуботычины.
— Да я ничего. К слову сказал, потому любое наше счастье в карман хозяина ссыпается, а нам от него только крошки достаются.
— Хоть пузо с голодухи не пухнет, и то ладно. У всякого — свой промысел.
— Что и говорить — покедова Фотий с нами…
— А я что? Я только доглядываю за вами.
— Вот и хорошо, что глядишь за нами без плети в руках. Смотрителыней-то ноне кто обозначится?
— Да надо полагать, Анисья Степановна, скорее всего, Дуньку-хромую пришлет.
— При Дуньке легко робить. Она, конечно, по карактеру из себя зверь, но рукам воли не дает…
По-дневному светло от луны. Даже морщины на лицах бородачей заметны. Разом все насторожились, когда захрустел валежник за избенкой. Послышался храп зверя. Ломая ветви густых елей, на берег речки вышел матерый сохатый. Бока зверя в пене. Мотая головой, сохатый вошел в воду, но, увидя людей, жалобно замычал. Мужики заметили рваную рану на груди животного. Раненый зверь терял силы. Под тяжестью тела подломились его задние ноги; сохатый пытался выйти из воды, ступил передними ногами на берег и мыча упал.
Фотий оглядел молчавших мужиков и сказал;
— Видать, сердешный, в рысиных когтях побывал. У кого при себе ножик, братцы? Надо помочь зверю помереть.
Сохатый тяжело дышал и скреб рогами землю. Кержак молча поднялся с пенька и твердой походкой направился к сохатому. Перекрестившись, он взмахнул рукой, блеснуло лезвие ножа. Храп зверя стих. Кержак вернулся к мужикам и, присев возле костра на корточки, вытер о золу нож.
— Много ли в этих местах рогатого зверя?
— Водятся здеся сохатые. Мяско иной раз перепадет. Мочажин не счесть, а в них трава с ядреными соками растет, — отозвался Фотий.
— Стало быть, старики нас вовсе на добрые места привели.
— Гнус здесь шибко донимает.
— Это пустое. От гнуса дымком можно оборониться. С вами, мужики, только бы нам ладом ужиться.
— Про это языком зря толчешь, — осерчал Кронид, — сами на спинах рубцы от господских плетей носим. Мою родительницу, когда меня под сердцем носила, барская плеть под Псковом искусала, а я от этого родился с синими полосками на спине.
— А ты чего скажешь, огневщик, про нашу жизнь возле твоего жилья? — спросил кержак Фотия.
— Скажу. Отчего не сказать. Робьте на доброе здоровье на песках моей хозяйки, а про другое — мое дело сторона. Волк волка с голодухи грызет, но не ест, потому мяско жесткое, с потом заместо крови. Сам я тоже пришлый в этих местах. Понял мой сказ?
Кержак кивнул головой. Один за другим затухали костры у шалашей и землянок. Утихали голоса людей.
Разносились по глухомани пересвисты ночных птиц…
В лесной долине Ильменского кряжа поит землю и человека река Миасс. Долина реки богата золотоносными песками, а потому с севера на юг раскиданы по ней промыслы.
В котловине среди Чашковских гор за Миасским заводом лежит Тургояк-озеро. Со всех сторон встают вокруг него горные хребты, заросшие от подошв до вершин сосновыми борами.
Как слеза, глубокая вода Тургояк-озера. Сторожат его горы, словно малахитовая оправа хрустальную бусину в броши. Шевелит вольный ветер кроны сосен окрест, шумят они, басовито перешептываются с соснами озера Ильменя-Уральского, что совсем в соседях от Тургояка. Шумят сосны. Шумят о вечности камня, воды и золота. На комлях сосен — кора сине-серебристая с сединой, а у вершин золотистая с красными брызгами. Лесины в натеках янтарной смолы, блестят ее капли на бородах зелено-серых мхов…
Чашковские горы у озера грозны. Крутыми, отвесными обрывами гранита погружаются в воду, а то обрушивают скальные глыбы на его берега. Искони скрадывались здесь скиты кержаков, хороня в душистых борах старую веру, занесенную с боярской Руси. Но настало время, когда прознали люди про миасское золото, перегудом промысла нарушили покой озера Тургояк, и ушли с его берегов ревнители истовой веры в мало ведомую лесную глушь Большого и Малого Таганая. Опустели покинутые скиты, развалились от ветхости, выгорели, но знаткие следы от них все же кое-где еще сохранились.
Скрывались в Чашковских горах беглецы с заводских каторг; вольные духом мужики и женщины, бежавшие от ярма и кнута крепостного права. Много схоронено тайного о людской жизни в сосновых лесах Тургояк-озера. Молчали о том сосны. Знали, помнили, но молчали…
Южноуральская природа в переливах свежей весенней зелени. В лесной глуши пахло смолой, испариной земли. В зарослях кустарника и черемух извивалась речка. Цвела рябина.
Яркая майская луна пятнила лесную темноту, будто расстелила синие-пресиние ситцы с крапинами голубых горошин. По речке, по ее волнистым струям перебегали лунные блики, нежданно вспыхивали ослепительно и, рассыпавшись искрами, гасли, и снова начинали перебегать серебринки, одна за другой. И так без конца, до тех пор, пока светила луна.
Речка петлей стягивала каменисто-песчаный косогор, поросший соснами и черемухами. Залит он лунным светом, означен резкими тенями. Синие и черные тени сползали по косогору к воде, на ней становились расплывчатыми, словно тонули и никак не могли потонуть в прозрачной воде.
На песчаной ладони косогора, усыпанной шишками и обломками веток, горел веселый костер. Дымок от него стлался по речке. Совсем рядом, где-то в листве черемух, посвистывала ночная пичужка, а ей отвечала другая, с вершины косогора, где стояли древние ели.
Под ветвями черемухи на овчинном полушубке, завернувшись в шаль, лежала Верунька. У костра, обхватив руками колени, сидела Медина и тихонько пела. Лежа на спине, Верунька любовалась кусочком лунного неба, видного сквозь душистые ветви. Слушала девочка тягучую татарскую песню.
— Спишь, поди, дитятко? — окликнула Медина.
— Разве под твою песню заснешь? Раздумывать люблю под твое пение.
— Про что дума?
— Сама не знаю.
— А, тогда спи. Ночь коротка. Поутру дале пойдем.
— Куда? На Карнаучихины прииски? Ты зимой к Анисье Ведеркиной собиралась.
— Спи, говорю. Любопытная. Ночью в лесу о заветном поминать не следует. Лешак подслушает и живо дорогу спутает. Он завистливый.
— Не посмеет. Я, чать, подаренье ему отдала. В первый вечер, как сюда от Тургояка пришли, денежку в речке утопила. Во-о-он в том месте. — Девочка, помолчав, спросила: — Мединушка, сама наяву лешака видела?
— Спи, говорю. Ну до чего же ты с разговорами привязчивая. Помолчи и — разом заснешь.
— Ладно, стану молчать. Только пой. От меня боле ни единого слова не услышишь.
Верунька повернулась на бок, укрылась шалью с головой. Медина встала, пошла к соснам. Потерялась в тени, но скоро вернулась к костру с набранными сучьями. Бросила их в огонь. Легла возле костра, повернувшись лицом к черемухам, чтобы видеть Веруньку. Полежала молча, а потом опять запела тягучую, унылую песню.
Медина беглая. Пятая весна шла, как сбежала с Лысьвенского завода графа Шувалова. Летом по-звериному скрадывалась в лесах, а зимой вырывала землянку возле какого-нибудь скита. Верунька — сиротка. Подобрала ее Медина после того, как мать девочки прошедшей осенью померла возле Ильмень-озера. Сдружилась с Верунькой и стала ей вместо матери. Пела Медина, а сама думала о золотом счастье. Верила, что найдет его этим летом, тогда разом, как в сказке, осуществит заветные мечты. Перво-наперво сознается в любви Косте Муханову с Дарованного прииска. Медина не сомневалась, что парень на ней женится, когда будет она с золотом. Он обещался с ней в Сибирь податься. Так и сказал при последней встрече: «Найдем золото — с тобой буду». Венчаться с ним станет, обязательно при зажженном паникадиле. Медина очень надеялась на исполнение своих желаний и даже по осени приняла Христову веру. Место, к которому шла Медина, недавно увидела во сне. Оно уже совсем близко. Прямо рукой подать от этой речки. Шла к нему смело, а как стала ближе подходить, то начал охватывать страх: вдруг увиденный сон не сбудется? Боялась, что тогда погибнут ее мечты. Костя может не догадаться, как она его крепко любит, и другая приворожит его. Медина знала, что возле Кости всегда много девок. Жалела, что прошла мимо Дарованного прииска, не повидав любимого. Слепо верила в счастье, но Косте сказать не решилась, пока на самом деле не зажмет фарт в своих руках.
Услышала протяжный свист. Разом села. Пощупала нож, заткнутый за суконный чулок. Свист повторился, но тише. Возле речки захрустел валежник, забулькала вода, из-под черемух выскочила черная дворняжка. Увидев Медину, подбежала к костру, остановилась, отряхнулась от мокрети, завиляла хвостом. Медина поманила собаку, улыбнувшись, спросила:
— Чья будешь?
В ответ раздался из черемух сиплый голос:
К костру вышел из зарослей хромой бородатый мужик.
Медина встала, настороженно оглядела его.
— Ты собаки не бойся, бабонька.
— Знаю. Она не человек, зря кусать не кинется.
— Меня тоже не бойся. Не кусаюсь. Можно возле тебя отдохнуть? От огонька теплынь.
— Садись. За тепло денег не спрошу.
Мужик подсел к костру.
— Там спит ктой-то?
— А тебе зачем?
— С чужими на язык скупа?
— В лесу скупость не лишня.
— Кажись, верно.
Мужик поднялся. Подошел к Веруньке:
— Да это не человек, а девчонка. Дочь, что ли?
— Может, дочь, а может, и вовсе чужая.
— Правду не скажешь?
— Скажу. Чужая. Сиротка.
Мужик опять подсел к костру:
— Догадываюсь, что по золото в леса вышла?
— Не угадал. Блажная я. Лунатная. Ночами лунными по лесу бродяжу.
— Поди, к заветному месту идешь?
— Нету. Бабье несчастье поскорее норовлю потерять.
Долго молчали. Медина снова прилегла у костра. Верунька, приподняв шаль, одним глазом наблюдала за всем, что происходило у костра. У нее от страха так колотилось сердце, что она была уверена — Медина слышит его стук. Девочка уже разглядела мужика в барашковой шапке и с блестевшей в ухе серьгой.
— Петь, бабонька, любишь?
— С малолетства по земле с песней хожу. Не боязно с ней.
— Чья будешь?
— Ничья. А ты чей?
— Тоже ничей. Имечко свое позабыл. Тебе меня не жаль, что имечко потерял?
— Мне его не надо. Коли потерял, туда ему и дорога.
— Правильно рассудила. Меня не знаешь, тебя не знаю. Татарка?
— Распознать нетрудно. Надо только поглядеть на меня.
— Меня, поди, за варнака признаешь?
— Упаси бог. За губернатора.
— Словечками, как самородками, кидаешься.
— Вот и лови. Потому у тебя их нету.
— Баская. Глянешься мне.
— Любуйся.
— Девчонка спит?
— Может, и не спит.
Мужик, закашлявшись, встал, а Медина села. Смотрели друг на друга.
— Все ж таки боишься меня. Мне от тебя ничего не надо, окромя…
— Чего примолк? Договаривай.
— Поцелуй. Весна округ. Только одинова поцелуй.
— Понятно. Давай пробуй.
Медина достала из-за чулка нож, засмеялась.
— Да не бойся! Пробуй! Ножик у меня острый. Наточила, как в лес вошла. Острый, говорю, на лету волос сечет. Раньше целовал татарок?
— Шутканул. Попугать хотел. Не трону, — заворчал хромой.
— Коли так, то на слово поверю. Время за полночь. Мне спать охота, потому топай, куда шел. Собака у тебя смелая, а сам трус, подлюга. Не уральский ты.
— На ножик у меня тоже ножик найдется.
— Хвастаешь.
— Вдругорядь при встрече тебя, татарочка, поцелую. Испробую твою сладость. Доводилось слыхать, что у татарок губы медовые. Покедова, бывай здорова.
— Ох и хвастун, а еще мужик!
Прищурившись, мужик поглядел на Медину, надвинул на лоб шапку, сплюнул в костер, чмокнув губами, поманил собаку, пошел по косогору к соснам и скрылся из виду. Медина, проводив его взглядом, встала, подошла к Веруньке, а та сразу скинула шаль с головы:
— Не спала. Варнак приходил. Напужалась до страсти.
— Да какой варнак, лешак это им прикинулся.
— Не скажи. — Девочка перекрестилась.
— Со мной не бойся. Только все, что в лесу углядишь, накрепко запоминай. Главное, дорогу запоминай, как сюда шли. От этого косогора всякую лесину запоминай. За счастьем идем. Давай с тобой лягу. — Они умостились на овчинном полушубке, и Медина обняла Веруньку. — Клади на мою грудь головенку, девонька. Вот так. И чур, спать по-заправдашному, пока кукушки не разбудят…
Медина и Верунька бродили по лесу пятые сутки. Этим утром шли лесной целиной, без тропы. Медина запнулась о корягу и зашибла колено. После полудня колено распухло и так сильно болело, что она не могла идти. Возле неведомой речушки решили отдохнуть и скоротать ночь.
Местечко глухое, но веселое. Песчаные намывы с мелкой сизой галькой обступают осины и березы вперемежку с ельником.
Медина растерла колено и легла, подложив под голову котомку. Вокруг посвистывали рябчики, поблизости долбил невидимую сухую лесину дятел.
Верунька, мурлыча, деловито развела костер. Из речушки зачерпнула чайником воду. Повесила его над огнем на излаженной из веток треноге. Увидев на другом берегу пригорок, девочка перешла речушку вброд, чтобы посмотреть, нет ли там каких ягод.
Медина, прикрыв глаза, вслушивалась в лесные шумы. Нравился ей шелест листвы на осинах.
Приподнялась Медина на локте, услышав далекий собачий лай. Подумала о собаке, подбегавшей к костру три дня назад. Знала Медина, что сегодня шла она с Верунькой по угодьям заброшенных промыслов. Знала, что селение от этих мест не ближе десятка верст. Закралось тревожное подозрение: не идет ли по их следу мужик с серьгой? Медина прислушивалась долго, но собачий лай больше не повторился. Закипел чайник. Сняла его с треноги. Намочила кипятком тряпицу и обмотала колено. Крикнула:
— Верунь!..
— Здеся я. Ягоды сбираю, — ответила девочка.
— Иди чаевничать.
— Сичас. С ягодками станем пить.
Поднявшись на пригорок, Верунька нашла землянику. Ягод было множество, но поспевших, алых, попадалось мало, и она, собирая их, складывала в левую руку, держа ее горстью. Девочка спугнула маленького зайчонка. Он кинулся в сторону. Верунька побежала за ним, но, запнувшись о корень упала, скатилась в яму, утопила ноги в холодной воде и обсыпала себя песком и галькой. Отряхнувшись, девочка испуганно огляделась. Яма неглубокая, но, когда она хотела из нее вылезть, с одного бока посыпалась галька с песком, а один камешек, блеснув на солнце, бултыхнулся в воду. Глядя на осыпающуюся гальку, девочка заметила, как среди нее снова блеснули два камешка, и от радости, и от испуга Верунька крикнула не своим голосом:
— Медина!..
Услышав крик девочки, Медина, позабыв о больной ноге, хромая, перебежала речушку:
Вместо ответа услышала крик девочки:
— Медина!..
Прибежав на крик, Медина увидела Веруньку в яме на коленях.
— Что с тобой, дитятко?
Показывая на песок и гальку вокруг себя, девочка истерично выкрикивала:
— Гляди! Золото! Гляди!
От услышанного у Медины перехватило дыхание. Она скатилась в яму. Схватила из рук Веруньки блестевший камешек и приглушенно ахнула:
— Золото! Золото, девонька! Право слово!
Опомнившись, Медина начала неторопливо разгребать осыпавшийся песок и нашла еще три небольших самородка, а четвертый, крупный, заметила над головой. Он застрял под дерном в корешках мелкого ельника. Медина выковырнула его. Самородок походил на ладонь. Задыхаясь от волнения, Медина спрятала его за пазуху. Собрала остальные мелкие самородки, заметила, что Верунька шарит рукой в мутной воде.
— Чего обронила?
— Первый-то самородок вот сюда скатился. Кажись, нашла.
Вытащив руку из воды, девочка протянула Медине мокрый самородок.
— Вылезай, девонька. Гнездышко тута самородного золота. Айда к костру. Одумаемся. Потом зачнем, не торопясь, пески перемывать.
Медина и Верунька вылезли из ямы, вернулись к костру. Медина заставила девочку оглядеть ближайшие кустарники. Верунька убежала, а когда вернулась, Медина высыпала возле костра из подола самородки. Их шесть. В самом большом не меньше двух фунтов. Внимательно осмотрев самородки, Медина разгребла руками возле костра песок, положила в ямку золото и вновь сравняла песок. Верунька с открытым ртом наблюдала за Мединой, и та, заметив, что левая рука девочки сжата в кулачок, спросила:
— Чего в руке?
— Ой! — вскрикнула Верунька и разжала кулачок — к запачканной соком ладошке прилипли раздавленные ягодки земляники; засмеявшись, девочка побежала к речке помыть руки. — От радости про ягодки я начисто позабыла. Вот бают в народе, что Полоз к золоту след указует, а мне его зайчишка указал, Мединушка. Махонький эдакий зайчишка.
— Верунька, а ведь это ты нашла золотое счастье. Твое богатство. В твои чистые руки далось золото.
До сумерек Медина перемывала пески в речушке. Песок из ямы Верунька носила в корзинке. Намыли пригоршен пять золотого песка и еще шесть маленьких самородков.
В темноте поели тюри из размоченных в кипятке сухарей. Верунька тотчас уснула как убитая. Медина тоже легла, но заснуть не могла. Опухоль на колене опала, а вот ноющая боль не прекращалась. Удача ошеломила Медину. Ее охватил страх за найденное богатство. По ее подсчетам, золота в самородках было не меньше восьми-девяти фунтов. Сейчас у нее было единственное желание — поскорей выйти из леса. Поздно взошла ущербная луна. Сон бежал от Медины. Всюду мерещилась опасность. Ночные часы казались бесконечными. Донесся собачий лай, испугавший ее до испарины на всем теле. Она вынула нож из чулка. Заснула Медина только на рассвете…
Веруньку разбудили посвисты рябчиков и кукование кукушки. Взглянув на крепко спавшую Медину с зажатым в руке ножом, решила ее не будить. Насобирала валежник и разожгла костер. Треск огня поднял Медину. Ласково оглядев девочку, она села, лениво потягиваясь.
— Хорошо поспала. Веселый говорок у костерка седин.
— Трещит и тебя пробудил. Валежник больно сухой.
Верунька повесила чайник на треногу.
— Батюшки, как перемазалась-то! Поди скорей, помой морденку.
— И то, поди, перемазалась. С устатку вчерась, не умывшись, легла.
Когда девочка вернулась умытая, Медина велела ей залить костер. Девочка выполнила ее приказание.
— А теперь собирай котомки.
Медина разрыла возле костра теплый песок, достала самородки. Оторвала от нижней юбки широкую полосу материи. Порвала ее пополам. В одну тряпицу завернула крупные самородки, в другую — мелкие и золотой песок. Узелок с крупными самородками протянула Веруньке:
— Держи, девонька, свое золото.
Верунька неуверенно протянула руку к узелку.
— Смелей бери счастье.
— Как так?
— Вот так.
— Да общее оно у нас. Ране так сговаривались.
— Порассуждай у меня. Клади в котомку. Побереги до поры.
— Мне что. Как велишь, так и будет.
— Так и велю.
Верунька затолкала узелок в котомку под сухари. В сухари положила свой узелок и Медина.
— Выплесни из чайника воду. Когда выйдем к Малиновой горке, ты на Волчицыну заимку пойдешь. Отдашь хозяйке золото на сохранность, станешь меня дожидаться.
— Сама куда подашься?
— Зайду к Косте на Дарованный.
— Пески не станем больше перемывать?
— Нету. Опосле вместе с Костей наведаемся сюда.
— Нога болит?
— Болит, но все одно пойдем.
На третий день обратного пути по лесу Медина и Верунька вошли в ельники Малиновой горы. Медина шла, сильно хромая, часто присаживалась отдыхать. Нога болела нестерпимо.
День выдался хмурый. Небо заволакивали тучи.
Миновали ельники. Медина подробно рассказала Веруньке, как ей идти до просеки берегом речки Малиновки, где потом перейти ее вброд и, выйдя на прииск Мшистый, по хорошо знакомой дороге добраться в Волчицын посад.
— Не заплутаешь?
— Ни в жисть.
— Смотри. Лес тут несуровый. Главное, просеку на Малиновке не проморгай.
Медина крепко обняла девочку и расцеловала. Потом побрела низом горы на Дарованный прииск. Шла, прихрамывая, не торопясь. Вскоре зашуршал дождь. Поначалу моросил, а потом усилился. До крайности намокнув, Медина свернула с тропы в лес, решив переждать дождь. Она выбрала ель с густыми ветвями, залезла под них, как под крышу.
Темнело. Под монотонный шум дождя Медина задремала. Очнулась от громкого лая собаки. Открыв глаза, увидела в мути дождливых сумерек возле ели того мужика, что сидел у костра под черемухами.
— Почтение, татарочка.
— Здравствуй.
— Как обещался, так и поступил. Явился за поцелуйчиком и еще за кое-чем.
— Скрадывал нас?
— Ага. По твоим следам топал. Приглянулась мне через меру. Седни обязательно поцелуешь.
— Заупрямишься — силой добуду. Гляди. На случай и ножик с собой прихватил.
Медина встала и вылезла из-под ели.
— Да сидела бы там, дуреха. Хромоногая далеко от меня не убежишь. На мое счастьице, вовремя охромела.
— Ты вот что, дядя, лучше ко мне не вяжись. Добром прошу.
— Нож сейчас из чулка добудешь?
Медина достала из чулка нож. Смело шагнула к мужику. Он засмеялся и неожиданно кинулся к ней, пнул Медину в больную ногу. Вскрикнув от боли, Медина упала. Пришла в сознание, когда почувствовала на себе тяжесть. С трудом раскрыла веки и увидела мутные глаза мужика. Грудь Медины сдавило его объятие. Ей удалось освободить правую руку. Схватила серьгу в ухе мужика и дернула. Застонав от боли, мужик еще сильнее сжал объятие. Медина шарила по земле рукой, ища оброненный нож. Слышала злобный шепот мужика:
— Теперича попалась, татарочка.
Рука Медины нашла нож. Она с силой воткнула его в спину мужика. От удара он приподнялся. Разжав объятие, поймал руку Медины. Придавил ее коленом. Вырвал нож из руки. Замахнулся:
Огнем опалило разум Медины: «Конец!..»
Мужик с трудом встал на ноги и тупо смотрел на лежавшую перед ним бездыханную Медину. Потрогал разорванное ухо, вытер руку о штаны. Шагнул к котомке Медины, валявшейся под елью. Застонал и упал на колени. Попытался встать, отрывисто вскрикнул и рухнул лицом в хвойный настил. Пальцы его рук скребли землю, но вот они, зажав в кулаки опавшую хвою, перестали шевелиться.
Из зарослей вереска выбежала черная собака. Виляя хвостом, подбежала к лежавшей Медине. Обнюхала. Подобрав под себя хвост, метнулась к хозяину, вздыбила шерсть, села у его ног, прижав уши…
Воздух насыщен влагой, ночное небо лоснится, кажется мокрым.
У омута, под каменным козырьком обрыва, сгрудились мужики-углежоги возле костра с едучим дымом. Ущербный месяц виден им сквозь бахрому корней, растущих по-над обрывом елей. Оползла, осыпалась из-под них земля, обвисли корни, как расплетенные жгуты веревок.
Со всех сторон омут — в болотах, а среди них земная твердь. Омут — большой, как озеро. Отойди шагов десять от костра, окажешься возле его чернильной воды, отделенной от тверди зыбунами с густыми гривами осоки и мшистыми кочками. Много имен давали омуту. Все разные. Давались людьми беглыми, спасавшимися в здешних лесах в ту давнюю пору, когда не было поблизости горных заводов.
Теперь на тверди возле омута земляные печи, в них дерево истомлялось в уголь, необходимый для огня в домнах.
Чаще всего называли омут Слезным. Старики со старухами, живущие в селениях заводских и деревнях, знают про омут сказы, послушав которые люди старались не подходить к нему. Уральцы дружны со всякими суевериями по той причине, что в разуме нет еще о многом настоящего понятия.
Лет сорок прошло, как пригнали на берега омута первых мужиков ставить угольные печи. О них теперь напоминали только омшелые кресты на лесных опушках. Их место заступили новые работные мужики. Скоро от дыма угольных печей лица их продубились до черноты. Обросли седеющими бородами. И только серьезность острых глаз в смоленых веках еще уверяла, что жива в людях возле печей мысль — избавиться от страдания и остаться живым.
Печи — казенных заводов. Углежоги на берегах омута — это люди, не угодившие начальству умом, смелостью, мечтами о запретной воле. Печи — дымный острог под открытым небом, убежать отсюда решаются только смельчаки, знающие тайные тропинки в окрестных болотах.
Несмотря на тяжесть труда, иные углежоги все еще могучи. В их руках сохранилась сила, способная побеждать непостижимую мощь природы. Тела их крепки, хотя пища скудная. Они возле печей словно кони стреножные. Но не все одинаково переносили труд жигалей. Есть богатыри, зачахшие от удушающего кашля. От него-то по весне или в осеннюю пору начинала болеть грудь, а там, глядишь, — и перестал, сердечный, дышать. На лесном кладбище появлялись могилы с крестами, на которых каленым железом выжжены вязью имена «рабов божьих», живот свой положивших ради процветания в Уральском крае горного дела.
Сидят углежоги возле костра. Он — их защита от комаров и гнуса. На счастье, гнус еще не взял полную силу — стоит только май. Сила комаров и гнуса впереди, тогда даже возле угольных печей не будет от него спасения, приходится обматывать голову мешками и тряпьем, мазать руки дегтем, чтобы не донимал зуд от накусов.
Сидят у костра ночные доглядчики за печами. На лицах четверых работных мужиков шевелятся отсветы огня, а остальные углежоги не видны, слились с темнотой.
Печной дым сползает с козырька обрыва, утягивается на воду омута, застилает ее. Дегтярный смрад не донимает сидящих; из мочажин ветерок наносит аромат ландышей, а нынче после снежной зимы запах цветов особый. Ближе всех к огню седобородый Зот. Почти все лицо заросло волосом, глаза его удивленно и ласково глядят на мир. Все, кто работает с ним бок о бок, так и не могут понять, отчего у мужика в глазах такая ласковость.
Рядом с ним хмурый Михей, кривой на левый глаз — выбили, когда бежал в молодости из неволи.
Напротив Михея — покашливающий Павел по прозвищу Апостол. Он мастак сказывать сказы про уральскую землю, про мудрых работных людей, смекалкой и силой которых были сбиты крепкие запоры с земных кладовых края.
Сегодняшний костер запалил новый человек, объявившийся возле омута. Его пригнали недавно с ближнего к Екатеринбургу казенного завода в ватаге из шестнадцати человек. Он молод, белолиц, русая бороденка только начала брать силу. На заводе — дока доменного литья, но своими крамольными мыслями начальству не понравился, вот оно и решило, чтобы он вдалеке от завода подышал дымом. И кто знает, не останется ли он возле печей, как остался возле них Зот, определенный навечно в жигали в наказание за бунт против горнозаводских казенных порядков.
Углежогам новичок назвался кратко — Иван. Узнав его имя, иные мужики подумали, что не хочет перед ними правильным прозванием обозначиться, однако допускали, что он на самом деле назван этим именем.
Иван запалил костер в одиночестве, но подманил его огонь постепенно всех углежогов-доглядчиков. Расселись у огня с одним умыслом — дознаться яснее, кто такой Иван-доменщик. Рассуждали про себя: может, тепло костра согреет душу Ивана, и он станет откровенным.
Но Иван молчал, смотрел на огонь и молчал. У ночного костра молчание на людях будит тревожность. Вот кого-то это безмолвие доняло, и он, невидимый в темноте, громко сказал:
— Гляньте, мужики, месяц-то впрямь вспотел от земного дыхания.
— Это хорошо. К урожаю на мальцов, — пробурчал Михей.
— Скажешь тоже!
— Верно говорю. Потому от бабы сына жду.
— У тебя уж нарождались, да только не жильцы.
— Этот выживет. Надежа объявилась.
Разговор оборвался, и снова прежнее томительное молчание.
— Иван, — позвал новичка Зот.
— Чего скажешь?
— Может, порасскажешь про что?
— Неохота. Не льнет у меня душа к вам. Лишку недоверия к чужакам в понятии таскаете.
— Ишь как судишь. Какого доверия ждешь от нас? — досадливо спросил Михей. — Не знаем тебя. Соли от тебя для своего ломтя не занимали. Может, ты подослан к нам. Может, хочешь дознать наши думы?
— Какие у вас думы? Живете по привычке да поите кровью всякую кусучую тварь. Глаза к звездам лишний раз поднять ленитесь…
Опять помолчали. Теперь уж Иван спросил:
— Стало быть, на нюхача похож?
— Не серчай, — примирительно сказал Павел. — Михей не от разума про такое молвил. Злой он. Злее всех из нас. Все мы нового человека сторожимся, неугодно нам, что прознает наши тайные помыслы. Не думай — до безмозглости не задымились. У каждого из нас есть заветное, Иван. Поразмысли и поймешь, что светлые наши думушки раздавлены беззаконием. Охота нам знать про тебя, кто ты есть осередь нас? Может, скажешь от души такое, от чего нам легче задышится? Потому душа твоя молода и еще не успела от невзгод закороститься злобой. Не серчай.
Иван, подкинув в костер гнилушек, заговорил:
— Кто я, знать охота? Не барин обликом. Доменный огонь жжет, но не чернит кожу так, как ваш дым. Вот и белее вас ликом. В гости к вам не напрашивался. Пригнали против желания, за компанию, стадом. Поспорил я с попом, а меня за этот спор поколотили по скулам кулаками. Вот и помалкиваю, поскрипывая зубами от обиды на самого себя.
— Чем обижен? — спросил Зот.
— Молодой дуростью. Непригодность моя для начальства зачалась давно, еще когда парнишкой под домной с начальниками перебранкой баловался. Они мне слово, а я им два, а то и все три. А разве такое в ярме дозволено? Потом стал о боге подумывать и стал понимать, что неправильно нам о нем в церквах толкуют. Грамотный я. Стал евангелие листать. Для бога все вроде едины — и бедные и богатые, а на деле — богатым боговы милости, а нам — кукишки. Вовсе недавно на заводе новый поп объявился. До того на язык бойкий, что заслушаться можно. Стал он проповеди сказывать и клонит все к тому, что Господь, дескать, велит работному люду быть послушным, беспрекословным и терпеливым перед господской волей. Работный люд должен без раздумья выполнять все, что господа велят, потому все их веления для нашей пользы. Должны работные люди барскую милость и гнев переносить без ропота, вроде как ребятишки родительское наказание. По словам нового попа, выходило, что господам серчать на нас положено, а нам настрого наказано все терпеть и лбами поклоны покорности отбивать. Одинова я с попом на людях беседу затеял, а она спором обернулась. Попросил попа показать, где в священных книгах прописано то, о чем он народу говорит. Поп окрысился за такое желание. Одним словом, припер я его к стенке. Не знал, как от меня отвязаться. А ведь спорил с ним при людях. Тут я, почуяв слабость попа в споре, сдуру похвастал, что спрошу, прав ли он, у самого царевича, когда в Екатеринбург пожалует. Вот за эту похвальбу и сижу с вами у костра. Молод, горячность не обуздал. Наш поп, конечно, потерпев от меня конфузию, шепнул о моем замысле кому следует.
— Гляди, как получилось. Вроде умный ты парень, а язык за зубами не держишь. Коли правду признать, так и я с Апостолом тебе под стать.
— Может, скажешь?
— Обязательно. Надумали мы с Апостолом в город двинуться, чтобы царевичу бумагу подать. Говорили с народом о своем желании сказать царскому сыну про наши горести. Говорили, а в очи людям забывали глядеть, да и проморгали в чьих-то скрытую подлость.
— Донесли?
— Должно, так. Недели за две до наезда царевича навесили нам на ноги вот эдакие брелочки чугунные. — Зот погремел цепью. Восемнадцать жигалей из нашей братии сей чести дождались. На каждой цепи двухпудовые гири. Хитро, окаянные, придумали. Каждую ногу оковали по отдельности. Вздумаешь бежать — гири тащи в обеих руках. Конечно, с таким цепным звоном до царского сынка не доберешься. А ведь мы бы до него добрались. Но чья-то бесчестная душонка своему же собрату помешала. Кто-то нашептал. А отчего? Понятно. В разуме у нас света маловато. Не можем понять, как осилить нашу горемычность. С какого бока начать выгрызать в ней дыру, чтобы из крепостного закутка вылезть. Вот я однажды лез, да дырку, видать, прогрыз узкую, потому и за надежду на волю дымом душусь.
— Может, еще тогда давным-давно начальству кто-то шепнул про твое намерение грызть дыру? Как думаешь, Зот? — спросил невидимый в темноте углежог и рассыпался смехом.
— Может, и так, — согласился Зот, но тотчас посуровел. — С чего тебя смешинка прошибла, чать, не прибаутку высказал? Думаешь, вся правда в твоих словах?
— Да у вас завсегда так.
— У кого это — «у вас»?
— У нововерцев.
— Неужели вы, староверы, друг дружку не грызете?
— Мене вашего. У нас, милок, каноны веры крепки. Вы легко по воле царей да попов от веры праотцов отреклись, а ту веру и вороги шевелить побаивались.
— Пустое плетешь. Бог у всех един, — раздался новый голос из темноты.
— Только мы своего на иконах в золото не заковываем. А вот вы сами в железных кандалах, а бога, умасливая, золотите.
— Никак ты, Никодим, прячась в темноте, умничаешь? Не мы Христа да святителей в золото да в серебро прячем. То дела господские. Наш Христос босоногий. А пошто молчишь, что есть господа и вашей старой веры, но вас хлещут такой же плетью, как и нас?
— Все одно, староверы крепче вас за себя стоят, — упорствовал Никодим.
— Вранье! — снова твердо произнес невидимый в темноте углежог.
— В чем вранье? — огрызнулся Никодим.
— Скажу свое понятие. Кержаки крепко стоят только за свою веру. Вам чего надо? Чтобы вам не мешали двумя перстами креститься? Да и не едины вы, разделился давно раскол, расщепился, как полено! Аль не так говорю? Молчишь? Стало быть, так. Пошто забываешь, что и вы не вольные птицы. Вот ты — кержак, а в одном хомуте с нами.
— В крепостной хомут попал, когда меня пымали. А сколь еще вольного расколу в лесах здешних да в сибирской тайге шалается? Не могут всех нас словить. Пошто не могут? Потому, умеем держаться друг за дружку. Не топим собратьев, памятуя прадедовы каноны. Вот ты, Зот, сбирался к царскому сынку на поклон?
— Сбирался. Но помешали.
— Все равно толку бы не было. Наши старцы иное надумали. Ни к кому с поклоном не лезть. Терпеть, по-старому веря в Господа, огнем нагонять страх на всех обидчиков да по-мирному шевелиться в лесах.
— А кому польза от вашего мирного шевеления? — спросил Иван.
— Есть польза. Господа со страху не спят спокойно.
— А я так понимаю, — сказал Михей, — ни ваши, ни наши умники до сей поры не удумают, как да и чем надо господ с наших горбов скидывать.
— Но и господа, Михей, не приложат ума, как нас отучить думать о вольной жизни.
— Верно. Емеля Пугач крепко господ прижал, да и наш брат мастеровой вместе с ним господ по всей России до смерти напугал. Но все едино с горбов наших не слазят.
— Их надо скинуть.
— Вот ты, милок, человек заводский. Может, слыхал про такого Савватия Крышина?
— Слыхал про каслинского литейщика.
— Значит, знаешь, что он, милок, за всякие мысли, чтобы скинуть господ, за надежду о вольной жизни сидел в острогах, бегал из них не раз, а дельного ничего так и не надумал.
— Дай срок, и надумает.
— Надумать и я могу, но ведь надо, чтобы в надуманное люди уверовали. — Михей наклонился и продвинул в костер обгоревшую с одного конца корягу.
— Правильно, — поддержал Никодим, — я не нашел правды. И вы не нашли. У всех одна надежда. У меня — и надежды нету. Была заветная. Пахарем задумал жизнь прожить, а меня плетями в жигали загнали.
— Освободи себя от угольной печи, смой деготь с лица и рук, да и обзаводись надеждой, что станешь пахарем, — сказал Иван.
— Упаси бог от такого беспокойства. Нет, я уж без всякой надежды полегоньку возле печи…
— Да не может работный человек жить без надежды на лучшую долю. Чать, знаешь, сколь великое множество нашего брата сгинуло за надежды о воле, а люди все одно верят и надеются.
— И ты надеешься?
— Обязательно.
— Может, знаешь, где наша надежда?
— То-то и оно.
— Но дознаюсь. Может, не сам дойду своим умом. Может, кто подскажет, как найти дорожку к вольной жизни работного человека. Может, у того мудреца и седины в волосе не будет, а в разуме у него окажется путевод, коего у нас покедова нету.
Костер затухал, но темнее вокруг не стало — брезжил рассвет.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
1
Версты четыре ниже плотины Старого завода из лесных чащоб вздымались горные увалы, то отходя от берегов реки, то преграждая ей путь. Там, где увалы сгрудились и заставили реку петлять, начинали по лесным угодьям вытягиваться во все стороны на многие версты вниз по течению промыслы Василисы Карнауховой. В лесных чащах вдоль и поперек бежали разные по величине и глубине речки-быструшки, в их песках хоронилось золото. В лесных чащах немало кочковатых, топких болот, зеркалились среди них воды в лоханях озер и омутов…
Весна обрядила природу майским цветением, по мочажинам и болотцам потянуло душистой свежестью ландышей. Обживаться леса около Старого завода начали с той поры, как Тихон Зырин высмотрел в речных песках золотые россыпи для Василисы Карнауховой. Там, где река подковой охватывала склоны горы Мохнатой, на всей ее луговой подошве картинно раскидало избы карнауховское село Ксюшино. В селе, на мысу с омшелыми скалами и валунами, среди приземистых бараков, в окружении черемух стояла изба Анисьи Степановны Ведеркиной. Ксюшино — основа карнауховских промыслов. От него по Хомячьему логу разбегались тропки-дорожки на другие лесные прииски, а от них опять тропки, теперь уже к озеру, зажатому грядами горного хребта с мачтовыми соснами. На берегах озера Кириллов Глаз — мраморные каменоломни.
Просторы Ксюшина под лунным светом. Село в ковриках густых теней, а там, где их нет, — пятна света. Избу Анисьи Ведеркиной обступили развесистые черемухи, усыпанные от вершин до земли душистыми гроздьями цветов. Они стояли белые, как невесты в подвенечных нарядах. Около забора накаты бревен покрыты снежком опавших лепестков. На бревнах расселись женщины и девушки в пестрых сарафанах. Смехотно сегодня на бревнах, а все оттого, что Анисьи нет дома. Она уехала на прииски, и некому сгонять с бревен звонкоголосых хохотушек. На восходе луны начали они песни петь. Потом парни-зубоскалы увели голосистых зазноб пройтись при луне по заветным уголкам, а оставшиеся на бревнах занялись пересудами вестей прошедшего дня. Тощая старуха Захаровна, шамкая, сказала:
— Сами подумайте, родненькие, пора нам отвадить от прогулок по промыслам Стратоныча. Кто он для нас? Никто. Его к мрамору приставили, а он, глянькась, в неделю по два раза к нам наведывается. Вот и седни. Ходит да нас оглядывает. А глядит-то на девок как! Ужасти и одна срамота.
— Нас, баушка, он все одно не сглазит.
— Сглазить не сглазит, а для себя которую из вас и присмотрит Ему не закажешь, потому смотритель. Приметила своим глазом, что на нашу Анютку он зырит, как кот на сало. А Анюта у нас какая? У нее в башке один ветер. Знаете, как подмигами парням головы откручивает. Обязательно надо Стратоныча отвадить. Степановне надо сказать. Припугнуть ее тем, что на Анюту заглядывается.
— Сама и скажи ей. Потому, скажешь ей, а она прилепит ладошкой на лицо шанежку. Я ее ладошку одинова уже пробовала. У Анюты заступник есть, Степанко. Он за нее, ежели понадобится, Стратоныча столбиком в землю вкопает, — тонким голоском проговорила девушка.
— Раскудахталась. Я дело говорю. Сами тоже хороши. Возле них чужой мужик ходит, а они ему улыбочки на мордах разводят. Срамота. Тошно на вас глядеть.
— Чего Стратоныча нам бояться? Мужики все на один излад.
— Как чего бояться? Тебе, Филипповна, бояться нечего, потому сила — твоя защита. А что будет, ежели из нас кого вздумает обратать?
— Тебя, баушка, не тронет.
— Эх, умница-разумница! Знаю, что меня не тронет. Ты меня тем, что старуха, не больно тычь, Танька. Лучше за своим подолом приглядывай, потому к нему репей цепляется.
— Тебе до моего подола дела нет. У меня законный мужик есть. Лучше за своей внучкой поглядывай. У нее подол длиннее моего.
— Не стану за ней глядеть.
— А чего за мной глядеть? Живу вот, и все тут, — обиделась внучка Захаровны.
— Не стану, Варька, за тобой приглядывать. Кукушкой живешь. Сама себе такую жизнь надумала.
— Ну и что? Мою бабку лучше не слушайте, девоньки. По весне она шибко ворчливая.
— Как так меня не слушать? Почему вам выговариваю? Не корю, а от беды оберегаю. Молоды. Забываете про то, что молодость надо по-правильному блюсти.
— Как это по-правильному? Расскажи.
— Ты, Варька, лучше молчи. Как? А вот эдак. — Захаровна погрозила внучке кулаком.
К бревнам подбежала, запыхавшись, тачечница Маруська:
— Бабоньки, послушайте, что скажу. Пусти-ка меня, Танька, возле тебя сесть. Да подвинься ты! Так вот, бабоньки. Собралась к вам песни петь. Несусь ельником и вижу — мой Петька Кудряш идет. Знаете, как он ко мне льнет? Ну просто как муха к меду. Идет к моей избе, а сам меня не видит.
— Ну и что?
— А ничего. Так и не увидал меня, как сюда притопала.
— Дура ты, Маруська. Ох какая хитрая дура! Я думала, про что интересное скажешь. Только зря тебе место уступила, — обиделась Танька.
— А вот и не дура. Вот и скажу. Давеча под вечер, как работу пошабашили, Спиридон мне говорил…
— Да не тяни речь на барский манер.
— А это у меня для сказов такой манер. Так вот. Серега Ястребов на окошках своей избы глухие ставни навесил.
— Стратоныча боится? — полюбопытствовал низкий голос.
— А что ему Стратоныч? Он сам себе голова. Для другого ему ставни понадобились. Ох, бабоньки, прямо не поверите. Такое вам сейчас выскажу. От испуга вас холод проймет Серега теперь в полном секрете решил жить. Задумал в избе из мрамора бабу нагишом высекать.
— Вот те право слово. Спиридон сказал.
— На что ему каменная? Живых, что ли, нас нет? — вопрошал низкий голос.
— Про то ничего не знаю. Только одно вам скажу, что зря ставни навешивать парень не стал бы. А зачалось с ним чудное с той поры, как зимусь на мраморе молодая хозяйка пожила.
— Неужели? Ну и дела на свете творятся! Живешь и только от всяких нежданных вестей потом исходишь. Неужли в самом деле молодая хозяйка парню мозги засолила? Ну дела, бабоньки! — волновалась Захаровна.
С бревен увидели, как окно избы Анисьи раскрылось и в нем обозначилась на лунном свету севшая на подоконник Анюта.
— Иди к нам, — позвала Танька.
— Мне и здесь неплохо. На кой чёмор сдались! Хохочете только.
— Мечтать собралась? Смотри, чтобы луна тебя кошкой по крыше лазить не научила.
— Не стони, Маруська. Мне от твоего голоса скушно.
— Про что мечтаешь, царевна?
— Про заветное.
— Да ты скажи.
— Думаю вот про что: приедет к нам на промыслы царский сынок, али нет?
— Да ты не сумлевайся. Обязательно приедет на тебя поглядеть.
Слова Маруськи заглушил дружный хохот. Анюта зло выкрикнула:
— Зря гогочете! Перепуганные гусыни! Думаешь, цари на простых девок не глядят? Степановна как-то мне сказывала, что у царя Петра женка простых кровей была. Он царицей Катериной простую девку обрядил.
Хохот на бревнах смешался с визгами.
— Ох, бабоньки! Луна нашу Анютку вовсе из ума вытряхнула. Глядите на нее. Она сейчас в царицы из окошка полезет. Завтра начнем за нее всю работу ладить. Чтобы после того, как станет царицей, из нас, своих подружек, дворянок намастерила. Баушка Захаровна сказывала, что ты Стратонычу приглянулась.
— А я всем мужикам глянусь. Не моя вина, что матушка меня такой баской родила.
— Тьфу ты, прости господи, смутница! Стыда у тебя вовсе нет.
— А на что мне стыд, баушка? Он за меня тачки с песком катать не станет?
— Ох, Анютка, смотри! — Захаровна, плюнув, встала и, махнув рукой, пошла к баракам.
Неподалеку послышалась песня. На песчаную кромку берега вышли девушки с парнями и, увидев Анютку, крикнули ей:
— Анюта… Айда с нами!
— По ландыши в мочажины.
— Неохота.
С бревен откликнулась Маруська:
— Не троньте Анютку, девоньки. Ей седни нельзя из избы уходить. Она царского сына к себе в гости ждет.
— Замолчи, Маруська, а то я тебе холку намну.
— Ой, напугала! Сама тебя, Анюточка, как дитя малое, в твоем же подоле спеленаю.
— Погодите, девки. Гляньте, в Старом заводе опять пожар.
— Так и есть.
— Только дым вижу. Столбом к небу идет.
— Побегу на бугор, там с камней лучше видать. Может, барский дом горит. Вот дал бы Господь!
Спрыгнув с бревен, Маруська побежала на берег, но вдруг остановилась как вкопанная. Она увидела на реке лодку, а в ней узнала Анисью Ведеркину.
— Бабоньки, глядите, кто в лодке плывет!
Сидевшие на бревнах смолкли и, присмотревшись к лодке, начали молча спрыгивать с бревен и разбегаться в разные стороны. Из окна им вслед кричала Анюта:
— Что? Трусите, окаянные сплетницы…
Вода в озере Кириллов Глаз на лунном свету с отливом стальной сизости, а в тени окрашена в густую синеву. Тонут в озере отражения горных лесистых круч. Пять разных по высоте гор обступили озеро хороводом. В ямах этих-то гор и режут белый да голубой мрамор. По берегам озера — избы, амбары, сараи, в которых сложены поделки из мрамора и наломанные глыбы камня.
Самую высокую гору люди зовут Оглядная. По ее крутому склону среди редких стволов сучкастого сухостоя извивалась тропинка и ближе к вершине уползала в лес. Начиналась тореная дорожка на берегу озера, у избы смотрителя Стратоныча. На вершине горы срублена избушка караульного, рядом — вышка с тяжелым билом, похожая на звонницу.
У Карнауховой состоял караульным на мраморе отставной солдат Лука Огоньков, по горному прозвищу Пораскинь Умом. С Оглядной ему далеко видно. На виду Старый завод с господским домом, река, село Ксюшино, горбы увалов, озера и нескончаемые леса.
Луке Огонькову дан наказ смотреть за лесами, за огнем и дымом пожаров и, если они близко возникают, бить в било. Лука правил службу с солдатской строгостью. По своему разумению, с весны на утренней заре бил побудку. Услужливое лесное эхо разносило ее вызвоны далеко по всей округе, и начиналась трудовая жизнь на промыслах.
Семидесятую весну своей жизни встретил Лука, и она хворью его не донимала, несмотря на многие раны и пережитые невзгоды походов. Он прожил трудную жизнь русского солдата. Начал службу при Павле. Заслонял грудью отечество в войне с Наполеоном. Гнал супостата до Эльбы. Скоблил подборами булыжники Парижа, и только при Николае Первом уволен из строя в чине старшего унтера. Он и на Оглядной по большим праздникам надевал латаный мундир, а с солдатской фуражкой расставался, только когда ложился спать.
Лука ростом высокий. Ежик седых волос густой, как в молодости. Седые усы, до желтизны прокуренные трубкой, сходятся с пушистыми баками. Подбородок солдат начисто брил через день.
Этой ночью сидели у него гостями мастера по мрамору Никон, Петр и старший доглядчик за мраморными ямами Степанко. Все они с завалинки избушки смотрят на пожар в Старом заводе. Никон, расчесывая пальцами лопату рыжей бороды, сказал:
— Без устали палят Седого Гусара.
— Да. Злыдень Муромцев. А ведь я с ним вместях на Бородинском поле был. Экое дело, пораскинь умом, постичь не мог. Не уразумел, что кержаков на Камне ни плетью, ни огненным палом не осилишь. А он надумал их в свою заводскую каторгу загнать. Солдат ему в помощь на завод пригнали. А кержаки, не пугаясь барабанного боя, палят заводчика чуть не кажинную ночь. Муромцева крепостные тоже помогают. Седой Гусар всех со своим управителем Комаром озлил до чесотки в пятках.
— Леса бы только они не запалили в летошнюю пору, — сказал Степанко.
— И запалят, ежели понадобится… Бродяжит раскол.
— Ихних девок и баб много на наши промыслы вышло.
— А ты приметил, Степанко?
— А как не приметить? Кержацкие девки скромностью от наших разнятся.
— Смотри не выгляди среди них суженую, а то и тебя кержаки начнут палить.
— Я себе хозяйку уже высмотрел.
— Анюту из Ксюшина? Ты ей пара. Только что Степановна скажет? Анюте она вроде матери.
— Спрашивал ее, дедушка Лука.
— Велела маленько обождать.
— Анюте, стало быть, люб?
— Обнимаю, так не вырывается.
— Эх, варнак! Слушать завидно. От поглядов Стратоныча ее оберегай.
— В оба гляжу за ним. Потому слыхал, что частенько в Ксюшино лазит… Глядите, огонь шибче разгорелся! Горному начальству забота. Царский сынок гостит, а работные заводчиков палят.
— Царскому сынку Степанко на то плевать, потому наши красные петухи до его крыши в Петербурге не доскачут, — сказал Никон.
— А зачем, дедушка Лука, он к нам прикатил?
— А чего ему не катать, Степанко, сам подумай. Коней у нас много. Ухабы на дорогах присыпаны. Гоняй себе на здоровье да дворянок по пути, как кур, щупай.
— Может, что другое его сюда приманило? Может, дознался про тяжесть народную? Может, самолично захотел поглядеть на трудовую каторгу?
— Ну, ну, понес околесицу! Держи карман шире, чтобы царская милость мимо него не просыпалась. Покойный царь Александр тоже к нам приезжал. Глядел на нашу житуху. Господа ему ее только не с того боку показали. Она ему до слез понравилась. Благодарил за нее Гришку Зотова и всех прочих удушателей, — четко выговаривал каждое слово Петр. — Со скуки царский сынок гоняет. Сколько драгоценностей от нас уволокет! В гости сюда они не к нам ездят. Чай пить станет с Карнаучихой да с Муромцевым. Они ему про нашу райскую жизнь порасскажут, а он от умиления слезами брюхо замочит.
— Люди сказывали, Лука, будто ты царя Александра самолично видал? — спросил Никон.
— Конечно, видал. Вот эдак на него глядел, как на тебя сейчас. Вот величают его воителем Наполеона. А какой он воитель, ежели во дворце, когда француз Москву палил, за бабий подол хоронился? Народ с Кутузовым супостата воевал, а царь только мешал. Фельдмаршала царь не любил.
— Где царя видел?
— Сперва много раз издалека на парадах. А близехонько — на немецкой земле, возле избы, в коей фельдмаршал помирал. Солдаты дознались, что фельдмаршала смертная хворость взяла. Ну, значит, собрались, смешавшись с офицерами, под окнами той избы. Все тогда чуда ждали от Господа Бога. Надеялись, что он не даст помереть Кутузову. Глядим, царь приехал. Склонив голову, в избу пошел. Потом в обрат вышел после свидания с князем Кутузовым-Смоленским. Постоял царь на крыльце, покусал белую перчатку, нас оглядел. Лицо у него белое, как будто из мрамору… Да… Опосля я дознался, отчего у него из лица кровь ушла. Слуга фельдмаршала дружок мне был. Слыхал он разговор царя с Михайлой Ларивонычем. Царь говорит Кутузову: «Прости меня, грешного». А Кутузов ему в ответ: «Я, говорит, тебя, государь мой, прощаю, а вот простит ли тебя народ за твои грехи перед ним, про то обещания тебе дать не могу даже на смертном одре».
— Неужели так и сказал?
— Михайло Ларивоныч и не такое еще мог сказать. Конечно, своими ушами этого не слыхал. Но заверяю, что дружок мой напраслины про Кутузова говорить не станет. Солдаты редко врут. Разве только, когда малым ребятам военные сказы сказывают. Ну тогда для страху, конечно, привираем. Солдат правдой живет. Потому ври не ври, когда дело до бою дойдет, смерть от себя ничем не отгонишь, ежели суждено тебе помереть.
— Сам смерти побаивался?
— А кавалером как стал?
— Сам не знаю. Только одно ведаю: на Бородинском поле в канун сражения постиг умом, что такое солдат русский. За одну ночь понял: ежели начну свою жизнь оберегать за чужой спиной, да и другой не станет крушить врага с лютой злобой, то кто же защитит всех нас? В таком разе все обязательно помрем. Вот и дрался под Бородином, про опаску позабыв.
— Французы живут, поди, вовсе не по-нашему?
— Невелика разница. Господа ихние, как наши, живут. Народ ихний тоже рубахи на портки перешивает, и брюхо ихнее от голодухи вовсе по-нашему ворчит… Пожар, вижу, стал затухать. Серегу я что-то давно у себя гостеньком не вижу.
— Он в своей избе без устали робит. Ночами и то мрамор колет. На запоре избу держит, — сказал Степанко.
— Чего рубит из камня?
— Не кажет. Стратоныч было полез к нему в избу, так он его не пустил. Месяц прошел, как мы в его избу глыбу голубого мрамора вволокли. Со Стратонычем у Сереги из-за той глыбы чуть драка не вышла.
— За Стратоныча мы должны хозяйку благодарить. Она одарила нас этакой гадиной, — сказал Петр.
— Лютует над вами? — спросил Лука.
— Похлестывает.
— Утихомирьте.
— Как его утихомиришь?
— Будто не знаете. Он тебя, ты его.
— Скажешь тоже.
— А кто он такой из себя, пораскинь умом. Чать, все мы в одной крепостной упряжи. Нет у него права мастеров хлестать.
— Извиняй, дед Лука, но слушать тебя, вроде как и смешно.
— Смейся, ежели мои слова тебя веселят. Как можно крепостному крепостных бить? Господа почему нас бьют? Потому, что с детства привыкли к нашему смирению. А ежели бы мы им не покорялись да за всякий раз сдачи давали, то они живо бы про плети позабыли.
— Самого тебя не бивали?
— На заводах никто не трогал. Потому, видно, у меня в очах такая запретная искра блестела. Знали — тронут, то сейчас же в ответ ножиком проткну. А вот в солдатах, под Смоленском, офицер меня зря по зубам ударил.
— И ты осмелился сдачи дать?
— Сдачи не дал. Но поутру, как в бой вступили, я его и того…
— Сам после этого жив остался?
— Как видишь. Сражение было. Пулька могла с любой сторонки прилететь. Никто не видел, не слыхал… Я солдат, мужики. А солдат — опора отечества. Нельзя его по физии кулаком бить. Конечно, теперь старику можно не поверить. Но сам про себя знаю, какой был Лука Огоньков. Поглядели бы на меня, когда гренадером в карауле стоял. Страх от меня на людей исходил. Ростом знаете какой. Мундир всем мундирам мундир. Боялись люди, не крестясь, на мою солдатскую грозность глядеть. Так-то вот, пораскинь умом…
На рассвете прошел дождь. Солнечные лучи окатили помытые леса и горы, высекая искры блесток на дождинках, проткнутых насквозь иголками хвои.
Солнечный луч проник в щель неплотно прикрытой ставни и золотой повязкой лег на глаза Сергея Ястребова. Парень проснулся, подложил руки под голову и оглядел горенку. Новую избу для Сергея срубили по его замыслу. В ней везде вдоль стен налажены полки, а на них куски мрамора и поделки из него. По стенам из трещин в бревнах потеки янтарной смолы. У печи — дрова и хворост. Пол замусорен мраморной крошкой. Сергей решил было встать и подмести пол, но подумал: лучше сейчас утром поработать, а потом уж разом навести порядок. Поднявшись с лавки, он долго смотрел на стоявшую посреди избы мраморную глыбу высотой в рост человека, из которой уже наполовину высечена скульптура сидящей в кресле женщины. Придирчиво окидывал взглядом лицо, наблюдая за его выражением. Остался довольным — наконец-то удалось вчера убрать излишнюю суровость в обличье скульптуры. Сергей подошел к столу, напился из кринки молока, взял ломоть хлеба, ел, не отрывая глаз от мраморной глыбы.
Живя около горы Оглядной, Сергей все настойчивей постигал тайны скульптурной работы, выполняя различные поручения хозяев. Три года назад он вырубил для Ксении мраморный бюст Бетховена. Ксения заинтересовалась судьбой Сергея. Постоянно пребывая летом на приисках, она встречалась с ним, рассказывала о виденных ею скульптурах. Вдохновляемый вниманием, Сергей продолжал работать, ваяя из мрамора новые изделия. Он делал смелые попытки. Высек с натуры бюст деда Луки, барельеф Ксении. Молодая хозяйка принесла ему короткое счастье зимой, когда посетила каменоломни. И в благодарность за то, что его освободили от смотрительства, он начал вырубать новую скульптуру.
Родился парень в селении Каслинского завода в семье знатного литейщика и чеканщика по чугуну. Отец Сергея был мастером художественного литья и успел при жизни передать сыну свое искусство. Семья литейщиков Ястребовых была завезена на Урал Демидовым из Тулы и укоренилась на уральской земле навечно. Отец начал передавать Сергею с детских лет тайны художественного литья и чеканки. Посылал сына постигать рубку из камня к кержаку Севастьяну в скит на берегу озера Сунгуль. Мастерство по мрамору полонило разум Сергея, заставило забыть про чугун. Карнаухова, увидя у Харитоновой статуэтки его работы, откупила Сергея на двадцатом году от роду…
Начав новую скульптуру, Сергей часто сталкивался с трудностями; опасаясь испортить мрамор, действовал с особой осторожностью. И теперь он в который раз прикидывал, как завершить отделку ее лица.
Парень, накинув на глыбу мешковину, укрыл ее до полу, распахнул ставни и задернул на окнах занавески.
Выйдя на крыльцо, Сергей посмотрел на озеро в чешуе солнечных бликов. С покатой крыши на ступеньки крыльца стекали дождевые капли. Сергей подставил им ладони, как любил это делать в детстве. Изба Сергея стояла на елани, совсем на берегу озера. Высокие сосны росли тут не густо, отбрасывая на жилье мудреные узорчатые тени. За крыльцом начинался бобрик зеленой полянки. Чуть поодаль из-под бархатистой травы выдался камень-плитняк с трещинами, в которые проросли узловатые корни сосен. Залюбовавшись гладью озера, Сергей даже вздрогнул от голоса Луки Огонькова;
— Здорово живешь, вихрастая засоня. Ладошками капельки ловишь. Из-за лености хочешь ими заместо чая напиться?
— Здорово, дедушка генерал.
— Здорово, милок. Енерал не енерал, а унтер всамделишний. Ругаться к тебе пришел по-сурьезному. Сдурел, что ли? Неделю ко мне на горку не подымался. Осерчал на тебя с прошлой ночи и сам спустился.
— Милости прошу. Присядь на ступеньку. Только ополоснусь в озере.
— Что это за фасон такой — присядь на ступеньку? Зарок, что ли, на избу наложил?
— Да присядь. Я сейчас! — Спрыгнув с крыльца, Сергей убежал.
Лука поднялся на крыльцо, поглядел на озеро из-под козырька
ладони. Сергей вскоре вернулся, запустил руку в окно, достал полотенце и вытер лицо, шею, грудь. Взошел на крыльцо и поклонился старику в пояс:
— Милости прошу в избу.
— Погодь. Вот глядел на озеро и должен тебе сказать: с горы оно краше. На солнышке от меня оно будто золотое зеркало, а на лунном свету то хрустальное, то серебряное.
— Шагайте в горницу, дорогой гостенек.
Довольный, ухмыляясь, Лука вошел в избу.
— Мусорно, парень, живешь. Чайника на столе не видать. А все потому, что бобылем жизнь коротаешь.
— Да только недавно глаза продрал, ваше благородие.
Лука, похрустывая осколками мрамора, обошел укрытую мешковиной скульптуру.
— Экой большущий камень в избу приволок! Поделку от людских глаз хоронишь?
— А как же.
— И мне поглядеть нельзя?
— Не на что глядеть.
— От друга и то решил работу в секрете держать?
Лука подошел к столу и, взглянув на кринку, поморщился. Сел на лавку. Отломил от ломтя хлеба корочку; положив в рот, не торопясь, изжевал.
— До чего дошел взаперти! Дружка-солдата боишься, как языкастую бабу. Не хочешь поделки показать.
— Покажу, как до конца доведу.
— Твоя воля. Только нехорошо так.
— Не серчай. Не ладится у меня работа. Уменья в руках нет.
— Оттого и не ладится, что в секрет ее упрятал, только на свой ум надеешься. Гордостью занесся. Ум хорошо, а два лучше. У меня бы совета спросил. Я, пораскинь умом, сколько этих статуй перевидал. В Петербурге их видал. В неметчине их видал. А какие статуи в Париже! Тут тебе и гречанские, и египтянские, а то и вовсе римлянские. Ужасти какие красивые статуи! А ты, на-кась, до чего в гордыне дошел, что осмелел мне работы не казать.
— Экий настырный.
— Весь на виду.
— Быть по твоему. Покажу. Только уговор: ежели не поглянется, на смех меня не подымать. Ты человек бывалый, повидать тебе довелось, чего мне и не снилось.
— Давай, давай, скидывай живее мешковину. Кажи свою тайну. Я над людским трудом насмешки не творю.
Сергей сдернул с мрамора мешковину. Лука, увидев скульптуру, растерянно встал на ноги, перекрестился торопливо, от полного удивления снова сел на лавку.
— Господи! Так это Василиса Мокеевна!
— Неужли сразу признал?
— Вот чудило! Признал? Признаешь, ежели она на тебя как живая смотрит.
Лука встал, подошел к скульптуре. Глыба мрамора — белая, с легкой голубизной вверху; голубая в том месте, где были высечены шаль и руки, а внизу в белизну камня примешивалась сероватость с красными, будто кровяными, прожилками.
— Ну и парень! Каким мастером обернулся! Вот это, пораскинь умом, поделочка! А говоришь, уменья в руках не хватает? Ишь ты! Сидит наша хозяюшка. Дума какая-то ее оплела. И дума, видать, ее не тревожит. Приятная, стало быть, дума.
— Дедушка! — Сергей обнял старика.
— Погоди! Не мешай глядеть!
— Видишь, что на лице?
— Полный покой, милок, углядываю.
— А ведь сколько дней и ночей над лицом бился! Не выходило. По замыслу моему, вся она должна быть во власти покоя.
— Нет, пораскинь умом, так тебе скажу — в самый раз вышел. Вот в руках, милок, есть малость изъян.
— Сейчас! Так и есть! Понимаешь, милок, в чем изъян углядываю? Конечно, у Карнаучихи такие руки. Слов нет, такие. Только в ихней пухлости больше обмяклости.
— Понимаю.
— Погоди. Слова мои в закон не принимай. Сам подумай. Прикатит старуха летом на прииски, ты ладом на ее руки взгляни. А к лику — настрого наказываю тебе — боле пальцем не касаться.
— На нем полеру нет.
— Все одно не смей касаться. Пол ер на вазочке нужен. А тут перед тобой людское лицо. Понимай. Ну и Серега-мастер!..
— А не осерчает старуха, что при жизни ее из мрамора срубил?
— Да ты что? В уме? Чать, она у тебя не в гробу лежит. Наша хозяйка — баба с понятием. Ныне, парень, времена другие. Ныне можно и с живых облики вырубать.
— Роблю, а сам все думаю: поглянется ей или нет? А вдруг не по душе придется затея?
— Пустое мелешь. В голове такого не держи. Чтобы вовсе не сомневаться, поначалу молодой хозяйке покажи. У нее мозги в столице обтерлись. Живет по-новому. Не боится в завтрашний день под занавеску подглядывать. Молодец, Серега! А камень какой ладный выглядел!
— Степанко его нашел.
— Стало быть, и в нем есть чутье мастера?
— Глянутся ему поделки мои, вот и постарался.
— Поделки твои, пораскинь умом, многим глянутся. У нашей хозяйки так из рук и выхватывают. Про тебя по Камню слава ходить зачинает. Спасибо. Пойду.
— Чай пить сейчас станем.
— Не надо мне твоего чаю. Пойду на гору да стану думать про твое мастерство. Спасибо за показ, с поклоном. Только уговор. На горе меня не забывай. Люблю с тобой беседы вести. Умеешь мою память ключиком любознательности отпирать. У меня в памяти многонько дельного сложено. Скажу тебе про что, а оно — глядишь, и пригодится.
С берега донесся голос Стратоныча:
— Серега, выдь-ка.
— Пойдем, парень. Исовскому злыдню понадобился.
Лука и Сергей вышли на крыльцо, у которого стоял Стратоныч. Поодаль прохаживалась Дарья.
— Добро утро, начальник. Леса пугаешь, рыкало-зыкало, — сказал Лука.
— Ты все с шуточками да прибауточками.
— С тобой разве можно шутить? Ходишь над народом с плетью в руках.
— Отвяжись. Некогда с тобой лясы точить. Вот какое дело, Серега. Сходи с Дарьюшкой за земляникой на Лягушачий пригорок. Мне недосуг: в Ксюшино надо сгонять.
Лука крякнул и нахмурился:
— Бабе твоей не пятый годок от роду, что лешего в лесу боится.
— Не тебя прошу. Тебе до того какое дело? — злился Стратоныч.
— Как так какое дело?
— Молчи, солдатская ветошь! Твое место на горе. Чего здесь околачиваешься?
— Беда какая — не спросясь у тебя с горы спустился.
— По какому резону?
— А резон у меня простой. Плюнуть захотелось, так побоялся плевком в тебя не угодить. Неужли заказано мне с горы спускаться?
— Незачем.
— Тебе видней.
— Вот и посиживай там.
— А ты никак меня пужать вздумал?
— Не болтай передо мной лишку.
— А на что мне язык дан?
— Пошел отсюда. Ну!
— Не нукай.
— Да ты что! Аль позабыл, кого перед собой видишь? Разом плетью мозги в башке разбужу.
— Ты сперва попробуй, а после того и хвастай.
— Попробую.
— Неужли такой храбрый?
Стратоныч огрел Луку плетью. Сергей бросился к нему и, вырвав плеть, закричал:
— Не тронь! Зашибу!
Стратоныч попятился от крика Сергея, а Лука выпрямился и шагнул к смотрителю:
— Погань! Луку Огонькова плетью хлестнул. На меня руку поднял? Отойди, Серега, в сторонку. — Лука, размахнувшись, ударил Стратоныча кулаком по лицу: — Вот тебе! — Ударил вторично: — Вот тебе полная сдача от солдата!
У Стратоныча из рассеченной губы побежала кровь. Дарья завизжала от испуга:
— Караул! Убивают! Ратуйте!
Лука хмуро посмотрел на нее, она тотчас замолчала.
— Тихо у меня!
К избе от ближайших ям бежали люди.
— Глядите, камнерезы, смотритель ваш солдата войска российского плетью стегнул. Кавалеру-гренадеру нанес телесное поругание. Да я тебя, вошь рябая, в землю втопчу!
— Уходи, Стратоныч! — резко сказал Сергей.
— Погоди, парень. Глядите, мужики, на грозного начальника. Нос у него суриком отсырел от моего кулака. Сдачи я ему дал, что меня, как скотину, стегнул. Не бойтесь его, потому нет у него над нами власти. Плетью честь мою он не обидел, а вот рубаху замарал, и придется ее постирать. Памятуй, Стратоныч. На людях тебе говорю. На гору ко мне не приходи, потому волей солдатской тебя с нее мертвяком стряхну. Кат ты в людском обличии.
— Пойдем, дедушка, в избу.
— Пойдем, парень. Чаю попью с тобой. Взволновался малость. Сергей и Лука вошли в избу. Стратоныч, увидев хмурые лица
камнерезов, закричал на Дарью:
— А все из-за твоих ягод, дура окаянная!
Дарья, взглянув на него с ухмылкой, сказала:
— Легче покрикивай. Получил закусь солдатским кулаком? Красавцем в Ксюшино прикатишь. Ступай к озеру да ополосни морду.
Стратоныч сплюнул под ноги и, ничего не сказав Дарье, пошел к своей избе.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
1
Над Екатеринбургом вставало июньское солнце.
Наследника Российской империи разбудили птицы. Прислушиваясь к их звонкому, переливчатому пению, Александр Николаевич подумал, что поступил правильно, когда, ложась спать, оставил на ночь открытыми окна, не послушав советов опасаться комаров. Вспомнил, как, лежа в постели, долго не мог заснуть, потом неожиданно пошел ярый дождь, под уютное журчание водяных струй он и задремал. Спал крепко, не чувствовал комариных укусов, а проснувшись, впервые в жизни слушал такой голосистый птичий концерт.
Цесаревич безмятежно наблюдал, как на окнах вздувались кружевные шторы от залетавшего ветра. Просторная комната наполнялась душистой прохладой. В Екатеринбурге отцветала черемуха, наступала пора сирени.
Высокий гость остановился в доме главного горного начальника — генерала Глинки. Ему отвели парадные комнаты второго этажа, в которых вместе с ним жил поэт Жуковский, а свита сановников размещалась в домах других знатных горожан.
Цесаревич приехал в Екатеринбург 20 мая, ранее побывав в Перми, Нижнем Тагиле. Из Екатеринбурга укатил в пределы Южного Урала, посетил Златоуст, а по пути некоторые горные заводы. Он не успевал размещать в памяти все увиденное и услышанное.
30 мая он отправился в заключительную поездку по городам Тюмень, Тобольск и Ялуторовск. Посещение сибирских городов цесаревичем, задуманное венценосным родителем, должно было олицетворять отеческое попечение императора о своих верноподданных.
Поездка произвела на наследника ошеломляющее впечатление, он был поражен красотой природы Урала на стыке с тайгой Сибири, дикой живописностью рек Пышмы, Туры, Тобола и Иртыша.
Вернувшись 6 июня в Екатеринбург, цесаревич неожиданно для свиты самовольно осмелился нарушить регламент путешествия и срок своего пребывания на Урале. Решил отчет о поездке писать родителю не в столице после своего возвращения, а в Екатеринбурге и задержаться в нем еще на несколько дней.
Но цесаревич писал отчет неохотно и лениво. Он предпочитал проводить время за завтраками, обедами и ужинами. Находясь в состоянии постоянного легкого опьянения, ухаживал за дамами, купался в потоках лести, расточаемой обласканными дворянами, чиновниками и купцами. Из заводчиков больше всего внимания уделил Муромцеву, посетил его хоромы, принял в подарок свору борзых.
Жизнь наследника взбаламутила Екатеринбург. Город походил на ярмарку, на которой торговали только одним товаром — пересудами об особе гостя.
Протянув руку, Александр Николаевич взял со столика подарок матери — усыпанные бриллиантами золотые часы. Не взглянув на циферблат, нажал кнопочку, и колокольчик в часовом механизме мелодично вызвонил три четверти седьмого утреннего часа.
— Господи, какая рань, а спать не хочется.
Приученный с детства не лежать в постели после пробуждения, цесаревич встал, накинул на плечи халат. Задержавшись, перед зеркалом в овальной бронзовой раме, осмотрел себя. Он обожал свое лицо. Привык слышать, что красиво. Самому больше всего нравились пушистые бакенбарды. Мать, когда посещал ее по утрам, любила расчесывать их щеточкой. Вспомнил о матери, подумал: «Как же все петербургское здесь забывается, отстраняется тем диковинным, порой граничащим со сказочностью, что приходится видеть на Урале».
Собой цесаревич доволен. Оказывается, он способен трезво разбираться в том, что творится вокруг него. Понимает, что ликующий при встречах народ, конечно, отдает дань уважения царской семье, принаряжен. Однако он видел, как мало радости в глазах простого сословия. Правда, еще в Петербурге кто-то упорно убеждал… Кто же это? Дай бог памяти?.. Кажется, граф Бенкендорф, что русским глазам не свойственна радость. Граф любит похваляться знанием русского народа. Так ли это? Трудно понять. В путешествии ни с кем не удается ему поговорить по душам. Так уж получается, и это, право, досадно. Всегда кто-то из сановников находится рядом. И Жуковский последнее время мало откровенен. Виной этому, конечно, отец…
Прошелся по комнате, вспомнил про вчерашний ужин. Генеральша, угождая цесаревичу, собрала изумительный букет уральских красавиц. До сих пор он был уверен, что все красавицы России живут только в Петербурге, а, оказывается, они всюду. Он был доволен. Вернувшись домой, расскажет о екатеринбургских красавицах и будет умышленно сердить некоторых самовлюбленных фрейлин императрицы.
Перед путешествием родитель много говорил и, по обыкновению, поучал, как надлежит сыну держать себя вне дома. Он не скрывал, что, может быть, сын увидит сам или узнает о нарушениях законности по отношению к простому народу. Но уверен, что у сына хватит ума разобраться и признать, что подобные нарушения большей частью необходимы. Не исключал он и того, что сын может узнать о жестокостях, но опять должен разобраться, что и они большей частью необходимы, а посему не приучать себя к мысли об их некотором смягчении. Он не должен забывать основного: страна велика, русский народ своенравен, самолюбив, одержим поисками какой-то правды о вольной жизни. Сын императора должен больше всего обращать внимание на дворян, чиновников и купцов. Подобные познания ему понадобятся, когда волей божьей он заступит отцовское место на престоле. Особенно строги родительские наставления о том, чтобы сын не волновал себя милосердием к людям на горных заводах. Ведь установленные на них порядки со времен Петра так же необходимы и теперь…
Он помнит холодные, такие рассудительные отцовские наставления, но сейчас живет иным. Он весь во власти тех или иных моментов путешествия. Чаще всего перед глазами красочность и торжественность переправы через Туру на тобольский тракт. Даже ладью для этого специально соорудили тюменские мастера. На ней он расписался: «Александр. 1 июня 1837 года» и жалел, что еще не мог после имени написать: «Второй».
А встреча в древнем Тобольске! Сколько интересного узнал из истории Сибири от тамошних просвещенных людей! Однако о многом умолчал Жуковский, ранее рассказывая о Сибири. Почему? Из-за незнания или с присущей ему хитростью нарочно мало говорил о Сибири, чтобы не напоминать наследнику престола, что там живут люди, посмевшие учинить бунт против самодержавной власти?..
Раздвинув в арке гобеленовый занавес, цесаревич вошел в гостиную и направился к роялю. Открыв крышку, он сел на банкетку и заиграл вальс Грибоедова. Потом услышал за спиной знакомое покашливание и, не оборачиваясь, сказал:
— Доброе утро, Василий Андреевич.
Жуковский стоял так же в халате, но уже побритый и надушенный.
— Что так рано проснулись, ваше высочество?
— Не спится, Василий Андреевич, не спится. Что нового?
— Есть новость, но прежде разрешите…
— Не надо ворчать, Василий Андреевич. Такое прелестное утро, меня просто растрогала птичья симфония.
— А меня разбудила.
— И меня тоже. Но как поют!
— И все же, ваше высочество, прошу вас не забывать: в вашей свите водятся люди с длинными языками. Мне будет крайне прискорбно, если…
— Понимая ваше беспокойство, обещаю…
— Вы обещали неоднократно, ваше высочество. Мне, как и вам, не хочется, чтобы государь узнал о вашем пристрастии к крепким напиткам.
— На этот раз обещаю и сдержу слово. Ведь еще несколько дней — и обратно в Петербург. Так какая же у вас новость? Курьер из Петербурга?
— Нет. Вы помните, вчера генерал Глинка рассказывал о казенных Березовских золотоносных рудниках?
— Конечно, помню. Мне еще понравилось, что казенные крепостные бунтуют, когда их отдают внаем заводчикам. Представьте, будучи казенными, люди не хотят работать на хозяев. Постойте? А собственно, почему они бунтуют и обижаются, Василий Андреевич?
— Постараюсь узнать подробности.
— Непременно. Мне все это необходимо для отчета о поездке. Я, кажется, перебил вас? Скажите наконец свою новость.
— Генерал предлагает побывать, хотя бы завтра, на Березовских рудниках.
— Думаете, там интересно?
— Как раз то историческое место, где было найдено первое русское золото.
— Не может быть! Тогда обязательно поедем! Скажите генералу, что я в восторге от его предложения!..
Над Средним Уралом небо похоже на голубой выгоревший шелк. По нему медленно плывут облака, отороченные позолотой яркого солнца.
После полудня, миновав пригороды Екатеринбурга, десять разномастных троек под охраной драгун и конной полиции вынесли экипажи со знатными седоками на проселочную дорогу к Березовским рудникам.
На головной белоснежной тройке цесаревич ехал в обществе генерала Глинки и Жуковского. За ними на вороной тройке — пермский губернатор, на остальных — столичные сановники из свиты и высшие чиновники Горного управления.
Развлекая гостя, генерал рассказывал о способах добычи золота, но видел, что тот его слушал без интереса.
Александр Николаевич действительно не слушал генерала, любовался далями горного пейзажа. Однако скоро он обратил внимание на полное безлюдие. Во время поездок он привык часто видеть на дорогах людские толпы. Особенно внушительными они были в Тюмени, там даже приходилось разгонять людей, чтобы иметь возможность проехать. А тут — ни единого человека. Стояла тишина. Когда экипажи въезжали в лес, то даже прекращался цокот конских копыт, доносились только голоса певчих птиц. Удивленный необычным безлюдием, цесаревич спросил генерала:
— Отчего нет людей?
— Ваше высочество, мною приказано не допускать скопления народа по пути вашего следования. Мне хотелось, чтобы вы послушали голоса природы.
Цесаревич молча пожал плечами. Вопрос застал генерала врасплох, но, не растерявшись, он сумел на него ответить. На самом же деле отсутствие людей его тоже озадачило. Видимо, посланный на рудник чиновник особых поручений Воронков посмел допустить со своей стороны непозволительную вольность, нарушившую весь распорядок следования и пребывания гостя на рудниках. Генералом все было предусмотрено до самых мелочей. Были задуманы толпы девушек и парней, приветствующих высокого гостя, кидающих в экипаж букеты ландышей. Но сейчас ничего этого не было, стояла мучительная для генерала тишина, это тревожило, как и грустная задумчивость на лице гостя.
— Василий Андреевич, уверен, не знаете название пташек, которые сейчас так мелодично перекликаются, — нарушил молчание цесаревич.
— Вы правы, ваше высочество, не знаю, ибо слышу их голоса впервые, — ответил Жуковский.
— А вы, генерал, знаете?
— Крапивницами зовут их на Урале. Представьте, малюсенькие, неприметные пичужки, но удивительно звонкоголосые.
— Слышите, Василий Андреевич. Мало знаем мы о певчих птичках, а ведь нам следовало бы знать.
— Всего узнать невозможно, ваше высочество.
По тону, которым говорил Жуковский, наследник понял, что тот обиделся, а потому после не преминет, высказывая неудовольствие, поворчать. Жуковский в дороге любил думать о приятном прошлом или будущем. Недовольство наследником у Жуковского началось сегодня с утра от странных вопросов, вроде недавнего, о певчих птицах. Жуковский очень редко слышал птичьи голоса. Но в том, что цесаревич за время путешествия сильно распустился, ставя воспитателя в неловкое положение, Жуковский не сомневался. И это уже не первый раз. Генерал может подумать, что поэт — действительно неуч. Сановник Жуковский не терпит о себе неясных мнений. Его воспитанник знает об этом, но вольничает.
— А все-таки без людей на дорогах скучно, начинаешь размышлять о неприятном.
— На этот раз моя вина, ваше высочество. Прошу милостиво извинить.
— Что вы, генерал! Я просто высказал свое мнение. Согласитесь, у нас скучная поездка. Сами приучили меня к колоритности уральцев. В них есть какое-то особое достоинство. Они, видимо, довольны, что живут в таком крае. В Златоусте лица многих мастеров просто врезались в мою память. Василий Андреевич, помните того старика-золотоискателя с клеймом на лбу, подарившего мне самородок?
— Помню, ваше высочество.
— Скажите, генерал, правда ли, что у кержаков в скитах красивые женщины? Между прочим, у Муромцева видел его домоправительницу. Буквально не хотелось отрывать глаз от ее лица. Отчего это, генерал, ведь она самая обыкновенная простолюдинка?
— Если разрешите, то выскажу личное мнение.
— Буду рад.
— Видимо, красивые женщины есть во всех сословиях.
— А ведь верно. Вы правы. Вот ваша горничная, та чернявая хромоножка, тоже красавица. Вы согласны с моим мнением, Василий Андреевич?
— Согласен, ваше высочество.
Разговаривая, генерал не переставал гадать: отчего нигде нет людей? Тройки мчатся по безлюдным рудничным угодьям. Рукой подать до Березовского, где должен состояться торжественный обед. Может, весь крепостной народ собран именно там? Что же, наконец, случилось? Непрестанно задавал себе генерал один и тот же неприятный вопрос. Устроить посещение Березовки Глинку вынудили дошедшие до него слухи о том, что Муромцев успел насплетничать гостю, что якобы на них не все благополучно и виной тому — самодурство смотрителей. Кроме того, неожиданная задержка гостя требовала развлечений, и генерал, по совету жены, решил устроить сегодняшнюю поездку. Казалось, все было продумано и предусмотрено, и вдруг — непонятное самовольство не то управителя, не то Воронкова. Генерал не жалел, что послал в помощь управителю расторопного Воронкова, но что он наделал с народом, было непонятно. Ох уж этот управитель Блюме, ожиревший, плохо говорящий по-русски, хотя живет в стране четверть века. Генерал вынужден его терпеть, ибо у него крепкая рука в столице.
Поезд высокого гостя въехал в Березовское угодье. Уже виден живописный холм с сосновым бором, на котором стоит дом управителя. Но по-прежнему нет людей. На звоннице гудят колокола, во дворах избушек и рабочих казарм лают собаки.
Кучер лихо осадил белую тройку перед мраморным крыльцом дома. У крыльца стоял в черном фраке тучный мужчина с хохолком на облысевшей голове, рядом с ним полная женщина. За ними стояло несколько человек, там же был и чиновник Воронков. У мужчины в руках блюдо, покрытое вышитым полотенцем, на нем каравай хлеба и солонка.
Цесаревич в темно-зеленом сюртуке, точно такого же покроя, какие в Петербурге носит император, вышел из экипажа, приблизился к тучному мужчине. Генерал представил:
— Управляющий рудниками господин Блюме, ваше высочество.
Цесаревич, поцеловав хлеб, взял блюдо от управителя, передал
его пермскому губернатору.
— Прошу проследовать в дом, ваше высочество, — предложил Глинка и так зло посмотрел на растерянного управителя, что тот едва слышно прошептал:
— Ваше высочеств, битте…
Наследник поднялся на террасу и осмотрел местность:
— А здесь недурно, генерал. Неужели всегда так тихо?
Перед цесаревичем вновь склонился в поклоне управитель и более громко сказал:
— Битте, ваше высочеств!
По-прежнему звонят колокола, не перестают лаять собаки, но нигде не видно людей.
Когда гость вошел в дом, Глинка, пропустив мимо себя всех, поманил пальцем к себе Воронкова и прошептал сквозь зубы:
— Где люди?
Увидев трясущиеся губы чиновника и не дождавшись его ответа, тоже вошел в дом.
В просторном зале со строгой обстановкой Александр Николаевич прежде всего увидел на стене портрет отца во весь рост, написанный маслом. Потом его внимание привлекли узкие окна с решетками, красиво сервированный стол.
— Генерал, это, видимо, старинная постройка? Такие странные окна.
— Дом выстроен, ваше высочество, еще при генерале Геннине.
— При Петре Великом? То-то вижу — нерусский стиль. Даже мрачновато от этих окон с решетками.
Сели за стол. Цесаревич, оглядев блюда с закусками и графины с винами, довольный, сказал:
— Признаться, я проголодался. Надеюсь, у всех такой же аппетит?
Все молча склонили головы.
Управитель, желая быть учтивым хозяином и показать свою европейскую культуру, говорил по-французски. Его произношение русских и французских слов забавляло, вызывало у цесаревича улыбку. На лицах сановников и чиновников — недоумение и растерянность от чрезвычайной говорливости Блюме.
После первых высокопарных тостов Глинки и губернатора в честь императора и его сына за столом исчезла натянутая сдержанность. Едва подали жареную дичь, как в открытые окна стали долетать чьи-то выкрики. Гость прислушался к ним, спросил генерала:
— Почему кричат? Что-нибудь случилось?
— От радости, ваше высочество! Народ готовится к приветствию!
Ответ понравился цесаревичу, и он предложил тост за здоровье генерала. Обед продолжался. То и дело за столом раздавался смех, но в открытые окна все громче и громче доносились выкрики. Обедавшие прислушивались, недоуменно переглядывались, устремляя вопросительные взгляды на повеселевшего Глинку. Все ясно слышали женские голоса: «К царевичу!» Наследник, выйдя из-за стола, направился к выходу из зала, за ним последовали все.
С террасы он увидел огромную толпу, теснившую конных полицейских. Люди как могли защищались от ударов нагаек. Кричали: «К царевичу!», «Допустите к царевичу!»
Наследник, повысив голос, приказал Глинке:
— Пустите их ко мне. Пустите.
Полицмейстер с приставами сбежали со ступенек террасы, отдали команду полицейским, лихо работавшим нагайками. Толпа прорвала конный заслон и хлынула к дому. Вот первые ряды женщин уже подбегают к ступеням террасы. Наследник слышит за спиной испуганный шепот:
— Господи! Бунт!
От предупреждающего шепота он пятится назад. Видит, как толпа, приблизившись к дому, охватывает его полукругом, прижимая конную охрану к стенам. Толпа застыла разом, напряженная и молчаливая. Наследнику видны люди в лохмотьях: босые простоволосые женщины и бородатые мужики.
— Ваше высочество, умоляю проследовать в покои, — шепчет бледный губернатор.
Цесаревич слышит шепот о бунтовщиках, но он видит в толпе двух женщин с окровавленными лицами, и вдруг от них отделяется девочка. Наследник, успокаивая себя, громко говорит:
— О чем вы, господа? Какие бунтовщики? К нам идет ребенок.
Он видел, как, уверенно шагая, приближалась босая девочка с перекинутой на грудь косой с голубой лентой, в длинной драной юбке, кофточке с плеча взрослой женщины. Вот она подошла к мраморным ступеням и отвесила поясной поклон. В руках у нее сложенный лист бумаги и букетик ландышей. Оглядев господ в мундирах, остановила взгляд на наследнике и громко заговорила:
— Милостивый царевич, к тебе я пришла от работных людей. Вот бумага, нами прописанная. Возьми ее в свои руки. Сделай такую милость.
Девочка проворно поднялась по ступеням и, снова поклонившись, протянула бумагу с букетиком.
— В ней, милостивый царевич, прописана самая вольная правда.
Наследник, беря от девочки бумагу и цветы, смотрел на раскрасневшееся веснушчатое личико с голубыми глазенками, наполненными страхом, любопытством и гордостью.
— Как тебя зовут?
— Аниска я.
— Сколько же тебе лет?
— Десятый зачался.
— Работаешь?
— А как же. Ползункой.
— Да не поймешь без показа.
— А ты покажи.
Аниска сбежала со ступеней и, встав на четвереньки, поползла к цесаревичу.
— Видал? Вот так и выволакиваю из штольни корыта с рудой. Тяжелые — боле семи пудов.
— Кто твои родители?
— Сирота кругом.
— Возьми, — наследник протянул девочке ладонь с золотой монетой.
— Благодарствую, только не возьму. Все одно — отымут.
— Как кто! Начальники! Вон как неласково на меня глядят. Поди, не верят, что меня народ к тебе послал? Ты, милостивый царевич, бумагу им не отдавай. Сам зачитай прописанное на ней. Слово на том царевическое дай.
— Хорошо. Прочитаю. Обещаю тебе!
— Благодарствую. Желаю тебе от всего сердца, милостивый царевич, долгой жизни. Прощай.
Отвесив глубокий поклон, Аниска, оглядевшись, сошла со ступеней и направилась к молчаливой толпе.
Наследник, пожав плечами, положил не взятую девочкой монету в карман и сказал Глинке:
— Спасибо, ваше превосходительство, за крайне необычное, видимо, даже для вас неожиданное, но впечатляющее зрелище, — и поспешил со свитой войти в дом.
На террасе остались Глинка, управитель, Воронков и полицмейстер. Генерал, расстегнув высокий воротник, медленно подошел к Воронкову и молча влепил пощечину, настолько сильную, что с его лица слетели очки и в стороне на полу зазвенели разбившиеся стекла.
Но едва рассвирепевший Глинка вошел в дом, как прискакал верховой пристав. Соскочив с лошади, он вбежал на террасу и, отдав честь, закричал:
— Дозвольте доложить, ваше высокородие!..
— Тихо! — рявкнул на него полицмейстер.
Пристав заговорил шепотом:
— Так что на рудниках замечен беглый арестант, бунтовщик Савватий Крышин.
— Молчать, скотина! — сдерживая ярость, выдохнул полицмейстер и ударил кулаком по лицу пристава, а тот, отшатнувшись, полным голосом выкрикнул:
— Понял, ваше высокородие!..
Воспитатель наследника поэт Василий Андреевич Жуковский в канун отъезда царской особы с Урала всполошил карнауховский дом, пообещав Ксении прибыть с визитом к ужину. Приехал он раньше назначенного часа. Приехал запросто. Привез Ксении Захаровне в подарок новые книги. Внимательно осмотрел весь дом. Разглядывая картины Кирилла, долго стоял перед портретами Любавы Порошиной, изумлялся ее красотой, расспрашивал, кто она такая.
Когда над городом уже всходила луна, Фирсыч доложил о готовности ужина. Ужинали на террасе. Вековые березы близко подступали к ее перилам. По одну сторону стола сели Василиса Мокеевна, Жуковский, Ксения, напротив них расположились Кирилл, Шнель и Настенька Квашнина. В канделябрах ярко горели свечи. Жуковский был в настроении. Шутил. Расспрашивал Карнаухову о прошлой жизни. Ксения исподволь рассматривала Жуковского, нашла в его внешности большие перемены. Он заметно отяжелел, залысины еще больше открыли его высокий умный лоб. Во взгляде теплых глаз притаилась усталость, лишь прежней была добрая улыбка.
Чувствуя к себе внимание гостя, Василиса Карнаухова с увлечением рассказывала о былых днях. Она снова переживала то далекое, от чего молодо засветились ее глаза, зарумянились щеки, и казалось, старость отрекается от нее. Рассказывала и такое, что было новостью даже для Ксении и Кирилла. Василиса Мокеевна водила за собой слушателей по лесам и горным тропам. Они ясно видели лица людей, о которых сообщала эта решительная женщина, чувствовали на себе свет солнца, брызги осеннего дождя, становилось холодно, когда она говорила о зиме, и жарко, когда вспоминала о страстях, бушевавших вокруг золота.
Ужин затянулся. За десертом, после того как Василиса Мокеевна закончила свое повествование, Жуковский предложил выпить за ее здоровье. Все оживились, прозвенели бокалы, воздавая хвалу хозяйке дома. Жуковский, откинувшись на спинку стула, сказал:
— Мне давно, еще с юных лет, хотелось повидать всю Россию, пройти по тропам и дорогам, выбранным самим. — Жуковский сделал небольшую паузу и продолжал говорить неторопливо: — Теперь я увидел отечество, но только не прошел, а проехал по дорогам, по которым указано ездить, и на тропы сворачивать мне не довелось. Об Урале мне приходилось слышать многое. Но, несмотря на это, у меня не было желания побывать здесь. Вы спросите, почему? Далеко до вас. Кроме того, не буду скрывать правды, думал, что на Урале не может быть особенно интересно. Леса и горы. Заводы, шахты. А может быть, считал, как и все в столице, что красота и подлинность России кончается за Волгой. Теперь я получил от судьбы предметный урок. Не заблуждайся. И за Волгой есть Россия, да еще какая поразительная Россия! Я счастлив, что приехал на Урал. Увидел этот удивительный… — Жуковский снова сделал паузу. — Нет, не то сказал. Вернее сказать, заповедный край. И еще вернее — не увидел, а мне показали, но и этого уже достаточно, чтобы не забыть Урал. Со всех сторон вы в лесах, но шумят они совсем не по-европейски. Повидал и уральцев. Слышал раньше об уральской самобытности. А про себя думал: дескать, всякий кулик свое болото хвалит. Теперь так не думаю. Повидал, как работает уральский народ. Живет он значительно тяжелее, чем в других местностях, но ни на одном лице простого человека не видел обреченности, а видел его достоинство, суровую хмурость. Мне хотелось расспросить их о житье, но я чувствовал, что правды о своих помыслах не скажут. Ведь я им совсем чужой, да еще в мундире. Душу народа я начал лучше понимать, когда услышал музыку Глинки, его Ивана Сусанина. Побывав у вас, думаю: уральцы хранят в себе то, что хотел выразить своей музыкой Михаил Иванович. И это именно так. Сказочность вокруг вас. Древняя, воплощенная в жизнь, сказочность. И природа, и богатства, и люди — все сказочное…
Жуковский, улыбаясь, посмотрел на Настеньку Квашнину. Девушка смутилась, наклонила голову.
— Вот в доме вашего дедушки разве не сказочность? Разве не удивительно то, что ваши руки тоже создают нечто волшебное? Возьмете самоцвет уральский, и от вашего прикосновения к нему камешек оживет, засияет. Рубин в кольце, подаренный вами, обещаю носить до самой смерти. Завещаю после моей смерти кольцо с руки снять. Грешно зарывать живой свет камня в землю. Завещаю достойному человеку носить ваш подарок. Вернувшись домой, всем буду рассказывать об увиденном на Урале. Сумею это сделать, особенно после ваших красочных описаний, Василиса Мокеевна. Вот поэму написать не смогу. Пушкин сумел бы сочинить вдохновенно. Уговорил бы его поехать к вам. Вы показали бы ему Урал, провели по вашим заветным тропам, а он написал бы бессмертную поэму об Урале. Поэму, достойную ваших людей и природы. Но Пушкина на земле больше нет. У России нет живого Пушкина. Никто, кроме него, не в состоянии написать так правдиво и так величественно про Россию, укрывшуюся в лесах за горными хребтами. Вот видите, Ксения Захаровна, какой стал Жуковский. Напросился в гости и вынуждаю слушать то, чем сам живу.
Все присутствующие заметили волнение, охватившее Жуковского, когда говорил о Пушкине. Видели, как он, встав из-за стола, торопливо вытер платком слезы.
— Разрешите, Василиса Мокеевна, поблагодарить вас. Мне вдруг душно стало. Со мной это бывает.
— Пройдемтесь по роще, — пригласила Ксения.
— С удовольствием.
Жуковский предложил Ксении руку, и они спустились по широким ступенькам в аллею, покрытую кружевами причудливых теней. Сначала шли молча, потом Ксения спросила:
— Что с Натали, Василий Андреевич?
— Она с детьми уехала в селение Полотняного завода. И правильно. Ей во многом надо разобраться. В Петербурге ее задушили бы сплетни и клевета. Ну, кажется, я несколько успокоился. Пойдемте обратно. Неудобно вышло. Бросили всех.
Когда на обратном пути подошли к террасе, Жуковский спросил:
— В столицу когда приедете?
— Никогда.
— Умница. Никуда отсюда не уезжайте. Может быть, здесь вам бывает скучно, но в столице… Тоскливо мне стало в Петербурге после смерти Пушкина, но умирать, видимо, придется в нем…
Нестор Куксин проснулся от собственного храпа. Стянув с головы стеганое лоскутное одеяло, он, сощурив глаза, долго осматривал горницу, вспоминал, почему в ней растворено окно, да так и не вспомнив, тяжело вздохнул, недовольно произнес:
— Опять дожжит!
Полежав с открытыми глазами, Куксин повернулся на другой бок, лицом к стене, вновь натянул на голову одеяло. В этот момент с завалинки на подоконник взлетел петух и, захлопав крыльями, торжественно пропел. От такой неожиданности Куксин мгновенно сел на кровати, уставившись на петуха, а тот, протяжно покудахтав, приготовился повторить пробу голоса.
— Кыш, окаянный!
Петух, не обратив внимания на окрик, переступил с лапы на лапу, гордо выгнул грудь и снова пропел. Куксин, обозлившись, пошарил под кроватью, нашел сапог и запустил им в птицу. Петух с подоконника слетел. Куксин встал и, поддерживая рукой подштанники, шагнул к открытому окну. Высунувшись из него, оглядел двор и удивился, что дождя не было. Светило яркое солнце. Выкинутый сапог лежал на самой кромке грязной лужи около корыта, из которого поили скотину. Куксин крикнул:
— Лукерья!
На его зов из распахнутой двери сарая вышла худощавая, горбатая женщина, стряхивавшая с обнаженных рук мыльную пену. Увидев в окне взлохмаченную голову смотрителя, она вместо ответа тоже закричала:
— Чего тебе?
— Чего, чего!.. Сапог подай.
— Сам кинул, сам и подымай.
— Спросонья меня петух взбеленил. Сколь раз говорил, чтобы прирезала горлопана.
Но женщина молча сплюнула, махнула рукой и ушла в сарай. Ее жест вновь обозлил Куксина, он стукнул кулаком по подоконнику и заорал:
— Ты на меня не маши! Не позволю…
Внятный голос женщины из амбара помешал ему закончить начатую фразу:
— Подавись злобой, проклятый чёмор!
Услышав такое недоброе пожелание, Куксин отшатнулся от окна, хотел осенить себя крестом, но рука застыла в воздухе, когда его взгляд задержался на циферблате часов: стрелки показывали время полудня. Не поверив своим глазам, подумал, что часы остановились ночью, но, приглядевшись, увидел, что маятник раскачивается и, как всегда, отсчитывает секунды.
Мотая головой, Куксин шагал по горнице. Остановился у стола, взглянул на кринку в бархате запотевших боков. Возле нее — ломти ситного хлеба на деревянной тарелке. Сняв с кринки блюдце, помешал молоко пальцем, слизал с него приставшие сливки, начал пить большими глотками. Напившись, поставил кринку на стол и накрыл вновь блюдцем. Сел на лавку под часами, прислонив голову к стене.
С похмелья Куксина мутит, в голове тяжесть, в ушах писк, похожий на комариный. Память держит мысли о вчерашнем дне, когда вместе со всеми смотрителями рудника был вызван к управителю. Тягостное было свидание с начальством. Блюме в крик ругался. По выражению его лица было ясно, что непонятные немецкие слова были непотребной руганью. Конечно, на ругань можно и наплевать, но управитель, как обычно, прошелся кулаками по лицам смотрителей и больше всего оплеух досталось Куксину, так как с его именно рудника Аниска передала царскому наследнику тайную бумагу. Вдобавок ко всему Блюме обещал, что, по приказу горного начальника, за недогляд за работным людом смотрители будут жестоко наказаны, и произойдет это скоро, как только уехавший из Екатеринбурга наследник покинет пределы Пермской губернии. Наоравшись досыта, управитель дал непонятное распоряжение — с народом пока не своевольничать. Будто без него смотрители не знают, как обходиться с народом, особенно с таким уросливым, какой на куксинском руднике. А теперь как?.. На похилое дерево и козы скачут. Еще весной Куксину из-за бабьего упрямства пришлось пошатнуть свой авторитет — отменить приказание об урезке хлебного пайка и о введении четвертого постного дня. А надо бы святым кулаком да по окаянной шее. Надо бы…
После встречи с управителем Куксин, возвращаясь домой, задержался у приятеля на соседнем участке. С огорчения сели пить уже на закате солнца. Обливаясь пьяными слезами, жаловались друг другу на несправедливость начальства, сетовали на судьбу, на непокорство неблагодарного трудового люда…
Нежданно влетел со двора в окно сапог, стукнулся об пол, распугав безрадостные мысли Куксина. Он поднял сапог, улыбнулся, подумал: «Отошла! Ну до чего же добрая у меня Лукерья! Взовьется и — опадет. Да что с нее взять? Господь к ней без милости. Изгорбатил. Мне-то она родная сестра. А уж до чего заботлива обо мне! Жизнь свою отдала мне, горемычному незадачнику».
Из глаз Куксина выкатились бусины похмельных слез, вспомнилась незадачливая семейная жизнь. Жену взял хворую и рано схоронил. Оставшись в одиночестве, свел дружбу с хмельным зельем, от него еще больше злобился на непокорный работный люд.
Часы на стене пробили двенадцать, и Куксину все еще не верилось, что он мог так долго спать. Хотел было у Лукерьи попросить огуречного рассолу, но не крикнул. Не торопясь оделся и сам сходил в погреб.
Выпив рассолу, Куксин часам к четырем пополудни обрел прежний вкус к жизни. Из головы исчезла тяжесть, в ушах смолк комариный писк, а главное — появился аппетит.
Обедать сел вместе с сестрой в парадной горнице. С удовольствием ел гороховый суп с жареным луком, молча выслушивал сестрины попреки.
Лукерья говорила тихо, но весомо:
— Ведь не дите. Ведь знаешь, не жалуют тебя люди, а наливаешься зельем до беспамятства. Еще полбеды, ежели у кого путного, а то у смотрителя Федюхина — на весь Камень отпетого злыдня. Вот даве на голову жалился, а ежели тебе у Федюхина в питье чего подсыпали и немочь начнет исподволь одолевать?
Куксин с испугом поднял глаза на сестру:
— Ты что? Господь с тобой, как можно? Чать, Федюхин дружок мне. Вместе выпивали с горькой обиды. Ты понимай, Луша, дозволил-то я себе с обиды.
— С какой такой обиды?
— Управитель с кулаками на всех смотрителей кидался.
— Велика беда! Не впервой тебе от него поношение терпеть. Мне до управителя дела нет, плевать мне на него. Седни он, завтра другой. Но мне неохота на тебя в гробу любоваться да панихиды по тебе справлять.
От сестриных слов Куксин перекрестился.
— Крестись не крестись, а правду сказываю. Неужли позабыл, как тебя под мешковиной мужики молотили? Сколь времени после того кровью харкал? А теперича днями чего сдеялось? Кузнец осмелился на тебя руку поднять. На Куксина! Да мыслимое ли это дело! Стало быть, такое время подходит. Понимай ладом. Бога не страшась, холопы страх и перед ликом начальства теряют. А ты чего творишь? Пьяным-пьяно ночными дорогами ездишь. Ведь из-за каждого кустика может тебе смерть подмигнуть. Ты не больно щурься, а слушай меня со вниманием.
— Ну виноват, сестрица. Боле не буду. Говорю, от обиды на управителя дозволил.
— Закаялся от воскресенья до поднесенья. Так я тебе и поверила! Сколь разов от тебя такое обещание слыхивала? Плохой ты человек. Чтишь только самого себя. Обо мне, горемычной, не думаешь. Как стану жить осередь людской ненависти, ежели чего с тобой стрясется? Ведь за твою злобность и меня люди не жалуют. Да и горб нелегко мне таскать. Ты про то не позабывай, что сестра у тебя с изъяном.
— Ну, ей-богу, слово даю.
— Аль у тебя в домашности своего винного зелья нет? Пей, сколь хочешь. Я буду спокойна. Ты в своей избе, а она на крепком запоре. Никто тебя не обидит. Варнаки весной на любой тропе. Виновата я, что ты людям мало добра дарил? Не осуждаю. Должность у тебя такая: не будешь справлять, в штольне робить заставят. Тебя начальство по шее хлещет, а ты в отдачу холопов плетью стегаешь. Ноне у любого мужика против тебя лихая дума. Да чего, прости господи, мечу слова, они тебе все одно что горох об стену.
Лукерья взяла со стола чугунок с варевом и ушла. Куксин, покачав головой, откашлялся, встал из-за стола, посмотрел в окно. В палисаднике под кустами смородины купались в пыли куры, а возле них важно выхаживал золотисто-кумачовый петух. Оперение на птице переливалось под солнечным светом радужным жаром.
Вернулась Лукерья. Поставила на стол сковороду, прикрытую крышкой.
— Чего ране времени из-за стола вылез?
— Петухом любовался.
— А утрось чего орал? Прирезать велел горлопана. Эдакого петуха по всей округе не сыщешь. Весь рудник его голос хвалит. Не петух, а истый павлин.
— Ну, утрось я спросонья чудил. Напугал он меня. В голове гудело, вот и спустил с языка неверное слово. Петух дельный. Постой! Где ты павлина видала?
— Как где? В Катеринбурге, у Харитонихи. Садись.
Лукерья сняла со сковороды крышку. Куксин от радостного удивления всплеснул руками, увидев в сметане жаренных карасей.
— Лушенька! Как благодарить-то тебя за эдакое ядево?
— Ладно, проживу и без благодарности. Ешь. Какой ты ни есть для людей, для меня все одно брат. Родная кровь.
— Мудреная ты. Иной раз тебя и не поймешь. То клянешь, а то через край жалеешь и балуешь.
— Так, чать… — Лукерья, не договорив, махнула рукой, углом платка вытерла повлажневшие глаза и уж собралась положить на тарелку Куксина самого крупного карася, как с улицы донесся зычный крик:
Услышав чужую фамилию, Куксин, насупившись, рывком встал из-за стола:
— Кого еще черт принес? Какого ему Кушкина надобно? — Выглянул в окно и хотел метнуть крепкое слово, но, оторопев, отвесил поклон и поспешно выбежал на крыльцо.
Перед палисадником стоял тарантас, запряженный парой гнедых лошадей, в окружении шестерых конных стражников. В тарантасе сидел худощавый седой мужчина в мундире чиновника Горного управления. Куксин почувствовал, как по спине заползали мурашки. Нежданного гостя он знал давно. Благообразный вид чиновника с постоянной улыбкой на холеном лице был приятен, но Куксин знал, насколько обманчив облик приехавшего Хрисанфа Леонидовича Дружнина.
— Ну, здравствуй, Куксин. Вот нечаянно и встретились. Прости, стражник, сдуру фамилию твою переврал. Памятуй, что не фамилия красит человека, а человек фамилию. Помоги встать на ноги.
Куксин помог Дружнину вылезти из тарантаса. Чиновник, сняв шляпу, перекрестился. В руке у него толстый хлыст, сплетенный из сыромятных ремешков.
— Как доехали, ваше высокородие?
— Сам знаешь здешние дороги. В мои годы пора дома сидеть, а меня генерал Глинка посылает в крамольных делах разбираться и бунтарство пришибать. — Чиновник, улыбаясь, осматривал Куксина, а тот не мог понять причину такого внимания к своей особе. — А ты постарел. Радости не вижу на твоем лице. Не рад моему наезду?
— Нежданно-негаданно пожаловали, вот я вроде в растерянности.
— Всегда нежданно прибываю, как снег на голову. Вид у тебя, Куксин, болезный.
— Так точно. Маюсь.
— Чем маешься?
— Животом.
— Это пустяки. Жирно ешь, не соблюдая меры. Лечись настойкой на брусничном листе. — Разговаривая, чиновник вдруг стегнул Куксина по спине хлыстом. Заметив, что от удара смотритель вздрогнул, рассыпался смешком: — Неужели больно? Ведь хлестнул я от благодушия. Привычка у меня давняя хлыстиком выражать доброе расположение к людям. По характеру я добряк, а молва обо мне идет, как о лютом злыдне. Чего только не примешь от холопов, соблюдая в крае твердость законов его императорского величества, — Обернувшись к конвою, чиновник отдал приказание:
— Горошников, слушай со вниманием. Действуй на руднике, как договорились. Для охраны меня оставь одного стражника. Понял? Ну, Куксин, веди в свои хоромы. Побуду у тебя гостем не один денек. Слух идет, живешь чисто и будто даже без клопов.
— Так точно, без оных, но тараканы со стороны, случается, забегают.
— Это не беда, Куксин. Таракан в доброй избе — признак житейского достатка…
Поздним вечером, на исходе девятого часа, в парадной горнице смотрительской избы все еще горели свечи в медном канделябре, который возил с собой чиновник Дружнин.
Стоял канделябр на комоде возле хозяйской кровати, перенесенной для гостя из другой горницы. Стеганое лоскутное одеяло на ней упрятано в голубой пододеяльник.
Окна плотно прикрыты ставнями. Со двора слышен лай собак.
Дружнин и Куксин сидят за столом, покрытым домотканой цветной скатертью. Заставлен стол глиняными чашками с солениями. Среди них большая чугунная сковорода с недоеденным жареным карасем, две коньячные бутылки, но остатки вина только в одной.
Дружнин, изрядно выпив под карасей, охмелел. Над его головой на стене в деревянной рамке — портрет царствующего монарха. Чиновник без мундира, в белой шелковой рубахе с кружевами на обшлагах. По правую его руку на столе лежит пистолет. Облокотившись, Дружнин упорно не сводит глаз с Куксина, а тот под сверлящим взглядом начальства не может мысли собрать. Дружнин говорит с нотками сожаления:
— Нехорошо получилось, Куксин! Даже плохо! И надо же, чтобы именно с доверенного твоей воле рудника вышла крамола с подачей его высочеству холопского плача на бумаге, — Помолчав, Дружнин, сощурив глаза, вдруг спросил сурово, все с той же улыбкой на лице: — Как же ты посмел допустить такое? Ведь ты обязан знать душу любого холопа.
Не услышав от Куксина ответа, чиновник налил в свою рюмку вина. Подняв рюмку и держа перед собой, сказал уже ласково:
— Последнюю за здоровье государя и его наследника! — Выпив, с удивлением глядя на Куксина, спросил резко: — Как смеешь не пить за царственных особ, холопья душа?
— Так ведь грешно из пустой, ваше высокородие.
— Разве не налил тебе? Сам налей!
Куксин торопливо налил себе вина, а довольный Дружнин засмеялся:
— Вот дурак. Никак боишься меня, даже рука трясется. Я же… — И опять приказал: — Налил, так пей!
Куксин встал и, глядя на царский портрет, молча выполнил приказание.
— Винцо нравится?
— Духовитое.
— И зело хмельное, но полезное при выполнении заданий, требующих твердости характера. — Чиновник, задумавшись, прикрыл глаза, — А ведь тебе, холоп Куксин, собирались вольную дать, но задуманная на руднике крамола сию радость для тебя похоронила. Просто непонятно мне, как, будучи сам крепостным, не понял замыслов тебе подобных?
— Дозвольте высказать мнение. Не могли они сами такое удумать по своей темноте. Их надоумили.
— Не могу знать, но чую нутром, что надоумили.
— Зачем выкручиваешься? Должен честно сознаться, что проморгал беду. Повинную голову и меч не сечет. Впрочем, холопью все равно надо сечь. Вместе со всеми смотрителями будешь наказан. Даже вашего управителя не минует наказание, хотя у него в столице водятся заступники.
— Велико ли будет наказание? У меня, ваше высокородие, на руках немощная и убогая телом сестрица.
— Значит, кормившая нас горбунья — твоя сестра?
— Так точно.
— А какое она имеет отношение к твоей провинности? — спросил чиновник и вдруг раскатисто засмеялся: — Понял! Ты боишься, что тебя посадят в острог? Нет, это тебя минет, но выпорют обязательно. Хотя все будет зависеть от моего суждения о тебе при расследовании крамолы. Найдем виновных и — прощу тебя. Кого подозреваешь, Куксин? Может, кузнеца?
— Какого, ваше высокородие?
— Который тебя щипцами за глотку схватил. — Чиновник погрозил пальцем: — Я все знаю. Донес мне про такое издевательство холопа над тобой смотритель Федюхин, с коим ты вчера бражничал. Ты ему доверился, а он, выгораживая себя передо мной, выдал доверенную ему тайну, аки Иуда Искариот.
— Вот проклятый!
— Ему надо было выгораживать себя, ведь и его холопы были в той крамольной толпе. Ты, Куксин, лучше других, хоть не врешь вместе с управителем, что происшествие организовано беглым Савватием Крышиным. Только глупец может поверить таким сказкам.
— Слыхал я про такое, но мыслимо ли, чтобы варнак осмелился скрадываться под боком у Катеринбурга?
— Погоди! Крышина знаю. Второй раз я его в острог запер. Крышин особый мужик! Хитрющий, стервец! Но на такое дело, как эта крамола, и у него бы смекалки не хватило. Тут кто-то другой, но умник. Ведь как было придумано? Жалобу подали руки ребенка, и оказался он с твоего рудника. Конечно, девчонки на руднике теперь и в помине нет. Спрятали ее, понятно, у кержаков в скитах.
— Никак нет. Аниска здеся живет.
— Как так? Ты пьян, Куксин, а потому думай, что говоришь.
— Истинное слово, на руднике девчонка. Завтра же сами на нее поглядите.
Подавшись вперед к Куксину, чиновник опрокинул на столе пустую бутылку.
— Так это прекрасно! Ты же просто чудо мне открыл, если не врешь. Она нам все расскажет. Как сумел сохранить девчонку?
— Прикажете утром схватить ее?
— Боже упаси! Какой же ты озверелый человек. Я приехал к людям с добром. Успокоить приехал их. Поживу, пригляжусь ко всем, а уж после цап-царап. Понял? Сперва по-хорошему, а потом кнутиком.
— Весь рудник перепорете?
— Нет. Порка напоследок. Сначала выловим среди работных вожаков-умников. Вот кузнеца позволю тебе выпороть в первую голову. Сам стану бабенок похлестывать. Люблю наблюдать, как под плетью вздрагивают. Теперь, Куксин, поркой с мужиками нелегко сладить, потому у холопов заводится смелость. А этого нельзя допускать. Чем это псы встревожены?
— Песья тревога мудрена, особливо в наших лесных местах.
— И то верно, пусть лают. У тебя их много?
— С конюшенными — десятка полтора.
— Прикажи собак с цепей спустить, пусть на воле бегают возле избы.
— Спать не дадут брехом.
— Глупости. Человеку, у коего совесть чиста, собачий лай сну не помеха. А теперь на боковую. Ступай. Мне надо в одиночестве перед сном помолиться. Все, о чем говорили, позабудь. Не может у меня по положению быть с холопом дружеского разговора.
— Покойной ночи, ваше высокородие.
— Постой. С утра приставь ко мне для услуг приятную на лицо женщину. Впрочем, я сам ее выберу. У тебя бобылки водятся?
— Не без этого.
После ухода Куксина чиновник запер дверь горницы на крючок, положил под подушку пистолет, снял сапоги и, не перекрестившись, лег на кровать.
На комоде в канделябре догорали четыре свечи…
Погожий день простоял жарким.
Савватий Крышин наконец-то услышал долгожданные вызвоны била с рудника. Он лежал на крутом склоне оврага под душистыми лапами пихт, опьянев за день от крепкого запаха нагретой смолы.
На дне оврага в мочажине болот и патлах осоки — омут, от него до рудника рукой подать, поэтому Савватий и выбрал это глухое место для дневного укрытия.
Извещенный о приезде чиновника, Савватий уже две ночи прятался на сеновале у Степаниды Митиной. На рассвете уходил в пихтач, где коротал время за раздумьями.
Приезд чиновника ни для кого не был неожиданным. Работные люди не сомневались в том, что подача прошения царскому сыну обозлила весь чиновный Екатеринбург. Савватий, предупреждая людей о неминуемой расправе, внушал рудокопам смелую мысль в знак протеста уйти бобылям в Сибирь на вольную таежную жизнь. И теперь надеялся, что поведение чиновника будет лучшим доказательством необходимости исполнить задуманное.
Вызвоны била вестят об окончании рабочего дня на руднике.
Савватий терпеливо ждал прихода рудокопов Гаврилы Соснина и деда Иннокентия с последними новостями о прошедшем дне. Уже пал на леса кумачовый отблеск отгоревшего заката. Вокруг сгинула знаткость теней. В болотистых мочажинах, возле омута, в гнездовьях подали голоса дикие утки. В лесах наступила короткая тишина между дневными и вечерними перепевами птиц.
Далеко застрекотали сороки. Савватий тотчас выбрался из-под пихтовых лап, спрятался за выступ скалы и стал внимательно прислушиваться, ожидая условного знака, обычно подаваемого дедом Иннокентием. Тропинка Савватию из укрытия хорошо видна, но желанных друзей на ней нет. Торопливое стрекотание сорок все ближе и ближе. Савватий уже не сомневался, что по лесу кто-то идет. На тропинке, поднимаясь на склон, появился Гаврила Соснин, но в одиночестве. Отсутствие деда Иннокентия встревожило Савватия, он побежал Гавриле навстречу. Сошлись в густых зарослях пихтача, и Савватий сразу спросил:
— Пошто один?
— Так пришлось. Видишь, сам подзапоздал. За дедом стражники глаз держат. Да что там, самому почудилось, будто за мной присматривают.
— Это наверняка. Садись. Как у вас? Никого на допросы не брали?
— Пока нет. Тишь и гладь, божья благодать.
— Люди как?
— Вроде спокойны, но с задумками. Вот бабы меня тревожат. Особливо бобылки. Понимаешь, требуют, чтобы в случае чего мы их с собой в уход взяли.
— Этого нельзя. Идти придется наугад, вслепую. Сибирь, она Сибирь. Вольная жизнь нелегкой может обернуться.
Про это самое я им толковал. А они свое. Чем, дескать, Стешка Митина лучше нас, а ее Савватий вроде берет.
— Узнали-таки про такое тайное.
— Так ведь бабы. У них на все свое бабье чутье. Утрось были ходоки с соседних участков. Там тоже тихо. Чиновник, кой у нас, побывал у соседей раньше, а потом уж к нам приехал. Мне, Савватий, сдается, с нас начнут дознавательские терзания.
— Соседские мужики уходить сбираются?
— Десятка три наберется. А с нашего, если баб возьмем, то за семьдесят душ ручаюсь.
— Рано ручаешься. Сам только поведал, что задумки у мужиков появились. И причина их мне понятна.
— Может, скажешь?
— Причина в повадке чиновника. Сперва все ждали расправы, а ее не случилось. У людей явилась надежда, что все обойдется по-хорошему. Дескать, начальство простило людям самовольство.
— А ведь верно говоришь. Начальник ходит по руднику с улыбкой. Хлыстиком по голенищам сапог похлестывает, на людей волком не смотрит. С бабами и девками балагурит. Это, кому ни довелись, как-то непонятно.
— Да ты, Гаврила, не бойся яснее сказать. Ведь знаешь, смутило мужиков обхождение чиновника-карателя. Чего от меня правду скрывать?
— Слыхал я, кое-кто поговаривает, что, дескать, вовсе зря мы насторожились, потому никто нам в зубы не тычет.
— Может, сам начинаешь сомневаться?
— Вроде нет.
— Так слушай. Думаю, прибыл Дружнин с твердым заданием вырвать из ваших рядов мужиков, на коих у него есть подозрения. Сразу взять быка за рога не посмел, стражников с ним мало. Неугодные начальству умники-мужики на всем пространстве Березовска водятся. Дружнин надеется, что найдутся доносчики. Усыпляя вашу встревоженность, он и прикидывается овечкой. Коль Глинка прислал Дружнина, то это уже весточка о крепкой расправе. От улыбочек Дружнина на уральской земле немало людского горя народилось. Потому скажи мужикам, кои в уход собрались, чтобы от мирных гулянок Дружнина душой и разумом не размякали. А с какими повадками Куксин вышагивает?
— Вовсе по-чудному. Утрось заходил в кузни, со своим обидчиком, ровно с дружком, словом перекинулся.
— Вот это, Гаврила, верная подпора моим словам. Сбивают мужиков с толку. Морочат они головы ласковым обращением. Один по-барски, а другой — как ему велят. Туманят людям головы до поры до времени. Видать, придется мне и днем на руднике скрадываться, а то вы по доверчивости натворите беду.
— Зря! Постоять за себя сумеем. Пусть только тронет!
— Бунтарством похваляешься — это хорошо. Да вот солдат в Катеринбург нагнали, и вас чуть что — сразу примнут. Сейчас другое надо — слово держать крепко. Решили уйти в сибирскую сторону, так тому и быть.
— Но, ежели не тронут, то пошто же?
— Тронут! Порука тому Дружнин на руднике.
— Как-то мудрено все оборачивается… Степанида велела тебе седни ночью на рудник не выходить.
— Я, Гаврила, своим умом живу.
— Женщина тревожится за тебя.
— А я тревожусь за тех мужиков, кои моим словам о воле поверили. Уйдет рабочая сила с Урала, тогда хозяева начнут почитать нас за людей. Без наших трудовых рук им петля. Нынче не примечаю, как по-другому вырешить дело. Уходом и беду отведем от семейных. Ответ на нас ляжет.
— Так ведь страшно разом в лесную жизнь нырнуть. Ведь до Сибири надо дойти.
— Дойдем, в этом не сомневайся.
— Ты ночью заявишься?
— Обязательно! После меня повидай деда Иннокентия.
— Пожалуй, пойду.
— Ступай. За новости благодарствую. В обрат доведу тебя тропой вокруг омута на пасеку. Дальше, но безопасней, ежели на тебе чьи недобрые глаза.
Послышалось стрекотание сорок.
— Погоди, Гаврила.
— Нет никого, — успокоил Соснин. — Птицы из-за ночлега спорят. Послушай ладом. Вовсе не тот стрекот…
Ветреная ночь. Для Дружнина на руднике пятая по счету. Не спит. Ходит, заложив руки за спину, по горнице при свете одинокой свечи. От порывов ветра постукивают ставни. В тишине смотрительской избы только что часы пробили одиннадцать. Собаки лают редко и неохотно.
Прожив пять дней, Дружнин начал сомневаться в правильности своих действий. Ведь совсем недавно он был уверен, что миролюбие собьет рудокопов с толку, кое-кто развяжет языки, доносчики дадут в его руки концы нитей, по которым он без особого труда доберется до смутьянов.
Прошло пять дней, но этого не случилось. Дружнин не мог уяснить, в чем допустил просчет, так как считал себя опытным глушителем вольностей крепостного люда. На этот раз Дружнина крайне удивило и озадачило необычное равнодушие людей к его присутствию, ко всем проявлениям милостивого к ним расположения. Даже распоряжение улучшить питание не заставило работных высказать благодарность. Непонятное поведение крепостных сбило с толку его самого. Он начал придирчиво присматриваться к людям. Его насторожили взгляды стариков-рудокопов. Он привык видеть их покорными, придавленными годами непосильного труда, смирившимися с безысходностью своего крепостного бытия. Но именно в их глазах чувствовалась сумрачная затаенность. Какая-то многоликая, непреклонная суровость была во взглядах женщин. Она заставила Дружнина отказаться от намерения искать среди бобылок женщину для услуг на время пребывания на руднике.
Шагая по скрипучим половицам в раздумье о всем происходящем, Дружнин все больше утверждался во мнении, что крепостными кто-то продуманно руководит. У них какой-то замысел, с крепостными происходило малопонятное, а главное — во всем их поведении есть нечто новое, никогда раньше не существовавшее. Прежде любое свое недовольство они выявляли в крикливых, а порой и в разрушительных возмущениях. Но теперь в общем равнодушии к присутствию Дружнина на руднике, хорошо известного им карателя, был непонятный умысел. Какой же? Кто внушил его работным людям? Кто он? Успев повидать на руднике всех подозреваемых работяг, Дружнин убедился, что среди них нет человека, способного быть вожаком. У него даже зародилась мысль о беглом Савватии Крышине, но он прогонял ее и улыбался, зная, что Крышин — это тоже всего-навсего бунтарь, способный только на подстрекательство к бунтарству.
Не-е-ет. Вокруг него крепостные жили чем-то затаенным, жили, позабыв смирение и страх перед ним. Его улыбка не сгоняла с людских лиц сумрачность. Уже не раз, просыпаясь ночами, он думал о словах генерала Глинки: «Надлежит тебе искать новые пути для обуздания мятежной воли крепостных». Какие пути? Вот уже пять дней он шел совершенно непривычным для него путем, однако безрезультатно.
К тому же привезенные запасы вина выпиты. Привычка быть под хмельком требовала постоянного удовлетворения, а теперь бутылки были пусты, и это усиливало и без того скверное расположение духа чиновника.
Вновь пробили часы. Дружнин круто свернул к двери и, приоткрыв ее, позвал:
В дверях появился взлохмаченный смотритель.
— Никак нет, ваше высокородие. Что прикажете?
— Слушай внимательно. Возьми стражников, верных тебе конюхов и обыщи все казармы, все жилье. Не забудь ни одной щели. Всех найденных чужаков приведи ко мне. Будем действовать твердо, если не понимают добра. Ступай. О результатах доложишь. Буду ждать…
— Слушаюсь, ваше высокородие…
На шестое утро вызвоны била не потревожили сон Дружнина. Оно молчало. Работный люд, взбудораженный ночными обысками, начал привычную работу при ярком солнце, но нестихший ночной ветер нагнал часа через два тучи и пошел дождь.
Работа у людей не спорилась. Мешали пересуды о пережитом беспокойной ночью. Кое-кто радовался, что не был обнаружен Савватий Крышин, ночевавший на сеновале Степаниды.
Только в одиннадцатом часу Куксин, набравшись храбрости, решил потревожить сон начальства. Осторожно открыл он дверь, но она все же скрипнула. Куксин, войдя в парадную горницу с корзиной в руках, увидел, что Дружнин, проснувшись, лежит на кровати. Смотритель, улыбнувшись, хотел высказать пожелание с добрым утром, доложить об обысках, но чиновник окрикнул:
— Чего тебе?
Куксин растерянно показал на корзину:
— Вот, ваше высокородие. Управитель рудника изволили прислать вашей милости полдюжины винца.
Куксин на цыпочках подошел к кровати, поставил на пол корзину с бутылками. Дружнин, взяв одну и взглянув на этикетку, довольный, сказал:
— Неплохо. Вот хитрая немчура. Сумел добыть любимый французский коньяк. Однако который час?
— Одиннадцатый на исходе.
— Кого поймали?
— Плохо искали. Днем займемся делом.
— Что прикажете подать к завтраку?
— Глазунью. Пусть сестрица присыплет ее мелко нарезанным зеленым лучком. Надеюсь, сумеет?
Дождь временами переставал и вскоре начинался снова.
Дружнин, закусывая яичницей коньяк, слушал сбивчивый рассказ Куксина о произведенном обыске.
— Мужики как себя вели? — Увидев на лице смотрителя явное недоумение, Дружнин раздраженно спросил: — Не понял, о чем спрашиваю? Болван! Сопротивлялись мужики?
— Никак нет. Никакого внимания не клали.
— Тогда как смотрели на тебя?
— Темнота. Разве разглядишь?
— Эх, Куксин, Куксин! Просто никудышный хозяин на руднике. Плохо, Куксин, когда мужики на начальство внимания не обращают. Пора тебе понять, что тогда вашего брата они со свету убирают.
— Так точно. Это понимаю.
— Конечно, боялся, когда обыскивал казармы?
— Страшновато. Чать, там у мужиков всякий горный струмент. Так сказать: тюк и — готово.
— Вот и сознался наконец, что страх помешал тебе добросовестно выполнить мое приказание.
— Спросите Горошникова. Все углы оглядели.
— Но без толку. Пять дней потерял здесь из-за твоей нерасторопности. Начинаю думать, что страх заставляет тебя скрывать от меня негодяев. Как смеешь бояться мужиков, когда у тебя нагайка в руках?
— Ваше высокородие, страх перед ними возымел с того дня, когда кузнец щипцами меня за грудки схватил.
— А кто виноват? Сам распустил крепостной сброд. Кулаки жалел!
— Никак нет. По-всякому их утюжил. До невиданности непокорный народишко. До крови хлещешь, видишь, как его боль донимает, а он стона не выпустит. Будто каменные.
— Нельзя тебе, Куксин, смотрителем быть. Ненависть в тебе выкипела. Возьми стражника и приведи ко мне девчонку.
— Я и парнишку прихвачу. Николкой зовут. Они вроде как брат с сестрой. Может, и он что дельное скажет.
— Хорошо. Скажи Лукерье, чтобы немедля принесла холодного молока…
Работные люди видели, как Куксин со стражником взяли Аниску с Николкой возле шахты деда Иннокентия.
Провожая их встревоженными взглядами, люди бросали работу. Дети шли рядом, держась за руки. Сзади них — стражник с шашкой наголо. Куксин шагал, глядя себе под ноги. Он слышал, как на руднике затихал привычный шум рабочего дня. Он понимал, что народ на этот раз не безразличен к происходящему. Слыша женские выкрики, Куксин боялся обернуться, в душе кляня Дружнина, что тот с пьяных глаз решил чинить допрос в дневное время.
Куксин ввел ребят в горницу и, поняв многозначительный взгляд Дружнина, тотчас вышел, плотно прикрыв за собой дверь.
Аниска и Николка стояли растерянные, не зная, куда девать руки. Волосы у обоих влажные. У Аниски подол юбчонки вымок. У Николки штанины закатаны до колен. Босые. Ноги в грязи… Шли сюда, не обходя лужи.
Дружнин в расстегнутом мундире сидел в переднем углу под иконами. С улыбкой оглядев ребят, Дружнин спокойно спросил:
— Почему же, детки, не креститесь?
Ребята торопливо перекрестились и отвесили поясные поклоны.
— Рад узнать вас. Ты та Аниска, удостоившаяся чести повидать сына своего государя?
— Аниска — я.
— А чем сейчас напуганы? На мальчишке лица нет.
— За меня боится. Я с ним завсегда вместе в радости и в беде.
— Какую беду сейчас ждешь?
— Чать, не на радость нас привели.
— Дурочка. Как сильно тебя здесь запугали! Наверно, и обо мне плохое наговорили. А? — Не услышав ответа, Дружнин, улыбаясь, продолжал: — Куксин обижает тебя?
— Ну а меня не бойся. Слышал о тебе, вот и захотелось поговорить. Мордочка у тебя приятная. Ты, слышал, сиротка.
— Оба мы, барин. Но у нас теперича мамонька Стеша за родимую мать.
— Так, так. А ты смелая. Не побоялась перед наследником престола появиться. Неужели не было страшно?
— Сперва только. Сперва, когда пошла к крыльцу, на коем милостивый царевич стоял. Ноги стали будто тряпичные. Ну прямо подгибались. Но только дошла, всю мою робость как рукой сняло.
— Кто надумал послать тебя к цесаревичу?
— Да люди вроде со всего Березовского рудника. Дали мне бумагу и, перекрестив, велели отдать царевичу.
— Вот ведь как. — Дружнин встал, сделал несколько шагов по горнице, заложив руки за спину, подошел к Аниске, погладил ее по голове: — Намокла-то как.
— Непогодь на воле.
Аниска смотрела в глаза чиновнику, видела в них суровость, не понимая, как могла быть в глазах суровость на лице с улыбкой.
— Глазенки мне твои нравятся. Шустрые. Такие все видят, все запоминают. Хорошие глазенки. Правдивые. — Дружнин перевел взгляд на Николку и, сокрушенно покачав головой, спросил Аниску: — Видать, хворый?
— Просто не говори, до чего немощный. Сердцем слаб. Сколь раз мамонька Стеша с людьми, всем миром просили смотрителя отлучить Николку от работы ползунка, но где там. Наш смотритель к людским бедам без доброты на свете живет. Может, барин, своей волей смилостивитесь над Николкой. Век за вас богу станем молиться.
— Расспросив работных людей о твоей судьбе, я и позвал, чтобы лучше тебе стало жить с парнишкой. А ежели будет вам хорошо, то и пригревшей вас Степаниде Митиной будет не худо.
— Спасибо, барин!
— Погоди, погоди! За добро ведь надо тоже добром платить? В твоих руках ваша радостная судьба. Но ты должна помочь мне.
— Чем помочь-то?
— Правдой. Прибыл я сюда по приказу цесаревича, чтобы узнать людей, надоумивших тебя предстать перед ним с прошением об их нуждах. Узнать мне их надобно беспременно, чтобы сказать им спасибо. Люди эти хорошие уже потому, что доверили твоим детским рукам прописанные на бумаге горести. Согласна, что это добрые, честные люди?
— Знамо дело, барин.
— Но их запугали злыдни, вот они и не хотят мне себя объявить. А ты их знаешь?
— Где там! Их ведь сколь на руднике.
— А мне всех не надо. Только тех, кто, тебя перекрестив, велел идти к цесаревичу. Их, наверно, ты по пальцам легко пересчитаешь? Давай говори, а я запишу для твердости.
— Пошто хотите с толку сбить? Чать, сказала, что людским миром послана.
— Поверить этому трудно.
— Уж поверьте, ежели правду от меня просите.
— И у тебя ко мне недоверие, потому я тоже начальство, а я к тебе всей душой, как отец. Мне ведь вас жалко. Жалко сироток.
Вышагивая по горнице, Дружнин уже догадывался, что девочка совсем не простушка, а себе на уме. По ее пытливому взгляду понял и то, что ласковое обращение не усыпило в ней настороженности, она кем-то научена прикидываться незнайкой. Обдумывая, как добиться от девчонки нужных сведений, он решил воспользоваться излюбленным способом: нагнать страх на человека и парализовать его сознание.
— Ну чего же ты молчишь, Аниска?
Дружнин подошел к комоду и взял лежавший на нем хлыст. Аниска, не спускавшая с чиновника глаз, не выказала волнения, только торопливо смахнула со лба капли воды, набежавшие с волос. Но Николку хлыст заставил буквально сжаться, он схватил Аниску за руку. Дружнин приблизился к мальчику, погладил хлыстом его голову и спросил:
— Может, ты знаешь, кто послал Аниску?
— Не стращайте мальчонку, барин. Он и так со страху разум утерял. Николка в тот день хворал, с народом не ходил. Ни при чем он.
— Тогда сама говори! — закричал Дружнин. — Сейчас же говори фамилии и прозвища пославших!
— Говорила уж. Работные люди со всего Березовского.
— Сколько же их?
— Все, сколь есть.
— Они тебя силой заставили?
— Пошто силой? Добром просили. Завсегда людям рада помочь.
— Неправда.
— Самая истая правда.
— Врешь! Называй! Кто велел ландыши вместе с прошением подать?
— Про ландыши, вот вам крест, сама надумала. Их каждому радостно в руки взять. Ландыши царевич с улыбкой принял. Золотой деньгой одарил, только не взяла. Побоялась.
— Вот видишь. Ты совсем не глупая. Обо всем правильно судишь. Вот и поведай мне всю правду. Неужели не хочешь, чтобы людям спасибо сказал?
Аниска, не сводя глаз с Дружнина, упорно молчала.
— Хорошо. Тогда ответь, кто тебя научил разговору с цесаревичем?
— Никто. Чего учить-то? Царевич-то, поди, русский. Вот и говорила, как умела. Может, не так складно. Но он все понял.
— Врешь! — Дружнин стегнул Аниску по спине хлыстом. — Перестань врать!
— Сами врете. Что даве говорили? Поглядеть на меня позвали, а хлещете. Не в диковину такое. Хлестаная…
— Молчать!
Более сильный удар заставил Аниску вскрикнуть. Ее глаза налились слезами. Дружнин слышал ее внятный шепот:
— Хлещи, проклятый! Правды захотел! Хлещи! Вот тебе правда! — Аниска протянула Дружнину кукиш.
От нового удара девочка метнулась к окну. Николка подбежал к ней, охватил руками, прижался, выкрикивая:
— Не бей, барин! Не бей!
Дружнин хлестал мальчика, но тот неожиданно обернулся, кинулся к истязателю и ухватился за хлыст. Дружнин пнул мальчика ногой, от пинка он отлетел в сторону, падая, ударился головой об острый угол лавки, взметнул руками и распростерся на полу. Аниска бросилась к нему, опустилась перед ним на колени и увидела, как из плотно сжатых губ Николки бежала тонкая струйка крови. От испуга девочка завизжала. На крик в горницу вбежал Куксин. Дружнин, пятясь к двери, прохрипел:
— Воды скорей! Воды!
Куксин выплеснул из ведра воду на неподвижного Николку. Аниска, вскочив на ноги, распахнула плечом створки окна, выпрыгнула в палисадник. Перебежав дорогу, увидела толпу работных людей, закричала не своим голосом:
— Убил! Убил! — Силы оставили ее, она потеряла сознание.
Толпа мужиков, женщин, парней и девушек, вооруженных топорами, лопатами, кайлами, железными вилами, смяв стражников, шла к смотрительской избе.
Вел людей Савватий Крышин…
Вечером дождь совсем стих. Николку без церковного отпевания работные люди схоронили на угорье, в густом пихтаче. Перекликались лесные птицы, когда люди уходили с места похорон.
Дружнина, Куксина и стражников ночью судили всем миром и вынесли приговор: за истязания рудокопов, за погубленного отрока Николку они жить не должны.
На рассвете нового утра било на руднике молчало. Восемьдесят три души, среди которых восемнадцать женщин и девочка Аниска, с котомками за плечами, отвешивали поясные поклоны прощания с остающимися в крепостной неволе. Они держали путь в неведомые края.
Уходившие люди, исполняя приговор, уводили с собой Дружнина, Куксина и стражников, дабы своим лиходейством на уральской земле они не приносили работягам страдания.
Довести восемьдесят три души лесным путем до Сибири дал обещание Савватий Крышин…
А в это время уже далеко от Екатеринбурга катил в столицу цесаревич Александр Николаевич.
Большая дорожная карета в цуговой запряжке, вереница коней охранного эскорта третий час кряду спорой рысью уносились все дальше от города необузданной алчбы по золоту, всяких страстей вокруг меди, железа, сказочных самоцветов, все дальше от женщин-красавиц Урала…
Мысли цесаревича о Екатеринбурге тускнели, уплывали, и который уже раз им овладевало беспокойство и тревога — вставали в памяти дом управителя Березовского рудника, толпа, стражники и эта девочка Аниска, невинное дитя. Ландыши и бунт!.. Можно ли соединить — бунт и ландыши? Можно ли соединить?.. И все вновь повторялось: как только цесаревич начинал думать о происшествии на руднике, тотчас вспоминались глаза отца. Взгляда родительских глаз он пугался с детства, особенно когда от злости они стекленели, теряя свой обычный серо-зеленый цвет. И вот теперь наследник чаще всего вспоминал выражение отцовских глаз, увиденные им накануне отъезда из столицы на Урал.
В Петербурге был хмурый, ветреный вечер. Цесаревич был на половине матери, когда его неожиданно позвали к отцу. Войдя в кабинет, он увидел царя подле письменного стола. Его глаза были белесые. Он протянул сыну бумагу и резко воскликнул:
— Полюбуйся! Слезный «плач» смоленских лапотников с мольбой о защите их горемычной судобушки от несправедливой суровости господ. Жгут дотла дворянские гнезда, проклятые, да еще смеют лезть ко мне с мольбами о милосердии! Да ты не читай их галиматью. Читай только мое соизволение.
Царь подошел к большому окну, и его глаза уставились на мутнобелую, взволнованную непогодой Неву.
Наследник перевел взгляд на слова, написанные рукой отца в левом углу бумаги. Понял, что написаны они в гневе, ибо слишком размашист почерк. Всего несколько слов: «Перепороть всех! Подателей в Сибирь навечно!..»
Царь круто обернулся к сыну и спросил громко:
— Прочитал? Тебе на Урале тоже будут совать подобные плачи. Беря их, помни мое соизволение на этой бумаге!
Царь выхватил из рук сына бумагу и швырнул ее на стол. Не спуская с наследника завораживающего взгляда, вновь спросил:
— Что с тобой? О чем думаешь?.. Запомни: с мужиками опасно миндальничать. Ступай!
И цесаревичу до сих пор кажется, что, уйдя тогда из кабинета, он унес на своей спине ледяной ожог от отцовских глаз…
Мерно покачивалась карета, в открытое окошко слышалось рядом тихое всхрапывание лошади конвоира.
«Прав ли отец?..» — думал цесаревич.
Справа и слева от дороги сплошной темно-зеленой стеной стоял лес. Цесаревич представил себе страх человека, довелись ему заплутать в этой дремучести. А звери — медведи, рыси, волки… Холодной волной прокатился по всему телу испуг от воображаемого бедствия. Снова в памяти — дом Блюме, стражники, толпа, грязная толпа, теснящая верховых охранников. Шепот: «Бунт!» И его безотчетный первый порыв — скрыться! Убежать! «Что это было? Страх? Да, это был страх! Но прав ли отец?.. Они же все люди! Ландыши и бунт! Какие они люди?.. Тогда как же сделать, чтобы овцы… то бишь овечки, дорогие наши овечки — дворяне были целы, и чтобы волки… кто волки? Да! Да! Работный люд — волки! Что сделать, чтобы и они были сыты? Какую кость надо им бросить?.. Отец все же прав!..» Рядом с окном кареты, в стремени седла, охваченный дужкой шпоры, — запыленный солдатский сапог. На секунду пружинится нога верхового, слегка подается сапог в стремени вперед и снова возвращается в исходное положение. Размеренно: немного вперед, опять назад, вперед — назад… Раз — два! Раз — два! Цесаревич успокаивается, ему становится даже отчего-то весело: «Р-р-раз — два! Р-р-раз — два!»
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
1
Во дворах села Ксюшина начинали горланить третьи петухи…
Ксения проснулась. Она лежала на широкой постели под ситцевым пологом в горнице летней избы Анисьи Ведеркиной. Приехала в середине июня, прежде побывав на всех мелких промыслах. В селе собиралась прожить до самой осени.
Слушая петушиную перекличку, Ксения думает про вчерашний день. Была на каменоломнях. Видела Сергея Ястребова. Он испугался ее приезда. Избегал смотреть ей в глаза. Но был такой же, как в те январские дни, когда стали близкими. Видела работу Сергея над скульптурой матери, была поражена тем, как быстро раскрывается его дарование. Пробыла с ним до сумерек. На прогулке по берегу озера расспрашивала его о прошедшей зиме. Он отвечал неохотно, отрывисто. Рассказала ему о встрече с Жуковским. Говорила с ним, как со старым другом. Хорошо рассмотрела Сергея. Не нашла в нем никаких перемен. Уезжая с каменоломен, заставила Сергея сесть в коляску, проводить по лесной дороге. Простились, когда до Ксюшина оставалось не больше версты. Теперь жалела о своем поступке, ибо домой Сергей шел пешком десять верст. Вспомнила, как Сергей вздрогнул, когда его поцеловала, а самой сейчас стало жарко от прилива крови, приятно затуманилась голова.
Петухи пели уже наперебой по всему селу. Хозяйский кочет отвечал им охрипшим басом. Пастух, пощелкивая кнутовищем, прогнал на выгон стадо. Коровы лениво мычали, на них дробно позванивали ботала. В открытое окно, задернутое занавеской, дохнул ветер. Занавеска надулась пузырем, повеяло запахом полыни. Послышался далекий звон побудки на Оглядной горе, а вслед за ним загудело чугунное било на берегу реки под ударами сторожихи парома. Побудка, как волшебная палочка, всполохнула жизнь села, и оно наполнилось людскими голосами и лаем собак.
Дверь из горницы приоткрыта в сумрачные сени, и там видна растворенная дверь в горницу Анисьи. Кличет она:
— Анютка! Анютка!
— Да слышу. Давно не сплю.
— Вставай! Шалаешься до полуночи, а поутру зенки разлепить не можешь!
— Чего кричишь? Не проспала, чать.
— Молода в постеле тело парить. Моду завела! Принцесса!
Шлепая босыми ногами, Анюта пробежала по сеням на крыльцо
к рукомойнику. Ксения слышит, как она переговаривается с подружками, проходившими мимо избы к парому. Вот Анюта залилась смехом и вернулась обратно в горницу.
— Тише! Гогочешь. Разбудишь молодую хозяйку.
— Господи, а я позабыла!
— Лба не перекрестила, а уже хахоньки-перехахоньки. Чего пялишь на себя сарафан? К обедне, что ли, собралась?
— А чего его жалеть, не для погляда сшила.
— Лопотину надо беречь. Перед парнями на промысле как сорока хвостом трясешь. Смотри у меня!
— А чего смотреть? Девка, как девка. Не хуже других. Только вам угодить ничем не могу, потому сиротой из милости возле себя пригрели.
— Сейчас же замолчи! Не смей о таком говорить. Из милости пригрела? Дочерью тебя почитаю. Понимай это, дура! Трясусь над твоей судобушкой.
— Видать. С утра до ночи по-зряшному на меня ворчите: туда не ступи, сюда не ходи, на этого не гляди. Почему так со мной обходитесь?
— Опять за свою присказку? Реветь начни от обиды.
— Нареветься от вас до вечера успею.
— Помни, девка. Настрого тебе наказываю: одной в озере не купаться! Моду завела. За тобой, слыхала, парни подглядывают.
— А мне на то плевать. Не люблю с девками купаться. Не хочу им себя напоказ выставлять.
— Бесстыжая! Поперешная!
— Глядите. Дверь в горницу хозяйки растворена, а вы кричите.
— А чего раньше об этом не сказала?
Анисья Ведеркина перебежала сени, прикрыла дверь, но Ксения позвала ее.
— С добрым утречком. Прости, что простоволосая перед тобой. Разбудили тебя никак своими турусами? Сладу с Анюткой нет.
— Да раньше петухов проснулась.
— Здорова?
— Мысли разные разбудили.
— Какие мысли?
— Много их у меня. Думаю обо всем, а больше ни о чем.
— А ты их в себе утихомиривай. Им только волю дай, так живо разум захомутают.
— Зря, Степановна, на Анюту ворчишь.
— Ничего не зря. Бедовая она. Ветрогон-девка. Всем парням мозги баламутит. А вдруг оступится с каким ухорезом? Молодая. Собой смазливая.
— Ты сама была молодой? Неужели позабыла про то время?
— Была молодой, но не такой, как Анютка. Молодость хранила не по-нонешнему. Стыд имела, им оберегалась. А у Анютки только смешки на уме.
— Твоя молодость, Степановна, по-иному колосилась. Не на прииске росла. Тебя мать от счастья родила, а Анютина мать ее при луне с горя нагуляла.
— Правильно. Только и на прииске девке надо стыд иметь. Не знаю, что ли, как Анютка живет. Слова не говорила до той поры, как Стратоныч смотрителем здесь не объявился.
Анисья плотно прикрыла дверь.
— Боюсь за девку, Ксения Захаровна. Стратоныч к ней липнет. Упаси бог!
— О чем ты?
— Какая непонятливая! Стервятник Стратоныч на девичью чистоту. Его Дарья вчерась ко мне прибегала. Упреждала, что мужик вовсе башку потерял, как Анютку на промыслах увидал. Сама знаешь, приказчик. С него взятки гладки.
— Не посмеет. Глупости говоришь.
— Мужик есть мужик. За всем одна не могу углядеть. Парун погода стоит. Перекалится в девке кровь, позабудет про чистоту. Сама поди знаешь. Иной раз трудно нам собой совладать.
— Глупости.
— Для тебя, может, и глупости. Сама не святая баба была, а потому и свидетельствую, что нам иной раз ласка нужнее хлебушка.
Ксения засмеялась. Анисья, улыбаясь, засмотрелась на нее:
— Красива ты ноне. В полном цвету.
— Сейчас начнешь меня поучать уму-разуму. От матушкиных глаз из города убралась, так здесь под твои попала.
— Слова от меня не услышишь. Живи в свое удовольствие. Только об одном все же скажу. Не глянется мне, что больно долго во вдовьей сбруе по свету гуляешь.
Ксения снова рассмеялась.
— Смеешься?
— Смеюсь, потому грустить надоело.
— Не позабывай, что грусть тебя за любым пеньком караулит, заводится она у нашей сестры от самого, можно сказать, радостного.
— Да не пугай меня.
— Что тебя пугать? Упреждаю только. Долгонько вчерась у Сереги гостила.
— Люблю с ним разговаривать. Большим мастером стал. Он тоже на Анюту заглядывается?
— Скажешь! Да он ни на одну девку не глядит. Для него первое дело — работа. Девки наши на него шибко обижаются. По нем на приисках немало девок и баб сохнут. Парень видный, а на девок не глядит. Сказывают, какую-то поделку из камня рубит.
— Разве не видала ее?
— Что ты! Никому не кажет.
— А мне показал.
— Ты — другое дело. Ты — хозяйка. Чего рубит на сей раз?
— Это пока секрет даже от тебя, Степановна.
— Секрет так секрет, только в народе говорят…
— Знаю, что говорят. Рубит он, Степановна, женщину в полной одежде.
— Верю тебе, потому видела поделку. А почему такая молва ходит?
— Молчать умеешь?
— Лучше рыбы, если понадобится.
— Матушку мою рубит из мрамора Сережа.
— Не врешь?
— А дельно это? Ведь Василиса живая.
— Она и в мраморе у Сережи тоже живая. Сидит в кресле.
— Вот поглядеть бы!
— Не покажет.
— Он такой. Что ему втемяшится, кулаком не вышибешь.
— Только уговор. От меня ничего не слышала.
— Будь покойна. Пусть Кирилл поможет Сереже советом. Стоящий парень.
— Зимой пошлю Сережу учиться в столицу. И об этом никому ни слова.
— Вот это надумала! Он не раз говаривал мне, что надо ему ладом поучиться. «Руки, говорит, у меня есть. Помысел на поделки водится, а познания мало. Без познания в моей работе, говорит, все одно, что слепым ходить…» Только ежели решила для Сереги хорошее, то не передумывай. А то ведь у тебя: сегодня пригож, а завтра негож.
— Сережина судьба — для меня особая судьба. За ней в оба глаза буду приглядывать.
После полудня Анисья Ведеркина верхом на буланом коне возвращалась в Ксюшино с дальних промыслов. Ехала берегом. Солнечная теплынь душила зноем. Жар шел от песков и камней. Из лесу тянуло паркостью, даже близость воды не приносила облегчения.
Видела Анисья: на всех промыслах бурлила обычная, каждодневная работа. Всюду копошились люди, перемывавшие пески. Возле балаганов и шалашей гомонили малые дети, покинутые родителями на весь день. Изнемогая от зноя, люди рыли пески. Девушки катали тачки с песком на промывку, а с промывки на отвалы. Всюду крики, перебранка и — редко — смех.
Взмокнув от пота, Анисья всматривалась в работу старателей. Завидя ее, смотрители начинали сердитей покрикивать на свои артели, утомленные жарой и нелегким трудом. Все сегодня радовало Анисью. Золото шло не постное. У многих артелей выпадал фарт на хорошие самородные гнезда. Жизнь промыслов шумела, как бурная горная река…
В березовой рощице Анисья натолкнулась на девушек, праздно сидевших в тени. Девушки заливались смехом. Рассказывала им что-то известная на промыслах остроязыкастая Ленка — беглая монастырская послушница. Натянув повод, Анисья остановила лошадь.
Девушки ее не видели. Ленка, подобрав подол и оголив стройные ноги, говорила:
— И вот, девоньки. Верьте не верьте, ваша воля. Хвастать не стану. Встал это он передо мной на колени и давай мои ноженьки целовать. Целует эдак с жадностью, слюнями смачивая. Целует, а я горю вся кровяным огнем. Целует, а я чую, что вот-вот упаду наземь. Целует ноженьки мои, колени целует, а я вся горю и разум терять зачинаю…
Анисья спросила сердито:
— И кто же тебя водой залил?
Девушки от ее голоса окаменели. И только Ленка, не убрав с лица улыбки, обернулась к Анисье.
— Заместо работы побасенками занялись. Все ты, Ленка. Сама себе разум возле мужиков свернула, так и подружек тому же обучаешь? Врешь дурам, а они рты разинули. Кто тебе ноги целовал? Сон, что ли, видела?
— Ничего не сон. Явь рассказываю. Девки просили. Поп монастырский мои ноги целовал, когда черта из меня ладаном выкуривал.
— Молчи, бесстыжая!
— За что ее костишь? — спросил подошедший с берега старатель Еремеич.
— За дело. Балясами девок от работы уводит.
— Ты на меня за это наскакивай. Моя в том вина, что они в тени присели. Я их под березки попастись послал. Жарынь какая. Вижу, сама взмокла, а ведь ты на коне. Пускай девки отдохнут.
— Роздых — одно… Отдыхать отпускать твоя воля, Еремеич. Ежели тебе золота не надо, то в том не моя забота.
— Мы свое намоем. От нас наше не уйдет.
— Послушал бы, о чем девки речь вели.
— Про парней судачили.
— Ленка, твоя проповедница, про поцелуи им сказывала.
— Плохого в этом ничего не углядываю. С поцелуев в бабе человеческая жизнь начинается. Зря девок строгостью шуруешь.
— Заступаешься за них?
— Обязательно заступаюсь. Моей артели девки. Дошлые по разумению. В работе злые, такие же и в озорстве. Все им охота познать. Здоровые девки, мыслишки у них о здоровом да о земном заводятся. Живут себе смело, и зазору в этом нет, что от подружки про поцелуи слушают. Сыпьте, сороки, к лопатам с тачками, а то глядите, как Анисью Степановну озлили.
Девки убежали на берег реки.
— Сердишься, родимая, по сущим пустякам. Чего тебе надо? Робит народ изо всех сил. А ты все недовольна. Так думаю, что это в тебе от старости. Злишься, что молодость вместе с нами в пески втоптала. Вспомяни, как сама-то, бывало…
— Знаю, какой была.
— Подумай, сколько годиков друг друга знаем. Помнишь, какой был Еремеич? Ухорез парень. Не видал, думаешь, как ты…
— На такое у тебя память светлая.
— Да она у меня на все светлая.
Анисья, посмотрев на старика, усмехнулась.
— А помнишь, как плясали с тобой? Вот теперича бы тряхнуть в плясе.
— Куда тебе! В жарынь из валенок не вылазишь.
— Валенки — не зазор. Душа во мне молодостью, Степановна, по сей день ярится. Ты на девок от седины шипишь, а я о тебе как о молодухе думаю. На вот!
Старик достал из кармана штанов самородок, положил его на ладонь, протянул Анисье.
— Гляди какой. Будто жучок пузатый.
Взяв самородок, Анисья, прищурившись, внимательно его рассмотрела.
— Верно. Вовсе на жука похож.
— Вот и приладь его на голенище, как от меня память.
— Нет. Прошло время, Еремеич. Не тот блеск ноне золота на моих голенищах. Возьми его в обрат. Отдай от меня Ленке. Скажи, чтобы брошку либо серьгу из него наладила. Скажи, что я велела.
— Чудная ты. То девку костила, а то одариваешь.
— Мало ли. Озлилась. Чему она учила девок? Про поцелуи слушать?
— Ты смекай: не Ленка, так другие их этому обучат. Пусть лучше друг от дружки про все бабье узнают. Потому в знакомый голбец лезть страху меньше.
— Слушаю тебя и думаю: во всем девкам потакаешь. А кажись, с умом мужик.
— Это от доброты себя к девкам располагаю. Уж больно они у меня все хорошие да дельные.
— Видать. Почему же это модники возле них собрались не больно хорошие?
— И это должна понимать. К сапогу грязь пуще липнет, чем к лаптю. Вот Ленку для примера взять. Из монастыря от послуха к золоту сиганула. В монастыре бы ей все одно житья не было. Исчихалась бы с ладана. А здесь? Погляди на нее, как с тачкой выступает, — как боярышня.
— Ну тебя! Как был греховодником, таким и остался.
— До гроба таким буду.
Анисья тронула лошадь и поехала.
— Не позабывай про меня. Молодой хозяйке поклон сказывай. Желаю повидать ее на нашей делянке. Скажи, пускай свою тень на мои пески обронит. Еремеич в бабьей красе толк понимает.
Анисья засмеялась и, обернувшись к старику, погрозила ему плеткой.
Пустив коня рысью, Анисья проехала версты три к тому месту, где в ложбине речки Моховки трудилась в артели Анюта. Не увидев ее среди девушек, осмотревшись кругом, спросила работавшую женщину:
— Слышь-ка, Спиридоновна, где же Анюта?
— Да недавно была. Искупаться, поди, убежала в озерко. Жарища. Потом, как в бане, седни ополаскиваемся.
Анисья рванула повод и круто свернула к лесу. Въехала в его духоту. Наклоняя голову, чтобы не задевать ветки, поехала между деревьями, услышала смех Анюты. Остановив коня, Анисья спрыгнула на землю. Вышла к прибрежному тальнику. Опять услышала смех Анюты уже совсем близко. Девушка говорила:
— Да не лапай меня, старый чёмор! Не для тебя народилась. Уйди! Пошто в тальнике хоронишься, когда купаюсь?
— Люба мне через силу. Возьми подареньице.
От волнения у Анисьи перехвдтило дыхание. Она крепко зажала в руке черенок плетки. Раздвинула вихры тальника, увидела Анюту в расстегнутой кофте, Стратоныча с шалью в руке.
— Бери, дуреха. Для тебя выбрал.
— Врешь все. У своей Дарьи из сундука слямзил. Видать, что ношеная шаль.
— Сделай милость, примерь.
— Давай порадую тебя.
Взяв шаль, Анюта накинула ее на плечи:
— Любуйся. Запоминай, какая в ней.
— Голубушка моя! Пташечка заморская!
Стратоныч схватил Анюту за плечи, притянул к себе, но девушка вырвалась.
— Опять лапаешь! Держи шаль. Не надо от тебя подаренья. Чужая тебе.
Набросив шаль Стратонычу на голову, Анюта звонко засмеялась.
— Не мучай меня, голубушка. Только словечко скажи. Венцом с тобой покроюсь. Барыней жить будешь. Добром не пойдешь — сворую.
— Руки коротки. Степанку на тебя пожалюсь. Он из тебя память обо мне кулаками вышибет.
— Жизни своей для тебя не пожалею.
— Анисье на тебя пожалюсь.
— Хоть самой Карнаучихе жалься, все одно от тебя не отступлюсь, пока не завладею.
— Хвастаешь, — громко сказала Анисья и вышла из тальника.
Анюта, вскрикнув, убежала в лес.
— Не лезь к девке, Стратоныч.
— Здравствуй, Анисья Степановна.
— Не ищи тропку к ее молодости. Вишенка не по твоим гнилым зубам. Остатний раз упреждаю. Ежели еще раз тебя возле Анюты угляжу, то при народе бить стану.
— Пустое плетешь, баба. У самого плеть не короче твоей.
— Она не про мою спину. Наказ тебе даю: без дела на промыслы морды не совать. Даже взглядом не смей моих девок и баб поганить.
— Твой наказ для меня не указ. Сам наказы давать умею. Ездил сюда и буду ездить. Для того и живу, чтобы баскими девками любоваться. Для меня ты, Степановна, только еловая шишка на ровной полянке. Ежели жить станешь мешать, могу тебя подбором раздавить. Не из трусливого десятка.
— Какой храбрый! Перечишь мне. Топай отсюда!
— Не мыркай.
— Топай, говорю, а то в воду стряхну.
— Силенки не хватит.
Анисья неожиданно шагнула к Стратонычу, сильно ударила кулаком в грудь. Смотритель, взмахнув руками, пошатнулся и, зацепившись каблуком за корень, повалился на землю.
— Богатырь! Это тебя шутя стукнула. Что? Лежишь? Волк исовский. Я только с виду старуха. Кулак мой звякает до беспамятства.
Поднявшись с земли, Стратоныч сжал кулаки и шагнул к Анисье.
— Еще разок хочешь? Могу привесить.
— Кабы не была бабой, показал бы тебе звезды при ясном солнышке.
— Благородный какой! Давно ли перестал баб избивать? Позабыл, как в их утробе младенцев насмерть захлестывал?
Стратоныч, выругавшись, пошел к ельнику, где стояла его лошадь…
Все небо в затейливой паутине звезд, их лучистое мерцание светлило густую темноту ночи. За далекими лесистыми горами горизонт дрожал бледным светом — то далеко вспыхивали молнии, и от этого под небесным шатром душно людям, зверям и птицам. Душно самой земле.
Ксения шла берегом реки по кромке сырого песка.
Шла и думала о себе и Сергее. Не могла не думать. Мыслей много. Ксении скучно без Сергея. Все мысли снова о его ласке, от них стучало в висках. Она боялась, что уже полюбила парня, не знала — поверить ли в это свое чувство.
Путались мысли Ксении. Издалека донеслась песня. Остановилась. Прислушалась к полету звуков в ночной тишине. Осмотрелась. Поняла, что ушла далеко от села. Никогда раньше не видела таких частых прибрежных кустов. Постояла, повернула обратно и брела, не ускоряя шагов. Вслушивалась в приглушенный расстоянием напев. Звучала, казалось ей, какая-то новая, незнакомая песня. О чем? О любви?..
Но вдруг она разобрала слова далекой песни и вспомнила, что знает ее, не раз певала сама. Обрадовавшись, Ксения запела.
Ее голос сливался с доносившимися певучими звуками, а ночное эхо разносило по горным увалам под темным звездным небом песенный трепет любви.
Подходя к селу, Ксения услышала на реке плеск. Замедлила шаг. Увидела, что к берегу пристала лодка. Покашливал в ней плохо различимый впотьмах мужчина. Ксения подошла ближе к воде, узнала приискового конюха Никодима.
— Куда плавал?
— Кто это? Не вижу тебя.
— А гляди хорошенько. Я и в темноте узнала тебя.
— Да это хозяюшка! По голосу тебя, Ксения Захаровна, признал. Морды ставил. Анисья к утру свежей рыбки заказала.
— Никодим, запряги сейчас Воронка в коляску.
— А куда, дозволь узнать, ехать собралась?
— На каменоломни свезешь меня.
— Твоя воля. Только ночь на дворе.
— Запряги. Надо мне. Ночью люди тоже живут.
— Как велишь, так и будет излажено. Анисье, поди, надо сказать.
— Сама скажу. Пойдем.
— Сейчас, сейчас. Только лодку привяжу, чтобы течением не унесло.
Из открытого окна исходил от свечи неяркий свет и едва рассеивал темноту на верхних ступенях крыльца. Подойдя к дому, Ксения разглядела сидевшую на ступеньках Анисью Ведеркину.
— Никак с памятью дружишь? — тихо сказала Ксения.
— Тебя поджидала. Зря эдак вольно в ночную пору за околицу выходишь.
— Душно. Гроза будет.
— Духота и меня с постели подняла. Да и ты запропастилась.
— Встревожила тебя, ушла, не предупредила?
— Встревожила. Только вовсе другим.
— Вроде ничем. Только душой чую, что ты который день сама с собой споришь.
— Сама знаешь про то. На старости я душой к чужим бабьим тревогам прилипчива стала. Загодя чую их. Поди, не станешь спорить, что все твои тревоги перевидала, окромя тех, кои в Петербурге без меня заводила в дворянском звании.
— В столице жила без тревог. — Ксения опять прислушалась к песне, теперь уж другой, доносившейся издалека. — До чего же хорошо поют!
— Уходишь от разговора со мной? А зря.
Ксения ходила возле крыльца, склонив голову. Анисья не спускала с нее глаз. После долгого молчания спросила:
— Может, пойдем спать?
— Ступай. Мне не хочется. Нет у меня сна, Анисья.
— Знаю. Не первую ночь покоя в постели не находишь. А все потому, что смелости нет самой себе признаться.
— В чем признаться?
— В причине тревожности. Крепко она в твоем разуме завелась. Не дает тебе отдыха.
Ксения, чувствуя, что Анисья вызывает ее на откровенность, села на завалину перед освещенным окном.
— Просто удивительно, как сегодня особенно душевно поют.
— Всякий раз так поют. Просто песня сегодня тебя шибче волнует. Слова в ней про любовь.
— Я велела Никодиму запрячь Воронка.
— Так. Спасибо, что, наконец, дельное сказала. Не совсем передо мной душу захлопнула. Ночь ведь. Может, до свету погодишь? Сама про грозу поминала. Раньше боялась грозы.
— То было в детстве.
— Так. Куда ехать надумала, догадываюсь. Дорожка туда недальняя, но лесная. Одну тебя в ночную пору не отпущу.
— Со мной Никодим. Сейчас начнешь пугать лесной нечистью?
— Чего тебя пугать? С лесом не хуже моего дружишь. Пугать не стану, а сама с тобой поеду. Потому перед матерью за тебя в ответе, а главное — совесть велит возле тебя быть, когда в сердце твоем новое чувство гнездо свивает.
— Мне обязательно надо сейчас Сергея увидеть. Сказать решила ему.
— Про то, что, в остатний раз свидевшись, позабыла сказать? Видать, тогда смелости не хватило? Бывает, молча решишь, а словами высказать страшно.
— Твое ли это дело, Анисья?
— Осерчала? Вовсе на материнский манер обрываешь вопросом, когда недовольна спрошенным. Говорю по той причине, что опасаюсь за того человека, коему хочешь заветное высказать. Ведаю, что иной раз заветное не только радостным оборачивается. Обо всем ли, голубушка, хорошо подумала? Есть у тебя надежда, что поверит он в сказанное? Не испугает оно его? Понимай. Стоите вы оба, будто на одной лесенке — только ты наверху, а Серега внизу. Он ведь хорошо различает, кто ты для него. Может, надо еще подумать обо всем при дневном свете. Может, тебе от духоты приспичило немедля повидать крепостного парня, губы коего согрели твои губы.
— Может, и у него давно есть заветное, о чем надо тебе сказать, а он не торопится говорить. Понимает, что уздечка его подневольной жизни в твоих руках. Ведь как ее вздумаешь натянуть, так и дышать ему придется.
— Погоди, Ксения Захаровна. Голос холодом не студи. Разговор у нас с тобой с глазу на глаз. Вот про что скажу тебе. Любит Серега тебя. Любит, а поверить в счастье боится. Знаешь, отчего в нем страх за свое счастье? Он ведь про многое о тебе знает. И до него молва доплеснула плеткинское хвастовство. Но ведь ты для него все равно как звезда светлая. Любит он тебя тоже по-светлому. Сама лаской одарила его, радостью, не подумав, что от нее в парне заведется любовь. А она завелась.
— Сказал тебе?
— Упаси бог! Разве такой парень скажет кому про самое драгоценное всей жизни? Чую его любовь. В глазах его вижу, когда на тебя смотрит. Ты тоже чуешь, оттого и решение приняла.
— Про все знаешь?
— Не слепая. Неужли занозилась? Гляди, Ксения Захаровна! Не позабывай, от любви иной разок наша сестра наново рождается. Подумай — надобно ли тебе наново нарождаться? Не ошибись в себе. В разуме-то у тебя память про дворянство водится. Ты от любой ошибки, как курица от дождика, отряхнешься, а как Сергей станет жить из-за твоей ошибки?
— Помолчи! Говоришь, говоришь!
— Извиняй. Видать, надо было смолчать.
— Неужели не понимаешь, что обо всем подумала. За высказанное спасибо. Большое спасибо.
— Немедля поедешь?
— Конечно. Где же Никодим?
— У конторы, поди, дремлет, на облучке дожидаясь. Ступай. Только свечу задую. Вся ты в мать, голубушка, по бедовости…
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
1
Стояло время июльской теплыни. Наказывали частые грозы, и от молний случались лесные пожары. Тихон Зырин второй месяц налаживал медный рудник на крутых горных увалах, в кольце болот под именем Синюхины Бани. Заповедная лесная вековечность неохотно допускала людей в свои непроходимые чащобы. Место, выбранное для рудника, окружали сплошные массивы леса. Высоченные лесины с темной хвоей, словно припачканной сажей, переплетались между собой ветвями. Без топора нет дороги. Комли лесин опутаны куделей серого мха, на ветках седые и зеленые мшистые бороды.
Второй месяц от зари до сумерек работал народ в гнилых, гиблых болотах, утверждая трудом право Тихона Зырина стать хозяином рудных богатств. Увязая в зыбунах, угорая от болотных газов, дробя камень, заедаемые комарами и гнусом, люди тянули лямку горной каторги. Несмотря на все трудности и невзгоды, работа у людей спорилась. Тихон работал вместе со всеми. Лазы к руде были уже пробиты. Из забоев брали первые пуды рудного богатства.
Молва о том, что Тихон Зырин стал хозяином медных угодий, бродила по промыслам и заводам Южного Урала. Она скликала к нему старых, порой совсем позабытых друзей-горщиков, с которыми Тихону приходилось встречаться за годы жизни. С конца июня на рудник на первых порах усторожливо приходили небольшими партиями кержаки. Они были молчаливые и сумрачные, мускулистые, крепкие мужики.
Тихону было известно, что уральский раскол еще с весны по неведомым причинам начал по краю перекочевье. Приток работной силы раскола радовал Тихона, но он опасался, как бы приходящие кержаки не стали по количеству заметными горной страже и не началась на них охота начальства казенных заводов. Кроме того, у Тихона был уговор о руде с Муромцевым. Он обещал заводчику: в лесах поблизости от Старого завода не приручать кержаков. Вначале Тихон принимал раскольников с выбором. Но, все более испытывая нехватку рабочей силы, стал, невзирая на свои опасения, брать всех, ибо в каждом прибывшем к нему кержаке был нужный ему рабочий. Любой раскольник был, прежде всего, искусный плотник, а он Тихону теперь нужнее всех, ибо пришло время ставить на руднике людское жило.
Тихон сейчас ясно понимал, какие богатые медные руды находились на землях Карнауховой. Видя эти запасы, он облаживал рудник с широким размахом. Разум Тихона, околдованный рудой, заставлял его не страшиться затеянных работ. У него появилась уверенность в том, что треск замков, сбиваемых с хранилищ горных кладов, уже слышен по всему Уралу, манит к себе бродяжный работный люд.
В тумане удушливых газов бутили камень, били сваи в болота и топи. Укладывали на трясины бревна — стлани. Прорубили просеки, готовя путь для вывоза руды. Но с каждым днем забот становилось все больше и больше. Рвение к работе, свойственное Тихону в годы молодости, как бы вернулось к нему вновь. Он опять ощущал прилив сил и вспоминал про свои немолодые уже годы только под конец дня, когда, чуть не падая от усталости, добирался до избы, чтобы сном освежить разбитое непривычным трудом тело. Но иногда он не мог сразу заснуть. От болей в пояснице, в руках и ногах непрестанно ворочался с боку на бок и, наконец, забывался коротким, но уже крепким сном, а с рассветом вновь вставал полный энергии.
* * *
Смолистый сруб избы Тихона, подведенный под крышу, стоял на пригорке около рудника на пустоплесье. Жил Тихон с пареньком Петюшкой — сироткой, которого привез с собой с Исовских приисков.
Ночь пришла душная. Томила лесная испарина, по-прежнему людей донимали комары и мошкара. По руднику косматились дымные костры, но и они слабо отпугивали гнуса.
Тихон лег спать на завалинке, наказав Петюшке доглядывать за костром, пока бодрствует. Петюшка сгоряча пообещал не спать до рассвета. Как случалось часто, Тихон заснул нескоро, раздумывал о прошедшем беспокойном дне. В полдень со Старого завода на рудник прибежал доменщик, спасаясь от управителя. Под вечер за беглецом приехал сам Комар, потребовал от работных выдать доменщика. Один из рудокопов вступил с управителем в перебранку. Тот, обозлившись, начал полосовать рабочего плетью. Крики избиваемого рудокопа услышал Тихон. Он бросился к месту происшествия и, увидев расправу, ударом кулака свалил Комара на землю. Подняв оброненную им плеть, начал стегать управителя и сильно искровянил его.
Подкладывая свежие ветки пихты в огонь костра, Петюшка мурлыкал песенку, отгонял доливший сон. В лесах гукали филины. С болот доносилось кваканье лягушек. И вдруг совсем близко тишину ночи нарушил рев медведя. Петюшка вздрогнул до озноба во всем теле, перестал петь. Позвал Тихона, но, не услышав ответа, вскочил, отбежал от костра и залез на крыльцо. Примостился там в углу на корточках, сторожко всматривался в темноту.
Свежий пихтач, подсохнув на углях, занялся ярким огнем, над костром в дыму взлетели искры.
Петюшка до звона в ушах вслушивался в шорохи ночного леса, хруст ветки показался ему шагами медведя. Паренек, однако, вспомнил, что смотритель рудника дядя Яков предупредил не праздновать в лесу труса, знать, что медведи к огню близко не подходят. Это успокоило Петюшку. Но появилась новая неприятность — уж очень жгуче жалили комары. Спасаясь от них, он с головой укрылся сермягой. Но дышать под ней было тяжело. Петюшка взмок от испарины и высунул голову наружу. Скоро его опять начал одолевать сон. Ему так хотелось смежить отяжелевшие веки! Но неожиданно услышал похрапывание. Испуганно скинув с головы пониток, он оглядел полянку, освещенную огнем яркого пламени, и понял, что храпел спавший на завалинке Тихон. Босые ноги Петюшки, искусанные мошкарой, горели, как от ожога. Он потер их руками, внимательно осмотревшись, снова лег, свернулся в комочек, укрылся сермягой…
На заре леса стояли в болотном тумане, розовом от взошедшего солнца. Начало нового дня-паруна протяжными пересвистами встречали рябчики. Звучно долбили дятлы сухостой. На бревна избы пала обильная роса, сверкали капли от солнечных лучей. В седине росы и вся полянка, искрились капли на вереске.
По низу пригорка лес густился только с трех сторон, а с четвертой — южной — редел; там, среди переломленных стволов сухостоя росли тоненькие березки. Между скал и камней по крупной гальке бежала речка, сливая чистую воду в омут, а недалеко вытекала из него и скоро терялась в осоке. Вокруг омута на кочках — мох с беленькими цветочками и голубые коврики цветущих незабудок.
Треском спугивая в чащобе рябчиков, из лесу вышел медведь, вынеся с собой под лучи солнца рой комаров. Ворча и щурясь от яркого света, он шел, шлепая лапами по мокрети болота, приминая незабудки. Зверь остановился и начал тереться о кочку головой, стирая с глаз налипшую и жалящую мошкару. Сердито ворча, оставляя мокрые следы на гальке, дошел до скал, о каменный выступ почесал спину, покряхтывая от удовольствия.
Ворчание зверя разбудило Тихона. Он встал, потянулся и, увидев спящего на крыльце Петюшку, улыбнулся. Тихон ощупал лицо, опухшее от комариных укусов, снял рубаху. Взял стоявший около костра закоптелый чайник, пошел то тропинке через заросли вереска к речке. Медведь, услышав шаги, встал на задние лапы и, пританцовывая, смотрел на приближающегося Тихона. Зверь недовольно заворчал. Мотая головой, он опустил на землю передние лапы, не торопясь, перешел речку вброд, а на другом берегу снова поднялся на задние лапы, не спуская глаз с Тихона, подошедшего к речке. Тихон с интересом рассматривал матерого зверя. Умывшись, Тихон зачерпнул в чайник воды, повернулся, чтобы идти на пригорок, но, сделав несколько шагов, услышал рев зверя. Оглянувшись, с любопытством Тихон наблюдал, как медведь лег в речку и, колотя лапами по воде, поднял вокруг себя тучу брызг.
Возвратившись, Тихон оставил чайник у кострища, растворил окна избы. Взглянул на спящего Петюшку, на его торчавшие из-под сермяги ноги, искусанные до крови комарьем. Тихон прикрыл их и покачал головой. Вернулся к кострищу, повесил над ним чайник на рагульку и разжег костер: золотой огонь весело побежал по валежнику. Лес загудел от вызвона чугунного била. На тропе со стороны рудника зашуршало, и у костра появился смотритель рудника Яков Назарович.
— С добрым пробужденим, хозяин.
— Как живешь-можешь, Назарыч? Шаги у тебя, как у рыси, тихие.
— В пимах шагаю, вот и тихие. А комарики тебя, хозяин, разукрасили.
— Красив? В зеркало на себя не глядел, но, чую, за ночь ликом пополнел здорово.
Назарыч, услышав плеск воды в речке, спросил:
— Петюшка плещется?
— Петюшка спит. Топтыгин это. Здоровый из себя, чертушко.
— Полно их здесь. Зимой хороших ковров наберем. А парнишка крепко спит. Лапы от накусов, как у гусака, красные.
— Опять высунул ноги! Гнус в этих местах под стать руде, такой же богатимый.
— Не горюй, хозяин. Обомнем, обживем место, так и гнуса станет мало.
— Вижу, не зря пришел ко мне?
— Сказать пришел.
— Не торопи. Чайник, гляди, сплевывать начал. Петюшка!
От голоса Назарыча парнишка, проснувшись, вскочил, но запутался в сермяге и кубарем скатился по ступенькам крыльца, отчего Назарыч захохотал:
— Вот теперь ты без ошибки пробудился. Ну и спишь! Срамота прямо. Поглядись в зеркало, нос-то у тебя комары укоротили.
— Зря его поднял, Назарыч. Он для меня до самого рассвета дым в костре караулил, — сказал Тихон.
— В самый раз разбудил. Рудознатцу надо привыкать со сном пристойно обходиться. Таскать его про запас с собой по лесам только за пазухой — все одно как краюшку хлеба.
Зевая и почесываясь, Петюшка подошел к костру; увидев закипавший чайник, спросил:
— По воду кто ходил? Неужели ты, дяденька Тихон?
— Вот беда, до чего я заспался.
— Не горюй. Собирай стол к чаю.
Петюшка убежал в избу и скоро, высунувшись из окна, крикнул:
— Милости прошу. Готово.
— Молодец. Сбегай на речку и ополосни сон. Только не пугайся до бесчувствия. Косолапый там шубу полощет.
— Пугаете зря.
— Погляди, если не веришь.
— И погляжу.
Петюшка шустро выпрыгнул из окна с рушником, но, не веря в свою храбрость, побежал к речке с криком.
— Славный парнишка. До ужасти любознательный. У тебя, Тихон, правильный нюх на парнишек. Троих сирот возле тебя упомню, и все в дельные люди вышагали.
— В Петюшке, Назарыч, хорошая кровь. — Тихон снял с рогульки закипевший чайник и поставил его на подоконник.
— Синюха, хозяин, людей душит. Тощают они от кашля. Седни велю все шалаши перетащить под твой пригорок.
— Правильно. С болотным газом нам долгонько воевать придется. За этим ко мне и пришел?
— Нет, не за этим. Ватага кержаков на заре пришла.
— Опять? Кто такие? Старшой кто?
— Иринархом назвался. Будто знаешь его.
— Иринархом?
— Говорит: «Скажи Тихону, что Иринарх, лекарь из Костромы».
— Быть того не может!
— Вспомнил?
— Его вовек не забуду. От смерти меня выходил возле Сатки. Неужели и тамошние кержаки поднялись для кочевья?
— Сказывали пришельцы, что заводчик, юрезанский генерал, ретиво раскол в лесах шевелит.
— Сухозанет там орудует.
— Иринарх с двумя сынами пришел. Ну и мужики. Смотреть страшно на их силищу.
Возбужденный, с речки вернулся Петюшка.
— Видел косолапого. Большущий такой. Чайник где? Вижу…
Тихон задумался, словно бы прикидывал что-то в уме.
— Сколько людей пришло?
— Одиннадцать. Трех собак с собой привели. Ихние псы — хорошие сторожа.
— Иринарх для нас прямо самородный человек. Лекарь отменный, да и про медь много знает.
— Радоваться надо, что к нам народ идет.
— Я, Назарыч, радуюсь. Только побаиваюсь, чтобы о скитниках весть до Муромцева не дошла.
— А на него плевать… Вовсе забыл — вчерась от него гонец пригонял, велел беглеца выдать.
— Экий ты. Назарыча не знаешь? Сказал гонцу, что руду копаем для завода его барина, а посему для распознания ее годности нам надобен доменщик.
— Смотри, чтобы за беглецом сам Гусар не объявился.
— Милости просим. Принять и его сумеем не хуже, чем Комара.
— Расхвастался. Он, брат, дворянин.
— Велика птица! Страшная с виду птица индюк, а из его хвоста ребятишки перья выдирают. Ступай, хозяин, чаевничать.
— Напился уж.
— Тогда приводи чаевничать Иринарха.
— Это сичас. Да и сам в охотку послушаю вашу беседу… Гляди! Легок на помине. Без приглашения жалует.
— Он, — согласился Тихон, узнав в высоком старике, идущем на пригорок, кержака Иринарха Соковицына. Он шел не торопясь. Впереди бежала лохматая рыжая собака.
Подойдя к Тихону, старик остановился, прищурившись, расчесал пальцами седую бороду, отвесил низкий поклон, коснувшись земли правой рукой.
— Дозволь, Тихон Петрович, объявиться перед твоими очами.
— Сделай милость, Иринарх Кронидыч!
Оба одновременно шагнули друг к другу. Обнялись. Разжав объятия, с любопытством ощупали друг друга взглядами.
Голова Иринарха — с копной густых волос, седина в них еще не совсем выбелила былую черноту. На старике длинная, ниже колен, холщовая рубаха без опояски. Ее ворот расстегнут, а на груди, на холстине, славянской вязью вышиты слова евангелиста Иоанна. Красные нитки слиняли, но, приглядевшись к буквам, можно прочесть: «Вначале бе слово и слово бе бог».
Внимание собаки привлек Петюшка. Подойдя к нему, пес обнюхал босые ноги. Иринарх, заметив это, спокойно сказал:
— Умник, не докучай знакомством.
Пес, взглянув на хозяина, виновато завилял хвостом, отошел в сторону и, зевнув, улегся на полянке.
— Вот уж не ждал, не гадал свидеться с тобой, Иринарх.
— Ты, может, и не ждал, а я давненько держал в разуме желанье повстречаться с тобой, Петрович.
— Из памяти тебя не терял.
— Ты ноне, выходит, в новом звании значишься? Хозяином стал? Радостно повидать тебя. Вижу, натура твоя покедова без изъяна. Радостно глядеть на тебя. Аж слеза в глазу копится.
— Пойдем в избу! За чаем все выспрошу! Без малого годов шесть не виделись!
— Погоди! Кишки чаем пополоскать успеем. Споначалу, Петрович, если разрешишь, сходим к шахтам. Спорую работу на руднике повидал. Шумно живете. Любо глядеть. Только не все у вас по-справному. Это хочу по дружбе сказать.
— Ты, старикан, прыткий, — усмехнулся Назарыч. — Дельного следа здесь о себе еще не оставил, а сбираешься про огрехи речь вести.
— Угадал. Есть огрехи. Их, милок, не только я, и зайцы, поди, приметили. По твоему разумению шахты обряжают, а посему зря встреваешь в разговор с обидой.
— Огрехи на руднике меня перво-наперво касаются. Возле здешней меди неспроста маячу, — со строгостью сказал Назарыч.
— Ведаю про то, что на руднике ты не последняя спица. Слыхивал людскую молву про тебя, что с понятием в горном деле. Но здеся, милок, не все по-ладности ладишь. Торопыга ты, под стать Петровичу. Унюхали вы медное богатство, выбили пять шахт к руде, и уж чудится вам, якобы с ходу отворили медную кладовку. Ан нет! По моему понятию, только руками коснулись того богатства рудного, кое земля уральская вам для растравки из себя наружу выпихнула.
— Коль так, говори без утайки, в чем углядел огрехи, — попросил Тихон.
— Во всяких пустяках. С виду будто неважных, а на деле опасных в горном хозяйстве, Петрович. Возле шахт ужо укажу на них. Любая промашка в горном деле опасна, а возле здешней меди на особицу. Поглядим. Посоветуемся, а затем решите: должны ли принять ко вниманию мое тараторство.
— Дай сперва хозяину чаю напиться. Да и сам погрей утробу. Чать, всю ночь к нам топал? Чую, нет большой беды в наших промашках.
— Плохо чуешь, милок. Чаевничай на доброе здравие, а мы с Петровичем, коль ему будет угодно, к делу подадимся. По горячему следу толковее про все растолкую.
— Мне тоже с вами идти? — спросил Петюшка.
На вопрос паренька с улыбкой ответил Иринарх:
— Оно, конешно, неплохо и тебе с нами для навыка поглядеть, но все же лучше побудь возле самовара.
— Чайник у нас.
— Все одно — дельная посудина. Вот и пригляди, чтобы к нашему возврату вода в нем не остудилась.
— Ладно, — недовольно уронил слово Петюшка и, нахмурившись, сел на завалину.
Тихон и Иринарх пошли с пригорка. Назарыч постоял, досадливо сплюнул, пошел за ними следом. Опередив всех, бежала собака, свернув в кольцо хвост.
Шли молча.
Миновали заросли вереска, начался осинник. По гатям перебрались через болото, вступили в темень елового леса. В нем по мостику перешли речку. Лесины стояли тесно, ощерившись рогатинами обломанных сучьев. Под ногами, на мягком настиле опавшей хвои, похрустывали шишки.
— Твои медные угодья, Петрович, в земле с мудреностью покоятся. Окромя меди тут и железо в достатке. Кварец есть, а возле него и золотишку самородному закутки сыщутся. — Помолчав, Иринарх спросил: — Как народ синюшный угар переносит?
— Тяжело. Кашель душит по ночам, — ответил Тихон. — Надумал Назарыч людей на время ближе к пригорку перевести.
— В летнюю пору от синюхи спасения нет. Страшнущие болотные топи возле вас.
— По мне, мошкара и комарье хуже синюхи.
— Против гнуса дымом можно загородиться, а от синюхи чем? Телом народ не болеет?
— Не жалуются.
— Чего захотел. Будто не ты и сказал. Кто же станет хозяину жалиться на телесную хворь? Люди ведают, что больных тебе не надобно. Вот ваш первый и главный огрех. К руде лезете, а про людей позабываете. Ты на меня, Петрович, взгляд не скашивай. Мои слова иной раз как плеть. Скажу тебе: болеют твои люди телом. Чирьи их одолевают от гнилой воды в забоях. Нутреная вода возле меди злая на людское тело. Калечит.
— Слышишь, Назарыч? Видал больных? Может, скрытничаешь? — жестко спросил Тихон.
— Не видал. Может, есть болящие, только разговоров о хворости не слышно в народе.
— А уж тебе, Яков Назарыч, вовсе грешно позабывать про гнилую воду в медных шахтах. Аль не носил на себе пятен от гнойных ран?
— Нашивал. Выходит, должен каждому под рубаху заглядывать? У меня других забот выше головы.
— Должон о людях заботиться, ежели радеешь о судьбе рудника. Тут, брат, работный человек дороже золота. Его руками живет рудник. Силу человечью надобно беречь. Места по руде здеся какие? Ведаешь, что в здешней породе замки над медным богатством излажены крепкие? Трудновато будет работным людям из-под них медь выгребать. Потому ваша забота о людском житье-бытье должна ходить коренным конем. Первейший это ваш огрех на руднике. Аль думаете без сильных людей медью разжиться? Говорю тебе о сем, Петрович, веря, что хозяйское звание не убило в тебе истинное человечье звание. Без заботы о людях судьба тебя живехонько с хозяйского седла скинет.
Тихон молчал, только крепко сжатые губы да хмурь на лице выдавали досаду. За неласковыми разговорами подошли к ближней шахте. Горизики воротом выводили из ее ствола тяжелую бадью с медной рудой. Когда деревянная бадья на канате повисла над зевом колодца, сноровистые руки горщиков, оттянув ее, опустили на землю возле порожних тачек.
Иринарх взял из бадьи кусок мокрой руды, спросил горщиков:
— Как, мужички, шибко водица мочалит?
— Аль не видишь? Кабы не эта напасть, разве столь за день добра на свет божий подымали? Откачиваем, откачиваем, а воды того боле. Смотритель сулит насосов прибавить, да посулы у него в дырявых карманах. Понятие в руде имеешь, старче?
— Малость.
— Значит, видишь, что руда первый сорт. Дельная шахта. Хозяин, взгляни на канат под бадьей. Староват на крепость.
— Седни заменим, Тихон Петрович, — сказал Назарыч.
Отойдя от шахты, Иринарх обратился к Назарычу:
— Ворот надо выше поднять. Легче будет бадью к земле оттаскивать.
— Можно и переладить, — неохотно ответил Назарыч.
— Вода на твоем руднике — лихое горе, Петрович.
— А мы ее вроде и не боимся. Справимся с таким горем. Дай срок, так и паровые насосы заведем, — снисходительно промолвил Тихон.
— Нет, Петрович, воды больше всего бойся. Она в забоях для работного люда страшнее страшного суда. Теперича к другой шахте пойдем.
— Шестую бьем по счету, — пояснил Назарыч.
У шахты Иринарх проворно снял рубаху, наполовину оголенный, по шаткой стремянке спустился на первый ярус. За ним последовал Тихон. Назарыч остался наверху, умышленно начав разговор с тачечниками, отвозившими пустую породу.
В шахтном стволе, еще только выдолбленном в породе и не облаженном деревянным срубом, работали рудокопы с распухшими от комариных накусов лицами. Под сильными, звенящими ударами их кайл отламывались куски породы, выравнивались линии стенок.
— Бог помощь! — приветствовал Тихон работающих.
— Бог помощь, братаны! — сказал Иринарх.
Рудокопы, не прерывая работы, отвечали возгласами:
— Поклон за доброе слово.
— Долгой жизни, старче.
— Робим, хозяин, на усталь не жалуясь.
Под ударами одного кайла, высекавшего из гранита искры, начали отваливаться вместе с породой комья медной руды с примесью магнитного железняка.
— Чего, братан, медь с железом путаешь? — смеясь, спросил рудокопа Иринарх.
А рудокоп, перестав долбить стенку, улыбнувшись, ответил:
— Сию путанину земля без моего спроса завела. Железо тоже людям на пользу. Скоро зачнем забои бить к жирной меди. Гляди на пласты медных жил.
Иринарх, рассматривая стену ствола, довольно прищелкивал языком:
— Верно сказываешь, браток. Заприметь, Петрович. Эдакое нечасто приходится глядеть. Лежат медные жилы в обхвате железняка, будто налетом, но с толстыми примазами окислой меди. А это дельный знак. Верно говорю, браток?
— Тебе ль про то не знать, Иринарх. Да и хозяин, Тихон, тоже понимает чё к чему.
— А сюда, Тихон, взгляни. Посторонись, браток.
Рыжебородый, сильно облыселый рудокоп, опустив кайло к ногам, отошел от стенки.
— Видишь, Петрович, кварец с голубинкой.
— Его здеся в достатке попадается. Держи, хозяин, подареньице. — Рудокоп достал из кармана штанов обломок кварца. — Золотишко в нем. Гляди: пучками травинок. Утрось отломил. Только кварцевая жила своротила в сторону, да разом на моих глазах сгинула. Вот оказия.
Взяв из руки Тихона обломок кварца, Иринарх внимательно рассмотрел его.
— Обмана нет. Золотишко. Так-то выходит, Петрович. Золото дружбы с медью не гнушается.
— Давай-ка еще пониже спустимся, — предложил Тихон.
Второй ярус шахты долбили молодые парни.
— Кою сажень бьете? — спросил Иринарх.
Услышал ответ русоволосого с перевязанным лбом:
— Седьмую начали.
Иринарх, осматривая стенку, насторожился, увидев, как под ударами кайл отпадают крошеные куски от жилы малахитовой зелени. Приглядевшись к стене, он крикнул парням:
— Легче бейте!
— Чего легче? Силы не занимать.
— Говорю тебе — легче!
Парни перестали работать, недовольно осматривая старика.
— Неужели новый начальник отыскался?
— Не замай расспросами, — сурово крикнул Иринарх, — дело говорю! Легче бейте! Несмышленыши: «Силы не занимать»! Иной раз она и не на пользу. Не уральцы, видать, ежели не распознаете в зелени медную синь с примешинами медной черни.
— Аль плохо?
— Разумейте, к чему клоню. Долбите каелками, а не видите перед собой на стенках водяных пузырьков земного дыхания. Глядите теперича ладом. — Иринарх несколько раз провел ладонью по пластам.
Парни, подойдя к стенке и вглядываясь, заговорили в голос:
— Верно! Гляди, Сань!
— Пузырьки! Право слово!
— Аль не ладные они?
— По горным приметам подают недобрую весть, — ответил Иринарх.
— Про что?
— Большая вода вовсе близко. Вот и робьте с бережением. Так-то, умники. Ежели сейчас воду пустите, беда невелика, выскочите. А опосля люди в забоях от нее не успеют живое дыхание спасти. Бывайте здоровы! Тебя, светлый, как зовут?
— Лукьяном.
— Двумя перстами крест кладешь?
— Где как приходится. Ноне со старой Христовой верой трудновато жить. Христу-то все одно, как крестишься. Люди это сами надумали, без его указки по-разному креститься, чтобы еще тяжелыие жилось.
— Размышляешь?
— Обязательно.
— Понапрасну силу из себя буйством не выкидывай. Медное дело в труде сурьез уважает. Полезем к солнышку, Петрович.
— Погоди, — остановил Тихон. — Может, ствол долбим не на правильном месте?
— Ишь, как понял. На правильном. Только этот ствол глубже семи сажен бить почитаю опасным. Мокро дышит порода. Забои в шахте бей только по правую руку. Вода, она вода. В шахте люди робят.
Поднявшись с Тихоном из ствола, Иринарх надел рубаху.
— Бережешь лопотину? — спросил Назарыч.
— Не стану беречь ту рубаху, которой меня одаришь. Ты на какую глубину задумал в энтой шахте в породу врыться?
— Глубоко здеся, упаси бог. Руда с породой в споре, медной черни много. Опять же мокрота. Опасаюсь воды. Может, подскажешь?
— Иринарх считает, что не глубже семи сажен, — ответил на вопрос Тихон.
— Может, так и изладим, — неопределенно высказался Назарыч.
— Главное, медный начальник, крепь ствола изладь тройную. На ваше счастье, руда здеся лежит чуть не наруже. Вскрышей ее брать можно. Выберете ближние пласты рудорождения, а потом, поразмыслив, за глубокими полезете. Ты, Назарыч, родом из купечества, а потому жадность в разуме твоем гнездится.
— Аль знаешь меня?
— Как не знать! Припомни богословскую медь, ну хоть шахты возле Дикого озера. Ты на них штейгером маячил?
— Торопыжный у тебя характерец. Тебе бы поскорей выгрести добро из земли, а о тех, кто его в земном чреве для тебя каелками отламывает, не удосуживаешься думать. Мужик ты на разум дельный, зла видимого против работных людей не замышляешь, рукам воли не даешь, опасаясь Петровича, но о своем прибытке не позабываешь. Теперича пошли чаевничать, а то там вихрастый рудознатец поди чайник на костре пережег.
Отойдя от шахты, Иринарх остановился на просеке возле береговой кромки болота, всплеснул руками:
— Глядите! Разве это порядок? Добытую руду валите в ряд с кучами пустой породы.
— Места на просеке в обрез, видишь.
— Так распорядись, Назарыч, пустую породу валить в болото. Наладьте гати и бутите породу в трясину, хоть до второго пришествия.
— Вот это, Назарыч, он нас ущучил, — покачал головой Тихон.
— Вы на меня не серчайте, потому пришел к вам не в гости. Примете, стану в ряд с вами робить, — Иринарх разошелся. — Какого шута тянете и не налаживаете шахтные печи для обжига на древесном угле руды под купферштейн?
— Так ведь мы только зачали, Иринарх Кронидыч.
— Ты, Назарыч, не увиливай и не старайся меня навеличиваньем умаслить. У меня против тебя занозы нет. Понимай, на руднике Петровича должон быть первейший горный порядок.
Навстречу шел хромой мужик. Мужик, поравнявшись и увидев хозяина, снял войлочный треух. Иринарх спросил его:
— Какая немощь в ногах?
— Эк врешь! Боишься правду высказать при хозяине? Заголи штанину. Заголи, говорю!
Мужик нехотя исполнил просьбу Иринарха. Нога рудокопа в синих нарывах.
— Вот гляди, Петрович. Синюшная, болотная болесть.
Тихон хмуро сказал рудокопу:
— Чего, как дитя малое, недужишь, а молчишь?
— Мне такое, хозяин, не в диковинку. Годы нестарые, заживет. Ежели на всякую хворь заботу класть, с голоду ране времени состаришься. Мы ко всякому привычные. Уральского мужика чирий в гроб не уложит. Пошел я. Недосуг мне. Извиняйте.
— Слышал, Иринарх Кронидыч? — спросил Назарыч. — Ты о них велишь заботиться, а они сами себя не берегут.
— Время такое подошло. Вот и говорят люди одно, а думают вовсе другое, — посуровел Иринарх.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
1
В первые дни августа из Петербурга прибыл курьер и вручил генералу Глинке строгое распоряжение Берг-коллегии. В нем было два ясных пункта: первым предписывалось отбирать у частных владельцев в казну все не разрабатываемые меднорудные месторождения; вторым предписывалось передавать их в распоряжение владельца Старого завода для пользы развития на Урале медной промышленности.
Кроме того, этот же курьер привез известие о смерти в финляндской ссылке именитых в крае миллионщиков — Петра Харитонова и Григория Зотова.
Распоряжение о меднорудных месторождениях произвело среди владельцев таковых неописуемый переполох…
В небесах с неподвижными облаками сгущалась яркость солнечного заката. Перед Ксюшином лесная дорога, покрытая блеклыми тенями, кружила, взбиралась на гору, плутала по косогорам. Лес, заваленный сухостоем и буреломом, подступал к ней вплотную. Иногда он отдалялся в овраги с шумливыми речками, и тогда вместо хвойных стен леса дорогу прикрывали хилые осиновые и березовые рощицы, поросшие малинником и кустами шипицы с алеющими ягодами.
В глубинах леса пересвистывались птицы. В кудрях берез судачили сороки, в кустарнике у берега речки перекликались кукушки.
По дороге бежали две тройки. Белая тройка, разудало гремя бубенцами, катила коляску Василисы Карнауховой. Конями правил хмурый рыжебородый Наумыч.
Гнедая тройка везла тяжелую коляску Марии Харитоновой. У коренника на дуге колокольцы подвязаны, а на пристяжных совсем не прилажены наборы бубенцов. Вел тройку кержак Патрикей с золотистой окладистой бородой, любимый хозяйкой за осанку на козлах.
Когда дорога с полей свернула в лес, Мария Харитонова пересела в коляску Карнауховой. В харитоновской коляске теперь ехала в одиночестве, вольготно раскинувшись жирным телом, монашка мать Соломония и гнусаво пела стихиры. Хозяйки сидели в коляске, обложенные подушками. Серая пыль густо опудрила их одежду, особенно она была заметна на трауре Харитоновой.
Распоряжение о меднорудных месторождениях встревожило вместе со всеми промышленниками и Карнаухову. Не имея никаких сведений от Тихона, она решила поехать в Ксюшино. Харитонова катила в Кыштым, везла старой Зотихе и Александру Зотову весть о смерти Григория Зотова и своего мужа — Петра Харитонова.
— Прямо должна тебе сказать, Василиса Мокеевна, выпало мне счастье — путь-дорога с тобой. Подумать боязно, как бы я перенесла в одинокой дороге мое горе и обиду. В дороге меня завсегда скучища одолевает, а ныне в придачу ко всему напасти житейские, вдовство, поношение незаслуженное от наследника престола.
Карнаухова, поморщившись, глянула на Харитонову, вздохнув, сказала:
— Опять про то же?
— Всяк про свое. Как хочешь суди о моих словах, а только говорю тебе, как попу на исповеди. На будущего царя буду мысленно пребывать в обиде до гробовой доски.
— А какая тебе от сего корысть?
— На душе легче от сознания, что сержусь на него.
— Нет в этом никакого толку. На царей завсегда много обидчиков, а им хоть бы хны — царствуют.
— Скажи мне на милость, кто я такая на Каменном поясу?
— Марья Харитонова.
— Льва Расторгуева дочь! Вот кто я! Ведомо. А он со своей свитой как со мной обошелся? Дворянишек всяких в латаных штанах обласкал, а меня будто совсем не приметил. За что такое поношение? Надо так понимать: дворяне и чиновники — для наследника первые люди, а владетельное купечество, выходит, для него никто. Мы вроде лишнего хлама. Из-за его поношения и мужа покойного ладом обреветь не сумела. Все слезы от обиды на цесаревича вылила.
— Ты, Марья, Христос тебе навстречу, должна понимать. Не одну тебя гостенек обошел вниманием. Не Харитонову он обидел. Он все уральское купечество на золоте унизил. Понимай. Времена ноне для купечества на Камне подошли другие. Царь за плечи дворян держится — так было и будет всегда. Сам царь — дворянин. А ты прошедшим, Марья, живешь. Понять того не хочешь: нельзя только прошлой милостью царя Александра дышать. Забыть не можешь, как в его приезд у тебя голова кружилась от почестей, когда царская свита перед расторгуевским богатимством расшаркивалась?
— А может, это все потому на мою голову пало, что муженек с Гришкой угодил в опалу из-за строгановского розыску?
— Люди возле царя другие сгрудились да мыслят по единой старой мерке. Им не по носу дух купецкий, а жизнь свое берет: наш брат вон какими капиталами ворочает. Будущий царь молод. Своим умишком при отце раскидывать опасается; если и раскинет, те же думы в разуме будут. Затылок-то и у него свой. Нашептали, поди, ему царедворцы про нас такое-сякое, а он стал пыжиться перед нами. Для дворян у него улыбочка, а для нас хмурость да сонливость на лице.
— Что говорить. Вдосталь налюбовались, как перед ним да перед Кавериным генералом наши дворянские заводчики турманами вертелись. Муромцев с Сухозанетом чуть не на пузе перед ним ползали.
— Вот и понимай, что к чему. Они здесь звери, а для наследника первые люди. Царь про их художества знает немало, однако Строганова вынюхивать правду о них не посылает. Они — дворяне. Чего купцам нельзя, то им можно. Что дворяне, что царь — всегда одно. Декабрьская остуда на Сенатской площади не в счет. Понимай, что к чему. Обижаться брось. Мне наследник тоже только головой мотнул, а я от этого не сохну.
— Тебя-то он все-таки как следует приметил.
— А почему? Дочь у меня — вдова дворянина. Вот Жуковский в память знакомства с Ксюшей мой дом навестил. Я, милая, для них опальная, хуже тебя. Жену декабриста от стужи в своем доме отогревала. В столице об этом помнят. А наследнику здесь мои завистники нашептали. Та, дескать, Карнаухова, которая у себя жену бунтовщика приветила. Так думаю, Марья. Когда наш недавний гостенек станет для России Александром Вторым, я уж в могиле буду лежать. Вот и не печалюсь, как он на меня поглядел. О другом у меня забота.
— О сыне тревожишься, что частым гостем стал у Настасьи Квашниной?
— От людей об этом слышу, а сам Кирюша ничего не говорит.
— Пророчить не стану. Только понимаю так, что недалек от тебя тот денек, когда она невестой перед тобой предстанет.
— Не знаю, рада ли буду. О другом забота. Думаю, как быть, когда обласканное дворянство зачнет свой гонор в делах показывать. Муромцев теперь во всю ширь развернется. Скинет с себя уздечку генерала Глинки. Зауросит.
— Тебе какая печаль? Ты вон как угадала. Медь свою изо рта у Гусара выдернула да Тихону отдала. Как это ты сдогадалась?
Карнаухова хотела сказать спутнице о полученном известии от верного человека из столицы, но не сказала, ибо хорошо знала про ее длинный язык.
— Сама не знаю. По-бабьи учуяла. Иной раз бабы свою беду загодя чуют. Других мне жалко. У многих Гусар угодья с медью отберет. У Старцева первостатейная медь. Неплоха она и у Василия Далматова.
— Что Старцева оседлают — это хорошо. Так ему и надо. Обманом богатство нажил.
— Все мы его, Марья, одинаково наживали. Старцев, не выряжаясь в честного, из карманов дураков деньги в свои карманы переложил. Все теперь боятся Гусара. Поглядим, как начнет погуливать по Уралу. Ты, Марья, теперь не будь дурой. У тебя в земле нетронутой меди тоже немало. К тебе Гусар с ножом к горлу из-за нее пристанет. Не забывай, что ты дочь Расторгуева. Не забывай, что твой отец в карманы сложил главное демидовское богатство. Родню свою в Кыштыме пяткой придави. Сама над Кыштымом во весь рост встань. Полным жаром распали домны. Гусара близко не подпускай. Дружка нового, Хохликова Петю, возле себя как зеницу ока береги. Счастье, помни, к тебе в остатний раз пришло. Монастырских ворон от себя разгони. Без приживалок научись жить. Про беспечность позабудь. В Кыштыме живи, из него за всем гляди в оба.
— Как решиться на такое дело?
— Так и решись. Глянь на себя в зеркало, скажи себе, кто ты родом. Хохликова держи возле себя, чем хочешь. Денег станет просить — не жалей. На Кыштыме в заводском деле ему полную волю дай. Того, что люди станут говорить, не слушай.
— Ты думаешь, Сашку Зотова и старуху Зотиху легко спихнуть?
— Их в повиновение плетью приведи. Девок хлестать умеешь? Теперь родственников похлестывай при надобности побольней.
— Сестра Катерина станет заступаться.
— А с ней вовсе не церемонься. Дело тебе говорю. Ежели теперь не сумеешь стать в Кыштыме снова хозяйкой, то считай: годок-другой — и Сашка Зотов с Муромцевым тебя из отцовских хоромов в городе пинками выкинут. Особо крута будь с Сашкой Зотовым. Лупи его за все! Лупи под утренний и вечерний благовест. Пить брось. Коньяком не наливайся. Помни, время под нас подошло жесткое. Пока живы — надо за свое добро зубами держаться.
— Не осуждаешь меня, что Хохликова завела?
— Нет! Осуждала тебя, когда живая по-мертвому ходила. Давно пора заместо приживалок да монашек от бабьего одиночества мужиком заслониться. На поучения мои не серчай. Знаю, что водится в тебе отцовская хватка и твердость, а жиру на твоих плечах хватит, чтобы подпереть перекос харитоновских хоромин.
— Слушаю тебя, Василиса Мокеевна, и верю, что смогу в Кыштыме сызнова хозяйкой объявиться. Одного побаиваюсь, что, простившись с тобой в Ксюшине, опять веру в себя утеряю.
— Думать про такое не смей. Не будет у тебя веры в свои силы, Гришкин выродок тебя в петлю загонит. Главное, помни: жива в тебе прежняя бабья сила. Она к тебе Хохликова подманила. Жива в тебе, Марья, бабья прелесть, хотя ее и продушила ладаном да коньяком… Наумыч!..
— Что выскажешь, хозяюшка?
— Темнеть начинает.
— Верно. До Ксюшина рукой подать. Вон после той горки сверну в Кривой ложок, а по нему — прямиком к Анисьиной избе засветло прикатим.
— Слыхивала, что логом тем — дорога с ухабами. Про косточки наши помни.
— Тамошняя дорожка, конечно, не скатерка. Ухабчики да нырочки на ней водятся, но зато коротка. Косточки ваши маненько пошеборшат. Погляди на коней: в мыле идут. Все оттого, что охота мне вас засветло за чайный стол с колес ссадить.
— Заворчал. Не рада, что и заговорила с тобой.
— Да разве так ворчат? Сама разве эдак ворчишь? Я у тебя мужик с умом. Что к чему понимаю. Нечего мне про косточки поминать. Тридцать годиков тебя по уральским дорожкам катаю по вёдру, по ненастью и ноготка на твоем мизинце на ухабах не обломил.
— Никак осерчал на меня?
— Серчать на тебя воли не имею. Словом перекинулся. Долго молчал. Марья Львовна, монашка твоя вытьем душу мне с кишками спутала. Беда как раскормила мать Соломонию.
— Слово тебе даю, Наумыч, что с завтрашнего дня она худеть начнет.
— Это хорошо. — Наумыч лихо свистнул, прикрикнул на коней: — Родимые-е-е! Коньки-лебедушки!..
После полудня подул ветер, по небу быстро побежали облака.
Василиса Карнаухова и Тихон Зырин гуляли за околицей Ксюшина по осиновой роще на берегу омута, возле брошенной мельницы. Они шли по незнаткой тропе среди папоротника. Вокруг метались солнечные зайчики. Раскиданы по роще глыбы гранита, прикрытые бархатистыми тряпицами мха. Порывы ветра перетрясали ветви осин, беспокойно шелестела листва.
Карнаухова шагала, опираясь на посох, и когда солнечные зайчики падали на его рукоять, то на самоцветах вспыхивали мгновенно гаснущие искры.
Старая запруда в густых зарослях ракит и тальника. Ветки низко склоняются над водой, иные полощутся в ней. Омут укрыт постилками плавунов, блинчатыми листьями кувшинок, только на середине его полая вода отливает золотом. Журчит вода, стекая по плицам неподвижного, почти сгнившего колеса.
Карнаухова устало села на завалинку, прислонилась спиной к срубу мельницы.
— Садись, Тихон, в ногах правды мало.
— Вот и пристала. А говорила, что любишь гулять. Отвыкла, видать, от дальних прогулок.
— Пристала, но только не от прогулки, а от волнения, что повстречалась с тобой. Да сядь, говорю, рядом со мной. Будто боишься меня?
Тихон сел подле Василисы. Она изучающе посмотрела на него.
— По-чудному глядишь на меня.
— Загорел. Будто медный весь.
— Сама к меди приставила.
— А теперь тревожусь за тебя. Думаю, что не по душе тебе рудное дело. Лесная вольность тебя выпестовала возле золота.
— Понапрасну тревожишься. Скрадываться перед тобой не стану. Как попал в рудные места, как увидел медное богатство да глухомань болотную возле него, так не на шутку и оробел.
— Места там, поди, гиблые?
— Лешачьи. Так и должно быть. Сокровища по Камню завсегда в таких гиблых местах покоятся. А какие сокровища! Руда какая! Просто приковала она к себе разум. Теперь, ежели надумаешь прогнать с нового рудника, не уйду.
— Радостно такое от тебя слышать. Люди на приисках о тебе тревожатся. Говорят, не бережешь себя. С утра до ночи за всем сам доглядываешь. Про немолодые годы свои не помнишь?
— Попервости, случалось, и про сон забывал. Теперь легче. Ко мне кержак Иринарх с гор сошел.
— Неужели тот Иринарх, который тебя от застуды возле Сатки в скиту выходил?
— Он самый. А ты помнишь?
— Все о тебе помню. Каждый шаг твой у меня в памяти. Даже про такое помню, о чем сам не сказывал. Мой ты, Тихон. Вот говорят, на старости память у людей, как решето. Зря говорят. Из моей памяти про тебя ничего не высыпалось. Слова твои, может, теперь и не все помню, но те, кои сказал мне у первого лесного костра, до единого помню: «Вот эдак бы всю жизнь возле ног твоих сидеть». Вот что сказал тогда.
— Почему о них вспомнила?
— Ими ты, Тихон, навек в полон мое сердце и разум взял. После них счастье с тобой испытала. Великое бабье счастье. Оно меня все еще греет. Напугаюсь иной раз чего житейского, прошлого, сейчас же от страха заслоняюсь мыслью о счастье с тобой. Грешно, что заставляла тебя вместе со мной счастье воровать. Зато оно жар-птицей во тьме моей жизни светило. Путано жила. Ох как путано! Ты, Тихон, не про все мои тропы возле золота знаешь. Не обо всех ямках, в кои падала, тебе рассказывала. Боялась, что, узнав неладное, кинешь меня и схоронишься в лесах, как иной раз хоронился годами. Холодела тогда. Стыла вся, покоя лишаясь, когда долго возле себя не видела. Когда сторонился меня да в другие бабьи глаза заглядывал. С тобой только и грелась радостью, ласковые слова слышала. Сама мало их знала. От тебя ласковости научилась.
— Про ямки, в кои оступалась, про то, как часто подолом за сучки возле чужих костров цеплялась, да при луне на чужие мужицкие руки опиралась, я знал. Мучило меня это знатье. В лес от него убегал. Позабыть тебя собирался, но не мог, потому в моем сердце любовь берег. В тебе чуял свет жизни. Помысел о тебе радость приносил. Всякий шаг по земле ради тебя ступал, но сказать о том, что ты все для меня, никому не посмел. Чужая ты для меня была по закону.
Разволновавшись, Тихон встал.
— Зря мы с тобой, Лисушка, этот разговор затеяли.
— Вот и назвал меня тем именем. Прежнего облика на мне в помине нет, а вот назвал меня сейчас Лисушкой, и по-молодому забилось сердце. Люблю тебя, Тихон, как всегда любила. Бережно от всех укрыла нашу тайную любовь. Кроме нас только бог о ней знает, но, видать, за грех ее не считает. Только подумай, как давно мы с тобой о любви нашей, о молодости не говорили. Одна этой памятью жила. Любовь к тебе — моя истинная любовь, хотя народилась из-за моей корысти. Понадеялась, что укажешь мне путь к золоту. Согрела тебя, а потом сама возле тебя так пригрелась, что не послушалось сердце разума, когда хотела тебя позабыть. Чудно теперь от Карнаучихи про такое слышать. Чудно про молодость речь заводить. Но ведь, Тихон, и сейчас, поди, помнишь мое молодое лицо, кое впервые увидал при полыхе костра. Помнишь, как обнял меня? — Карнаухова, не сводя глаз с Тихона, встала. — Помнишь, как вырвалась из твоих рук, побежала по лунному лесу? Помнишь, как догнал меня? Как вскрикнула от радости и прижалась к твоей груди?
Карнаухова прикрыла глаза. Ее губы вздрагивали. Покачнулась, а Тихон, подхватив ее, поцеловал. Руки Карнауховой обвисли. Выронила посох. Упал в пятно солнечного блика, загорелись на нем искрами самоцветы. Карнаухова открыла глаза. Прислонилась головой к плечу Тихона и, не освобождаясь из его объятия, произнесла шепотом:
— Живое, стало быть, наше счастье. Грешно нам теперь звать его краденым.
— Грешно, Лисушка!
* * *
На воле шел спорый дождь. Шум его доносился в открытые окна летней горницы Анисьиной избы. Слышно, как булькала вода, стекая с крыш в лужи возле завалины. На селе скупо лаяли собаки.
Карнаухова, проводив Тихона на рудник, спозаранок собралась спать, но, раздумавшись, так и не легла. Ходила по горнице. Прогулка с Тихоном сильно ее всполошила. Временами от приятных воспоминаний у нее перехватывало дыхание. Сильно начинало биться сердце, во рту горкло. Тогда она останавливалась, прислонялась к стене, боясь упасть. Успокоившись, снова принималась ходить, и было ей радостно. Не осталась одинокой. Не забыл ее Тихон. Поняла, когда обнял и поцеловал. От его поцелуя в ее ушах долго звенели колокольчики. И еще было приятно сознавать, что Тихон, будучи по-лесному суеверным, ни единым словом не упрекнул за то, что отвела его от золота к медной руде.
Пережитое за день отодвинуло все житейские мысли в сторону. Ей не хотелось думать ни о чем другом, кроме того, о чем говорила с Тихоном у омута. Перебирала в разуме прошлое. Машинально прислушивалась к шуму дождя, то затихающему по временам, то усиливающемуся. Различила кашель Анисьи из другой половины избы, остановилась. Подумала: какой-то чужой для нее стала Анисья с самого первого дня нынешнего приезда Карнауховой в Ксюшино. Никогда раньше не видала Анисью такой хмурой. Подошла к двери и позвала ее:
— Степановна!
Вместо ответа услышала шаги босых ног. Анисья вошла в горницу:
— Звала, кажись?
— Не спишь?
— Заснула было малость, да дождь разбудил. Ишь какой частый сыплет, — недовольно сказала Анисья.
— Посиди со мной.
Анисья села на скамью у окна, смотрела на шагавшую по горнице Карнаухову.
— Легла бы лучше. Весь день на ногах.
— Думать легче расхаживая. У старости свои повадки. С утра спросить у тебя хотела.
— Про что?
— С чего Ксюша на мрамор перебралась?
— Понять не могу. Дня за три до твоего приезда туда подалась.
— Может, укрываешь что от меня?
— Ксюша теперь без нянек живет.
— Хочешь, чтобы поверила, будто причина ее переезда от твоих глаз укрылась?
— Не имея твоего наказа, не доглядывала за ней.
— Стало быть, мое твоим перестало быть?
— Перестало! Ты, хозяюшка, жить зачала по-непонятному для меня.
— В чем перемену узрела? Неужли в том, что после приезду не с тобой беседу вела, с Харитонихой вожгалась?
— Не чуешь, стало быть, в себе никакой перемены?
— Господь с тобой, Анисья! Почему ершом топорщишься?
Анисья поднялась со скамьи.
— Да что с тобой, родимая? Вся в тревоге.
— Дозволь на свою половину уйти, — сказала Анисья.
— Погоди, Анисьюшка. Впервые со мной такая неласковая. Не признаю тебя.
— Сама себя не признаю с той поры, как Тихона к меди приставила. Как осмелилась лесные законы Урала, не тобой заведенные, порушить? Как посмела, от золота не уйдя, к меди шагнуть? Чужой спиной заслонилась. Неужли жадность тебя на такое темное дело толкнула?
— Погоди. Обмолвилась, про жадность помянув?
— Нет, не обмолвилась. Месяцы про такое думала. А уж сейчас, ежели стала говорить, — Анисья перекрестилась, — благослови господи все до конца тебе высказать. Решение твое медную руду копать из ума меня вытряхнуло. Зимусь в твоей опочивальне тебя о том упреждала. Грозила не пустить тебя на этот путь.
— А ты решила меня, дуру, обманом обойти. За руду схватилась, а от всего Тихоном заслонилась.
— Не стоит он разве того, чтобы промышленником в крае быть?
— Тихон не такого стоит. Его руками свое богатство ты с уральской земли подняла. Не смела его возле руды ставить. А ты сделала это из-за своей жадности. Преданность его на подлость использовала. Полоз ему золотые тропы доверил, а ты его к Медной Хозяйке в работники наняла.
— Молчи про такое! Слышишь, Анисья!
— Не стану молчать!
— Заставлю тогда!
— Не заставишь! Бить будешь, и то не стану молчать!
— Тебе все равно, что с Тихоном возле руды сдеется. Тебе бы только замысел своего уроса ублажить. Будто не знаешь, отчего Лев Расторгуев в одночасье помер? Оттого, что от золота к железу кинулся. Аль перестала теперь верить, что его порешила нечистая сила, коей подвластны земные богатства Камня? Образовалась? Заноситься стала под старость? Опять надумала дурить из-за славы, довольно спорила с генералом. Генерал отступился, пошел с тобой на мировую, а нечистая сила от тебя отмахиваться не станет. Понудит тебя присмиреть, в ноги ей с прощением поклониться. Не посмотрит на то, что Карнаухова. Руду спасла, а от трусости перед нечистой силой Тихоном прикрылась. Спор из-за меди с Седым Гусаром выиграть порешила руками и жизнью Тихона. Да он тебе свою жизнь уже давно отдал. Позабыть хочешь, что немало людей ради твоего богатства в землю легло. А ты, поди, теперь и поминанье о них в церкви не подаешь? Позабыла про кресты на их могилах? Гоняла уже Тихона на верную смерть в Соймовскую глухомань, когда расторгуевская слава тебе покоя не давала. Поглядела бы своими очами, в каких местах твоя медь лежит. Синюхино царство возле меди. Задыхаются там люди. Их тебе не жаль. Про Тихона подумай. Мужик, как и ты, со старостью венчается. Сама ступай туда свою медь копать.
Анисья, сжав кулаки, подошла к Карнауховой:
— Бей меня за все сказанное. Молчать не буду.
Карнаухова в ответ обняла Анисью. Та не вынесла ее неожиданной ласки, зарыдала, уткнувшись лицом в грудь хозяйки, но продолжала говорить:
— Измаялась, измаялась от тревоги за тебя. За все измаялась, что помогала тебе на Камне выкапывать. Не могу больше. Нету у меня силушки!
— Успокойся, успокойся, родимая!
— С той поры как стали медь копать, неровно золото в песках. То густо, то пусто.
Карнаухова, успокаивая Анисью, подвела ее к кровати, усадила.
— Не было у нас раньше такого. Людей страх охватывает. Чуем, что Полоз, серчая, отводит от нас твое золото. Я перед тобой за все в ответе. Народу на промысле много. Всякий рот есть просит.
— Не думай о таком. Не из-за жадности Тихона на медь поставила. Не без тревоги на это пошла, из-за беззакония Гусара. Нельзя ему воли давать, потому, обретя ее, многих затопчет.
— Послушай меня, Василисушка. Запоминай слова. Ослобони Тихона от меди. Гусар свою злобу на него перенес. Не говорил, что ли, тебе Тихон, как с заводчиком да с его управителем схватывался? Горяч Тихон. Бесстрашием своим ни перед кем не поступится.
— Веришь мне? Спрашивала сегодня Тихона. Не тревожится за свою судьбу.
— Правду от тебя скрывает. Бережет тебя.
— По душе ему рудное дело. Сам сказал, приковала его медь к своим богатствам. Мне не веришь, сама его спроси. Завтра же к нему поедем. Ты да Тихон дороги мне. Вровень с моими детьми дороги. Жизни не пожалею, когда понадобится вас от беды заслонить. Анисьюшка, не теряй в меня веры. Так же верь, как и тогда, когда позвала тебя с собой из родной деревни. Ваша я. Такая же, как и вы, — лесная. Всему лесному сама верю и знаю, что из моих песков Полоз золота не уведет…
Со двора последнего постоя перед Кыштымом тройка выкатила коляску с Марией Харитоновой на исходе восьмого часа.
Утро выдалось ветреное и пасмурное. Хмурой была и Мария Львовна оттого, что заспалась дольше обычного, а главное: после выезда из Ксюшина не притрагивалась к коньяку.
Резкое, совершенно непонятное изменение характера доброй благодетельницы монахиня Соломония переносила со страхом. Она даже с лица спала за эти дни. Вчера в пути вздумала запеть стихиры, но получила от хозяйки увесистую оплеуху, замолчала и от обиды всю ночь не смыкала глаз, гадая о причинах дурного настроения хозяйки, успокаивала себя тем, что злость ее скоро пройдет, как только появится здесь Хохликов. Больше всего монашку пугало равнодушие Харитоновой к вину. После разговора об этом с кучером она пришла к выводу, что причина тому опять же отсутствие Хохликова.
Удобно раскинувшись в коляске, Харитонова, прищурив глаза, смотрела на знакомые ей места и думала, как долго память хранит их приметы, хотя не видела округу уже восемь лег.
Тройка, оставляя за собой пелену пыли, лихо проносилась по улочкам деревушек, распугивая кур, тревожа собак, мимо полей с суслонами и лугов со стогами свежего сена. Тройка вбегала в перелески и березовые рощи, гремела копытами на мостах через речки. Когда тройка побежала тишком по сосновому бору, Харитонова прислушалась к лесному гуду. Шумели сосны. Была в их ровном шуме величавость покоя. Он умиротворял Харитонову, вселял в нее уверенность, что действительно едет в Кыштым, чтобы стать снова хозяйкой, а не гостьей в семье нелюбимой родни. Мысленно упрекала себя за то, что столько лет сиднем жила в екатеринбургском дворце, окруженная ненужными ей людьми, тупея от сплетен и вина. Думала, что и теперь в Кыштым приехала бы такой же, если бы не выехала из Екатеринбурга с Карнауховой. Всполошила ее Василиса, прогнала дрему, словами женскую гордость в ней расшевелила, заставила вспомнить, что еще не совсем остыла в ней кровь. Временами, раздумывая о себе, улыбаясь, стирала с лица постную хмурость. Ее охватывало чувство приятной, нежащей истомы, когда думала о горном инженере Хохликове.
Неслась тройка по дороге. Гулял ветер-трясун по вершинам сосен, шевеля иглистые космы. Прыгали белки по веткам, и яркими были краски соснового бора, душистого смолистостью. Второй час бежит тройка по бору, и Харитоновой приятно, что отсутствие бубенцов не мешает ей слушать протяжный лесной гуд. Легкое покачивание коляски усыпило Соломонию, она похрапывала. Кучер Патрикей, услышав храп, повернулся и ткнул ее в бок черенком кнута. Соломония, приоткрыв глаза, зло зыркнула на кучера, а через мгновение захрапела вновь. Харитонова по-прежнему некоторое время безмятежно отдавалась чувству сладкого томления и не обращала внимания на Соломонию, но оборотившись к ней, увидела ее открытый рот, из которого на грудь тянулась нитка слюны, поморщилась:
— Соломония!..
Вздрогнув от голоса хозяйки, монашка проснулась, испуганно уставилась на нее немигающим взглядом. Поспешно отерла губы, угодливо спросила:
— Слушаю твое повеление, благодетельница.
— Не зли меня храпом.
— Неужли храпела? Дождь, стало быть, будет. Завсегда перед ненастьем похрапываю.
— Врешь. При всякой погоде храпишь.
— Винца испить не желаешь ли, благодетельница?
— Про выпивку навек позабудь. Вдоволь налакалась под твои стихиры.
Зашептав себе под нос невнятное, монашка сокрушенно покачала головой.
— Чего шепчешь?
— Молитву творю. Занемогла ты, чую.
— Выздоровела. Восемь лет болела, травя себя вашим кислым духом. Как вороны, закаркивали меня причитаниями. Теперь от себя всех разгоню.
Соломония торопливо закрестилась.
— Крестись не крестись, все равно не поможет. Разгоню! Сама о своих грехах буду молиться. Завтра же из Кыштыма — кыш! В монастырь. Поняла?
— Пресвятая владычица…
— Реветь начнешь — из коляски вытряхну.
Всхлипывая, монашка затихла, но продолжала шевелить губами.
Тенистость соснового бора посветлела. Пошли еловые и пихтовые перелески по берегу реки, а над дальними лесами виднелись поднявшиеся над горными грядами вершины: Егозы и Сугомака — с запада, а с востока — Борзовской и Аракуля.
Увидев горы, Харитонова залюбовалась очертаниями их обрывистой неприступности, спросила кучера:
— Кажись, к дому подъезжаем, Патрикей?
— Да недалеко уж. Не позабыла, хозяюшка, горных сторожей Кыштыма?
— Попридержи коней. Пусть малость передохнут, а уж по заводу бурей меня пронеси. Пускай люди почуют, что хозяйка воротилась, про родное место вспомнив. День седни воскресный.
Патрикей натянул вожжи, лошади пошли шагом, отфыркиваясь и поматывая головой. Харитонова, повеселев, смотрела на лесистые дали. В стороне от дороги уже видны купы липовых рощ вокруг расторгуевских дач. За ними, на холмах, очертания огромного селения Верхнего и Нижнего Кыштымов и колокольни церквей.
Когда дорога начала огибать небольшое озеро с избушками рыбаков на берегу, Патрикей, повернувшись к хозяйке, погладив бороду, сказал:
— Дозволь, матушка, старинку вспомянуть?
Патрикей щелкнул кнутом. Тройка, лихо взяв с места, понеслась. Она летела по кривым переулкам Кыштыма. Выскочив на главную улицу с аллеей бульвара, понеслась вихрем. Встречный народ шарахался в разные стороны. Мужики едва успевали снимать картузы, узнавая, по фигуре Патрикея, гостью в коляске, не слыша обычных бубенцов, почесывая затылки, с удивлением долго смотрели вслед.
Копыта коней дробно отбарабанили по мосту через заводский пруд. Харитонова увидела перед собой огромный отцовский белый дом за высокой стеной с башнями. Не успела она перевести взгляд на ложбину с корпусами фабрик, как коляска вкатилась в широкий двор и остановилась у парадного подъезда.
— С благополучным прибытием в родительский дом, хозяюшка.
Соскочив с козел, Патрикей поклонился Харитоновой в пояс.
— Спасибо. Помогай ноги на землю ставить. Встречи не вижу.
— Так мы же как снег на голову пали.
— И то верно.
Патрикей и Соломония помогли хозяйке вылезти из коляски.
От ворот к ним подбежал запыхавшийся мужик в поддевке и заорал на Патрикея:
— Куда вкатил? Как смел без дозволения? Зубов во рту, что ли, избыток?
Патрикей, не взглянув на оравшего мужика, отряхивал с подола хозяйки приставшие соринки от сена. Харитонова услышала обращенный к ней вопрос оравшего мужика:
— Кто такая будете? К кому и зачем пожаловали?
Харитонова сурово крикнула:
— Вот что, рыло! Кто ты такой, у меня нет интересу! Потому для тебя хозяйка! Не видал в жизни Марии Харитоновой? Как стоишь передо мной?
Харитонова уже подняла руку, чтобы ударить мужика, но в этот момент распахнулась парадная дверь, из нее, прихрамывая, с причитаньями выбежала домоправительница старуха Климовна с девицами. Сбежав с крыльца, она упала перед Харитоновой на колени:
— Родимая, ненаглядная, соколица!
Харитонова подняла старуху с колен:
— Встань, встань, милая.
Обливаясь слезами, старуха целовала руки Харитоновой:
— Дай поглядеть на тебя.
Выбежавшие со старухой девушки также стояли на коленях.
— Пойдем, Марьюшка, в горницы. Нежданно пожаловала. Думала, что не повидаю тебя перед смертью. А ты и объявилась.
Поднявшись на крыльцо в обнимку со старухой, Харитонова остановилась и осмотрела двор:
— Запустение и грязь во всем развели. — Повернулась к девушкам: — Кажите свою красоту, быстроглазые. Вставайте. Молодец, Климовна, неплохих невест вырастила. Постой! А это чья? Неужли Марфушка Мухина?
— Она самая.
Харитонова погладила по голове статную чернявую девушку:
— Помнишь меня, Марфушка?
От волнения девушка ничего не смогла ответить, лишь смотрела на Харитонову.
— Совсем красавицей стала.
— Марфа, живым духом лети в церковь. Упреди господ о дорогой гостье, — сказала девушке Климовна.
— Не надо. Пусть молятся. Успеем еще, Климовна, наглядеться друг на дружку. Веди лучше в дом, порадуй порядками в нем.
— Ох, матушка! Про какие порядки говоришь? Без тебя в доме не по-расторгуевски стало…
* * *
Умывшись и переодевшись с дороги, Харитонова осмотрела дом, была поражена его запустением. Прежняя отцовская роскошь в нем потускнела. Многие комнаты годами стояли на запоре, в них все погребено под пылью и паутиной.
Окончив осмотр дома, Харитонова обошла парк. В нем кое-где валялись упавшие с постаментов мраморные статуи греческих богинь и сатиров. Зеркала прудиков затянула зеленая ряска, беседка на берегу большого озера стояла с провалившимся куполом крыши.
Вернувшись из парка, Харитонова, обозленная всем увиденным, села за стол к самовару и, не дождавшись благовеста от обедни, начала пить чай.
Послышался трезвон колоколов. Климовна, угощая хозяйку свежими шанежками и крендельками, налила ей второй стакан.
В трапезную вошли с покашливаниями вернувшиеся из церкви Александр Зотов, его жена Катерина, жена Григория Зотова в черном старообрядческом сарафане и шушмурке на голове. Зотиху держали под руки две дородные женщины. Пришедшие поклонились Харитоновой. Она, привстав, тоже ответила им поклоном. Катерина шагнула к сестре, но, встретившись с неласковым взглядом, остановилась. Пришедшим стало не по себе под пристальным осмотром Харитоновой. Ее лицо передернулось гримасой, когда встретилась взглядом с Александром Зотовым. Он показался ей распухшим от полноты. Во взгляде его линялых глаз еще больше, чем у остальных, телячьей растерянности.
— Живы, слава богу, сродственнички? Пожаловала к вам не с добрыми вестями. Родитель ваш и муж, мой муженек — рабы божьи Григорий и Петр преставились в далеком краю возле Ладоги.
Дико завизжала, закричала Зотиха:
— Гришенька!..
Выкрикивая бессвязно слова, она повалилась на пол. Сын кинулся к ней, вместе с женщинами вынес ее из трапезной.
Харитонова теперь ласково смотрела на сестру Екатерину. Та подошла к ней. Они обнялись, расцеловались. Зотов, вернувшись, сказал:
— Матушка повелела немедля в колокола бить. Народ немедля на панихиду в церкви сгонять.
— Успеется, — раздельно выговорила Харитонова.
— Дак матушка так повелела.
— А я говорю — успеется! Твоей матушки слово — для меня не закон. Садись к столу. Сперва до конца выслушай, зачем к вам пожаловала.
Александр Зотов покорно подсел к столу.
— Приехала в Кыштым на прожитие. Хозяйкой приехала. Посему наказываю тебе, Ляксандр Григорич, сей же час всяких мастеров поднять на реставрацию и очистку дома. Управление заводами, всеми горными и золотыми делами Харитоновых и Зотовых велю тебе передать в руки горного инженера Хохликова, за коим вечером послать добрую тройку в Катеринбург. Матушке вашей покой отвести во флигеле подле второй башни. Самим вам с Катериной перейти на жительство во второй этаж.
Зотов, от волнения подергивая головой, резко спросил:
— Надумала про все, не спросясь нас?
— Не надумала, а порешила!
— Да как можно эдакое разом? Экое горе навалилось! Смерть батюшки! Не время о пустом думать.
— Горе это на тебя давно навалилось. Думать тебе теперь ни о чем не придется. Вот до чего за восемь лет додумался: хоромы конюшней стали.
— Я, кажись, хозяин?
— Был им по моей безвольности да по оплошности до сего дня.
— Не дозволю такого самоуправства! — вскочив на ноги, закричал Зотов.
— При мне не смей орать в доме.
— Не дозволю!
— Еще раз скажи. — Харитонова встала и взяла в руки стакан с чаем, отпила из него глоток. — Ос гыл малость. Ну да ничего.
— Видано ли дело? Явилась незваной, зачала хозяину наказы давать.
Харитонова через стол плеснула из стакана чай в лицо Зотову. Он, закрыв его руками, закричал с завыванием:
— Ошпарила-а-а! Глаза выжгла-а-а! Катенька! Помо-ги-и-и! Не вижу ничего.
— Врешь, волчий кобель! Таким кипятком и таракана не ошпаришь. Не дозволишь? Бить стану за поперечив, а не только чаем ополаскивать. Понял? На цыпочках перед собой ходить заставлю. Немало Расторгуевы от Зотовых сраму да обиды хлебнули. Ты, Катерина, сейчас же решай, чья в тебе кровь. Не вздумай моей воле супротивничать. С кем в ряд пойдешь?
— Сестра тебе, как велишь, так и будет, — ответила Катерина.
— За это спасибо говорю. Нам пора вспомнить, что Расторгуева дочери. Вот и поговорили семейно после долгой разлуки. Теперь можешь бить в колокола. Слышишь, что говорю, Ляксандр Григория? Коли не вовсе ослеп от студеного чая, ступай к матушке своей. Оботри ее слезы да порасскажи новости. Ступай. Ступай…
Зотов, беспомощно разводя руками, смотрел на жену, не двигался с места.
— Уходи, говорю, — сказала Харитонова.
Зотов, ругаясь, засеменил из трапезной. Харитонова опустилась в кресло.
— Катя, сядь со мной рядом.
Катерина исполнила ее просьбу.
— Страшно тебе, вижу, стало, как напомнила про расторгуевскую кровь…
— Неужели сможем жить, как при батюшке, опять вместе?
— Сможем! Давай чай пить, Климовна. Расторгуевские порядки с сего часа в доме…
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
1
Над Старым заводом утром метался ветер, разнося звоны церковных колоколов. Вокруг барского дома шелестела листва на липах. Дверь из кабинета хозяина растворена на террасу. Агапия в синем сарафане — в кресле возле двери. Скользили по ней солнечные пятна. Муромцев ходил по кабинету, заложив руки за спину. Управитель Комар стоял у письменного стола.
— Люди богу отмолились, а мне лба некогда перекрестить. Все, барин, из-за вашей добросердечности от разных тревог покоя нет. Только полоумный мог на это решиться. Обещание мне давали, что без моего ведома управитель пальцем не посмеет шевельнуть. Видать, слово с делом у вас не спаривается? Доколе будете потакать его своеволию? В заводе он управитель, а в остальном…
— Успокойся.
— Знали, что Комар пустил огонь в лесах на угодьях Карнаучихиной меди? Отмолчаться хотели?
— Управитель доложил об этом только вчера.
— Вон как? Мне сказать не удосужились? Аль не должна знать?
— Прошу, успокойся.
— Мой покой огонь не загасит. Сушь в лесах. Аль запамятовали, что об этот месяц на Камне ветры переменчивые? У Комара умишко не велик. Пришлый человек он на Урале. Ему наших лесов не жалко. А вы, чать, видали уральские пожары. Иной раз и богова власть не в силах их загасить. Чать, слышите, что на воле деется? Переменится ветер, повернет огонь в ту сторону, в коей есть ваши лесные угодья. Тогда как? Комара пошлете огонь заплевывать? Зачем пустили огонь подле рудника Тихона Зырина? Аль вас зависть одолела, барин? От лесного огня медь в земле не растопится.
— Господин Муромцев, я отдал приказ подпалить лес, чтобы выжечь кержаков.
— Замолчи! — резко прикрикнула на управителя Агапия. — Встревай в разговор, когда спросят. Дурак ты! В бархат вырядился, а все одно дурак, на мое понятие. Ты дождя больше боишься, чем кержаки лесного огня.
— Управитель прав. На руднике Тихона Зырина незаконно собираются раскольники. Они опасны. Старый завод и так в кольце недругов. Достаточно одной старухи Карнауховой.
— Не станете злить старуху, она вас не тронет. Чем может вас обидеть? У нее своих забот выше головы. Вот ведь до чего додумались! Считаете Комара правым, что огонь по Камню пустил. Да если генерал узнает про то, ему башку оторвет да и вам спасибо не скажет. Дружков у вас избыток. А ежели донесут генералу? Он про вас любой небылице поверит. Прежде чем связываться с расколом, меня спрашивайте. Не раз дельные советы давала. Аль позабыли?
Агапия встала, вышла на террасу, постояв на ней, вернулась в кабинет.
— При мне накажите Комару без моего дозволения ни во что не соваться. Пусть знает свой шесток. Поглядите. Не нравится ему моя просьба. От злости аж глаза закровянил. Жду, барин, вашего слова!
— Слышишь, управитель?
— Приказания от вас жду, барин. — Агапия скрестила на груди руки.
— Никак голос на меня подняли? Придется, видно, без вашего приказа Комара к послушанию подвести. Комару вашего добра не жаль. Для меня же оно, как свое. Аль не так, по вашему разумению? А еще прошу: в разговоре на людях со мной голос свой не железнить.
— Ладно! Понимаю, что не по злобе меня громко полным именем назвали.
— Впредь, управитель, любые желания Агапии Власовны исполнять без рассуждений, как мои личные.
— Господин Муромцев!
— Что еще?
— Я — управитель. Эта женщина…
Агапия перебила Комара:
— Чего «эта женщина»?..
— Говорит со мной, как с крепостным.
Агапия, опустив руки, медленно направилась к управителю:
— Не женщина для тебя, а баринова доглядчица над тобой. Помни о сем! Может, еще что сказать для понятности? Говорила, что умишком не больно богат.
Муромцев крикнул:
— Не слышу твоего ответа, управитель, на мое приказание!
— Господин Муромцев, я буду слушаться Агапию Власовну.
Агапия засмеялась:
— Какой сговорчивый! Пошли немедля верховых распознать про пущенный тобой огонь. Вернутся, пусть меня повидают. Толковых мужиков спосылай. Предупреди, чтобы без мошенства глядели за путем огня. Ступай!
Комар, поклонившись Муромцеву, полоснул Агапию злым взглядом. Она, уловив его лютость, снова засмеялась. Управитель вышел.
— Ты действительно груба с ним.
— Ласковой надлежит мне быть только с вами.
— Комар опытный управитель. Он многое делает…
— Я его не приглашала.
— Вот и со мной сейчас грубо говоришь.
— Неужли? Уж не обессудьте за это. Надобно о деле потолковать. Присядьте, барин.
Муромцев остановился у письменного стола, на котором стояла бутылка коньяка. Взял ее.
— Не пейте, барин.
— Да ты что?
— Сказала, чтобы не пили.
— Черт знает что такое!
— Не черт, а я знаю, что надо вам в здравом уме мой сказ слушать.
— Ну сел! Говори!
— И ваши глаза, барин, закровянились. Злобитесь на меня. Как угодно. Желаете без моего совета жить? Что ж, в добрый час.
— Говори. Готов слушать тебя.
— Должны слушать. Верно: грудится раскол возле Зырина.
— Болтают люди, что ты хорошо знаешь этого Зырина.
— Мало ли что болтают. Про вас послушать, так волосы на голове зашевелятся. Тихона Зырина на всем Камне знают приисковые люди. Я тоже возле золотых песков терлась, да вместо золота свою судьбу возле вас намыла.
— Недовольна своей судьбой?
— О другом говорим, барин. Стану недовольна — скажу. Раскол от Зырина надо не огнем спугивать. У царской власти надо помощи попросить.
— Надо вам немедля в Катеринбург податься да добром у генерала Глинки помощи попросить. Донесите ему о расколе в лесах Карнаучихи. Пусть генерал солдат спосылает для проверки.
— Ерунду говоришь. Генерал мне не поверит. Решит, что наговариваю напраслину. Он знает, что с Карнауховой не дружу.
— Поверит о сию пору. Ему ведомо, что кержаки бродяжат по Камню. Кержаков не меньше вас боится.
— А ты не боишься?
— Чего мне бояться? Сама кержачка.
— Да теперь они тебя вместе со мной убьют.
— Вы, барин, будто дитя малое. Сколько разов сказывала, чтобы не нудили себя такими думами. Меня скитники прокляли, а я даже не ослепла. Я скитникам нужна.
— Понятней говори.
— Аль непонятно сказала? Чтобы иной раз от вас их руку отвести, я скитников дельным упреждением от крепостных капканов спасаю. На все иду ради вашего покоя.
— Только полюбить не хочешь?
— И без любви от моей ласки вам не студено.
— Хитрая ты, Агапия. Тебя надо бояться.
— Бояться не надо, а слушаться обязательно.
— О поездке к генералу подумаю.
— Некогда думать. Седни отправлю вас в Катеринбург.
— Как будто приказываешь?
— Моя просьба — все тот же приказ, барин. Нельзя медлить. Пугнет генерал кержаков, тогда думайте, сколько душе угодно. Их только раз надо по-дельному пугнуть царской властью, вдругорядь не сунутся, а Зырину без них руду на свет божий не поднять. Теперь к самому главному речь подошла. Надо вам в Горном управлении сурьезное дело обладить. Подкупить кого следует.
— О чем ты?
— О царском указе, коим вам власть над медью дается. Плохо на Камне заводчики с указом знакомство сводят. Сами говорили, что многие его еще не читали. Сами говорили, что в нем недосказы письменные имеются. Сами говорили, что они хозяевам медной руды права дают спорить с вами. А вам этого не надобно. Аль не так?
— Продолжай, только по-понятному, без кержацкой мудрости.
— Дельному чиновнику подачку суньте. Научите послать с указом чиновника по Камню, чтобы объехал всех заводчиков. Ознакомил их с царской милостью для вас. Пускай каждый заводчик расписку даст в прочтении указа, чтобы не мог никто отпираться, не ссылался на неведение. Самому генералу о сем ни слова. Помимо его превосходительства у вас в Горном управлении имеются верные люди, а то и приятели. К генералу явитесь трезвым. По-дворянски с ним побеседуйте. Похвалите его власть над Камнем. Он похвалу любит. Теперь вам легче беседовать, после того как генерал повидал ваши встречи с августейшим наследником. Да и указ — великая милость царя-батюшки к вам.
Муромцев встал, лениво потянулся:
— Все-таки поеду завтра.
— Сегодня, барин. Немедля. В Катеринбурге задержитесь до той поры, покуда генерал вашу просьбу о драгунах не выполнит. А уж над всем прочим я свой глаз подержу.
— Ты права. Поеду. Кстати, дам законный ход твоей вольной.
Агапия, махнув рукой, засмеялась:
— Ой, господи! Второй год грозитесь вольную дать, а только обещаниями награждаете.
— Боюсь. Получишь — уйдешь от меня.
— Куда? К мокрети золотоносных песков? Да там мужики покоя не дадут. Нет, барин, вплелась жгутиком в вашу веревочку, дак теперь уж не вытянусь. Не трудитесь о вольности. Не нужна она мне.
— Мне нужна. Упомянул тебя в завещании.
— Неужли? Поди, три аршинника землицы дарите на могилку?
— Не сметь у меня шутить!
— Ладно. Не буду. Сами шутите. С вас пример беру. В завещании упомянули. На ваше добро тьма наследников наберется. Как воронье, слетятся. Растащат…
— Замолчи!
— Будет о пустяках говорить. Мне и без вольности неплохо живется.
— Вернусь из Екатеринбурга с вольностью.
— Будет, говорю, о пустяках. Пойду в дорогу собирать. На вороной в этот раз поедете.
— Слушаю, барин.
— Ты чем-то встревожена.
— Всегда встревожена. Как не тревожиться, коли сами на себя беды накликаете? Леса Комару палить дозволяете.
— Слово даю, обо всем с тобой буду советоваться. Управитель не посмеет больше самовольничать.
— С ним, ежели что, у меня разговор короток. В дорогу пистолет возьмите. Без охраны не отпущу. За старшего Кузьму пошлю. О себе, барин, в дороге да в Катеринбурге по-трезвому думайте. Время злое на Камне. Без моего ведома в жизнь не вклинивайтесь. С генералом с покорностью беседуйте. От вас не убудет, а он размякнет. Возомнит, что на самом деле на Камне царек, ежели господин Муромцев с ним покорен.
— Поцелуй, Гапа.
Агапия подошла к Муромцеву, обвила руками шею и поцеловала его.
— Дозволь завтра поехать. Сегодня с тобой.
— Нельзя, барин, из-за бабьей ласки о заветном всей жизни позабывать.
Агапия, освободившись от объятий Муромцева, взяла со стола бутылку и ушла…
Тихон Зырин лежал на лавке. Под головой овчинный полушубок. Лицо в саже и царапинах. Кисть левой руки обернута тряпицей.
На воле густилась вечерняя мгла. Шумел под напористым ветром лес. Скрипели лесины, будто стонали; покорные ветру, мотались из стороны в сторону.
Заперты окна, а лесной шум и стон в избе слышен. Третьи сутки почти не смыкал глаз Тихон после того, как занялись с двух сторон огнем леса подле рудника. Но огненное море не дошло до новых душистых срубов людского жилья. Ветер помог людям остановить лесной огонь, когда нынче после полудня подул с северной стороны. Нагнал в леса прохладу, повернул огонь вспять. Все живое не душит едкая гарь с дымом, опять смолистый дух в лесу. Повидал Тихон в борьбе со стихией упорство своих людей. Пока гулял огонь, подбираясь к руднику, ни одна людская душа не помнила об усталости, но, как миновала опасность, никто уже не хотел лишний раз пальцем пошевелить. Немало людей изукрасил огонь ожогами.
Медленно разум Тихона освобождался от гнетущей жути лесного пожара. Сколько он перевидал их на своем веку, сколько раз едва уносил от буйного пламени ноги. Но это гудящее огненное страшилище до того перепугало, что он, глядя на смертоносную стихию, молитвы стал читать вслух. Все вспомнил, которые знал с детских лет, заученные из-под палки. Постепенно забывалась давешняя опаска, и разум опять дозволял памяти перебирать все подробности недавнего свидания с Карнауховой. Счастливым вернулся из Ксюшина. Не успел оглядеться на руднике, как началась огненная напасть.
Тишину в избе спугнул мужской голос:
— Никак без огня живешь, хозяин?
— Кто это?
— Кому быть, как не мне. Спал? Прости, ежели пробудил.
В сизой темноте перед столом обозначился кержак Иринарх.
— Как огонь? — спросил Тихон.
— За сим и дошел к тебе. Сгинула адова напасть в топях за Волчьим оврагом.
— Торфяники там. Не пошел бы под землей.
— Зряшное говоришь, Тихон Петрович. Отродясь торфа там не водилось. Мне эти места знакомцы. Мальцом был, когда в тех топях наши скиты стояли…
Слушая старика, Тихон приподнялся на лавке, сел.
— Донимает ожог?
— Потерпи малость. Наказал заячьего жира натопить. Кое-кто тоже мучается от припаленья. Хуже всего тем, у кого лики ожглись. Моего старшего, Зосима, ветка огненная по голове угодила, от искры борода занялась. Обезбородел, мужик. Тужит, дурья голова, позабывая, что отрастет волос, ежели кожа не порушена. Лик твой, хозяин, углядываю, в кровяных бороздах.
— Царапины заживут.
— Как не зажить? Заживут, а в памяти все одно останутся. Память — она жадная, ей всякую пустяковину охота хранить. Ты, поди, до сей поры хлеба во рту не держал?
— Не помню.
— Принес я тебе краюху с жареным рябком. Много разной птахи в огне сгинуло. Рябчиков мужики на огненной грани вдоволь насобирали, в золе хвойного настила изжарились.
— Могучий огонь шел.
— Хаять не стану. Добрый огонь. Шел, да не дошел.
Иринарх положил на стол узелок. Развязал его, подвинул на холстинке к Тихону хлеб и мясо. Достал из кармана штанов две толстые восковые свечи. Одну зажег от лампадки. Накапал воск на столешницу и прилепил к ней свечу. Свет загнал темноту в углы.
— Негоже тебе без свету жить.
— Где восковыми свечами разжился?
— В лесу. Округ нас воску — век не изжечь. Во всяком дупле пчелы. Мой меньшой, Никита, мастак свечи лить.
— Его огонь не поранил?
— Нету. Уберегся. Услал его с мужиками на дорогу к Старому заводу. Пусть покараулят.
— Мыслишь, стало быть?
— Не сумлеваюсь. Огонь на лес людишками Гусара пущен. Всяко пробует тебя обдурачить с рудой. Законом не может, так норовит беззаконием. Ведомая повадка. Учуял, что возле тебя раскол грудится. Он его страсть как боится. После нонешней встречи с тобой, когда оба возрадовались, я все же подметил беспокойство в твоих очах. А вот отчего загорелось оно в твоих очах — понять не могу. Неужли боязливым Тихон Зырин стал? Аль, став без году неделя хозяином, сбираешься к шатучему народу спиной обернуться? Чего испугался нас? Может, скажешь? Чтобы не маяться мне в догадках и не пожалеть, что спас тебя от смерти.
— Верно. Напугал меня ваш наход на рудник. И есть на то причина.
— И про причину скажи. Все скажи начистоту. Может, сомнения в твой разум занесли? Ничего не утаивай. Сам видел, как пришельцы огонь воевали, не отдавая твое богатство в его власть.
— Тревожусь, чтобы царский генерал Глинка не начал на моих угодьях вас вылавливать. Сам говоришь: Седой Гусар чует, что ко мне скитники идут. А что, если…
— Зря тревожишься. Я к тебе народ привел, мне и ответ перед богом за его сохранность держать. Знал, что творил. Кормиться нам надо. Вот и знал, куда шел, да и сыновей с собой привел. Ты в этих лесах чужак. А я им свой. Не раз в них от всяких супостатов отсиживался. Утугами к тебе пришли, а настанет для нас здеся лихое время, в одночасье сгинем.
— Непонятно говоришь, Иринарх.
— Могу понятней сказать. Возле тебя, совсем под боком, укрытие найдем. Водятся за топью пещеры в горном кряже. В них люди Емели Пугачева хоронились, когда на Екатеринбург шли. Ведом и мне путь к тем местам. Придет лихой час — разом не станет на твоем руднике скитников, а пройдет тот час, опять они у тебя объявятся. Ты для нас лесной человек, в нас шишками не кидал. С нами ничего не бойся, но за нашей спиной, за доверение с ворогами не спутывайся, капканы на нас не расставляй… Все сказал… Ты теперича знаешь наши думы, а мы знаем, что тебя тревожит. Будешь чист душой, мы работной силы для тебя не пожалеем. Плата у тебя нам угодная, о харчах столкуемся. За нас не тревожься, о том Господь позаботится. Шахты продолбили. Срубы жилья ставим. Огня, сам видел, не больше дождя боимся. Про свою жизнь, однако, не позабывай. По лесу бродя, по сторонам поглядывай. Гусару поперек дороги стал. Про то не забывай.
В избу торопливо вошел смотритель Яков Назарович:
— Дозволь, хозяин, беседе помешать.
— Опять огонь?
— Гостья к тебе.
— Откудова?
— Мужики на развилке дороги из Старого завода перехватили. Ехала верхом. Имя свое не сказывает. Говорит, что к тебе.
Тихон услышал за спиной спокойный женский голос:
— Без имени твой хозяин меня признает. Посторонись, начальство.
На свет к столу подошла статная женщина, скинула с головы повязанный плат. Тихон встал:
— Признал? Скажи на милость, за столько лет не позабыл по облику. Здравствуй, Тихон Петрович. Захотела на тебя поглядеть. Коли не погнушаешься беседовать, то останься со мной с глазу на глаз.
Иринарх и Яков Назарыч пошли к двери. Иринарх остановился у порога. Агапия отвесила ему низкий поклон:
— Агапией Власовной кличут меня, старче.
— Слыхал про тебя.
— Поди, про то, что за ослушание проклята скитниками?
— Имя твое слыхал. И о том, что жизнь Гусара обихаживаешь, тоже слыхивал.
— Коли так, то и меня послушай.
— Сказывай, коли дельное что.
— Об этом сам рассудишь. Держите ухо востро. С дороги глаз не спускайте. Гусар подался седни в Катеринбург к генералу с доносом, что скитники на руднике грудятся. Хочет потребовать учинения воинской облавы для проверки сих мест. Чать, понятно сказала?
— Спасибо за добрую весть. Стало быть, и с проклятием жить не опасаешься?
— Живу. Господу ведомо, кого и где в землю уложить.
— Живи, коли так мыслишь.
Иринарх пристально оглядел Агапию, перекрестил ее и вышел.
Тихон и Агапия долго смотрели друг на друга. В глазах Агапии радость и сочувствие:
— Состарился. Глаза попритухли. Устал.
— А ты будто краше прежней.
— Да просто такой кажусь.
Агапия опустилась на скамью. Свет мешал глядеть на Тихона. Отодвинула свечу на край стола.
— Села вот. Тяжело ногам радость мою держать. Все еще не верится, что встретились, Тишенька.
— Спасибо, что вспомнила.
— Да разве позабывала тебя?
— Как ты?..
— Вот так. Навестила, набравшись храбрости. Оказия помогла. Решила упредить. Нельзя к тебе беду допускать. До сей поры люб мне, как в пору, когда мертвого сыночка твоего родила.
Тихон растерянно развел руками, сел на лавку.
— Не знал про сыночка? Бросил меня тогда. От горя не смогла сыночку жизнь дать. А как горевала-то!
— К матери тогда в сибирскую сторону подался. Нежданно дознался, что помирает в одиночестве. Схоронил ее под Тобольском. Сам приболел. Года два безножил. Вернувшись в лесную избу, не нашел о тебе знаков.
— Как горевала без тебя! Сколько слез пролила! А потом, схоронив его…
— Где спит?
— На сухом баском холмике неподалеку от той избы. Ее ноне уж нет. Спалил кто-то. Могилку каждую весну навещаю, крест на ней под голубой краской.
Агапия низко склонила голову.
Агапия, взглянув на Тихона, встала, прошлась по горнице.
— Неухоженно живешь. Пошто она о тебе не заботится? Знаю ее. Кабы знала тогда, что Василисиным поглядом, золотыми камешками околдован, не вырастила бы в сердце любовь к тебе.
— Одна буду про то вспоминать. Отняли у меня тебя, но память о тебе не отнимут. Знал, где обретаюсь?
— Повидать не хотел?
— Хотел, но не дозволил себе. Не к тебе в сердце тепло носил. Прости.
— Разве виноват? Сама грешна, надумав возле чужого тепла в сердце любовь вырастить. Как любила тебя! Все ради тебя была готова позабыть… А ты скрыл от меня правду, что другая тебе мила. По пути к тебе ласковые слова надумывала. Все надеялась заговорить тебя. У меня есть ласковые слова. Не перевелись. Совсем порой дурная становлюсь, когда о тебе думаю. А ведь будто не из робких. Со старой верой расстаться не побоялась. Ослушницей перед расколом не побоялась быть. Проклята за это скитниками. Тремя перстами крещусь, а живу. Старцы стращали, что от одного креста щепотью мертвой стану. Богу, видно, все равно, как крестишься, лишь бы вера в тебе была светлая.
Склонив голову, Агапия долго ходила по избе, молча охватив руками плечи. Остановилась против Тихона, спросила, раздельно выговаривая слова:
— Знаешь про меня правду?
— Что не по своей воле у Муромцева живешь, знаю.
— Неужли не слыхал худой правды? Чудно. Люди горазды про чужое языки чесать. Тогда слушай мою правду. Опоганенно живу. Баринова полюбовница.
— Тогда и это — не по своей воле.
— Спасибо, спасибо, Тишенька. Какая ни есть перед тобой сейчас, а разлюбить тебя не могу. Вечна моя любовь за то, что в материнскую славу обрядил. Не моя вина, что сыночек мертвым родился. Все одно таинство матери пережила. Поймешь ли сказанное? Ведь ты разлуку со мной по-иному прожил.
Агапия снова опустилась на лавку, не отводила глаз от Тихона.
— Пошто же не сказал тогда правды, Тишенька? Поди, думал: позабавлюсь с девкой, да и забуду про то… А для меня как все обернулось? То не знаешь?
Из глаз Агапии текли слезы; закрыв лицо руками, она вся задрожала. Тихон погладил ее голову, она стихла и зашептала:
— Не успокаивай. Сколько лет копила в себе слезы! Все надеялась опять около тебя оказаться, а на днях узнала, что не назвать мне тебя своим. В Василисиных руках твой разум и сердце. — Агапия встала, вытерла со щек слезы. — Прости за бабью сырость. Легче будет жить без накопленных слез. Любовь к тебе стану беречь пуще прежнего. Будет моим поводырем. Никому тебя в обиду не дам. Живи, как знаешь. А что она тебя любит, мне дела нет. Коли любит, значит, достоин того. Вот кабы раньше ее тебя полюбила, то нипочем не отдала бы сейчас. Счастливей меня оказалась Василиса Карнаухова, и на том конец разговору. А барина к рукам прибрала с умыслом. Будь здоров!..
— Да ты что? Ночью поедешь?
— Неужли рассвета ждать?
— Провожу тебя.
— До коня проводи. У срубов привязан. Пойдем. Погляди здесь на меня. На воле темень — твоих глаз не разгляжу. Усталые они у тебя. Пойдем.
Вышли из избы на крыльцо. Оглушил лесной стонущий шум.
— Сердито дует. Гляди, какие звезды крупные.
— Не оступись, Гапа. Ступеньки крутые.
— А ты поддержи.
Тихон взял Агапию под руку. Свел с крыльца, от охватившего волнения перехватило дыхание, а она засмеялась:
— Как дитя малое, поддержал.
Молча дошли до срубов. Перед одним — на полянке костерок. В его отсвете люди, а поодаль стоял оседланный конь.
Агапия подошла к коню, отвязала повод.
— Погоди. Провожу до развилки дороги.
— Боишься, чтобы ветки глаза не выхлестали?
— Сама видишь — темень.
— Это на земле, а на небе, гляди, звездная россыпь. Пойдем…
* * *
Расставшись с Тихоном, по лесной глухой дороге Агапия ехала, опустив повод. Конь, пофыркивая, шел шагом. Лесной шум то затихал, то усиливался. По временам под конскими копытами чавкала болотная вода. Воздух начинал звенеть от комариного тонкого писка.
Проплыла бродяжная тучка. Пошел мелкий дождь. Агапия чувствовала на лице его колючие капли. Но вскоре над ней опять открылось звездное небо. Любуясь звездами в редкие просветы между лесин, она запела в полный голос. Песня как-то разом пришла на ум. Копыта коня то цокали по камню, то становились беззвучными на пружинистом хвойном настиле.
Потом мшистые хвойные лесины поредели, уступая место шелестящему осиннику. Агапия перестала петь, услышав постук топоров. Натянув повод, остановила коня. Прислушалась. Догадалась, что доносит звуки ветер по речной воде. Опустила повод. Конь пошел веселей.
У Агапии все мысли о Тихоне. Поехала к нему путать карты барина и царского генерала, а на деле сама себя в силок давнего чувства к Тихону накрепко запутала.
Бьется в разуме Агапии надежда, что будет снова с Тихоном. Одна помеха к ее счастью — Василиса Карнаухова. Надо убрать старуху с дороги. А как убрать? Порешить? А за что? Вся ее вина в том, что раньше с Тихоном повстречалась. Перекрестилась Агапия. Никого еще в помысле не лишала жизни, а как злобилась на скитских старцев и старух!
Кончились болотные осинники, и начало светать. Конь вынес ее на большак к Старому заводу. Ветер будто притих, но лесной шум не убавился. По сторонам дороги знакомая лесная заграда. Конь по-прежнему с опущенным поводом шел шагом.
В памяти Агапии ожила далеко-далекая лунная ночь в таганайских уремах. Возле горной речки, с припотевшими от росы валунами, обмякла душой и телом в объятии Тихона. Нес ее в свою избу на руках, а шептал все одно слово: «Родимая…» А сегодня только ласково погладил по голове.
Зафыркав, конь заплясал на месте. Натянула повод Агапия, вгляделась в мглистость рассвета. Ничего не разглядев, решила, что зверь дорогу перешел. Ослабила повод. Конь взял с маху и понесся во весь дух. С трудом перевела коня на рысь только в березовых рощах перед Старым заводом.
На плотину Агапия въехала засветло, но все же до рабочей побудки. В селении ходко пели петухи. Стихли собаки, закончив ночной пустобрех. Агапия коня оставила в конюшнях на задах парка. Пешком поднялась в гору к барским хоромам.
В доме шла уборка. Наказала девушкам разбудить себя после полудня. Зашла в свою горницу. Распахнула окно и в одежде упала на постель. Лежала навзничь с закрытыми глазами. По всему телу то бегали мурашки озноба, а то вдруг вся покрывалась испариной. Хотелось спать. В ушах позванивали серебряные колокольчики. Так хотелось спать, а память гнала сон, воскрешая мысли о самом радостном в ее жизни…
В барском парке Старого завода на берегу искусственного пруда, заросшего кустами шиповника, белокаменная беседка с ажурными перилами. Под ее куполом — мраморная греческая богиня Диана.
По желанию Агапии, в беседке в день возвращения Муромцева из Екатеринбурга накрыли стол к вечернему чаю. За столом у самовара Агапия в праздничном наряде, Муромцев — в бархатном халате. В беседке густая тень, а в воде пруда еще полощутся лучи закатного солнца.
— К моему удивлению, Глинка принял меня без обычного высокомерия. Поинтересовался делами завода. Но я взял быка за рога. Сказал, что приехал по сугубо важному делу. Генерал сразу нахохлился. Узнав, что возле рудника Зырина скапливается раскол, генерал нахмурился, подошел к карте. Долго рассматривал ее. Попросил указать месторасположение медных руд на землях Карнауховой. И огорошил меня категорическим мнением: скопление кержаков якобы в этих местах исключается, ибо на карте лесные пространства обозначены непроходными трясинами. Но не на такого напал его превосходительство. Я тотчас опроверг его суждение, заверив, что мои сведения достоверны, вежливо попросил отнестись к моим словам с особой серьезностью и доверием.
— Поверил?
— Кажется.
— Пообещал проверить?
— Не только обещал, а при мне отдал распоряжение послать разведку, — удовлетворенно сказал Муромцев.
— Не обманул бы хитрец-мудрец в генеральском обличии. Позапрошлый год во время бунта обещал прислать драгунов, а не послал.
— Будем надеяться. Я приказал Комару следить за дорогой к Зырину.
— Не пойму вас, барин. Пять суток пробыли в городе, а о выполнении генеральского приказа спросить у кого следует не удосужились.
— Ну просто забыл. Твой второй совет выполнить удалось нелегко.
— Пустое говорите. Иль чиновники от подачек стали отказываться?
— Затея недешево обошлась.
— Не тужите. С лихвой вернете затрату. Кого пошлют по заводам с царским указом?
— Сейчас вспомню. Ага! Столоначальника Песцова.
— Хапугу Герасима Макаровича?
— Знаешь его?
— Аль нет? Морда у него скособочена кондрашкой. Сами его знаете. Планы угодий Старцева вам перепродал.
— Не помню. Совершенно не помню.
— Когда в путь тронется?
— Не знаю.
— Опять не знаете. Ничегошеньки до конца толком не можете изладить. Все деньги за услугу отдали?
— Слава богу, что хоть в этом промашки не дали.
Агапия, посмотрев на аллею, увидела идущего по ней священника.
— Поп к вам плетется. К чему бы это?
— Сам вызвал.
— Неужли пожелали благодарственный молебен отслужить по случаю возвращения из города?
— Узнаешь.
Священник в поношенной люстриновой рясе, поравнявшись с беседкой, отвесил поклон, остановился, заговорил нараспев:
— Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Божье благословение дому сему и всем обитающим в нем.
— Заходи, отец Серафим. Садись, — не приняв благословения, предложил Муромцев.
Священник, поднявшись в беседку, с поклонами присел возле стола на край свободного кресла.
— Зело доволен, барин, повидать вас в добром здравии пребывающим. И вас, Агапия Власовна. Углядываю, что Всевышний не оставляет без милостивого присмотра.
— Может быть, выпьете чайку, батюшка? — спросила Агапия.
— Благодарствую. Откушаю с превеликим удовольствием.
Агапия подала чашку. Взяв ее из рук Агапии с поклоном, священник быстро оглядел накрытый стол, протянул руку за сахарницей.
— Малинового, свежей варки, попробуйте.
— Премного благодарен. Люблю с сахарком внакладку.
— Сделайте одолжение.
Священник неторопливо помешал ложечкой в чашке, отпил глоток, сказал:
— Повидал под утро сон, в тайну облаченный. Будто идете, Агапия Власовна, под спорым дождиком и до того ласково улыбаетесь, вроде радуетесь ненастью. Думали мы с попадьей, к чему сей сон, но знамения его не уразумели. Может, растолкуете? Мудростью Господь вас не обошел.
— Сны отгадывать, батюшка, не умею.
— Жаль. Потому эдакий сон спроста не приснится.
— Может, думали обо мне?
— Да вас всегда с матушкой в памяти держим.
— Позвал тебя, отец Серафим, чтобы объявить.
— Повелевайте, барин.
— Приказываю с амвона поведать народу радостную весть: освободил я Агапию Власовну от крепостной зависимости.
Священник уставился на Муромцева немигающим взглядом. Его губы шевелились, но слов не слышно. Вот он размашисто перекрестился и обрел речь:
— Чудо сотворили! Чудо дарования воли человеческой душе. Господь вас за это возблагодарит. — Задумавшись на мгновение, священник вскочил с кресла, хлопнул в ладоши, выкрикнул: — Вот сон-то к чему! Сон-то провидческий!
Встала и Агапия. Отошла к перилам. Стояла у колонны спиной к Муромцеву и священнику.
— Завтра же после обедни отпою молебен о здравии вашей милости. Скажу слово о сем чуде. Превеликая для народа радость.
— Не завтра, а сегодня.
— Тогда придется в колокол сполох ударить.
— Сегодня же во всех церквах завода сказать людям о дарованной вольной Агапии Власовне.
— Аминь! Дозвольте откланяться, — священник, отвесив Муромцеву особо низкий поклон, засеменил по аллее, подобрав полы рясы.
Агапия вернулась к столу. Сказала взволнованно:
— Благодарствую, Владимир Аполлонович, за вашу доброту. Дожила до поры, когда вольна называть вас по имени.
— Довольна?
— Как сказали попу, так у меня от радости дыхание перехватило.
— Кроме всего, доверяю тебе хозяйскую власть над всеми земельными угодьями, коими буду владеть по указу его величества. Сам начну думать о новых заводах.
— За доверие спасибо. Про новые заводы рано замыслили. Сперва приберите к рукам медные угодья, а уж тогда возле самых жирных руд о заводах помышляйте. По вашему решению, придется мне, оглядывая медные угодья, вести беседы с их хозяевами. В этом не сплошаю. Вольная, по-иному буду с господами разговаривать, кои вздумают вам поперек дороги становиться. Только, по совести говорю, в медной руде ничего не смыслю. Нет у меня понятия в горном деле.
— В этом поможет управитель.
— Увольте. Для сего у вас рудознатец лучшего разума имеется.
— Михайло Кривой.
— Первый раз слышу. Он рудознатец?
— Частенько про дельное мимо ушей пропускаете. Правильно решили — новые угодья под мою власть отдать. Лучшие медные руды покоятся в земле Камня возле тайных кержацких укрытий. Стали о сохранности своей жизни думать? Не зря, значит, напоминала об этом.
К беседке, запыхавшись, подбежали две девушки. Агапия, оглядев их, строго сказала:
— Помолчи, Грунька, отдышись сперва.
— Батюшка барин!
— Отдышись! Барин скороговорки не любит.
— Гостья пожаловала. В карете о шести лошадях. Драгуны с саблями возле кареты.
— Где она?
— Я их, батюшка барин, осмелилась в красную залу провести. Сказались княгиней Горемыкиной.
— Чего болтаешь!
— Истинный Господь, княгиней себя величали.
Муромцев взглянул на Агапию:
— Кого еще черт принес?
— Ума не приложу. Может, из столицы кто?
— Надо узнать.
Муромцев скинул халат, вышел из беседки и зашагал по аллее к дому. Агапия беззвучно рассмеялась, допила остывший в чашке чай.
— Идти нам? — спросила Груня.
— Успеете. Княгиня не к вам пожаловала. Крови в тебе, Грунька, излишек. Пробежалась самую малость, а рожа, как морковка, раскраснелась. Гостья, поди, старуха?
— Упаси бог. Вовсе не старая. Ростом высокая. Вся в кружевах. На тело тощая. Два лакея при ней да еще господин в пестрых штанах, при фраке.
— На прилик какова?
— Видная, но до вашего лика не дошла.
— Ох, Грунька! Успела, шельма, обучиться приятное людям сказывать.
— Чать, правду молвила.
— Баской меня считаешь?
— Будто нет.
— Ладно. А теперь вот что скажу. Станешь услужать только мне. Обрадовалась? Тебе радость, а рты обе раскрыли. После скажу, в какую палату переберусь из своей горницы. Душно в ней. Думать не могу в тесноте. Мечтами иной раз до самых звезд дотягиваюсь. — Заметив растерянность девушек, улыбнулась: — Да разве поймете, вострухи, о чем мечтаю. Ладно. Убирайте со стола.
Все так же улыбаясь, Агапия шлепнула Груню по спине, спустилась из беседки в аллею и пошла в глубину парка.
На колокольне заводского собора загудел набат. Девушки в беседке закрестились. Груня побежала за Агапией. Догнав ее, крикнула:
— Агапия Власовна, никак опять в заводе пожар!
— Дуреха! По другой причине набат. Поп народу скажет о моей вольной. Кончилась для меня крепость…
* * *
Приехавшая княгиня Елизавета Михайловна Горемыкина привезла Муромцеву письмо от шефа жандармов графа Бенкендорфа. Заводчик, прочитав краткое содержание письма в форме приказания, уяснил, что нежданная знатная гостья приходится родственницей его жене — Елене Павловне. В Старый завод прибыла осведомиться о состоянии ее здоровья и лично убедиться в болезни.
Тон письма Бенкендорфа не оставил у Муромцева сомнений насчет того, что появление княгини — результат тайного доноса. Ясно было и другое: для успеха миссии ей даны права быть требовательной. Самое неприятное для Муромцева было то обстоятельство, что о ее приезде известно генералу Глинке, предоставившему княгине для безопасности передвижения на уральских дорогах эскорт драгун.
Княгиня уже с самого начала рассердила Муромцева, когда без высокомерия, со светской учтивостью, но с непреклонной твердостью потребовала, чтобы с дверей комнаты хозяйки были сняты замки. А потом всполошила дворню, пожелав расположиться во втором этаже, рядом с комнатами больной хозяйки.
С барином разговаривала только по-французски. Под руку гуляла с немощной хозяйкой по парку. Агапию Власовну к себе не призывала. Поручения к ней передавала через своих лакеев. Агапия причуды гостьи принимала с виду спокойно, но Груня знала, что Власовна подолгу не гасила свечи — никак не могла заснуть…
Третий день пребывания княгини у Муромцева был воскресным. Муромцев вызвал Агапию, передал ей пожелание Горемыкиной, чтобы она сопровождала княгиню и больную хозяйку к обедне. В экипаж Агапия села без кровинки в лице. Появление в церкви жены заводчика спутало помыслы молящихся, даже служивший обедню отец Серафим, от волнения обливаясь потом, путал слова иерейских возгласов.
Возвращаясь от обедни, Агапия впервые услышала голос Елены Павловны. Но о чем она разговаривала с княгиней, так и не узнала. Разговор шел по-французски.
В тот день после обеда Агапию позвали на второй этаж. В комнате увидела в креслах гостью и хозяйку, которая неожиданно спросила:
— Как зовут твою борзую?
— Мушка, барыня.
— Красивая. Любуюсь ею из окна… Не злая?
— Ласковая, как котенок.
— Позволь мне с ней погулять?
— Извольте.
— Вечером пойду в парк с Елизаветой Михайловной. Пойдешь с нами?
— Прикажите.
— Конечно, Леночка, она с нами пойдет, — холодно сказала княгиня, осматривая Агапию в лорнет. — А сейчас свободна. Придешь в парк с Мушкой после вечернего чая. Не забудешь?
Агапия поклонилась хозяйке; переведя взгляд на княгиню, с той же учтивостью поклонилась и ей. Дойдя до двери, обернулась, снова поклонилась и вышла.
— Неужели действительно бывшая скитница?
Елена Павловна, задумавшись, ответила на вопрос княгини:
— Затрудняюсь судить, однако слышала об этом.
После возвращения Агапии со второго этажа дворня ходила, как потерянная. Никому не верилось, что умалишенная барыня ласково попросила у домоправительницы для прогулки борзую. Всем казалось, что все происходящее в барском доме после приезда столичной гостьи не явь, а сон…
* * *
— Выслушивать ваши наставления у меня нет времени, а главное — нет желания. Привык обходиться без советов, тем более ваших. Вы приехали по собственному почину навестить мою больную жену. Я этому не препятствовал, предоставив вам в доме необходимый комфорт. Однако вы, воспользовавшись моим радушием, гостеприимством хозяина, позволяете себе нарушать в доме установленный порядок. За дерзкий ответ вашего лакея домоправительнице я приказал его выдрать на конюшне. С полным уважением к вашему званию, княгиня, мне все же приходится обратить ваше внимание на недопустимое поведение в моем доме.
— Тем не менее, вам придется меня выслушать, Владимир Аполлонович. Но вынуждена предупредить: настоящая беседа ни мне, ни вам удовольствия не доставит по той простой причине, что будет касаться вашей семейной жизни. Говорить будем по-русски.
— Мне безразлично, на каком языке пойдет неприятный разговор.
— По-русски, Владимир Аполлонович. В родном языке больше ясности. Да и вам будет легче. Годы, прожитые вдали от общества, в глухом краю, заметно отразились на вашей французской речи.
Беседа Муромцева с княгиней шла в кабинете хозяина. Горемыкина в черном платье сидела в кресле, стоявшем под большим портретом Багратиона. На холеном лице Елизаветы Михайловны с тенетами морщинок красивы темные глаза с легким прищуром из-за близорукости. У нее плавные жесты. С особым изяществом подносила она к глазам лорнет.
— Мне до сих пор неясно, что заставило вас вспомнить о здоровье моей жены?
— Странно, а я была уверена, что в письме Александра Христофоровича Бенкендорфа об этом сказано. Граф обещал ее величеству.
— Прикажете понять, что о вашей поездке известно императрице?
— Конечно. Это ее повеление. Именно императрица заинтересовалась судьбой вашей жены со слов наследника престола. Удивлены? Неужели забыли о чести, которой вас удостоил его высочество в Екатеринбурге, посетив ваш дом и повидав Елену Павловну? Красота Леночки поразила наследника. От генерала Глинки он узнал о ее загадочной болезни и затворнической жизни.
— Слишком длинный язык у нашего генерала.
— Успокойтесь. Его превосходительство на редкость скудно осведомил Александра Николаевича о вашей семейной жизни. Я уверена, что знает о ней достаточно много, но, щадя вас, просто предпочел умолчать о самом интересном, затрагивающем какие-то нежелательные для огласки стороны вашей жизни. Светская лаконичность генерала удивила цесаревича. Будучи человеком необычайно душевным, наследник по возвращении в Петербург беседовал с императрицей о таинственной судьбе молодой красавицы, увиденной в Екатеринбурге. Передал ей также разноречивые слухи о состоянии ее рассудка, а главное — о ее жизни, окутанной тайной.
— О какой таинственности может идти речь? Жена живет в доме мужа. Все законно.
— Как будто законно. Много лет в вашу жизнь никто не решался вторгаться, чтобы узнать семейную правду. Все было законно, пока рассказ наследника о жене дворянина Муромцева не дошел до моего слуха.
— Продолжайте.
— Будучи в родстве с матерью Елены, я немедленно просила ее родителей известить меня о жизни их дочери на Урале. Получила ошеломляющий ответ: уже несколько лет им ничего не известно о дочери. Она не пишет писем. Муж не отвечает на письма родителей. Единственное, что они знают — дочь тяжело больна. Когда отец Елены пытался повидать ее, то не был вами допущен в дом. Вы его даже выдворили из Екатеринбурга.
— Отец Елены Павловны дважды был у нас. Но приезжал за деньгами.
— Не пожелав повидаться с родной дочерью?
— Она тогда была действительно тяжело больна.
— Вам не стыдно его оговаривать?
— Я говорю правду, княгиня.
— Какое счастье для Леночки, что императрица слишком близко приняла к сердцу рассказ обожаемого сына. По ее повелению в Екатеринбурге побывал верный человек графа Бенкендорфа. Минуя начальство, собрал сведения о вашей семейной жизни.
— Понимаю. Неведомый мне негодяй собрал на базарах грязные сплетни. Ловко!
— Рекомендую: о верных людях графа Бенкендорфа быть в суждениях сдержанным. Это для вас, пожалуй, даже небезопасно. От того, что императрица услышит из моих уст, будет во многом зависеть дальнейшее расположение к вам августейшего монарха. Насколько мне известно, он к вам милостив. Вам лучше быть учтивопокорным, господин Муромцев. Я прибыла к вам по велению императрицы, чтобы позаботиться о судьбе моей родственницы — Елены Павловны Муромцевой. Надеюсь, теперь-то вам все ясно?
— Как долго намерены быть гостьей в моем доме?
— Надеюсь уехать завтра, но сейчас прошу выслушать мое мнение.
— О чем еще?
— Не о чем, а о ком. О вас.
— Говорите.
— В своей жизни мне приходилось видеть разное в дворянской среде. Однако дворянина с подобными деяниями вижу впервые.
— Княгиня, а ведь вы находитесь в моем доме.
— К сожалению, да. Но даже это обстоятельство не заставит меня не сказать вам всей правды. По дороге к вам мне довелось услышать о ваших поступках, о которых на Урале ничего хорошего не говорят. Не думайте, что о подобных способах управления неизвестно императору. Известно. Но он считает пока еще преждевременным что-либо менять в исторически сложившемся сословном укладе империи. Но должен быть рубеж отношений между вашими крепостными, всеми, кто вам подвластен на ваших заводах, и теми, кто составляет опору империи — дворянами. И я намерена помешать, положить конец жестокому обращению с вашей женой. Пробыв в доме шесть дней, пришла к твердому убеждению, что потеря душевного равновесия несчастной Леночки — это результат вашего бесчеловечного отношения к ней, а также всего придуманного для нее мучительного жизненного уклада в вашем доме.
— Прошу вас отдавать ясный отчет в том, о чем вы говорите!
— Мне дано право сказать вам правду. Итак, по причинам, известным только вам, ибо о них не хочет говорить ваша жена, привезя ее на Урал, вы создали для нее невероятные условия, граничащие с изводящими душу пытками, объявили умалишенной, заперли на замок. Сделав это, получили возможность вести желанную вам жизнь, предаваясь непристойным страстям.
— Ваши слова сродни клевете. Елена больна!
— Да, она больна, у нее истощены нервы. Больна от всего, что видела за прошедшие годы около себя в доме мужа. Но даже и теперь эта мученица ни одним словом не обвиняет вас. Вы настолько запугали ее, что заставили принять обет молчания.
— Ей не в чем обвинять меня. Она вольна в своих поступках.
— Есть. Но она слишком горда. Горда и старается гнать от себя мысль, что красавица старообрядка, крепостная девка, — ваша любовница. Да разве она единственная у вас?
— Это уж слишком! Замолчите!
— Не могу молчать! И вы дослушаете меня до конца. Если же попробуете поступить иначе, я сделаю это в присутствии генерала Глинки, а тогда все дело примет иной оборот. Кстати, он тоже получил надлежащее указание от Бенкендорфа на тот случай, если вы недостаточно учтете, что вам может грозить. Думаю, настало время сказать и о главном. Привезенный мной англичанин доктор Вильсон из своих наблюдений за Еленой Павловной неопровержимо установил, что она умственно совершенно здорова, но страдает незначительным нервным расстройством.
— Он лжет! Кто дал ему право утверждать это? Вы не смеете!
— Вы напрасно злитесь. Это право ему и мне дала сама Елена Павловна. Вчера она, наконец, пролила свет на то, что произошло с ней в брачную ночь. Вы-то ведь помните об этом, господин Муромцев? Из-за своего отвращения к вам она чуть не наложила на себя руки, но вы успели увезти ее на Урал и изолировать от всех, заперев на тяжелые замки. А Елена, возненавидев вас, решила симулировать сумасшествие, чтобы избавить себя…
— Довольно! — потеряв самообладание, закричал Муромцев. — Слышите, довольно! Я могу…
Княгиня, словно бы не замечая возбуждения Муромцева, спокойно говорила:
— Елена — в бабушку по характеру. Когда император Павел приказал дамам на улице для его приветствия выходить из экипажей, она, не подчинившись повелению, объявила себя параличной и стала ходить только после его смерти. Видите, как!
Княгиня, помолчав, продолжала:
— Елена — наследница вашего состояния. Ради сохранения ее жизни придется увезти ее в Петербург.
— Нет! Это невозможно!
— Я понимаю всю деликатность вашего положения. К сожалению, другого выхода не вижу. Придется увезти. Но оставлю вам право объявить, что отправили свою жену для лечения за границу.
— Я сказал — нет! — не унимался Муромцев.
Лицо княгини окаменело, глаза, не мигая, впились в Муромцева, голос медно отчеканил:
— Елена завтра со мной покинет ваш дом. Предоставит вам полную свободу вести привычный образ жизни. Но завтра и вы будете сопровождать нас в Екатеринбург, дадите мне возможность в присутствии генерала прочитать ваше завещание, убедиться, что именно Елена является единственной законной наследницей.
Муромцев, схватив со стола канделябр, высоко поднял его над головой, бросил на пол и выбежал из кабинета. Княгиня не шевельнулась…
Она увидела, как быстро открылась дверь около портрета Багратиона и вошла Агапия.
— Никак упало что?
— Подслушивала?
— Не обучена этому, ваша светлость. Рассердился барин, а ему заказано сердиться. К обеду пришла вас пригласить…
Агапия подняла с полу канделябр.
— Не бережет себя барин. Обед, по вашему желанию, будет подан в верхнюю трапезную.
В сумерках, страдая от головной боли, пьяный Муромцев лежал в кабинете на диване. Вошла Агапия и спросила:
— Кто там?
— Я, Владимир Аполлонович.
— Чего тебе?
— Гонец пригнал от генерала из Катеринбурга. Пакет доставил.
Муромцев попробовал встать, но, схватившись за голову, снова
— Дай пакет!
Агапия подошла к дивану, села на него, отдала Муромцеву послание. Он, разорвав конверт, прочитал письмо и со злостью скомкал его.
— Никак про неприятное пишет?
— Пишет, что в лесах возле рудника Зырина военная разведка раскольников не обнаружила.
— Успели уйти. У них везде уши. Вот и хорошо. Главное, на душе у вас будет покойно.
— Гонца прикажи накормить.
— Спасибо, что надоумили, а то ведь сама не догадалась бы.
— Барыню с княгиней до самой Перми проводите, чтобы не было на Камне пересудов.
— Ты о чем?
— О том, что слышала вашу беседу с княгиней.
— Подслушивала?
— Аль нельзя? Сами сказывали, что в завещании мое имя упомянуто. Может, заставят теперь вычеркнуть?
— Пошто о барыне неправду сказывали? Я-то, дура, до смерти ее боялась, а она вон что задумала.
Агапия дошла до двери:
— В постель лягте. Отдохните, Утром следом за вами подамся глядеть новые угодья с медью.
— Отправляйся, куда хочешь!
— Мушку, любимицу мою, барыне отдарила. Себе другую, с вашего дозволения, на псарне выберу. Есть одна на примете.
— Глухая, что ли? Уйди!
— Ишь, как злобитесь. Только нечем в меня кинуть. Канделябра под рукой нет. Ведь какой хороший даве об пол хряснули. Может, в княгиню метили? А он не долетел. Что и говорить, дворяне злее мужиков друг дружку покусывают…
В избе Тихона Зырина на столе в чугунном свешнике пламя восковой свечи подскакивало, будто хотело оторваться от фитиля.
У стола сидели Тихон, Иринарх и Савватий. Свет едва означил лежавшую на постели Степаниду Митину, а дальше, в темноте, совсем невидимая, на лежанке у печки спала Аниска. Петюшки дома не было, гостил в Ксюшине.
Нежданные гости в избе появились на закате солнца. Сын Иринарха, дюжий Зосима, случайно набрел на них среди скал у речки, когда ходил в лес за корешками брусники, чтобы сделать настойку и заживить свою подпаленную бороду. Обнаружив спящих чужаков, сказал об этом хозяину, а Тихон велел мужикам доставить тех на рудник.
Савватий принес Степаниду на руках. Она была без сознания. У нее сильно обожжена спина. У Савватия ожоги по всему телу. У Аниски обгорела косичка.
Пять суток лесной пожар перегонял людей с места на место, всякого страха натерпелись, и когда наконец вырвались из огненного кольца, то угодили в болотные зыбуны. Сами не знали, каким чудом, обессиленные, голодные, страдающие от ожогов, выбрались к речке возле горного отрога и тут повалились на землю с единой мыслью — поспать!
Сейчас за столом Савватий думал только о жизни Степаниды. Он уже не сомневался: они попали в крепостной капкан. Ему было безразлично, что будет с ним, ему нужна жизнь Степаниды, с которой лелеял мечту о семье и надежду на волю. Он верил в силу Степанидиной души, верил в ее разум, ибо она подала мысль, чтобы Аниска отдала бумагу в руки царского сына. Савватий убеждал себя: Иринарх поможет Степаниде, но это не приносило успокоения, хотя и видел, как Иринарх уверенно действовал, словно бывалый лекарь. Он, внимательно оглядев ожоги на спине женщины, приготовил отвар из крапивы, еловых шишек и малинового листа. Обложил раны с нагноением тряпицами, намоченными в отваре. Степанида, очнувшись, долго стонала и только недавно заснула, но дышала часто, порывисто. Прислушиваясь к ее дыханию, Иринарх подошел к спящей, провел рукой по ее лбу и спокойно сказал:
— Испарина вышла. Неплохой знак. Ежели сердце сдюжит, то беда не придет. Как ее угораздило?
— Сосенка факелом на нее пала. Как думаешь… выживет?
— Хлипкая на тело, да баба. У них и хлипкость иной раз силой оборачивается. Вот моя старуха тоже хлипкой породы была, а каких богатырей мне народила. Раны на спине мне не глянутся. Опасаюсь, чтобы к ним кровяной огонь не привязался. Ежели до утра минует кровяной огонь, тогда смело на раны мурашей напущу. Тебе она кто?
— Женой обещалась.
— Девчонка ее?
— Сиротку пригрела после вдовства.
— На лицо приятная. — Иринарх погладил бороду. — Ну а ты кто? Да спроса моего не пужайся. Я тоже на воле по своему замыслу. Сказывай только правду. Ежели не хватит смелости, лучше промолчи, будто не слыхал, о чем пытаю.
Савватий, не ответив на вопрос, сам справился:
— У кого мы оказались?
— Ты, хозяин, скажешь или мне дозволишь?
— Говори, Иринарх.
— Так вот, оказались вы на медном руднике Тихона Зырина. Хозяина пред собой видишь.
— Стало быть, вот у кого! Тебя, хозяин, весь Камень знает.
— Теперича твоя очередь сказать о себе либо промолчать.
— Чего таиться? Видать, не для меня на свете удача водится.
— Пустое плетешь.
— Савватий Крышин перед вами, беглый арестант из верхотурского острога.
— Родом из Каслей? — вздрогнул Тихон.
— Слыхал про тебя. Люди помнят: покойному царю бумагу о милости подавал.
— Подавал. В последнем остроге сидел за бунтарство. Теперь чего со мной сладите? Начальству объявите?
— Зачем? Пришли к нам из лесу, в него и уйдете. А пока о том не думай. Капканы на людей не ставим. Боязнь из головы выкинь. Думай про то, чтобы она, — Тихон качнул головой в сторону Степаниды, — жива осталась, да надейся на разум Иринарха, может, вызволит из беды, оставит на земле ее жизнь.
Замолчали. Не знали, о чем говорить. Во сне невнятно забормотала Аниска. Иринарх, улыбнувшись, сказал:
— Ходко спит, но глядит недобрые сны.
— Живет мало, а на всякое нагляделась.
— Это ничего. От бед умом острее станет. Поглядишь на нее — ну чистая былинка в поле, а на диво шустрая. Тихона за чаем как упрекнула? Говорит, живешь, дяденька, в справной избе, а без самовара. Сказывала, как ее кличут, только позабыл.
— Аниской.
— Давеча, ложась спать, настрого наказала мне беспременно ее пробудить, ежели чего понадобится по-быстрому изладить.
Иринарх вновь приложил ладонь ко лбу Степаниды:
— Правильно чуял, что окромя ожогов застуда в ней. Шибко густая испарина. Переоболочь бы ее неплохо, но боязно, может от сна отбиться. Он для нее первое лекарственное снадобье. Ладно. Уповая на Господа, утра дождемся. — Вернувшись к столу, Иринарх сказал Тихону и Савватию: — Про вас так сужу. Ступайте спать в мою избу. Сам подле болящей останусь. Поесть не забудьте.
— Закусили уже, — отозвался Савватий.
— Дак то когда? Только чаем баловались, а он для мужиков — одна видимость. У меня в печи пареная зайчатина. Время позднее. Ступайте.
— Может, лучше останусь? — спросил Савватий.
— Какая от тебя сейчас польза? Сам видишь — спит. И ты сосни. Утром тебе подле нее безотлучно быть. Ступайте.
Тихон с Савватием ушли. Иринарх появился на крыльце и позвал собаку:
— Умник! Умник!
На зов собака подбежала. Иринарх приказал ей:
— Вот тут и лежи.
Вернувшись в избу, старик запер дверь на засов. Лучинкой от свечного огонька зажег лампадку, а свечу погасил. Лег на лавку. Аниска опять забормотала во сне…
Не шел в эту ночь сон к Савватию. Он долго бродил возле избы. Ночь темная, на небе растянут звездный невод. Беспокойны мысли Савватия о Степаниде и о том, как обернется для них обоих судьба. Смогут ли уйти отсюда без помехи в лес? Трудно поверить, что их ноги не захлестнет здесь крепостная петля. Будто и надо верить Тихону Зырину, потому не раз слышал от работных людей о нем доброе.
После ухода с Березовского рудника прошло полтора месяца, а в памяти все так ясно, будто случилось только вчера. Такое разве забудешь?
Оставив Степаниду и Аниску в Верх-Нейвинске у Мефодия Шишкина, Савватий в обход Екатеринбурга повел людей в лесные урочища возле села Таватуй. Этими местами он уже проходил зимой от постоялого двора Мефодия к деревне Моховке.
На третий день пути в лесах умер от сердечного приступа чиновник Горного управления Дружнин. В пышминских болотах смотритель Куксин пытался убежать, но за ним погнались. Куксин, желая сбить со своего следа мужиков, подался в сторону и угодил в зыбун. Там и нашел свою смерть. За стражниками никто не следил. Да и сами они никуда не стремились бежать. Так и двигались со всеми в Сибирь. Перед Тюменью путники вышли к вогульскому стойбищу, и вогул-проводник повел людей дальше тропами, одному ему знакомыми, к реке Туре. Савватий простился со своими друзьями на ее берегу. Люди соорудили плоты, разместились на них и поплыли по глухой реке на другой, противоположный, такой же лесистый берег, но уже с сибирской тайгой.
Отдохнув в вогульском стойбище, Савватий отправился в обратный путь. У Мефодия он встретился со Степанидой и Аниской, и теперь они все вместе пошли в сторону Сысерти, где, по уговору, у деда Фотия их должен был ждать вогул Тимоха. Покуда решили они хищничать золото подле Уфалейского завода. Но лесной пожар сбил их с пути, и вот нынче в ночной темноте, под звездным неводом, Савватий не может найти покоя от неотвязных мыслей…
* * *
Голубизна на оконных стеклах медленно белела, утро шло хмурое.
Аниска, проснувшись, сразу села на лежанке. Протерла кулачками глаза. Увидев, что Иринарх спит, она на цыпочках подошла к кровати Степаниды, наклонилась над ней и тотчас вздрогнула от голоса старика:
— Смотри не пробуди. Не время.
Аниска вернулась к лежанке.
— Дышит по-плохому. Едва слышно.
— Радоваться этому должна, а ты — плохо.
— Чать, знаю, как ей надо дышать, — возразила Аниска.
— Голосу полную волю не давай. Пробудишь.
Аниска кивнула головой, согласившись с наказом, но глядела на старика насупленно.
— Вижу, тревожишься? Любишь ее?
— Заместо матери мне. Добрая и ласковая. Куда дяденька Савватий подался? Все проспала.
— Он с хозяином в моей избе.
— С каким хозяином?
— Тихоном Петровичем.
— Про того говоришь, у коего рука повязана?
— Про него.
— Вот беда! Не успели на воле ладом пожить и — опять под хозяйскую руку попались.
— Не попались, а вроде в гости зашли. Понимай. А то лопочешь, не подумавши ладом.
— Правду сказывай, дедушка. Я не пужливая. Знаю ведь, во сне нас полонили сызнова в крепость.
— Ты про что? Аль не проснулась? Чего свои васильки на меня вытаращила? Вышли вы на медный рудник Тихона Зырина. Жизни ваши ему не нужны. Вылечитесь и — дале пойдете.
Аниска внимательно слушала Иринарха, но отнеслась к его словам без малейшего доверия.
— Господи, господи, не зря во сне по колено в мутной воде бродила.
— Чего такому сну дивишься? Бредила. Окрест нас везде болота. Ты мне лучше скажи, про какого царевича во сне вспоминала. Поди, про сказочного, на сером волке?
— Неужли вспоминала? Вот ведь…
— Не увиливай.
— Ты мне, дедушка, надежду подай, как станешь мамоньку Стешу лечить. Вчерась у мужика с обгорелой бородой про тебя пытала. Он мне по-дельному про тебя сказал. Ну, словом, будто умеешь всякую хворость лечить. Так уж, сделай милость, не изладь какой промашки с мамонькой Стешей. Потому, сам понимаешь, как мать она мне, — из глаз Аниски побежали крупные слезы.
— Ране времени беспокойство слезами не обмывай. Чего это вчерась улеглась, а морденку от лесной копоти не отмыла?
— Мыла. Да не отходит с одного раза. Копоть-то смоляная. Вот седни поутру горячей водой умоюсь.
— И с косой у тебя незадача, как у моего Зосима с бородой.
— О ней не тревожусь. Мамонька Стеша сказывала: обязательно новая отрастет, потому волосяные корни целы. Чай будем пить?
— А как же.
Аниска взяла с шестка медный, сильно закопченный чайник и сокрушенно покачала головой.
— Не глянется?
— Да чего с вас взять? Без хозяйки разве у мужиков заведется порядок? Пойду на речке песком сажу ототру, а уж потом вскипячу.
Аниска отворила дверь и попятилась.
— Никак моего пса испугалась?
— Так чужая ему. У самого порога лежит, глядит не зло, а хвостом не виляет. Зовут как?
— Чудно. Вовсе по-людски.
— Смелей шагай, не тронет, потому из избы идешь.
Аниска несмело перешагнула через собаку, сбежала с крыльца. Рыжий лохматый Умник не сдвинулся с места…
* * *
Степанида проснулась поздно. Иринарх, прежде чем осмотреть раны, велел Аниске из избы уйти. Она приказание старика выполнила неохотно. На крыльце села на ступеньку.
По небу тянулись низкие серые тучи, грозившие дождем. Из открытого окна Аниске слышны голоса Савватия, Иринарха и Степаниды, но слов не разобрать.
Скоро из избы вышел Савватий, молча сел рядом с девочкой.
— И тебе велел уйти? — спросила Аниска. — Какой начальник выискался! Чё надумает, то и творит. Ладно ли делаем, доверяя мамоньку Стешу деду Иринарху?
— Экие у тебя мысли заводятся. Наше счастье, что тут такой человек оказался. Будто о родной дочери заботится.
— Веришь деду, что вылечит?
— Беспременно верю. Видала ты, как полегчало ей. Дедовы примочки большую пользу ранам оказали.
— А велики раны?
— Только одна на правом плече, по слову деда, с опасностью. Но и ее он в исправность приведет.
— Видал, как за ночь глаза в синеве запали?
— Любая хворь человека не красит.
— Только бы выздоровела! Лучше бы я пожглась.
— Пустое городишь! Кажись, неглупая, а иной раз…
— От страху я. Боязно мне за мамоньку Стешу.
— Не меньше тебя боюсь, а молчу.
— Характер такой. Все в себе таишь, а я должна высказывать. Мне тогда легче.
На крыльцо вышел Иринарх, сказал Савватию:
— Ступай к ней. Разговорами не докучай. Посидеть захотела, пускай сидит.
Аниска встала, чтобы пойти с Савватием, но старик не пустил ее:
— Со мной побудь. — Улыбаясь, Иринарх оглядел девочку: — Да ты на лик вовсе ничего, когда копоть отмыла. Только горестно мне, девонька, что веры ко мне не имеешь.
Аниска удивленно спросила:
— Услыхал? Такое понятие у меня с недавней поры завелось, что нельзя людям верить.
— А ведь работному человеку надо верить.
— С разбором. Смотритель Куксин был крепостной, да к нам злобой оборачивался, как барин.
— Так его разум корысть оплела. Таких мало. Запомни, что выскажу: нельзя жить без веры в людей. Я матушку твою хвори не отдам. Не горюй. Мне на слово верь. Сердце у нее дельное оказалось. Всю ночь эдакую жаркую кровь по телу гоняло, а не притомилось.
Со стороны рудника к ним подошел Зосима. У него в руках две глиняные чашки, плотно укрытые тряпицами. Сказал отцу:
— Принес, батя.
— Нагреб возле мшистых камней?
— Изладил, как велели.
— А питье не забыл?
— В кармане.
— Тогда пойдем. Ты, девонька, тута посиди. Понадобишься, кликнем.
Аниска молча кивнула головой. По небу продолжали ползти серые тучи, но дождя не было…
Когда старик с сыном вошли в избу, Степанида и Савватий сидели у стола. Зосима поставил свои чашки на шесток. Достав из кармана бутылку, отдал отцу. Иринарх взболтал ее содержимое. Сказал Савватию и сыну:
— Вон ту лавку, коя пошире, поставьте осередь горницы. Зосима, накрой ее тулупом, мехом наверх. Вдвойне клади тулуп, чтобы мягче было. Ладно. — Иринарх взглянул на Степаниду. — Видно, бабонька, пора мне за тебя по-сурьезному браться. Что скажешь? Согласна? Не раздумала?
— Согласна.
— Тогда сызнова упреждаю. Шибко болезно будет.
— Ладьте, как надо. Стерплю! Чать, лечить станете, а не стегать.
— Хорошо судишь. Стонать от боли дозволю, но кричать поостерегись. — Иринарх сковырнул ногтем большого пальца восковую заливку с горлышка бутылки, наполнил стакан бурой жидкостью, подал его Степаниде: — Выпей. Горькая на скус, но зато голову туманом обовьет и болезность снизит. Да ты вовсе молодец. От противности питья не поморщилась. Теперича, Савватий, клади на это место подушку. Да ту, коя больше. Полотенца где?
— На лавке, батя.
— Ладно. Два разверни и перекинь мне на оба плеча. Ты, Савватий, не забижайся, но ступай к Аниске. Ты мужик дельный, но со слабостью чужую боль глазами приемлешь. Опрежь чем уйти, с лица страх убери, а то Аниска и без того не в себе.
Савватий ушел.
— Ложись, бабонька, кверху спиной.
Степанида легла на лавку.
— Поскладнее примостись. Не на минуты легла. — Иринарх острым шорным ножиком распорол холст ее рубахи на правом плече, снял с него повязку, долго оглядывал рану с сильным загноением по краям. — Ну, благослови, Господи! Давай, сынок, в коей полнее.
Зосима подал отцу чашку. Иринарх быстро скинул с нее тряпку, опрокинул чашку, наполненную муравьями, на рану и прижал.
— Я подержу, а ты привязывай полотенцем, да потуже.
Зосима выполнил приказание. Иринарх потрогал привязанную
— Кажись, в самый раз. Теперь вторым полотенцем привязывай бабоньку к лавке.
Зосима сделал все так, как велел отец, и тогда спросил Степаниду:
— Дыхание не неволит?
— Голову, бабонька, положи щекой на подушку. Вот так дышать сподручней. Теперича, сынок, привяжи к лавке ноги. Изладили, кажись, по-правильному. Теперича надо нам, чтобы стерпела боль.
Иринарх закрыл створы окна. Вместе с сыном вышел из избы, сказал Савватию:
— Ступай в горницу. Пить болящей давай вволю, но чашку даже пальцем не шевели, ежели станет просить снять. Ступай. А тебя, девонька, милости прошу ко мне в гости. Покажу тебе свою избу, но упреждаю, что и у меня самовара нет. После сюда воротимся болящую проведать…
Накрапывал дождь, когда Иринарх и Аниска вернулись к избе Тихона. Девочка перед крыльцом спросила:
— Пустишь меня к мамоньке Стеше?
— Затем и пришли.
Вошли в избу. Иринарх приблизился к Степаниде. Аниска, похолодев с головы до пят, остановилась у окна, боясь взглянуть на больную. Услышала наказ старика:
— Отвори окошко, девонька.
Аниска распахнула окно. В тишине горницы стал слышен шорох дождя. Савватий сказал шепотом:
— Кажись, опять сознание утеряла.
Иринарх наклонился над Степанидой, спросил:
— Грызут, бабонька?
Степанида ответила не сразу, тихо:
— Недавно кончили… Вроде дождь идет или, может, в ушах у меня шумит?
— Дожжит, бабонька. Как ты?
Не ответив на вопрос, Степанида застонала. Иринарх отвязал прижатую к ране чашку. Приподнял, а из-под нее во все стороны по спине больной ринулись муравьи, падали с лавки на пол, черной ленточкой ползли к открытому окну и исчезали с его подоконника. Аниска, закусив руку, с удивлением смотрела на насекомых. Старик сказал:
— Савватий, отвяжи ноги.
Сам Иринарх развязал полотенце на спине. Степанида тотчас приподняла мокрую от пота голову.
— Девонька, подай сухую подушку. Эту, мокрую, вытяни, а ту подсунь. — Иринарх осмотрел рану: насекомые очистили ее от гноя. Старик прикрыл плечо Степаниды чистым полотенцем. — Теперича, Аниска, мамонька скоро плясать станет. Ты, бабонька, пока еще полежи так. Я принесу примочки, да наново перевязку сделаю.
Степанида, приподняв голову, вытерла с лица пот. Аниска тотчас схватила со стола полотенце, намочила его под рукомойником, вытерла больной лицо. Степанида сказала:
— Не знаю, как и вытерпела.
— Кричала? — спросил Иринарх.
— Ты же не велел.
— Молодец. Теперича, Аниска, болящая на твоем попечении. Я ей боле не надобен. На меня, бабонька, не серчай, знаю, какую напасть вытерпела. Мурашиные челюсти крепче стали. Как, девонька? Станешь мне верить?
Аниска залилась навзрыд слезами.
— Пусть ревет. Вдосталь страху натерпелась. Пойдем, Савватий, пускай одни побудут.
Дождь шумел по-веселому…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
1
Во власти темных слухов Екатеринбург. Всюду их паучьи тенета. Купцы раньше времени запирают лабазы и лавки. Во всех дворах псов даже днем на цепи не сажают. А слухи ползут, стращают.
Началось с того, что нежданно на дорогах принялись поднимать пыль колеса барских карет и колясок: ни с того, ни с сего съезжались промышленники в город. Приехали самые знатные из Петербурга и Москвы, коих не было на Урале даже в дни пребывания в крае наследника престола.
Слухи расползались по городу из уст хозяев заводского, приискового и рудного Урала. Пугали они друг друга то одной, то другой небылицей. Страх принаряжал выдумки, а от этого в людском разуме заводились мысли, от которых не было покоя ни днем, ни ночью.
Все промышленники стремились повидаться с главным горным начальником, а у генерала для всех времени не хватало. Да и не было у него желания видеться с каждым. Однако дворянская и купеческая настойчивость вывела генерала из терпения, и он приказал всем прибывшим в Екатеринбург явиться в управление для беседы. Чиновники доносили генералу самые разноречивые сведения о причинах необычного съезда владетельных особ. Приказ о беседе генерала с промышленниками всполошил подвластных ему чиновников. У кого из них нет греха?.. А генерал крут…
Ветреное августовское утро.
Над Екатеринбургом низко нависли тучи. Вот-вот пойдет дождь.
В приемном зале Главного управления горного начальника суматоха. Мечутся среди хозяев уральских приисков и горных заводов чиновники разных классов. Перешептываются с ними. Растолковывают, договариваются с хозяевами молчать о том или ином деле. Генерал для чиновников страшен — кто знает, в каком настроении поведет беседу. Вдруг начнет пытать заводчиков о границах их угодий, а они станут жаловаться на беззакония Горного управления. Теперь это особенно чиновникам не угодно оттого, что по указу о медной руде уже сотворено много такого, о чем громко говорить нежелательно. Одно утешает чиновников. Из разговоров с приезжими выяснилось, что съехались они не из-за царского указа о меди, а согнал их в Екатеринбург страх перед волнениями работного люда и расколом. С весны бродяжат раскольники, утугами переходят с места на место. Бросают обжитые скиты, а на новых местах жильем не обзаводятся. События, происшедшие на Березовском руднике, побеги мастеровых с заводов, передвижения раскольников и пугали промышленников, управителей и приказчиков. Не миновал страх и управителей казенных заводов, несмотря на то что живут за широкой спиной генерала Глинки. Как Уралу быть без люда работного?
Шумно в зале от говора. У окна беседуют старший сын графа Шувалова и управитель Богословского завода. Шувалов в черном фраке с обшлагами из золотистых кружев. А собеседник в поддевке, сшитой у столичного портного. Разговаривают вполголоса, то и дело, осматриваясь по сторонам.
Всеобщее внимание привлекает к себе особенно редкий гость Урала — Анатолий Николаевич Демидов. Он всего второй раз на Урале. Предпочитает жить за границей, близ Флоренции, недавно обзавелся княжеством и по его названию именует себя князем Сан-Донато. В Екатеринбург прибыл по просьбе своего старшего брата, Павла, — егермейстера и курского губернатора. Демидов увлеченно разговаривает с Петром Яковлевым, для него беседа представляет большой интерес. Ведь у Яковлевых более двух десятков заводов. Демидов и Яковлев непринужденно прохаживаются по залу, не обращая внимания на присутствующих. В зале находится и брат Петра Яковлева — Иван, совладелец по заводам. Братья не в ладах. Ссорятся из-за прибылей.
Стороной от заводчиков держатся двое опекунов по наследству владельца Нижне-Уфалейского завода Губина. Они — купцы и ничего не смыслят в горных работах. Прибыли в Екатеринбург по просьбе управителя завода, оторвав себя от привычного мучного дела в Нижнем Новгороде.
В глубоком кресле, под портретом Петра Великого, сидел хмурый Иван Онуфриевич Сухозанет. В городе про него досужие языки болтали, что после зимней поездки в Петербург на свидание с императором он вернулся притихшим и стал усердно молиться богу. В Екатеринбурге дружки Сухозанета уже всем рассказывали о его несчастьях, а начались они с того, что государь не пожелал его видеть. Но сейчас Сухозанет держит себя высокомерно. Едва отвечает кивком головы на поклоны заводчиков, не замечает промышленного купечества.
В сопровождении Агапии в зале появился Муромцев. Агапия, увидев Сухозанета, направилась к нему. Поклонилась генералу, а он, довольный ее приветливостью, указал на стоящий рядом свободный стул. Появление Агапии заметили. Уже все знали, что в звании вольноотпущенной она стала доверенным лицом Седого Гусара на новых землях, богатых медной рудой.
Муромцева, как только он вошел в зал, перехватил сильно подвыпивший князь Белосельский-Белозерский, владелец Усть-Катавского завода. Князь, приехав на Урал, бражничал и объяснял всем, что покинул Москву, ибо не хочет отдавать угодья с медью в руки Муромцева.
Всеобщее удивление вызвало появление Екатерины Львовны Зотовой без мужа. В городе уже ходили слухи, что Мария Львовна Харитонова, прибыв нежданно в Кыштым, завела там свои порядки, став во главе всего расторгуевского наследства. Возле Зотовой — Тимофей Старцев в голубой поддевке поверх синей шелковой косоворотки. Вокруг них сразу же собрались промышленники-купцы. Старцев беседует, посмеивается. Говорит громко. Иные сказанные им фразы хорошо всем слышны: «Страх по Камню господа дворяне распустили… По всей империи они ноне в перепуге… Отчего бы это?..»
Слышат его речи господа дворяне. Есть среди них самолюбивые. Обидно им, но знают, хорошо знают, что возражать Тимофею Старцеву опасно. Обозлишь его замечанием, а он… Упаси бог от неприязни Старцева!
Оглянулся Старцев, увидел возле Сухозанета Агапию; отвесив поклон Екатерине Львовне, вышел из окружения купцов. Агапия, встала, когда подошел к ней.
— С вольной, Власовна.
Вспыхнуло жаром лицо Агапии от его слов.
— Еще пригожей стала, да и на шее нет знаткости от крепостного хомута. Чего здесь потеряла?
— С барином.
— Стало быть, побаивается без тебя на народ выходить? Здесь-то ему вольготно, не боязно. Рад повидать тебя, Власовна.
— Господин Старцев, — громко позвал Сухозанет.
Но Старцев, не обратив внимания на генеральский зов, продолжал разговор с Агапией:
— Видишь, как Катерина выступает. Сестры за ум берутся. А все по той же причине: не хотят, чтобы твой барин в коренниках ходил.
Много ли нахватали медной руды на чужих угодьях? Слыхал, что не все ласково принимают. Даже царское слово не пугает хозяев. Далматовские монахи, есть слух, тоже от ворот поворот указали.
— Барин вас собирается навестить.
— Зря. Не о чем мне с ним беседовать.
— Может, меня заместо себя пошлет.
— Приезжай. С дочкой Ириной тебя познакомлю.
— Сказывают, знатная песенница.
— Приезжай. Споет тебе старинные скитские песни. Ты, чать, о них позабыла?
— Все помню. С медной рудой чего надумали?
— Спарюсь с Зыриным и начну добычу… Испугалась? С самим чертом спарюсь, но твоему барину ее не отдам.
— У него царская милость. Про то забывать вам не следует.
— Слыхал. Но слыхал и другое: руда медная у нас в лесных горах. В них есть у медного богатимства на Камне могучая сила — Хозяйка. А она не ко всем милостива бывает. Слыхала про такую Хозяйку?
— Как не слыхать…
— Дочку мою видала когда-нибудь?
— Не довелось.
— Так приезжай.
— Приеду, ежели барин пошлет.
Отойдя от Агапии, Старцев столкнулся с Муромцевым.
— Здравствуйте, Старцев.
— Мое почтение, господин Муромцев.
— Собираюсь навестить вас.
— Сказывала мне о сем Агапия Власовна. Только советую повременить по Камню разгуливать. Время злое на лесных дорогах. У кержаков к вам почтения мало.
— Но это меня не беспокоит. Не из трусливых.
— Тогда сюда зачем пожаловали?
— Такой же вопрос могу, Старцев, и я вам задать.
— Меня генерал к себе потребовал.
— А я решил далматовским монахам пятки отдавить.
— Зря. Ихнего монастыря монах Исаак еще при царе Алексее Михайловиче первым на Камне начал плавить и ковать железо. А тогда еще и Невьянска с Алапаевском в помине не было. Пятки отцам не отдавить. Игумен у них хитрый, из купеческого звания. Царская милость тут не подмога. Их медная руда в деснице самого Господа. Совет могу подать.
— Не нуждаюсь. Предпочитаю своим умом жить.
— Моего совета не грех послушаться.
— Говорите.
— Под ноги ладом глядите, чтобы ненароком за чей-нибудь уральский корень не запнуться. Падать у нас опасно. С виду мох вроде бы на тверди земной, а на деле — под ним трясина с топью.
— Все равно приеду к вам.
— Тогда не обессудьте, ежели ворот не отворю.
— Ссориться со мной надумали?
Но в этот момент распахнулась дверь кабинета Глинки, появился его адъютант и громко сказал:
— Господа! Его высокопревосходительство просит вас к себе.
Когда все расселись по обе стороны длинного стола, главный горный начальник поднялся с кресла, слегка кивнув головой, произнес:
— Здравствуйте, господа! Ваше пребывание в Екатеринбурге делает честь городу и свидетельствует о вашей неустанной заботе о процветании и спокойствии нашего края, всегда служившего интересам отчизны. Однако я должен сказать, что причина, побудившая приехать вас в город, неосновательна. Ваша тревога о враждебном передвижении в лесах раскольников — это результат недоразумения, плод чьей-то больной фантазии. Господин Муромцев может подтвердить вам, он тоже стал жертвой подобных слухов о враждебности раскольников Урала. По его просьбе я приказал проверить слухи о скоплении кержаков на руднике Зырина. Там их не оказалось. Надеюсь, господин Муромцев спит теперь спокойно? Вы можете ничего не страшиться, господа! Занимайтесь делом на своих заводах, рудниках, приисках — вам ничто не угрожает. У меня достаточно сил справиться с любыми беспорядками. Дерзость беглого Савватия из Каслей в ближайшее время будет беспощадно наказана. И все же, пользуясь предоставившейся мне возможностью, я хотел бы изложить свои предостерегающие мысли о расположении умов заводских крестьян и непременных работников, а также рабочих людей на рудниках и промыслах. Не скрою от вас, господа, среди них с каждым годом распространяется и усиливается вольный образ мыслей, часто распускаются слухи об ожидаемой вольности. Все это печально. В этом году много было примеров неповиновения начальству и помещикам и часто единственно от желания иметь право на свободу. Заводские и рудничные люди сделались вообще гораздо более требовательны, чем были прежде, дозволяют себе иногда не исполнять повелений заводских и приисковых контор. Карающая десница законов империи не ослабела и всегда оградит вас от черни. Но, господа, все мы должны быть благомыслящими и дальновидными. Могут явиться неудачные обстоятельства, могут явиться люди, коим придет в разум мысль воспользоваться брожением умов, их желанием вольности, и тогда они могут произвести великие бедствия. Мне выпала честь долгие часы иметь беседы с наследником престола, и он передал мне наказы императора быть твердым, пресекать любые попытки возмущения, чтобы строгое наказание примером остановило подражание. Вместе с этим действовать мерами осторожными и осмотрительными. Наша программа: самодержавие, православие, народность. Беспредельная преданность и повиновение самодержавию — в этом состоит священная основа нашей народности. Да! Да! Российский народ искони стоит за царя, за веру православную. Народу нашему присуще врожденное свойство блюсти христианское учение. Дух призывает и высит. Надлежит нам сии нравственные начала укреплять в народе, дабы обрести в отечестве полное миролюбие. Я прошу вас, господа, избегать действий, кои могут возбуждать крестьян и работный люд. Помните, господа, палка не правит, а ломает. Я не могу принять сторону Ивана Онуфриевича Сухозанета, который пожертвовал своим верноподданическим святым чувством и отменил у себя неприсутственные дни тезоименитства. Я на стороне Василисы Мокеевны Карнауховой — умеет женщина упряжную узду спокойно держать. Имею честь, господа!..
Ранним погожим утром но лесной дороге на мраморный рудник тройка гнедых везла в экипаже Василису Карнаухову и Анисью Ведеркину. На козлах Наумыч. Кони шли шагом.
Карнаухова ехала к дочери, получив с оказией известие о скоропостижной смерти мужа Любавы Порошиной.
В лесу тишина и сумрачность. Анисья, задремав, прислонила голову к плечу хозяйки. Хмурился Наумыч, надвинув шапку на брови.
— Может, знаешь, отчего птицы сегодня молчат? — спросила Карнаухова кучера.
Наумыч, не оборачиваясь, ответил:
— Не пробудились. Птахи свое время знают. Это только ты к нему без уважения. Ведь в эдакую рань поднялась в дорогу.
— Серчаешь? Не нравится, что велела шажком на тройке ехать? А поленился умом пошевелить да подумать, что от ходкой езды у меня в костях ломота.
Наумыч, обернувшись к хозяйке, покачав головой, сказал:
— И охота тебе всякую напраслину надумывать? Будто не знаю про твое уважение к лесной молчаливости. Сам от тебя научился в лесной тихости добрыми думами разум тешить.
— И я тоже, — сказала, открыв глаза, Анисья.
— Чего — «тоже»? С самого Ксюшина спишь, а встреваешь в душевный разговор.
— Глаза спят, а уши слушают. Неужели шагом до самого места поедем?
— Торопишься?
— Нет. Но уж ежели на тройке, то не шагом.
— Велела тебе тройку закладывать?
— Нельзя Карнауховой иначе. Хоть через дорогу, а все одно на тройке. Такое у тебя положение на Камне.
— Сколь верст до мрамора осталось?
— Не меньше двух, — ответил Наумыч.
— Останови коней.
Наумыч выполнил приказание хозяйки.
— Пешком пойду. Нежданно к дочке явлюсь.
— Не молодуха, а чудишь, — недовольно сказала Анисья. — Умаешься. Окромя всего, за Вороньей речкой мочажины.
— Не ворчи. Все равно пешком пойду. С вами на тройках и ходить разучишься. — Карнаухова вышла из экипажа.
— А мне за тобой шагом ехать? — спросил Наумыч.
— Нет. Наверстай упущенное. Примчи Анисью на мрамор со всей лихостью, Христос тебе навстречу.
— Благодарствую, хозяюшка. — Наумыч щелкнул кнутом, кони рывком взяли с места и помчались. Карнаухова осталась одна в лесной тишине. Осмотрелась и пошла, наблюдая, как солнечные косые лучи вонзались в лесную чащобу. Скоро начали перекликаться первые птицы. Карнаухова прислушалась, узнала голоса крапивниц…
Карнаухова дошла до рудника, когда медное било у конторы выпевало уже побудку. Чтобы ее не увидели, спустилась в овражек по берегу Вороньей речки, добралась до избы, в которой жила Ксения, поднялась на крутое крыльцо.
Дверь в избу отворила с осторожностью, чтобы не разбудить Ксению в ранний час. Вошла и удивилась. Пустая изба. Постель не разобрана. Слышен стукоток секунд часов-ходиков, на цепочках которых висят гирьки наподобие еловых шишек, отлитые из чугуна на Каслинском заводе. Из рукомойника в бадью капала, булькая, вода. Бревна стен в трещинах, кое-где янтарными каплями застыла смола.
Огорченная, Карнаухова вышла из избы. Направилась к конторе, но повстречалась со Степанком.
— С приездом, хозяюшка.
— Здравствуй, здравствуй. Не видал ли сейчас Ксению Захаровну?
— Да спит она. Рань-то какая.
— В избе ее нет.
— Тогда к озеру пошла. Любит возле него время коротать.
— Проводи, ежели недалеко.
— Рукой подать.
Карнаухова разглядывала Степанка.
— Вовсе мужиком стал. Как жизнь протариваешь? Недоволен чем?
— Благодарствую. Не на что жаловаться, — сдержанно ответил Степанко.
— Чего невесту не приглядишь?
— Давно одна на примете. Только…
Люб. Только Анисья Степановна препятствует.
— Анютку выбрал? Ох, парень! Огненная девка по характеру.
— Молоденькая. Образумится. Да и сердцу не закажешь.
— В чем супротивность Степановны?
— Погодить велит.
— А ты покоряешься? Такой парень, а не можешь суженой завладеть. Коли любишь, никакая Степановна не должна поперек дороги становиться.
— Это верно. И на такое смогу решиться. Только лучше по-доброму. Анисья Степановна будто вовсе мать для Анюты. Поговорите с ней.
— Пробовал. А она все свое твердит.
Карнаухова задумалась. Молча дошли до озера, но и там не было Ксении. На водной глади неровные утренние краски. Больше всего в них густого синего цвета, постепенно бледнеющего, при отдалении от берегов переходящего в зеленый. Только на середине озера переливчатыми бликами горело золотистое отражение взошедшего солнца.
Вода в озере прозрачная, не мутила ее даже Воронья речка, вбегающая с журчанием в гриватую осоку. Сторожили озеро вековые сосны.
— Которая Сергеева изба?
— Вон та. Новая. Да и сам Серега как раз на крыльце.
— Пойду к нему. — Карнаухова сделала несколько шагов и остановилась: — Постой. Правду сказал, что люб Анютке?
— Про такое не соврешь.
— Ладно. Поговорю со Степановной. Да и Анютку спрошу. Но, ежели соврал, лучше на глаза не показывайся. Бывай здоров! Сейчас куда подаешься?
— В девятую яму. Мрамор там на особицу по узору хорош попался. Сейчас станем плиту вынимать, которую Ксения Захаровна для какой-то своей надобности выбрала.
— Неужели она в ямы спускается?
— Редкий день не заходит. У нее глаз хозяйственный.
Расставшись со Степанком, Карнаухова по тропке среди душистых
сосен подошла к избе Сергея. Хозяин на крыльце ставил самовар.
— Здоров ли, мастер?
Ястребов обернулся, пораженный, смотрел на стоявшую перед крыльцом хозяйку.
— Онемел? Не рад повидать меня?
— Свидетельствую… свое… почтение, Василиса Мокеевна, — заикаясь, конфузливо произнес Сергей.
Карнаухова поднялась на крыльцо.
— Молодец, что лестницу изладил некрутую. Сам себя обиходишь? А все оттого, что горделив, не хочешь среди моих девок свою выглядеть.
— Когда приехали?
— Только что. Ксению найти не могу. В избе нет. На озере нет. Может, уехала куда с рудника?
— Здесь она. Но вчерась поминала, собиралась к вам в Ксюшино ехать.
— Сама знаю, что здесь, да сейчас где? Может, знаешь?
— Н-н-нет. Не знаю, Василиса Мокеевна, — неуверенно сказал Сергей.
— Пропала дочь ненаглядная. И не иголка вроде ведь.
Карнаухова пристально посмотрела на парня, но он выдержал ее
испытующий взгляд.
— Избу неплохую срубил. Видная по облику. Глянется мне. Снаружи ее повидала, надо и внутрь заглянуть.
Карнаухова вошла в сени, открыла дверь в горницу, и первое, на чем задержался ее взгляд еще у порога, была мраморная глыба, наполовину укрытая мешковиной. Оглядев просторную горницу, приблизилась к поделке. Обходя глыбу, наступила ногой на тряпочку. Нагнувшись, подняла ее. Не тряпочка, а кружевной платочек, пахнущий духами дочери. Машинально взглянула на полог возле кровати. Отдернут он немного. Похолодела. Видела Мокеевна лицо дочери. Сладко спала Ксения, подложив ладонь под щеку. Карнаухова твердо шагнула к кровати, гневно замахнулась посохом на дочь, но посох, остро сверкнув бриллиантами, зацепился за мешковину на мраморе, сдернул ее. Карнаухова оцепенела. Забыв о дочери, она не отводила глаз от статуи и, чуть успокоившись, подошла к ней вплотную. Смотрела на себя мраморную, оглядывала свое живое поличье, руки. И живое и мраморное — все казалось ей одинаковым по схожести. На секунду прикрыла глаза, постояла, потом тихонько пошла к двери, задержалась у порога, поглядела еще раз на статую и, не прикрыв дверь, вышла в сени, а там — и на крыльцо, где, замерев, дожидался ее растерянный Сергей. Сказала тихо:
— Спасибо за каменную поделку. — Уставилась на парня посуровевшим взглядом, поднесла к его глазам кулак: — Это за то, что смелости не хватило правду сказать. Ксюше не говори, что была я в избе, когда она почивала. Понял? Пойду в контору. Гляди за самоваром, убегать собирается.
С крыльца Карнаухова спустилась угрюмая. Шагала к конторе, не замечая, как с ней раскланивались встречные мужики и женщины. Шевеля губами, разговаривала сама с собой:
— Вот ведь какая девка… Ладить все тайком от матери норовит…
В конторе Карнаухова застала Анисью Ведеркину и плачущую девочку. У Анисьи во взгляде холодок.
— Вот погляди, чего творит Стратоныч.
— Пришлая. Вчерась сюда из лесу вышла. Назвалась Верунькой.
— Ревет пошто?
— По ее слову, золотишко Стратоныч отнял.
— Сколько?
— По ее слову, более шести фунтов.
— Будет чепуху молоть. Откуда такое золото?
— Мое золото. С Мединой нашли. Истинный Христос, более шести фунтов. Медина на глаз определила.
— А Медина где?
— По ее приказу рассталась с ней. Она пошла к Косте на Дарованный, а мне велела поджидать ее возле Волчьего посада. Поджидала ее, а она не пришла. Где теперь, не знаю.
— Будет. Береги слезы, пригодятся. Сюда как попала?
— На карнауховские пески шла.
— Свояки на них робят?
— Нету. Медина хвалила Карнаучиху. Будто у нее — лучше.
— Каким путем шла?
— Лесами напрямик. Мне не страшно. Сызмальства в лесу.
В контору вошел Стратоныч. Еще у порога, согнувшись в поклоне, хотел поцеловать руку хозяйки, но путь к ней заслонила Анисья:
— Успеешь к хозяйской руке приложиться. Чего взял у малой?
— Ничего. Корзинку, вот она, в моей избе позабыла.
— Ставь на стол.
Стратоныч выполнил приказание.
— Верунька, кажи свое богатство.
Девочка торопливо развязала мешочек с сухарями. Запустила в него руки и, порывшись в сухарях, достала сверток. Развернула тряпицу. Карнаухова и Анисья увидели золотые самородки.
— Самого большого нету! — испуганно вскрикнула Верунька.
Анисья оглядела Стратоныча и тихо спросила:
— Сам отдашь, аль придется выбивать?
— Да ты что, Степановна? Не брал золота.
— Не брал? Василиса Мокеевна, может, выйдешь с Верунькой. Придется побеседовать со смотрителем.
— При мне беседуй.
— Лучше выйди. Кто его знает, какой разговор пойдет. Характером оба непокладистые.
— Через меру не расстраивайся, Анисьюшка.
— Глядя по ходу дела.
Карнаухова и Верунька вышли из конторы.
Анисья оглядела Верунькины самородки.
— Кустовые уродились. — Анисья обернулась к Стратонычу, подошла к нему: — Для мирности нашей беседы клади взятое золото на стол. Добром прошу!
— Не больно командуй. Сам умею…
Но договорить Стратоныч не успел. Удар Анисьиного кулака свалил смотрителя на пол.
— В самый раз пришелся. Как? Отдашь? Иначе стану молотить.
Еле поднявшись на ноги, Стратоныч достал из кармана бархатных штанов самородок, положил на стол.
— А девчонка правду говорит. Золота в самом деле более шести фунтов. Ворюга. У ребенка отнял.
— У нее оно тоже ворованное.
— Видал, как воровала? Надо бы тебя так отвозить, чтобы ты, рыжий дьявол, руки с ногами путал. Да уж ладно. В другой разок, ежели доведется.
Анисья завернула все самородки в тряпицу. Положила сверток в корзинку и вышла с ней из конторы. Как только за Анисьей закрылась дверь, Стратоныч, цветасто выругавшись, крикнул:
— Ужо сквитаемся!
Анисья догнала Карнаухову и Веруньку. Шли к озеру. Девочка рассказывала историю находки самородков.
— А ты скоро управилась.
— На руку, Василисушка, скорой уродилась. Краткий разговор завсегда делом оборачивается.
— А то нет? Верунька правду сказала. Более шести фунтов золота. Держи, — Анисья отдала корзинку Веруньке. — Чего велишь с курносой мильёнщицей сотворить?
— В Ксюшино возьмем. Пусть у нас живет. И где такое шалое золото водится, поведает.
— Станет нашей. Согласна, Верунька?
— Мне все одно. Лишь бы люди хорошие попались. Крепостной приписи все одно не миновать.
Карнаухова задержалась на руднике. Минул третий день, но она не торопилась в Ксюшино.
В избе на столе горит свеча. В горнице полутьма. На ходиках десятый час. Готовясь ко сну, Василиса Мокеевна расчесывала волосы. Ксения сидела у окна на лавке.
— Прижилась ты на мраморе, дочь. Понравилось? Не скучно?
— Что ты! Все дело и дело. Люблю смотреть, как мрамор рубят.
— Ксюша! Хватит в жмурки играть! Неужли опять за свое? Да с крепостным еще…
— Матушка!
— Ты ответь.
— Сама я не царских кровей.
— Кровь — одно, барское положение твое — другое.
Ксения встала, прошлась по горнице, остановилась около матери:
— Как понять не можете, что большой дар ваятеля остановил меня возле Сергея. Сознаюсь. Приманил меня к нему замысел о выгоде. Решила завладеть им, чтобы его будущей славой увеличить славу карнауховского рода. Верила, что с моим желанием и капиталом Сергей многого достигнет, а руки его с лихвой вернут все затраты. Так сначала думала. Приручала его к себе, да где-то за собой недоглядела… Каюсь — сама не своя.
Карнаухова долго молчала. Заплела в косу расчесанные волосы. Не шевелясь, стояла Ксения.
— Знаю о том, дочь. В приезд ранним утром видела тебя спящей в его избе.
— Как так! Почему Сергей…
— Не велела. Ты-то что думаешь? Замуж за него пойдешь? Или худой молвы себе прибавить хочешь?
— Решила я сначала зимой послать его в Петербург. Пусть поучится.
— Ты с ним поедешь?
— С тобой буду. При мне не станет об учебе думать.
— Помнишь, зимусь, вернувшись из столицы, разговаривали с тобой. Скрыла в ту пору, что навещала Сергея без меня. Ведь я и тогда прознала об этом. А ты и сейчас смолчала. Так и скрытничала бы, не спроси я?
— Отпустите Сергея в столицу?
— Хорошо. Будь по-твоему! Вернется — вольную ему дам.
Ксения обняла мать, поцеловала. Карнаухова слабо сопротивлялась.
— Ксюша. Не тормоши меня. Я, милая, без того от увиденного в полной душевной тревоге.
— Сейчас же скажу о вашей воле Сергею.
— Погоди. Завтра скажешь, как уеду. Да сырость сейчас на воле. Погляди, какая темень.
— Разрешите, матушка!
— Ох, молодость, молодость… Ступай. Воротишься?
Ксения вздохнула, помедлила с ответом, приглушенно сказала:
— Не знаю…
— Ладно. Иди.
Ксения ушла. Карнаухова встала, выглянула в окно. «Всю себя в ней вижу».
Побродив по горнице во власти раздумий, Карнаухова остановилась у стола, опустилась на колени, крестясь, отвесила перед иконами три земных поклона. В избу зашла Анисья.
— Чего пришла? Пособи на ноги подняться.
— Вижу у тебя свет. Дай, думаю, проведаю перед сном.
— Ксюшу сейчас видела?
— Встретились.
Карнаухова погрозила Анисье кулаком:
— Вот как начну сейчас благословлять за сокрытие, а чего — сама знаешь. Начнешь у меня хромать и криветь.
— Про Ксенью спрашивай не спрашивай, ничего не знаю.
— Про Ксению без тебя все узнала. Ты мне про другое ответь. Знаешь, что Степанко твою Анютку полюбил?
— Сказывала девка.
— Ты препятствовать думала?
— Не враг Анютке. Велела им погодить чуток. Ну хоть до снегу. Будто согласились. Со Степанком поговорю.
— По-смирному, по-матерински. Конечно, маленько поломайся, а согласие дай. Сказывай, зачем пришла? Зря не ходишь.
— Спросить, когда в Ксюшино подадимся?
— Завтра утречком пораньше. На здешних конях уедем.
— Нету. На закате посылала в Ксюшино. Чтобы к утру Наумыч здеся был.
— Опять на тройке?
— Тебе иначе нельзя. Ложись. Хранит тебя бог. Пойду…
— Стой. Здесь ляжешь. Чую, от всяких дум бессонница меня сграбастает.
— Как велишь. Везде сплю по-домашнему…
Возвестив об окончании обедни, в церквах Камышлова недавно отгудели колокола. День выдался радостный, солнечный…
В палисаднике перед домом купца Порошина на рябинах гроздья ягод наливались кумачовым цветом.
На ступеньках парадного крыльца сторожиха старица Авдотья играла в карты с посудницей Дуней. Девушка, перетасовав колоду, начала сдавать карты, но услышала перезвон колокольцев с бубенцами. Прислушалась:
— Тройка бежит.
Подбирая сданные карты, Авдотья спросила:
— Почем знаешь? Может, пара?
— Знаю, бабушка, коли сказываю. По взахлебу бубенцов распознаю. Так и есть. Гляди.
Авдотья, обернувшись, увидела на дороге бежавшую тройку.
— Впрямь угадала. Словно кошка слышишь. Кто в тарантасе?
Девушка, привстав, всмотрелась в дорожную повозку и снова
— Кажись, монашки.
— Тогда не к нам. — Авдотья развернула карты веером. — Козыри, стало быть, крести. Ходи. Монашки в нашем доме не гостят. Покойный хозяин будто и ничего их привечал, а вот хозяюшка — та вовсе неласкова с ними. Воронами их кличет. Видать, чем-то прогневали ее. Заявляю, Дунечка, сорок…
— Какие сорок? Дама червовая, а король бубенный. Грешишь, бабушка.
— Господь с тобой. Виновата. Не разглядела ладом. Я в картах на правду злая. Охулку мою не запоминай. Сослепу в короле обмишурилась.
Взмыленная тройка, подкатив к дому, остановилась. В тарантасе сидели две монахини. Пожилая, склонив голову набок, спала, а молодая держала над ней раскрытый зонтик, оберегая лицо спавшей от солнечных лучей. Кучер обернулся к седокам и неуверенно сказал:
— Кажись, доехали. Потревожь матушку.
Молодая монахиня сложила зонтик, кашлянув, дотронулась до плеча спавшей. Та, забормотав, открыла глаза. Огляделась и недовольно произнесла:
— Чего встали?
— Приехали, матушка игуменья.
— Слава те, Господи. От нырков в утробе все колышется.
Осенив себя крестом, игуменья, приметив на крыльце женщин,
— Кто хозяин сему дому?
— Тебе кого надобно? — вместо ответа подала голос Авдотья.
— Вдовицу купчиху Порошину.
— Чего это, бабоньки, с утра за картишками? Не успела обедня отойти, а ты, старая, за картишки схватилась.
— Кому что сподручно, тот за то и хватается. Не тревожься. Лоб свой седни ране тебя перекрестила.
— Греховность в картах.
— У вас во всем греховность. Жизнь людскую и то за грех почитаете.
— Поперешная на язык.
— Не попрекай. Нашлась указчица.
— Хозяйка где?
— За самоваром. Время сейчас чайком баловаться.
— Сбегай, девонька, возвести барыню, что к ней игуменья Колчеданского монастыря спожаловала.
Дуня, положив карты на ступеньку, готова была бежать в дом, но Авдотья ее остановила:
— Сиди. Ты в дом не вхожа. Твое место возле посуды на кухне. В дому служанки водятся.
— Порядочки! Пособите на землю ступить, — сердито сказала игуменья.
— Дуняша поможет, а меня уволь. Саму иной раз люди с лежанки на ноги ставят.
Молодая монашка и Дуня помогли игуменье сойти с тарантаса. Вздыхая, она начала стрясать с одежды соломинки и пыль. Подошла к крыльцу, но, увидев на ступеньках карты, остановилась.
— Убери! — повелительно приказала Авдотье, но та не притронулась к картам.
— Шагай, благословись. Ежели и наступишь, то все одно король архиереем не обернется.
— Говорю — убери!
— Дуняша, сдвинь их в сторонку. Мать игуменья пужливая.
Девушка проворно собрала со ступеньки карты. Опираясь на посох, игуменья поднялась на крыльцо. Следом за ней со сложенным зонтиком вбежала молодая монахиня. Игуменья перекрестила парадную дверь, после чего молодая постучала в нее кулачком.
Столовая в доме Порошина — просторная горница с выцветшими обоями. В оконных простенках зеркала. В кадушках фикусы. В потолок упирался пузатый буфет с посудой. Перешагнув порог, игуменья увидела за столом возле самовара хозяйку. Любава в черном платье, на плечах цветастая шаль. Игуменья, не глядя на хозяйку, прошла к иконам и, закрестившись, отвесила низкие поклоны. Подойдя к столу, поклонилась Любаве и сухо произнесла с укором:
— Лампадка притухла.
— Непорядок, голубушка. Муженек — новопреставленный, в царстве небесном печалиться зачнет от жениной нерадивости ко Христовой вере.
— Садись за стол. Тебе отсюда не видать, чего он там делает. Неохота на потухшую лампадку глядеть — садись в другое кресло.
Игуменья села к столу, сняла клобук и положила его на левое плечо. Любава налила гостье чаю. Поймав на себе взгляд гостьи, спросила:
— Не глянусь?
— Не уразумею. Сама в трауре, а шаль на плечи накинула расписную. Раненько свое вдовство разукрашиваешь.
— Не твоего ума дело. Особенная шаль для меня.
— Чем, голубушка?
— Грела плечи мои, когда услада моя душу тешила.
— Слыхала про твою греховность.
— Вот и хорошо. Сам себе на радость никто не живет. Допьешь чашку, сама другую нальешь. Злая седни.
— Кто прогневал?
— Мое дело. — Любава встала, прошлась по горнице. Крикнула в открытую дверь: — Маша!
На ее зов в дверях появилась девушка.
— Звали, чать?
— Сбегай в опочивальню да принеси сюда лампадку с огнем.
— Все не горят со вчерашнего дня. Масла нету. Сказывала Максимовне, видать, запамятовала.
Игуменья пила чай с ложечки, поглядывая на Любаву.
— Без хозяина в дому всегда непорядок. У тебя, почитай, с горя еще руки до всего не дошли.
— Всему свое время. А вот ты, мать Ираида, за два года ладно жирок накопила.
На замечание Любавы игуменья промолчала, но насупилась. Должно быть, в молодости ее посуровевшее с годами лицо было пригожим. На груди, на рясе из муарового шелка, в золотом кресте искрились изумруды. Пухлая левая рука обвита гранеными горошинами аметистовых четок. Одутловатое лицо с мешочками под глазами исчерчено морщинами. Из-под седых бровей в щелочки век смотрели темные глаза с блеском хищной властности.
— По делу в Камышлов прикатила?
— К тебе. Надумала поглядеть, как живется-можется на вдовьем положении.
— Как раньше, так и теперь.
— Надо бы хоть сейчас для прилику утихомириться. Грешно жизнь правишь.
— Сама ты, мать Ираида, не больно праведно жила.
— Про такое молчи. Я от него отреклась и рясой прикрылась.
— И ты мою греховность не тронь. Святой, вишь, под рясой стала! Коли праведница, то укажи, где женщине счастье найти, укажи тропку, по которой ей можно из-под тиранства мужицкого уйти? На земле нет праведности для нас. Ежели бы водилась, то наши бабы не бродили бы в монашеских рясах.
— Злобишься, Любавушка.
— Вот ты, поди, в самом деле, веришь, что есть в тебе разум нашей сестре покой отыскивать. Думаешь, коли правишь монастырем, то в нем монашкам райская жизнь. Слыхала про ту райскую жизнь. Мало монашки от тебя ласки видят. Их судьбой криком правишь. Обидами всякими доводишь.
— Остудись, Любавушка. Быть иной мне не положено. Богородица отдала в мои руки смиренность женских душ, укрывшихся от мирского соблазна под защиту монастыря. Должна за всеми в оба глаза глядеть. Святость от греха боронить. Разумей…
— По какой надобности к моим воротам свернула?
— Ох, Любавушка, завладела тобой горделивость чрезмерная. Злобишься на себя, что не смогла грехом счастье обратать. Ведь чего творила! Подумай, голубушка. При живом муже за другим мужиком тянулась.
— Вдругорядь спрашиваю: зачем ко мне объявилась?
— Скажу. Слух по уезду идет, будто покойный муженек повелел тебе поминание о нем при достойном денежном вкладе подать в мужской Далматовский монастырь. Видать, медлишь выполнить волю покойного?
— Все сказала?
— Дозволь договорить. Скоро слова кидать мне удушие не дозволяет. Святой отец Дионисий, игумен Далматовский, упросил меня побывать у тебя с напоминанием.
— Вон как? Предстала передо мной монаховой служкой. Так, что ли?
— Упросил.
— Теперь меня послушай. До того, что в народе болтают, мне дела нет. Никанор после полуночи помер. Во сне богу душу отдал, посему не мог предсмертной воли высказать. А в завещании прописано, что всю движимость и недвижимость в мои руки отдает. Вольна им владеть и распоряжаться по своему разуму. О загробном покое Никанора сама позабочусь. Далматовским монахам денег не дам.
— Упрямая…
— Без этого затопчут. Думаешь, ранее всех ко мне наведалась? Гуртами в первые дни после смерти муженька прилезали с протянутыми руками. Знают, что есть денежки у вдовушки, может, и даст что с горя.
— Непочтительная упрямица!
— Ты тоже не больно покладистая. Аль в твоей монастырской казне прорехи завелись?
— Молчи! Слушать не стану. Отдай деньги, кому покойник велел!
— Монахам не дам. Ни в один монастырь не дам поминания. Попы в Камышлове не хуже вашего поминание справят. Голытьбе деньги дам, чтоб поели сытно в память Никанора. Мои деньги. Никанор для меня нажил. В благодарность, что не брезговала его старческую хворость обихаживать.
— Опасно судишь, Любавушка. Гляди не оступись. Люди знают про твою семейную жизнь. Люди и про то знают, в каком монастыре велел покойный поминать его душу. Помни! Людская молва злая!
— Не стращай! Грамотная! Скажи монахам, чтобы к моим капиталам рук не тянули. Зря ко мне на нырках тряслась.
— Начнешь поучать праведной жизни? Думаешь, мужниной защиты лишилась, так башку начисто потеряла? Не опасайся и не радуйся — в твой монастырь с деньгами не приду. Смирением бога, прикрывшись рясой, обманывать не стану. Нет во мне смирения…
— Сгубит тебя, Любава, пригожесть с гордыней. Нет мужикам от тебя покоя. У всех матерей и жен страх перед тобой. Сида в тебе греховная велика.
— Во всякой бабе такая сила водится, только не у всех разума хватает пользоваться ей.
— Молитвами смиряй себя, грешница.
— Молилась. Ох, как молилась, чтобы тот, кто мне люб, со мной был. Не вымолила. Не те слова в молитвах выговаривала.
— Наслышана…
— Наслухом меня не пугай. Чать, не успела позабыть, как одинова за денежки по мужнину наказу пугала меня, а тебе в благодарность я бока намяла…
— Семьей себя спаси. Пойди за хорошего человека. Венцом покройся. Про другое — позабудь. Горечь потери в материнстве утопи. Найду тебе муженька. Скольких забубенных головушек я осчастливила.
— Теперь до меня дошла?
— Только пожелай.
— Страшновато. Больно дорого за услугу запросишь.
Игуменья, прикрыв глаза, для убедительности перешла на шепот:
— Единое твое спасение в семье. Боюсь, завьешь горе веревочкой, а она затянется на твоей шейке петелькой и удушит.
— Не знаю, мать Ираида, что для своей жизни надумаю. Но одно ведаю: от горя в монастырь не укроюсь. Нет у меня веры, что возле вас можно покой найти от всех тревог. Судьбе до старости не покорюсь. А уж коли увижу, что сама себя в тупик загнала, то запрягу тройку, разгоню коней да с обрыва на камни — и конец! Коли не увидала Любава Порошина света любви, то и без него не станет жить. А теперь, мать, прощай. Обещалась в гости. За неучтивость не обижайся, не ждала тебя.
— Чего велишь монахам сказать?
— Опять свое. Сказала уж…
— Меня послушай! Смири гордыню со скупостью, отдай деньги монахам добром.
Оглядывая себя в зеркале, Любава засмеялась.
— Не выполнишь волю покойного, Матерь Божья не благословит тебя на новую жизнь.
— Неужели? Небось она тебе сама про то сказала?
— Не богохульствуй.
— Меня владычицей не запугивай. Знаю, что к чему у вас пришито. Монахам денег не дам.
Задыхаясь от волнения, игуменья встала, погрозила Любаве пальцем:
— Против церкви встаешь? Мотри! Может, у монастыря на тебя уздечка найдется!
— Не монашьим рукам поводок от этой уздечки натягивать. Про себя подумай. В своем монастыре не все по закону ладишь.
Игуменья быстро подошла к открытому окну, плотно прикрыла его створы.
— Тише! Ишь, до чего распалилась!
— Живет у меня сторожихой повитуха, старица Авдотья. Она прошлым летом у двоих твоих послушниц ангелочков приняла. Одна так и сказала, что по приказу матушки Ираиды состояла в услужении у купца. А в доме сынок был… Врет Авдотья?
— Тише говори, Любавушка! Хоть и напраслину про мою обитель плетешь, но все одно — людские уши поймают слушок, и пойдет недобрая молва.
— Выходит, и тебя можно испугать, — засмеялась Любава.
— Пожалей, Любавушка. Не поверит мне игумен Далматовский, если выскажу твое решение. Не поверит, что осмелилась ты нарушить волю покойного. Подумает, что ихние деньги себе выпросила.
— Сама выкручивайся. Кто велел в посредницы напрашиваться? Может, монахи обещали поделиться с тобой?
— Зря подозрением чернишь.
— Игумену скажи, чтобы сам ко мне за деньгами явился.
— Да ты что? Он обет молчания держит.
— А с тобой разговаривает?
Игуменья выкрикнула:
— Не позабывай, с кем беседуешь! Не подружка тебе!
— Верно, что никто мне. Ишь как обозлилась именем божьим, бабья защитница. Будь твоя воля, прибила бы.
— Не благословлю, ежели не отдашь деньги.
— Деньги голытьбе отдам. Ребятишкам. Без благословения проживу. Думала, назовешь грешницей, так стану перед тобой каяться, да откупаться подачками! Грешница! Чего о ней Христос сказал? Кто без греха, кинь в нее камень. А ты без греха?
Игуменья надела клобук и пошла к двери.
— Тебя спрашиваю. Безгрешная ты? — крикнула вслед ей Порошина.
Игуменья у двери остановилась, поглядела на Любаву, перекрестила ее.
— Уразумела, что не без греха, ежели бабой уродилась, — усмехнулась Порошина.
Сад Дорофея Квашнина по годам ровесник самой заимке. Опоясала его бревенчатая стена с гульбищами высотой без малого в две сажени. На месте прежнего елового леса теперь главенствуют насаженные давно и уже одряхлевшие плакучие березы, немало и лип, а кусты сирени и шипицы на всех аллеях. Там, где сад примыкает к лесу, места глухие, будто совсем позабытые, царствуют здесь крапива, бурьян и татарник. Надвинулись на ограду высоченные ели и сосны. Бревна стены в рыжевато-седоватом мхе. Обступила злая, жгучая трава в углу сада лестницу к настенной башенке. У молодой хозяйки она любимая, а потому в крапиве прокос к лестнице. На скворечник похожа башенка. Ее шатровая крыша опирается на четыре столбика, изукрашенные замысловатой резьбой. Дерево постройки стало от времени серым с сизым отливом, раскололось глубокими трещинами. Перила башенки словно кружево из дерева, в рисунке резьбы жар-птицы в полете…
Солнце шло на закат. Напористый ветерок шевелит ветви сосен и елей, в зеленой хвое заводит тягучую мелодию, схожую с пчелиным гудом. Редкие облака плывут по небу, от них по земле бегут тени.
На скамейке в башенке в солнечной полосе, прислонившись к столбику, сидит Настенька Квашнина, чуть поодаль, на досках гульбища, мольберт с полотном, а перед ним с палитрой и кистью в руках Кирилл Карнаухов.
Уже не первый день пишет с Настеньки портрет, да и вообще не ленится заезжать на заимку.
Вот прикрыла Настенька глаза, и Кирилл заботливо спросил:
— Что вы. С интересом наблюдаю за вашей работой. Сама не знаю, с чего закрылись глаза. Вчера дедушка приставал ко мне, просил показать вашу работу.
— Показали?
— Разве бы решилась без вашего дозволения? Кончите писать, пусть тогда и смотрит.
— Не обиделся?
— Нет. Понимает. Сам не любит показывать свои изделия, когда не готовы.
— Мне кажется, что он недоволен моими частыми визитами.
— Заметили его нахмуренность. Вы тут ни при чем. Он вообще никого не хочет видеть около меня. Боится, что уйду от гранильного мастерства. Любит меня дедушка через меру. А ведь старость всегда со всякими причудами.
— Чем больше узнаю вас, Настенька, тем крепче привязываюсь. Благодаря вам в родном крае начинаю замечать все такое необыкновенное, мимо чего раньше проходил с полным безразличием. Рад, что повстречал вас в подмосковной деревушке, где познакомились за самоваром.
— Мне тоже приятно наше знакомство, Кирилл Захарович.
— Ваши рассказы об Урале были для меня откровением. Мне даже стало стыдно, что, родившись здесь, так мало знал о нашем крае.
— Почему раньше не интересовались Уралом?
Кирилл пожал плечами.
— Не хотите ответить?
— Хочу, но боюсь. Непонятной вам будет правдивость моего ответа, и еще больше удивит вас.
— Все равно скажите.
— Просто не было желания.
— Быть не может!
— Может! В одиночестве прошло мое детство и юность в нашем доме, отделенном от мира высокой оградой. В родном доме меня часто преследовал страх. Я знал мрачную историю его существования с демидовских лет. Как я в нем жил? Под присмотром нянек, без материнской ласки, перенося капризы и уросы отечественных и иноземных гувернеров. Одиночество приучило меня к мечтам. Все, что было за пределами нашей очаровательной березовой рощи, меня не интересовало, потому опять-таки часто слышал ужасные рассказы о мужицких волнениях против господ. — Кирилл положил возле мольберта палитру и кисти, сел на скамейку напротив девушки.
— Вот вы раньше меня устали.
— Не ладится сегодня работа, Настенька. Совсем вы не та, какой были вчера. Плохо, когда не ладится.
— Знаете, Кирилл Захарович, со мной тоже так случается. Граню самоцвет. Он иной раз бывает упрямый. С неохотой в моих руках под фасетками открывает свою душу. Вас удивили мои слова? Разве не говорила вам, что для меня самоцветы — не мертвые камни? В переливах их блеска часто вижу ласковость, а то и хмурость. В каждом из них есть собственный живой огонь. Вот иной раз охватит меня тревога, может, зряшная совсем, а работаешь и вдруг не находишь пути пробудить душу упрямого самоцвета.
— Как тогда поступаете?
— Так же, как и вы сейчас, — перестаю работать. Обязательно при любой погоде, зимой и летом выхожу в сад, чаще всего поднимаюсь на эту башенку, любуюсь лесными далями. Успокоившись, легко нахожу нужную для камня сноровку огранки.
— Да, Настенька, встречаясь с вами и с вашим дедом, я понимаю, как много потерял, не научившись у матери ходить по уральским тропам, заглядывать в лесные чащобы, а главное — не всматривался пытливо в людские лица, не искал в их чертах ответов на свои, порой мучительные, размышления о жизни.
Настенька улыбнулась каким-то своим мыслям, покачала сокрушенно головой и сказала:
— Вот слушаю вас, а верить сказанному не хочется.
— Сомневаетесь в моей искренности?
— Нет. Думаю, напрасно черните себя. Цвета ваших красок вы же в природе находите? Видела у вас в домашней библиотеке написанного вами Ерофея Маркова. Подлинность уральской природы на картине.
— Разве так надо было написать облик знаменитого Ерофея? Его лицо я придумал, а ведь его можно было найти среди лесных золотоискателей. Жизнь цвета, красок я тоже придумывал, в них нет неповторимой живописности утренних и вечерних небес. И нынче мне ясно, как ошибочен был мой путь в живописи, надуманной, без благословления мудрой, окружавшей меня с детства природы. Еще в юности первым на эту оплошность указал мне монах Питирим — живописец из Далматовского монастыря. Но я ему не поверил. Мимо ушей пропустил его советы. Считал себя правым. В Петербургской академии поощряли мою живопись. Она нравилась, и я даже приобретал известность модного живописца. Но три года назад… — Кирилл прервал рассказ и задумался. — Извините, Настенька, на намять пришло вдруг иное. — Кирилл не сказал собеседнице, что вспомнил о Любаве Порошиной, вспомнил неожиданно, именно сейчас, когда все его мысли были сосредоточены совсем на другом.
— Что же произошло три года назад, Кирилл Захарович?
— На свое счастье, три года назад в Петербурге удостоился чести познакомиться с художником Венециановым. И этим спас себя от пустоцветия.
— Расскажите об этом.
— От Венецианова, Настенька, услышал суровую непреложность его суждения о том, что долг живописца заключается в правдивом изображении жизни, природы, натуры. Конечно, я уже знал, что Венецианов был первым в России живописцем, посмевшим нарушить традиции академического искусства, он смело, наперекор всем, ввел в живопись образы крестьян, живые сцены деревенского быта. Не сробел, многим художникам перевернул душу, да и не только художникам… Встреча с Венециановым заставила меня поразмыслить.
— Венецианову свои работы показывали?
— Да. Показал ему многие работы и среди них портрет госпожи Порошиной. И представьте себе, увидев его, Алексей Гаврилович дал совет мне писать так, как сделан этот портрет.
— Поверили в советы Венецианова?
— Поверил. По новой тропе иду вот уж второй год. Иду под насмешки недавних друзей и поклонников. Прошлым летом удалось две недели пожить у Венецианова в Сафонкове, поучиться у него. Стыдил меня за бездумность в жизни, корил, что, родившись в Уральском крае, никогда не писал уральцев.
— Наша жизнь разная. Вдруг увидите ее не такой, какой хотели узнать. Повидав, не сдюжите волей, повернете назад к тому, отчего увел вас Венецианов.
— Не-е-ет. Не дозволено мне повернуть обратно.
— Ох как трудно угадать! Мне тоже Жуковский доброе сказал: к кому прикоснутся мои руки, всегда того согреют и дадут счастье. А ежели неправду сказал? Ежели, поверив ему, прикоснусь к кому-нибудь, а вместо счастья принесу горе? Как это в моих руках хоронится счастье? Вот мои руки. Самые простецкие.
— Стойте так, Настенька. Вот так надо вас писать. Будете стоять?
— Конечно.
— Тогда беру кисть…
Тройка буланых коней с золотистыми гривами мчалась под незлобный лай собак по улицам Уктуса. Миновав мост через речку перед холмом с заимкой Дорофея Квашнина, остановилась возле покосившейся часовенки. Из экипажа вышла Любава Порошина, кинув кучеру приказание:
— Жди тут!
Осмотрелась и неторопливо пошла по хорошо утоптанной тропинке к еловому лесу. На Порошиной черный шелковый сарафан. Голова укрыта пестрой шалью. Любава никак не может забыть последнего свидания с Кириллом Карнауховым и мечется как полоумная из-за тоски. Без всякой надобности гоняет ее слепая ревность на тройках из Камышлова в Екатеринбург и обратно. Знает, посмеиваются над ней люди. Хорошо им — не надо искать забвения от тоски по любимому. Изглодала ее ревность. Вот опять который день живет в Екатеринбурге, собирая слухи про жизнь Кирилла. Знает, не все правда в сплетнях кумушек, но одно все же верно — видится часто с Настенькой Квашниной. Не может забыть, как внучка Квашнина сама рассказывала ей о совместном пути с Кириллом от самой Москвы до Екатеринбурга. Вот и решила повидать разлучницу, сказать ей настрого, чтобы отошла, что из-за нее в жизни все с путалось. Шла не торопясь. Волнуется, прикусывает нижнюю губу. Нелегко было ей переломить свою гордость и поехать на заимку. Ведь не знает, как все обернется. Вдруг разлучница не допустит к себе? Потому знает, какая из себя купчиха Порошина. Знает, что ревность иной раз в женские руки и ножик может вложить. Шла с твердым решением высказать все разлучнице. Скажет Квашниной, что нет в ней телесной греховности, нужной Кириллу. Скажет и — оглядит ее с головы до ног, а от ее погляда Настенька поймет: нельзя ей тягаться с порошинской хваткой. Скажет, что Кирилл сам скоро уйдет от разлучницы, потому неизживна в его памяти мысль о ласках Любавиных.
С суровым лицом Любава Порошина вошла в калитку заимки Дорофея. Навстречу к ней сбежала с крыльца девушка, учтиво поклонилась и сказала:
— Ежели к хозяину пожаловали, то их нету дома. В Катеринбург уехали.
— Барышня мне нужна.
— Она дома. В саду. Провожу вас. Сад у нас большущий, заплутать в нем можно попервости. — Девушка распахнула перед Порошиной калитку в сад: — Пожалуйте.
Шли по березовой аллее. Порошина спросила:
— Без собак живете?
— Есть псы. Днем взаперти. Народ у нас разный по важности бывает. Неловко, чтобы псы попусту облаивали.
Аллея привела к беседке возле пруда, затянутого ряской и блинчатыми листьями водяных лилий. Девушка, не увидев здесь хозяйки, сказала:
— Видать, она в своей башенке, вон там — на стене. Сюда надо на тропку свернуть.
— Может, одна дойду? — спросила Порошина.
— Обязательно дойдете. Упретесь в стену и увидите башенку. Только там у нас глухо. Крапивы много.
— Ступай. Я одна дойду.
— Может, все же провожу?
— Ступай, говорю.
— Как велите.
Девушка поклонилась и, оглядываясь, ушла. Порошина сняла с головы шаль, направилась по тропинке вглубь сада. Скоро увидела высокую крапиву возле бревенчатой стены. Обошла ель, расстелившую по земле ветви и, вздрогнув, остановилась — на гульбище стены увидела у мольберта Кирилла. Перевела взгляд на башню и заметила Настеньку. Поняла, что Кирилл пишет ее портрет. Услышала вопрос Квашниной:
— Госпожа Порошина знает, что ее портрет видел Венецианов?
— Почему же не сказали ей?
— Как-то не довелось.
— Ей было бы приятно узнать. Ведь именно ее образ вдохновил вас на такое творение. Хотя это естественно. Удивительная женщина. Я знакома с ней. Встретились мы после возвращения из Петербурга, и я рассказала ей, что ехала от Москвы с вами. Глаз не могла от нее отвести. Красивая. Ксения Захаровна показала мне полотно, где она написана вами под цветущими черемухами. Правдивый портрет. Раньше всегда думала, художники людей на портретах приукрашивают. Про ваш портрет госпожи Порошиной этого не скажешь. На нем вы скорей притушили подлинность ее красоты.
— Настенька, почему сегодня у вас все время меняется выражение лица? Чем вы взволнованы?
— Ничем. Может быть, причина в нашей беседе?
— Не знаю. Но работать сегодня не могу. Никак не уловлю ваше душевное состояние.
— Тогда отложим.
— С вашего разрешения. Кстати, почему вчера не приехали к Первушиным? Вас ждали.
— Собиралась, но не смогла. Приехал Алеша Косачев.
— Кто такой?
— Тоже гранильщик из Златоуста.
— Приехал к Дорофею Егоровичу?
— Да нет. Он молодой. Мы с детства знаем друг друга.
— Конечно, дружите с ним?
— Вам, пожалуй, скажу. Хотя, может быть, безо времени.
— Что — безо времени?
— Просватана я за него, Кирилл Захарович. Приехал договариваться о свадьбе…
Любава Порошина похолодела, закрыла лицо руками, порывисто повернулась, пошла по тропке, остановилась, бессильно опустила руки, прошептала:
— Что же такое, господи?
По березовой аллее почти бежала, ноги ее путались в подоле сарафана. Во дворе снова услышала голос девушки, провожавшей ее в сад:
— Повидались?
— Вдругорядь приеду. Гость у нее.
— Извиняйте меня. Совсем позабыла упредить вас.
Выйдя из ворот, Порошина стерла ладонью со лба капли пота. В ее ушах звенело. Трудно было дышать. Шагала по дорожке с холма, спрашивая себя вслух:
— Как же так? Совсем очумелая стала. Сама себе ножку подставила. Чужую невесту в разлучницы ревнивой дурью обрядила. Господи, Любава, чего над собой сотворила? Любимого прогнала. Да за это должна башку свою дурную о дверной косяк расшибить. Царица небесная, как же все это так сдеялось?
У часовенки на скамейке сидел горбатый старичок с котомкой. Проходя мимо него, обронила шаль. Села рядом со старичком на скамейку, прикрыла глаза. Старичок встал, подобрал шаль, отряхнув с нее пыль, подал Любаве и спросил:
— Обронила, барынька, поди, из-за недобрых помыслов?
— О чем спросил, дедушка?
— Шаль вот обронила, возьми.
— Спасибо.
— Кони-то твои стоят?
— Ну и дорогие, поди, кони. За них, поди, золотом платила?
Не ответив на вопросы, Порошина пошла к экипажу. Садясь в него, громко сказала:
— Ох, какая же дура!
Кучер, обернувшись, спросил:
— Кого ругаешь, хозяюшка?
— Кого? Себя!
— Вот уж зря. Такого про тебя даже злыдень не скажет.
Опять неслась тройка по улицам Уктуса. Пристяжные мели золотистыми гривами дорогу. Когда выехали на тракт, Порошина крикнула кучеру:
— Шагом езжай! Погляди, Демьян, в каком огне солнце заходит. Глядеть страшно.
Кучер, обернувшись, приметил на глазах хозяйки слезы и, удивившись, спросил:
— Может, болит что, хозяюшка?
— Душе больно.
— Тогда зря моешь глаза. Душевную болесть слезой не вылечишь.
— Лучше давай гони.
Кучер, обрадовавшись, гикнул на лошадей, и тройка понеслась, поднимая на дороге густую пыль…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
1
Стоял, стоял август сухим, а последние деньки занепогодил. Третий день держится ненастье. Сечет дождь уральские просторы. Мокро в лесах, замесилось тесто грязи на проселочных дорогах. Деревни будто обезлюдели, все по избам — кому охота выходить на мокреть.
На жердях прясел — нахохленные, намокшие вороны. На побуревшей сгерне четче обозначились суслоны. Загустела понурая грусть в стогах сена на недавно душистых лугах. Угомонила непогода птичьи голоса в лесах.
На подходе пора, когда людей начинают одолевать новые заботы. Лето миновало, осыплется осень желтым листом, припорошит, придавит его к земле снежок, а зима свое спросит. С зимой не больно разговоришься в спорах. Задует. Заледенит. Уральцы знают, что августовское ненастье — первый знак предзимья. С него они начинают запасаться всем, что необходимо для времени холодов. Не мудрена по обиходу жизнь у простого народа, а все равно надобен для нее теплый угол и еда на каждый день.
Сечет дождь уральскую землю, но студености в нем нет, еще дюжит его похлестывание зеленый лист…
В лесах зарылся город Далматов.
Старейшиной считает себя на Урале. Его людское жило завелось около Успенского мужского монастыря, заложенного в лесной непроходимости на берегу реки монахами-новгородцами, ушедшими с берегов Ильмень-озера в смутные годины на Руси.
История монастыря переплелась с историей горного края оттого, что монастырь был вторым, кто построил в крае заводское устройство выковки железа. Еще при царе Алексее Михайловиче в тысяча шестьсот семидесятом году при речке Нейве, выше Мурзинской слободы, первое заводское устройство для выковки железа было основано Дмитрием Томашевым. Второе подобное же устройство, через двенадцать лет, было налажено игуменом Далматовского монастыря Исааком. Разместилось оно при впадении Каменки в реку Исеть.
Дотошный новгородец, сведущий в горном деле, дознался, что в монастырских землях, в горах при речке Каменке, за Колчеданским острожком, залегают толщи железной руды. Игумен Исаак постарался не упустить из рук удивительную находку. По его челобитной боярину и воеводе тобольскому речка Каменка и близлежащие земли были отведены в тысяча шестьсот восемьдесят втором году Далматовскому монастырю. Так был основан монастырем Каменский завод, взятый в казну при царе Петре Первом.
Высокая каменная стена опоясала монастырское угодье. Скрадывались среди высоченных елей и сосен храмы, покои игумена, келии и гостиные дворы.
После полудня монах-привратник, гремя засовами, распахнул ворота и пропустил вороную тройку. Подкатив к игуменским покоям, кучер остановил коней, из экипажа вышла Агапия Власовна.
В узкие стрельчатые окна приемной горницы игуменского покоя глядит хмурый дождливый день. Стены и сводчатый потолок расписаны фресками. Киот с иконами. Огни лампад. На тяжелом дубовом столе самовар, чашки, вазы с вареньем, крендели. В кресле, откинувшись к высокой спинке, сидит худой старик, положив руки на подлокотники. Обвислые брови прикрывают его глаза. Жиденькие пряди седых волос выбиваются из-под клобука. Борода белая, не шибко густая. Иеромонах Дементий правит мирскими делами монастыря. Много у монастыря мирских дел: рыбная ловля, пасеки, лесосплав, смолокурение, углеобжигающие печи, кирпичные заводы и золотоносные прииски. Напротив него сидит дородный чернобородый иеромонах Паисий, монастырский казначей. Агапия Власовна, допив чашку чаю, встала из-за стола и принялась ходить по горнице. Говорит жестко, всякое слово четко и раздельно произносит.
— Вижу, нет у вас, отцы, смелости признать, что по вашей указке были схвачены и избиты в монастырских лесах рудознатцы господина Муромцева. Рудознатцы прямо говорят: били их монахи.
— На Камне не один наш монастырь. Может, били их монахи иной обители, — вкрадчиво сказал монах Паисий.
— Какой обители? В соседях у вас только женская, в Колчедане.
— Про то, Агапия Власовна, не ведаем, но только наши иноки в битье ваших людей неповинны. Монахами у нас и тати наряжаются. У твоего барина есть среди заводчиков недруги. Особо теперь, когда он медные руды под свою власть подбирает. Окромя того, зачем ваши люди в монастырских лесах вздумали бродить? Чего им понадобилось? Главное, не испросив на то наше благословение.
— Неужели дали бы дозволение?
— Нет. Мы в чужие леса не лазим и к себе не допускаем, — вразумлял Паисий.
— А чьи пасеки нонешним летом по берегам озер развели? Озера-то моего барина. Тоже дело вершили без дозволения господина Муромцева. Выходит, к себе не пускаете, а сами в чужое место залазите. Так аль нет?
— Был грех. Сама знаешь, места там по взятку медосбора богатые. Вы-то не пользуете их под пасеки, вот мы и осмелились… Винимся, не удосужились соизволения от твоего барина раздобыть, — заискивающе произнес монах Дементий.
— Да и не собирались. Думали, на отшибе озера, не заметят. А наши люди заметили.
— Другая причина на грех навела, Агапия Власовна. Берем мы из ваших озер воду для приисков. Платим за нее барину не скупясь, вот и решили, что уж невелика наша ослушность, ежели пчелиное государство в тех местах разведем, а осенью, Христос свидетель, господину медком бы отплатили. Ты уж, сделай милость, не говори о сем барину.
— Ежели признаете свою вину, что били рудознатцев, то не скажу.
— Ладно. Хоть наши иноки и не били, берет обитель на себя ответ за чужой грех, — примирительно сказал монах Дементий.
— А кто слух пустил по краю, что перед моим барином монастырь ворот не растворил?
— Аль живет такой слушок?
— Живет, отец Дементий. Тимофей Старцев мне про это сказал.
— Зря такой грех на душу взял. Такой слушок, поди, встревожил барина?
— Пропускает мимо ушей.
— Заверь его, что обитель в сей клевете неповинна.
— Безгрешно живете?
— По-нашему иноческому разумению — безгрешно, а народ все одно нас в греховности винит. Дозволь тебя спросить вот о чем. В испуге обитель, как прошла молва, будто болярин надумал откупить у казны Каменский завод под свою хозяйскую руку. Ужель станет сызнова в нем огонь будить?
— Не слух это.
— Какая же выгода барину мертвый завод покупать, коли железной руды в ближних угодьях нет? — удивлялся Паисий.
— Меди много в монастырских землях. О ней с вами приехала беседовать.
— О чем поминаешь, Агапия Власовна? Какая медная руда? Железная — в давности водилась. Всю ее из земли выгребли да переплавили. Посему Каменский завод загасил огненные печи, — развел руками Дементий.
— Знаю. На железо ваша земля оскудела, но медную в ней никто не шевелил.
— Не доводилось слыхать о таковой, — убеждал Паисий.
— Слыхали. Признать не хотите, что самородную медь в земле хороните. Будет мой барин ее на пользу государства плавить.
— Кто же это распознал о сем? — спросил Дементий.
— Я распознала. Аль не жаловался вам инок Кондратий?
— Не жаловался, но будто болеет, вернувшись из лесу.
— Вздумали ваши иноки меня в лесу схватить, да просчитались. Баба с виду недородная, но в руке сила есть.
— Стало быть, осмелилась ты?
— Осмелилась. Узнала нужное. Заехала сказать, что барину ваши земли понадобятся.
— Не ошибись, Агапия Власовна. В монастырские земли владения Тимофея Старцева во многих местах вклиниваются. Он хозяин крутой. У него тараканы, и те на учете. Старцев перед самим генералом Глинкой не пугается, — участливо говорил Паисий.
— Будто наши земли с вашими не сливаются? Со Старцевым будет особый разговор. Вас помогать не попросим.
— Не по-доброму с нами речь ведешь, будто для нас вовсе чужая.
— Мой барин меня доверенной от себя послал. Бумагу о сем читали?
— Может, надумали отнять меднородные земли у монастыря? — недоумевал Дементий.
— О том с барином договоритесь.
— Не про все знаешь, а величаешь себя доверенным лицом.
— Лежащие втуне даром берем, а иные станем откупать. Царский указ всем хозяевам для раздумий срок дает. Не начнете через полгода руду добывать, не останетесь хозяевами.
— Не простит тебе игумен самоуправства по огляду наших угодий. Генералу пожалимся, — строжил Дементий.
— Жалуйтесь.
— Земли с медью монастырские. Воля над ними Царя Небесного!
— До него, отец Паисий, далеконько. Земной царь поближе, да и воля его есть, на бумаге прописанная.
— Не твоим умом, девка, о таком судить.
— Не девка перед тобой, а вольная баба стоит!
— Зря толкуем. Подзапоздал твой барин к нашей меди. Отдано медное богатство под защиту Старцева, — вздохнул Паисий.
— Стало быть, продали без ведома царя земного? Когда со Старцевым сторговались?
— Сама у него спроси.
— Спросим, ежели понадобится.
— Дай бог! Дай бог! — Паисий возвел глаза вверх.
— Так… Испужались, что барин оживит Каменский завод. Боитесь работных людей потерять, некому будет на вас спину гнуть, когда рудники объявятся. Станут рабы божьи медь робить, а вам придется, подобрав рясы, поля обихаживать. Упрямиться надумали? Жаловаться генералу аль еще кому? Так слушайте на это бариново слово: не даст вам больше воды из озера. Чем станете золото вымывать?
Иеромонах Дементий замахал руками, крикнул:
— Ты на меня, старец, не кышкай, не кошка. Слышал, чего сказала? Барина Муромцева знаете. Редко шутит.
— Погоди. Слово-то вырвалось у меня от испуга. Ведь про что сказала. Подумай! Как можно у нас воду отнять? Не злобись, Агапия Власовна. Утро вечера мудренее. Завтра обо всем дотолкуемся.
— Недосуг мне у вас гостить. Все сказала. Время для раздумия даю вам две недели. Побеседуйте. Одумайтесь от упрямства. Не одумаетесь — останетесь на приисках без водицы.
— Покриви душой ради обители. Не грех, Агапия Власовна. Донеси барину, что немудрая медь в наших землях. Не себе ведь ее возьмешь. От правды не разбогатеешь, а мы от своей бедности вознаградим тебя. Молиться за тебя станем, — егозил Дементий.
— Врать барину не стану…
— А ежели… — помрачнел Дементий.
— Давай зачинай Страшным судом стращать. Не пужливая. По всякому пуганная, а все одно — живу.
— Пугать не станем. Но упредить — упредим. Время на Камне баламутное, а ты одна по лесам бродишь. Народ разный осередь нас. Вдруг кому не поглянется, что по воле барина нашу обитель задеть надумала…
— Спасибо за упреждение. Вдругорядь посильнее монахов посылайте на меня. Домой подамся — стану по сторонам поглядывать. Только, говорят в народе, кому суждено на постели помереть, того не утопишь. Через две недели шлите гонца к барину с согласием. Не прискачет гонец — без воды останетесь. В ваших песках, сказывают, не постное золото. Жалко поди станет, что в песках оно, а не в монастырской казне. Мир и здоровье желаю на прощание.
— Как же нам теперь со Старцевым обойтись? — спросил Паисий.
— Не моя забота.
— Обожди до утра. Ненастье. Вот-вот ночная темень падет.
— Поеду. Надо еще у матери Ираиды в Колчеданском монастыре побывать.
— Вот у ихнего монастыря хорошая медь.
— Не лучше вашей, отец Паисий.
— Трудно будет тебе с Ираидой. Упрямица.
— У меня и для нее найдется слово для сговорчивости. Знаю, что на ваших приисках есть и ее интерес.
Агапия перекрестилась на образа, поклонилась монахам.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
1
Сентябрьские утренние зори полыхали нежными красками в густых молочных туманах. Росы осветлили изумрудность листьев и травы. Мох становился ломким. Ветер уже без ласковости встряхивал кудрявый кустарник. Подходила осень…
Василиса Карнаухова доживала в Ксюшине месяц.
От постоянного движения, от прямого участия в своем привычном золотопромышленном деле она заметно приободрилась.
Карнаухова чувствовала, как кипучее бурление приисковой жизни заставляло ее совсем забывать про нажитые к старости недуги. В сопровождении Анисьи она побывала на промыслах. Учиняла розыски, пробирала за худые, на ее взгляд, провинки. Побывала на приисках на речке Василисин Погляд. У деда Фотия прогостила два дня…
Густым бисером звезд усыпано над селом синее небо. В речных заводях, в камышах крякали дикие утки. Напротив Ксюшина, за рекой, горный кряж расколол берег зубьями скал и валунами засыпал реку, заставив ее вспенивать и крутить воронками течение. Высокие ели и пихты, вереск росли среди скал. Стояла здесь избушка паромщицы старухи Федосьи Следковой.
Старуха Федосья на реке давняя жительница. Жила на ней с двадцати восьми лег, убежав в лес из Тагильского завода от беспутного мужа. Поначалу жила тем, что вместе с такими же беглыми хищничала золото в тех местах, которые тогда еще никому не принадлежали. На реке повстречалась с Тихоном Зыриным, высмотревшим пески для богатства Карнауховой. Почти сорок лет жила в этих местах, из них четверть века работала на Карнаухову, пока не обезножила от ревматизма, но не утеряла силы в руках.
Горел на пригорке перед избой Федосьи костер. Напористый ветерок раскосмачивал дым с блестками искр, гнал едкую для глаз пахучесть на кусты вереска, стелил на реку.
Костер разгорелся, весело полыхал. Его заметили на речных промыслах, и потянулись к нему люди. Первыми пришли женщины с чернобородым Семеном. На всех промыслах Семен слыл за мастера сказов про лесное колдовство, про Змеевку, Полозову дочь, про ужасти Синюхи. Из села на лодке приплыли старатели, а с ними и дозорный за пасекой старик Панфил-табашник. С виду он мужик хмурый и неприветливый, но по нутру характером балагур и весельчак. Сначала разговор не клеился. Потом Панфил начал говорить о жужелках-самородках, отысканных гнездышками. Женщины, осмелев, тоже порассказали о своем повседневном. И пошла беседа про разную людскую молву, которая то грязнит жизнь работную, а то и радостью ополаскивает.
Народ у костра все прибывал и прибывал.
— Оно правильно, — сказал Панфил, — людская молва, как грязь, ко всему прилепиться может. Молвит какой человек про воробышка, а людская молва пойдет о сем и изладит из воробышка большущего коршуна.
— Так всегда, — поддержал Семен, — звон Сказка на Урале важничает в расписных сарафанах. А глядишь, Быль на Урале носит латаный-перелатаный зипун. Дружат Сказка с Былью, потому по просторам края всегда гуляют в обнимку. Треплет ветер сарафан Сказки, спутывается его подол с полами зипуна. Были, сразу и не распознаешь, кто из них по тропе шагает: то ли Сказка прячется за спину Были, то ли Быль выряжается в сарафан Сказки. Вот как…
С реки донеслись частые всплески воды под веслами.
— Тише, люди! Плывет кто-то к нам, — сказала Федосья. Она встала и, подойдя к самой воде, крикнула: — Кто ко мне плывет?
В ответ из темноты услышала звонкий женский голос:
— Я плыву, бабушка Федосья. Глашка, Сучкова Глашка. У тебя, поди, народу полно?
— Причаливай, погляди. — Федосья вернулась с берега к костру.
И все услышали с реки сердитый мужской голос:
— Да не елозь, Глашка! Лодку опрокинешь! Двадцатый год тебе, а все одно как малое дитя.
Только лодка ткнулась носом в берег, Глашка выпрыгнула из нее и побежала к костру. Мужик, вытащив лодку на песок, пошел за ней следом. Подбежав к костру, Глашка, улыбаясь, сказала:
— Здрасте, кто живой! Чего будто все во грустях? Бабушка Федосья, к тебе с какими новостями! Диву дашься.
— Нет, девонька, сейчас со своими сплетками погоди, — сердито сказал Панфил.
— Да у меня, дедушка, разве сплетки? Гусар седни у Карнаучихи в гостях был.
Сидевшие около костра, не сговариваясь, от удивления все разом сказали:
— Гусар у хозяйки был? — переспросила Федосья.
— Вот те крест, был, бабушка.
— Садись и сказывай.
Глашка села на бревно рядом с Семеном и, оглядев всех, сказала:
— В четвертом часу Гусар со Старого завода в Ксюшино прикатил. Впервой его живого повидала. Глаза злющие, а сам — заморыш.
— Без тебя знаем какой. Дело говори, — торопила Федосья.
— Карнаучиха об эту пору с Анисьей в саду под черемухами чай пила. А я на эту встречу из Анисьиной избы глядела, я у Анютки гостила. Сел Гусар за стол, разом повел занозистый разговор. Тихона Зырина стал костить. Он-де крамольник, он-де… Хозяйка наша нахмурилась, а Гусар так и сыплет поклепами на Тихона, так и сыплет! Боле всего напирает на то, что Тихон на руднике в глухомани кержаков возле себя грудит. Стал требовать, чтобы хозяйка приструнила Тихона, велела ему прогнать кержаков. Кричит на хозяйку! Ну она тоже сама на Гусара голос подняла. Выгораживает Тихона. Говорит, что он не махонький паренек, за свои дела может ответить. Говорит, что не вольна ему приказывать, потому он теперь сам себе хозяин. А Гусар слова ей ладом сказать не дает, свое поет. Грозит царский закон на Тихона поднять. Войско против Тихона грозит на рудник послать. Говорит, что Тихон замыслил его убить, что Карнаучиха сама его на такое темное дело науськивает.
— Глашка, смотри у меня — к пересказу барской ссоры своего не добавляй! — Федосья погрозила девице.
— Да что ты, бабушка Федосья! Какое там прибавлять! Убавляю, потому коротенько говорю… «Дворянин, — говорит, — я. Меня сам Господь в обиду не даст. Вас обоих в Сибирь зашлю за темные помыслы супротив меня». Как только он про Сибирь помянул, хозяйка и звякнула кулаком по столу: «Молчать, — говорит, — передо мной! Ты передо мной гость!» А Гусар свое орет: «В Сибирь за зачин бунта супротив закону!» Карнаучиха из-за стола выскочила и кричит: «Вон из моего дому! Второй раз тебя со своего двора гоню». Этими словами она проняла Гусара. Он примолк. Шагнул было к ней. Я даже глаза прикрыла от страха. А вдруг, думаю, бить хозяйку начнет? Но он только обругал ее не по-нашему, выбежал из саду, на коней и укатил.
— Как думаете, чего теперь будет?
— А то и будет. Волк на волчицу зубы оскалил, а из нас слезы с кровушкой потекут, — сказал приехавший с Глашкой мужик. — Зачнет теперь из своего пруда воду спускать да наши делянки водой заливать. Зря Карнаучиха с ним задралась.
— Ты, Гаврила, рано панихиду служишь.
— Дело говорю, Панфил.
— Вот увидите, православные, Гусар зальет нас водой, а все свалит на кержаков.
— Ты, Анна, про такое даже думать не моги.
— Не сама надумала. Люди на промыслах об этом бают. Боится народ, что старая плотина воду в пруду не сдержит.
— Молчи про такое, Анна! Вот ведь какие у нас здеся дела! — растягивая слова, сказал Семен. — Ну и новость ты нам привезла. Вот тебе и молва! Пошли, девки и бабы, по домам. Прощай, Федосья!
На ближних от Ксюшина приисках уже второй день не спорилась работа. Весть о ссоре Карнауховой с хозяином Старого завода и возможность губительных последствий всполошили старателей. В спорах и пересудах разгорались страсти, и больше всего шумели женщины.
Карнаухова о всполохе на промыслах узнала от Анисьи, позвала паромщицу Федосью и заставила ее подробно повторить все рассказанное у костра Глашкой.
После отъезда Муромцева из Ксюшина Карнаухова тотчас послала Анисью к Тихону. Не зная, как поведет себя заводчик после ссоры, она велела передать Тихону, чтобы был осторожнее и попрятал раскольников.
Возвратившись от Тихона, Анисья сообщила хозяйке, что на рудниках пока все спокойно. Тихон, узнав о ссоре, не придал этому большого значения. После частых за последнее время наездов на рудник разных горных доглядчиков от генерала Глинки Тихон уже давно принимал меры для укрытия своих кержаков в глухомани. Где находится такое место, он отказался сказать даже Анисье, упомянув только, что летом туда доступ крайне опасен из-за непроходимых болот и трясин.
Карнаухова, дождавшись Анисью, отправилась с ней на прииски. Она растолковывала людям, что из-за ее ссоры с Гусаром старателям никакого худа не будет. Но если заводчик вздумает прииски залить водой, то она найдет на него управу.
Спокойствие хозяйки и твердость ее слов угомонили людской всполох, и, возвращаясь домой, старуха была довольна, что удалось уговорить старателей возобновить работу…
Внезапно налетевшая гроза быстро отшумела. Дождь прекратился, и теперь уже далекие раскаты грома еле слышны. Частые вспышки молнии теряют силу, не так ослепительны.
Окна в горнице Карнауховой растворены. На столе в канделябре горели свечи, колебалось на них пламя от дуновений ветра, приносившего запахи мокрой зелени и земли.
Карнаухова лежала в постели. Хотела было погасить свечи, но в горницу вошел Кирилл:
— Уже легли, матушка?
— Здесь, сынок, иной раз я укладываюсь в одночасье с курицами. Натопаюсь за день и скорей в постель. Поговорить пришел либо просто матери покойного сна пожелать?
— Хотел поговорить, но вижу, не ко времени. Больше недели возле вас, а поговорить не можем. А ведь есть о чем.
— Слыхала, что ты сегодня с утра к Сергею ездил.
— Весь день провел с ним.
— Что повидал? Беседовали об чем? Может, и надумал что, поглядев его работу?
— И повидал. О многом поговорил с парнем и многому удивлялся.
— И я удивлялась, хотя в его мастерстве меньше твоего смыслю.
— Большой дар ваятеля у Сергея. Надо его в столицу везти. Ничего не жалеть для его обучения. Потому, матушка, сейчас даже представить трудно, какая слава дастся в руки парню.
— Это, сынок, Карнауховым только на пользу. У кого в Уральском краю такой мастер по ваянию объявился? А? Да все у той же старухи Карнауховой. Не ошиблась, откупив Серегу, чуяла, что мастера в руки взяла. А ты, Кирюша, совсем молодец. Посылая тебя к Сергею глядеть на мраморную статую, по правде сказать, маленько побаивалась, что, будучи сам художником, не захочешь с должным вниманием отнестись к парню.
— Напрасно так думали.
— Может, и напрасно, но основания для этого имела.
Не под моим поглядом живешь. Знаю: набалован похвалами, а от этого можно и не найти разумного суждения о даре другого человека.
— Простите… — Кирилл хотел возразить матери, но передумал.
Наступило молчание. Карнаухова лежала, прикрыв глаза, навивая
на указательный палец руки седую прядь волос. Кирилл походил по горнице, остановился у окна.
— Хорошо, что гроза пролилась, а то весь день беспокойство томило разум… Матушка…
— Слушаю, сынок.
— В государстве нашем немало истинных талантов родится, о коих мы не ведаем, те же, о ком молва идет, часто сбиваются с истинного пути.
— К чему сейчас об этом сказал?
— К тому, что надо серьезно подумать, кому в столице доверить судьбу Сергея Ястребова.
— Подумай. В Петербурге ты свой человек. Надеюсь, найдешь дельного наставника. Может, возьмешь Сергея с собой, когда решишь в столицу вернуться?
— Ксения лучше моего о нем позаботится. Но письмо Венецианову о Сергее напишу.
— Сядь, Кирюша.
Кирилл сел в кресло около стола, но через минуту вновь встал:
— Не буду долее тревожить вас. Покойной ночи, матушка.
— Погоди. Ведь не о Сергее зашел поговорить со мной? О нем речь завел, видать, чтобы умолчать вовсе о другом.
— Утром поговорим.
— Ну нет. Отогнал сон от меня, так, будь добр, все выкладывай. Который день вижу, что не в себе ты. А уж ежели зашел ко мне, то, значит, понадобилась тебе мать.
— Сейчас коротко скажу.
— А это уж как получится. Может, помочь тебе началом разговора?
— Хотя бы о том, что зачастил ты к Настеньке Квашниной.
— Причина на то была…
— Отчего же скрывал ее от матери? Может, сынок, полюбил?
— Я видел ее почти каждый день. Душой тянулся к ней.
— А в Настенькином сердце нашлось место для твоего чувства?
Карнаухова, порывисто приподняв голову, оглядев сына, села на кровати, охватив руками колени. Кирилл встревоженно спросил:
— Что с вами, матушка?
— Ничего. О серьезном не хочу лежа разговаривать. В чувстве признался Настеньке?
— Ну и хорошо. А как узнал, что нет взаимности?
— Совсем случайно. За другого она просватана.
— От кого узнал про такую случайность?
— Сама сказала.
— Ну и слава богу. Плохого о ней ничего сказать не могу, но, как мать думаю, не такая тебе нужна подруга жизни.
— Как вы можете говорить об этом так спокойно?
— Расчувствовался ты, а не я. Чего ж нам обоим волноваться? За свои чувства я отволновалась. Стало быть, станешь в Петербург собираться?
— Нечего мне там делать. Дома буду жить.
— Горазд ты, Кирилл, необдуманные обещания давать.
— Об этом еще в Петербурге решил.
— О Любаве помнишь?
— Вы же знаете, мы с ней расстались.
— Да какое там расставание! Просто в плохом настрое не те слова друг другу сказали. Любава теперь — вольная птица. Вот она, сынок, тебе пара. Чуть не первая красавица во всем крае. Умная баба, хотя не без придури, а все оттого, что постигла свою силу над мужицкой волей.
— Мы расстались. Чего ж тут говорить…
— Верно. Друг на дружку не глядите, зато памятью один о другом живете. Вот ты сейчас на себя в зеркало погляди. Сразу ожил, как о Любаве сказала. Расстаются, да снова невзначай, но с давним намерением встречаются. По старой тропке легче ходить, чем новую протаптывать. Не посмеешь ведь сейчас слово бросить, что не нужна тебе Любава? А ведь она тебя любит. Сама мне призналась.
— И мне об этом сказала. Но тогда мысли мои были будоражные, не улеглись после Москвы да Петербурга…
— А у вас, мужиков, всегда так. Возле одной хорошо, а к другой тянет. Зря из-за сердечной неудачи ты, как несмышленый парнишка, готов голову потерять. Да разве сможет кто изжить из твоего разума Любаву? Нет, Кирюша! Я знала, кого пустить на твою жизненную тропу. Велика в Любаве сила бабьего очарования. Может она завладевать разумом. Есть такие бабы, кои родились властвовать над мужичьими чувствами. И не дано мужикам, испившим сладость их ласки, отходить живыми от них в сторону. Не быть тебе без Любавы. Без тебя ей тоже муторно. Во все тяжкие, слышно, дурью мучается. Но баба гордая. А может, знает, что памятью о себе все равно тебя подманит, когда захочет. Любаву тоже не сразу раскусишь.
— Может, мне…
— Не спеши, сынок… Не спеши… Пусть время свое слово скажет. Ревность Любаву от тебя отогнала. Баба поверила слушкам кумушкиным, что частишь гостем у Квашниных. Вздыбилась. Теперь надо ждать, когда слушки о просватаньи гранильщицы ее стреножат. Стыд ее помучает, когда узнает, что сама горемычность себе сотворила. Вот тогда, может, и встретитесь по-иному. Время свое слово скажет, не сомневайся. Тогда, пожалуй, и я слова поперек не скажу, ежели надумает Любава заместо Порошиной в Уральском крае Карнауховой величаться. Конечно, ежели до той поры не натворит чего да не размотает унаследованные капиталы. Слух идет: покойник немалые деньги ей оставил. Так-то вот, сынок. Ступай, потому не по годам мне из-за пустяков полуношничать.
Кирилл простился и ушел. Карнаухова встала с постели, закрыла окна, но свечи не погасила. Побродив по горнице, села в кресло у стола и громко сказала сама себе:
— Теперь не засну, пока все жизненные закутки памятью не обойду.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1
Загуляла осень по Уралу со студеными утренниками в седине обильных рос.
Березы первыми выряжаются в желтые сарафаны, а по ночам прохлада до синяков нащипывает листву осин. Только хвоя сосен, елей, кедров остается зеленой и от дыхания осени постепенно темнеет.
В природе появляются новые шумы и шорохи. Глуше шелестит рыжеющая спутанная осока, стальным звоном позванивают рапиры камышей, прищелкивая, раскрываются переспевшие шишки кедров. Наливаются красным цветом брусника и клюква, в болотах янтарится морошка.
По вечерам к пряслам слетаются на вечевые сходки вороны, а ранними зорями в небесах вместе с хмурыми облаками тянут на юг лебединые и гусиные стаи.
Осень радетельной кастеляншей ходит по Уралу, подметая парчовым подолом опавшие листья. Под заунывные высвисты ветра льют дожди. Листва с деревьев опадает без торопливости, устилая мягкими шуршащими коврами потемневшие поляны.
Непогода чередуется с бодрящими погожими днями, когда в бездонных с зеленовато-голубым отливом небесах высоко-высоко проплывают курчавые облака, похожие на шкурки мерлушки…
Над Ксюшином солнце взошло в густом розовато-белом тумане. Взошло горячее и яркое. Туманы, подсыхая, прижались к земле. Наступал не по-осеннему ласковый ясный день.
Провожаемый петушиными спевками, Кирилл Карнаухов утром выехал из села, направляясь в Екатеринбург.
Проводив сына, Карнаухова загрустила и велела Анисье созвать к вечеру на хоровод приисковую молодежь. В третьем часу пополудни Карнаухова решила вытребовать к себе Ксению и Сергея Ястребова и послала за ними Анюту. Обрадованная неожиданной оказией повидаться со Степанком, Анюта, оседлав лошадь, погнала на каменоломни.
Стратоныч сидел на своем крыльце с повязанной щекой, мучаясь от зубной боли. Он видел, как Анюта остановила лошадь у избы, в которой жила молодая хозяйка. Анюта, не застав Ксению дома, пошла искать Степанка. нашла его в одной из мраморных ям, узнала у него, что Ксения с Сергеем Ястребовым уехала на лодке на другой берег озера.
Увидев Анюту, Стратоныч, позабыв про зубную боль, издали следил за девушкой, но подойти к ней побаивался, так как Степанко не отходил от нее ни на шаг.
После приезда Карнауховой в Ксюшино Стратоныч вынужден был отказаться от частых поездок на промыслы, чтобы повидать Анюту. Неожиданное появление девушки на каменоломнях с новой силой распалило в Стратоныче чувственное влечение к ней.
Ксения и Сергей приплыли в сумерках. Анюта передала им наказ старой хозяйки, попросила у Ксении разрешения еще немножко побыть со Степанком.
Стратоныч видел, как Ксения и Сергей уехали в село, и углядел: Анюта осталась со Степанком. Сказав Дарье, что ему надо повидать хозяйку в Ксюшине, Стратоныч, оседлав лошадь, подался по дороге в лес.
Анюта за разговорами со Степанком засиделась на берегу озера до восхода молодого месяца. Парень долго провожал ее. Простившись со Степанком, Анюта села на лошадь и рысью поехала по хорошо знакомой лесной дороге. Вокруг нее темнота. В лесу разные шорохи, да сквозь ветви лесин иногда блестел золотом месяц. В лесной тишине гулки стуки лошадиных копыт. Домой Анюта возвращалась радостная. Она сговорилась со Степанком, что утром он явится в село, будет просить у Карнауховой и Анисьи дозволения на покрытие венцом.
Услышала Анюта дробный перезвон била с Оглядной горы, подумала, что дед Огоньков подает весть о далеком лесном пожаре, а может, о новом пожаре в Старом заводе.
Уловила Анюта и легкий шелест листвы осиновой рощи — значит, до Ксюшина осталось ехать не больше трех верст. У поворота на мост через речку неожиданно услышала громкие стоны. Натянув повод, Анюта остановила лошадь, прислушалась. Поехала на звуки. У моста остановила лошадь. Бормотали струи речки. Из темноты снова послышались стоны. Анюте стало страшно, она громко спросила:
— Кто тут?
В ответ услышала хриплый мужской голос:
— Пособите… Сделайте милость… Конь скинул. Ногу порушил. Встать не могу.
— А кто ты?
— Никоном зовут. Карнауховский камнерез. Из расколу я. Пособи, сделай милость. Ты-то кто, девушка?
— Ксюшинская я. Анюта Крюкова.
— Не знаю тебя, девонька. Но все одно, пособи на дорогу выбраться.
— Сичас. — Анюта спрыгнула с лошади. — Темень ужасти какая. Ты где, дяденька? Не угляжу тебя.
— Да здеся я. Канавка тут на самом скате. Шагай на мой голос. Мочи нет, как нога болью горит.
Анюта уверенно шагнула на голос, но через несколько шагов наткнулась на кусты и, услышав громкий мужской смех, оцепенела от испуга.
— Попалась, пташечка!
Анюта узнала голос Стратоныча. Она еще не успела сделать и малого движения назад, как его руки цепко схватили девушку за плечи. Анюта закричала. Но задохнулась, когда ладонь Стратоныча зажала ей рот. Она не могла вырваться из обруча его сильных объятий. Напрягая все силы, Анюта билась в руках Стратоныча. Пинала его ногами. Кусала его плечо.
— Дуреха. Не уйдешь от меня. Натерпелся от твоей гордыни. Намучила меня, изгаляясь.
Стратоныч сильным рывком бросил девушку на землю. Падая, она сильно ударилась головой о пенек, в ее ушах зазвенело…
Над Ксюшином висел золотым серпом остророгий месяц.
Возле избы Анисьи стоял гомон. Пылали костры, и при свете пламени кучились девушки и парни. По знаку Карнауховой девушки с протяжными песнями начали водить хороводы. В самый разгар игры внимание всех привлекла подбежавшая к крыльцу оседланная лошадь. Анисья, подойдя к ней, крикнула не своим голосом:
— Анюткин это конь, православные!
Песни смолкли. Порвались кольца хороводов. Прибежавшего коня обступили все, кто был у избы.
— Не по глазу мне это, — сказал тревожно Еремеич. Он провел рукой по шее коня: — Взмок. Напужался чего-то.
— Может, скинул Анютку в лесу?
— А ты, Степановна, погоди. Крик беде не подмога. Вот что, ребята, — обратился Еремеич к парням. — Ты, Митька. Прихвати еще Паньку, Макара. На коней и — лупите на мрамор. По пути в оба зырьте. Девку надо непременно сыскать.
Парни убежали. Встревоженная молодежь шумела вокруг коня. Одна из девушек выкрикнула:
— А мы чего стоим? Коней, что ли, не видали? Подружку надо из беды вызволить. Айдате со мной, кто темени в лесу не боится.
Ватага девушек, переговариваясь, двинулась, миновала костры и разом исчезла в темноте.
— Сама ее найду! — крикнула Анисья и, сев на коня, пустила его карьером…
Анисья вместе с парнями нашла Анюту в версте от села, лежащей у дороги. Передав ее подошедшим девушкам, сама поскакала на каменоломни. Стратоныча на них не было. Подняла всех камнерезов на ноги и рассказала им о происшествии с Анютой. С ними искала смотрителя до рассвета. Когда собралась возвращаться в Ксюшино, к ней подбежал Степанко. Лицо его осунулось, глаза запали, но взгляд был решителен — он попросил разрешения на венчание с девушкой. Анисья от его просьбы сначала растерялась, но потом, смахнув ладонью слезу, дала парню свое согласие.
Стратоныч, боясь расправы за содеянное, погнал на лошади к Старому заводу. Переночевав на его околице у знакомого пономаря, утром отправился в барский дом. Стратоныча допустили к Комару, тот велел ему подождать приезда барина.
В полдень в Старый завод прибыла Анисья. Она разговаривала с Комаром, но он заверил ее, что Стратоныча на заводе нет, пообещал, если появится, немедленно выслать его в Ксюшино. Заехала Анисья на обратном пути к сторожу на плотине пруда, но он подтвердил: Стратоныча не видел…
В столовой барского дома часы считали минуты десятого вечернего часа, за столом ужинали Агапия и Муромцев. Прислуживал им седой старик, старший лакей Каллистрат. Муромцев недавно вернулся в Старый завод из Екатеринбурга.
Зная привычки барина, Агапия не задавала вопросов, ждала, когда сам обо всем расскажет. Муромцев, мрачный, исподлобья посматривая на Агапию, ел молча. Подали жареного гуся. Каллистрат взял тарелку барина и хотел было положить ему любимый кусок, но Муромцев резко сказал:
— Ступай. Не нужен больше.
Каллистрат, поставив тарелку на стол, поклонился, вышел из зала, плотно прикрыв за собой дверь.
Муромцев раздраженно спросил:
— Тебе, видно, не интересно знать, отчего злой?
Агапия подняла глаза на барина, улыбнувшись, ответила:
— Мало ли у вас причин разгневаться? Появится охота — сами скажете.
— Новую подлость против меня задумали. Новую помеху на пути к меди.
— Может, для моего разумения понятней скажете? Не охоча на загадки.
Муромцев налил в рюмку коньяка, повертел ее перед глазами, рассматривая цвет вина, сказал:
— Серьезную помеху придумали.
— Все те же. Зырин, Старцев и эта… Черт бы ее побрал!..
— Карнаухова?
— Марья Харитонова!
— Толком сказывайте, — повысила голос Агапия.
Муромцев вспылил:
— Не смей на меня кричать!
— Да разве крикнула? Только громче спросила. Стала доверенной вашей, вот и завелись в голосе барские повадки.
Муромцев довольно усмехнулся. Выпил коньяк. Снова налил рюмку и спросил:
— Как думаешь, кто научил их сговориться?
— Ах да! Не сказал главного. Сегодня опять болит голова. Спелись они о совместной добыче меди. Харитонова будет плавить ее в Кыштыме и в Каслях.
— Неплохо порешили… Не послушались вы. Говорила ведь, чтобы взяли с Зырина письменное обещание только вам руду сдавать. На себя пеняйте.
— Главное, их сговор законен. А капитал какой! Генерал сразу встал на их сторону.
— А царский указ?
Муромцев пожал плечами.
— Видать, в нем, на самом деле, не обо всем ясно прописано. Ну и плевать. Хватит нам руды. Есть у меня добрая весть, барин. Утрось гость у нас побывал — монах Дементий из Далматова.
— Согласились, долгогривые, чтобы вы в ихних землях медью распоряжались.
— Вот здорово! Молодчина, Гапа! Как же вырвала согласие у монахов?
— Припугнула слегка.
— Придется сказать, потому сами ни за что не догадаетесь, — хитро улыбаясь, ответила Агапия.
— Плесните винца в рюмочку.
Муромцев пододвинул Агапии свою рюмку:
— Пей из моей.
Агапия маленькими глотками, морщась, выпила рюмку наполовину.
— Припугнула отцов, что не станем воду из озер на прииски давать.
— Гениально! — радостно выкрикнул Муромцев, — Черт знает, какой у тебя светлый ум! Я бы до этого никогда не додумался.
— Зачем вам себя утруждать? Доверили мне, вот и думаю. Вашим именем все излаживаю, а думать, слава богу, умею.
— Так, может быть, для трех дружков что-нибудь придумаешь? Может быть, отобьешь у них охоту со мной из-за меди тягаться?
— Попробую. В полнолунье у меня мысль светлеет. Станет луна в полную силу светить, тогда и надумаю.
— Ничего для тебя не пожалею!
— Мне ничего не надо. Забавляюсь тем, что люди против своей воли меня слушают. Монахи, коих, кажись, ничем нельзя было осилить, покорились бабьей хитрости.
— Но не забывай: Старцев — орешек для крепких зубов.
— Мужик. С ним и по-другому можно договориться.
— Не сметь! Даже думать об этом не смей!
Агапия залилась звонким смехом:
— Вот радость узнала нежданно. Стало быть, вовсе в моем кулачке, барин, ежели от слов ревность вспыхивает?
— Не смей меня пугать! Ты же знаешь. Сколько раз просил.
— Ладно. Шутила.
В столовую вошел Комар. Муромцев недовольно спросил:
— Что надо?
— Привел его, как приказали.
— Кого привел? — обронила Агапия.
— Смотрителя с мраморного рудника Карнауховой, — ответил Комар.
— Пусть войдет.
Комар приоткрыл дверь. В нее нерешительно вошел Стратоныч. Остановился у порога, зажмурившись от яркого света. Поклонился в пояс.
— Чего жмуришься? — спросила Агапия.
— Он, мадам, весь день просидел в подвале, — ответил за Стратоныча Комар.
— Не тебя спрашиваю. Сам он говорить может.
Стратоныч, встретившись со взглядом Агапии, опустил голову.
— Конфузишься, рыжая сволочь! Вспомнил, что видала тебя в Кушве, когда была в другой лопотине.
— Не знала, что он прибежал к нам? — удивился Муромцев.
— Откуда же мне знать, ежели Комар в доме меня не признает? Сам все решает. Ни дать ни взять — хозяин.
— Извините, мадам, не хотел беспокоить вас из-за такого пустяка.
— Будет врать. Выслужиться хотел перед барином.
Стратоныч с опаской смотрел на Муромцева. Видел его впервые,
хотя всякого про Седого Гусара наслушался.
— Зачем пожаловал, исовский волк? В гости аль мимоходом?
— За барской милостью, Агапия Власовна, — тихо ответил Стратоныч.
— Вон как? Аль Карнаучиха не кормит?
— Под барскую руку вашего барина явился.
— А он тебя вроде и не приглашал. Чудно, барин, какие гости по воле Комара наведываются к вам.
Муромцев уставился на Стратоныча. Тот от взгляда его холодных пьяных глаз слегка попятился. Агапия снова спросила:
— Зачем тебя к нам хозяйка послала? Что выведать велела?
Стратоныч молчал.
— Спрашиваю. Оглох? Василиса Мокеевна — баба хитрая. Все ладит чужими руками.
Муромцев ударил по столу кулаком:
— Отвечай!
— Убег от Карнаучихи. От ее истязаний убег. За всякую малость на мраморе хлестали до беспамятства, да еще…
— Врешь! — оборвала Стратоныча Агапия.
— Ей-богу, не вру.
— Зачем послан? Каков приказ хозяйки?
— По своей воле убег.
— У меня для вралей свой закон. — Муромцев погрозил Стратонычу кулаком, встал, пошатываясь, направился к нему. — Говори правду!
— Успеете, барин. Докушайте сперва, — успокаивала Агапия.
— Не останавливай! Должен правду узнать.
Подойдя к Стратонычу, Муромцев замахнулся на него, но не ударил, а со стоном, ухватившись за голову, прислонился к стене. Стратоныч упал на колени:
— Батюшка барин, не погуби невинную душу! По своей воле убег.
— Плеть! — крикнул Муромцев.
Комар подал. Муромцев закричал:
— Говори правду!
— Батюшка барин! — молил Стратоныч.
Агапия встала. Допила из рюмки коньяк.
— Однако пойду. Понадоблюсь, знаете где. Ладом, барин, дознайтесь. Комар даже в падали вони не чует. А вы, по доброте своей, нюхача за дельного человека признаете.
— Подожди. Куда ты?
— Помоги дознаться. Возьми плетку.
— Не стану. Пустили в завод без меня, так без меня и правду дознавайте. Да и сами с ним не возитесь. Заприте в подвал до утра.
— Сейчас хочу знать правду!
— Воля ваша. Покойной ночи.
Агапия ушла из столовой, не закрыв за собой дверь.
— Тихон Зырин подослал тебя ко мне? — спросил Муромцев.
— По своей воле пришел. Насмерть забей — другой правды из меня не выхлещешь.
Застонав, Муромцев выронил из рук плеть. Опять схватился руками за голову. Комар помог ему дойти до стола и сесть в кресло.
Стратоныч заговорил сдавленным голосом:
— Из-за девки хозяйка со свету сживала.
— Молчи! Не верю! Зырин подослал?
— Право слово, барин. Против воли хозяйки девку обгулял, а опосля и убег к вашей милости верой и правдой служить.
— Не верю!
— Мужик правильно говорит, — сказал Комар.
— Мужик говорит правду
— Ручаешься?
— Ручаюсь!
— Запри до завтра в подвал.
— И так не убежит. Ступай.
Стратоныч быстро поднялся с пола, вышел из столовой. Муромцев погрозил Комару кулаком.
— Предупреждаю, Комар, если мужик окажется мерзавцем, тебя прикажу выпороть.
— Вы стали очень подозрительным. Стратоныч нам пригодится. Мужик здорово обозлен на Карнаухову Это нам на руку. Он нам очень пригодится.
— Для чего?
— Для чего угодно. Вы только подумайте. Его руками можно кое-что предпринять против Карнауховой и Зырина. Он в ответе за все будет.
— А если его подослали, чтобы убить меня?
— Бог мой, какие мысли! У меня была Анисья Ведеркина. Стратоныч перебежал к нам, обесчестив ее приемную дочь. Ваши сомнения напрасны. А недоверие ко мне — результат неприязни Агапии.
— Молчать!
— Хорошо. Для вашего покоя завтра Стратоныча выдам Карнауховой.
— Дурак! Около себя держи. Может быть, действительно пригодится. Выпей. Ты иногда бываешь умен.
— Предан вам без раздумия.
— Еще бы! У меня тебе неплохо. Обворовываешь с жадностью. Агапия тебя не любит. Приказаниям ее для вида подчиняйся, но поступай по обстоятельствам. Агапия мне нужна. Когда отпадет в ней надобность, всегда найду выход из положения.
— Она теперь вольная.
— На словах. Документ о вольности пока у меня.
— Понимаю.
— То-то же…
В столовую бесшумно вошел Каллистрат и кашлянул.
— Чего тебе?
— Пришел свечи тушить.
Безразлично взглянув на слугу, Муромцев взял со стола бутылку с коньяком и, пошатываясь, вышел. Каллистрат, слюнявя пальцы, тушил свечи. Комар, оглядев стол, взял блюдо с жареным гусем. Каллистрат попросил:
— Поутру не забудьте блюдо на кухню прислать. Повариха с меня станет его взыскивать.
— Занимайся делом и помалкивай.
Комар направился к двери, но появилась Агапия.
— Покойной ночи, Агапия Власовна.
— Поставь, откуда взял.
— Мне позволил господин Муромцев.
— Сказала!
Комар не успел повернуться, как Агапия вышибла из его рук блюдо. Зазвенели осколки. Комар поспешил уйти. Каллистрат бросился подбирать осколки. Агапия подошла к столу, дунула на свечи среднего канделябра и погасила их.
— Почему дозволил брать со стола?
— Разве могу? Хорошо, что на сей раз сами увидели. Сколь разов, не веря мне, за него взыскивали.
— Вот ведь как, Каллистрат. За один раз — увидела и услышала. Гаси остатний огонь.
Агапия дошла до двери, остановилась и, обернувшись, сказала:
— А ведь опять не засну.
— Чать, не в диковину такое?
— Почем знаешь?
— Глаза видят.
— Хороший ты, старик.
— Спасибо на добром слове.
Агапия ушла. Каллистрат, не слюнявя пальцы, загасил свечи.
— Вижу, барин, жить с барским достоинством никогда не научитесь. — Скрестив руки на груди, Агапия ходила по кабинету, говорила прерывающимся от волнения голосом. — Аль из упрямства понять не желаете? Сокрытие карнауховского человека честь вашу марает. На что вам Стратоныч? Аль своих катов мало? Что, если Василиса заявит в городе о его побеге? На Старый завод следователи раньше всего явятся. Приучили одаривать подарками за сокрытие ваших незаконностей. Аль мало поношений приняли от заезжей княгини?
— Не твое дело рассуждать об этом. Стратоныч останется при заводе в ведении Комара. Сам черт не заставит меня вернуть его Карнауховой. Никогда не прощу ей дерзости при последней встрече.
— Сами виноваты. Сунулись обвинять старуху, что замыслила вас со свету сжить. Слушайте больше бабий язык Комара, так не такое еще испытаете.
— Перестань. Сказал — не твое дело. Ты лучше объясни, почему не поехала к Харитоновой? О своих делах забываешь, а в чужие вмешиваешься.
— Не поеду к Харитоновой.
— То есть, как это не поедешь? Трусишь? Монахов не побоялась, а здесь в кусты.
— Монахов на испуг взяла, а Харитонову чем прикажете испугать?
— Попробуй по-умному обмануть.
— На этом вы наторели, а я не успела.
— Думай, что говоришь.
— Аль неправду сказала?
— Замолчи!
— Не орите, и так голос сиплый.
— Ты с ума сошла?
— Нет, покамест в уме. Вот вы больно волю голосом взяли. Может, утихомирить, как прошлый год, когда под дверью моей опочивальни допуска выпрашивали? Могу. Ишь, как зло уставились на меня. Хватайте, что под руку попадет. Не кидаете? Знаете, брошенное могу в обрат кинуть. Все у вас на обмане. За всю жизнь одно хорошее дело сотворили — волю мне дали, а бумагу о том в кулаке зажали. В набат били, извещая народ, а сами врали. Слышала, как спевались с Комаром о моей судьбе. Места не могу с той ночи найти.
— Опять подслушивала?
— Ежели не отправите Стратоныча нонешний день к Анисье Ведеркиной, запрягу коня, поеду сказать генералу, что Комар замыслил недоброе супротив Карнауховой и Зырина. Про себя тоже вашу думу слышала.
— Погоди, Агапия, я, кажется, тогда был очень пьян. Голова болела по-плохому.
— Пословица водится: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Согнать меня задумали? Смотрите, чтобы сама от вас, осерчав, не сошла.
— Послушай, Агапия…
— Досыта наслушалась вашего вранья. Отсылаете к Харитоновой ваше имя крепить, а сами против меня темное замышляете.
— Когда это о тебе с Комаром говорили?
— Позабыли? Тогда ему блюдо с гусем со стола утащить дозволили.
— Какого гуся?
— Позавчерась это было. Стратоныча допрашивали после ужина.
— Но при чем гусь?
— При том, что вышибла его из Комариных рук, когда со стола сволок. Аль не дозволяли ему гуся дожрать?
— Не разрешал.
— Соврал, стало быть?
— Мне, надеюсь, веришь?
— Нет! Не верю! Дурой была, что ране верила. Лаской бабьей одаривала, за жену была, а вы перед Комаром хвастались, что вольную дали мне только на словах. Аль меня, как венчанную жену, в полоумную обрядив, на цепь посадите, когда у вас надобность во мне минет?
Агапия позвонила в колокольчик. Не дождавшись прихода слуги, пошла к двери. Распахнула ее створу. Увидела в двери Каллистрата, закричала на него:
— Трезвонила. Оглох? Комара сюда, немедля!
— Слушаюсь, Агапия Власовна.
Агапия захлопнула створу двери.
— Зачем Комар понадобился?
— Соскучилась.
— Не позволю придираться к нему.
— Погляжу, как запретите.
— Он выполняет мои приказания.
— Тогда заставлю вас не отдавать худых приказаний.
— Да как ты смеешь так со мной разговаривать?
— Не смею?..
— Перестань! Бумагу о вольности держу у себя из-за боязни, что, получив ее, уйдешь.
— Куда? По маковку в вашей недоброй славе утонула. Меня люди хуже вас ненавидят. Думают, что заодно с вами в барыню играю. Не отдадите вольную, сама ее у генерала добуду.
Муромцев торопливо открыл ключом ящик стола, достал из него бумагу:
Агапия взяла от Муромцева бумагу, развернув ее, пробежала глазами. Вошел в кабинет Комар. Почувствовал недоброе, быстро подошел к Муромцеву. Агапия спросила его:
— Слушай. Барин тебе сказал, что только на словах мне вольную дал. Говорил?
— Кажется, говорил.
— Так гляди, бумага о сем из бариновых рук перешла в мои. Уразумел? — Агапия, сложив бумагу, спрятала ее на груди под платье. — Дале слушай. Стратоныча немедля отправь в Ксюшино. Сдашь его под расписку Анисье Ведеркиной.
— Его нет, мадам.
— Куда делся?
— Я приказал тебе держать его в подвале.
— Виноват. Мерзавец меня обманул.
— Врешь! Куда спрятал?
— Именем бога клянусь: мужик убежал.
— Когда убежал?
— Вчера вечером, господин Муромцев.
— Помнишь, что обещал тебя выпороть, если мужик сподличает?
— Его поймают. Как найдут, немедленно отошлю в Ксюшино.
— Врешь! Не убежал Стратоныч. Запрятал ты его. Спросите, барин, куда запрятал.
— Где карнауховский мужик? — послушно повторил вопрос Муромцев.
— Ладно. Сейчас скажешь.
— Не трогай его, Агапия.
— Обязательно трону. Вдоволь от него натерпелась неуважения.
— Нагайки не дам.
— У меня кулаки есть.
Комар кинулся к двери, но Агапия загородила ему путь. Управитель закричал:
— Господин Муромцев, если эта баба тронет меня…
Сильный удар в лицо заставил Комара отшатнуться назад. За
ним последовал другой, третий. Управитель со стоном упал на пол. Агапия пинала его ногами. Муромцев пытался схватить ее сзади, но она вырвалась. Обозлившись, Муромцев схватил с письменного стола нагайку, пошел к Агапии.
— Хлестнешь, барин, станешь слепым по свету ходить. Вот тебе крест!
Муромцев торопливо сказал:
— Что ты? Что ты? Не трону! Успокойся!
— Брось нагайку.
Муромцев выполнил приказание.
— Так-то лучше. Пока живу под вашей крышей, всех заставлю себя признавать!
Комар еле поднялся с полу. Агапия пошла к двери, взглянув на него, сказала:
— Благодари бога, что злоба во мне мимолетная, а то бы в постели отлеживался. Теперь станешь уважать! Я вышибу из тебя подлость. Зайдите, барин, через часок. Поговорим, о чем мне беседовать с Харитоновой. Комара не больно жалейте. Сами обучаете его меня не уважать. Чую, что по вашему приказу Стратоныча спрятал. Но я дознаюсь. Слово даю!
В Кыштым к Марии Харитоновой Агапия ехала в одиночестве.
Легкий экипаж вез вороной горячий конь. Дорога проходила лесом, и на нее ложились косые тени. Горел закат. Залюбовавшись осенним нарядом деревьев, Агапия сдерживала ход коня. Ему это не нравилось. Он отфыркивался, мотал головой, дергая вожжи, надеясь получить разрешение бежать в полную силу.
Агапия охотно в пути отыскивала в своей памяти радостное. А самое радостное давно пережила в избе Тихона Зырина. Побывав недавно у него на руднике, она все сильнее подпадала под власть ожившего чувства. Любовь к Тихону настойчиво заставляла думать о нем. Не раз она порывалась вновь свидеться с Зыриным.
Жить в доме Муромцева становилось тягостно. Если бы Агапия могла куда-нибудь уйти, ушла, не задумываясь. Но места такого не было для нее. Пойти к людям на прииски не в состоянии. Для всех Агапия ненавистна заодно с Муромцевым.
Выехав из Старого завода, она собиралась свернуть с большака на медный рудник Зырина. Но в последний момент раздумала, а вернее, просто не решилась…
Березовые рощи справа и слева от дороги. Деревья в них древние, плакучие. Засыпаны колеи дороги опавшей листвой. Шелестят золоченые березы, но летней певучести в шелесте уже нет.
Донеслась песня. Агапия увидела: впереди вышла из леса на дорогу из березового царства женщина, опираясь на посох. Идет легко. Слышит топот конских копыт, а не оборачивается. Идет и поет. Видать, бесстрашная, если одна не боится вышагивать в осенней березовой бесконечности. Ни корзины в руках, ни пестеря за спиной нет, да и посох в руке женщины без надобности.
Поет женщина, да и песня по напеву нетоскливая.
Агапия ослабила натянутые вожжи, лошадь пошла рысью. Нагнала путницу на мостике через ворчливую горную речку. Остановила коня. Переглянулись друг с другом. Одежда на путнице простая, только платок на голове повязан, как у скитницы. Привлекли внимание Агапии глаза незнакомки, колючие, но незлые.
— Может, по пути? Садись. Босая ведь.
Путница молча села в экипаж. Заметив у Агапии за поясом пистолет, с улыбкой спросила:
— С огнем ездишь?
— Для обережения. Какое время на Камне? Чать, баба.
— Вроде так. Спасибо, что посадила. Денек ведреный, а все одно притомилась. В Катеринбурге была.
— Пошто лесом шла?
— Дорога короче. Лес мне ведомый. Рощами как в сказке идешь.
— Из этих мест, стало быть?
— Уральская.
— Улыбкой обзавелась, оглядывая меня? Аль видались где?
— Припомни.
— Вроде незнакомая мне.
— Позабыть немудреное дело, ежели с той поры годы минули. Шаг-то у них был для тебя не из радостных. Агапия ты. Из скита с Иремель-горы. Так? Ноне жительствуешь подле Седого Гусара.
— Будто впрямь знаешь меня. Тебя не помню. Прости.
— Бог простит. Бывает, иной раз из памяти самая крупная горошина выкатится. По одеже ты вовсе барыня. Видать, заводчик холит твою пригожесть.
— Все знаешь?
— Как не знать, ежели скитскому проклятию не покорилась. Проклятая живешь. Но все же побаиваешься за свою головушку, потому и при пистолете. Жизнью своей со всех скитских беглянок кару проклятия сияла. Старцы и старицы боле не проклинают их. Понимают, что нет силы у их проклятий, ежели ты живехонька.
— Куда шла?
— К Старцеву Тимофею.
— Вот и по пути нам. К Харитонихе в Кыштым подаюсь.
— Зря. Она поутру из города к Тимофею покатила.
— Не врешь?
— С чего бы?
— Тогда и я к Старцеву заверну. Может, свое имя скажешь?
— Так ты… с ним…
— Я самая.
— Слыхала…
— Да и видала ране, только признаться смелости нет… Ко времени из лесу вышла. Судьба мне с тобой к Тимофею вместях объявиться.
— К Харитонихе по баринову наказу едешь? Так опять скажу — зря. С Тимофеем надо беседу затевать. Сговорились они втроем стоять подле меди. Но голова троицы — Тимофей. Знаешь, кто третий? Агапия утвердительно кивнула.
— Ослабь вожжи. Дай коню прыть показать.
— Нырки на дороге, растрясет.
— Бог даст, выживем.
— Изволь. — Агапия хлестнула вожжами коня по крупу, и он понес во всю мочь…
* * *
Трапезная в доме Старцева.
Стол заставлен графинами, бутылками, бокалами, блюдами с жарким, с пирогами, мисками с соленьями. Нависает над столом люстра, литая из чугуна на Каслинском заводе. Горят в ее гнездах свечи.
Старцев с дочерью потчуют гостей.
Растерялась Агапия, когда, зайдя в дом, увидела Тихона. Все заметили ее смущение: здороваясь с хозяином, шевелила губами, а слова сказать не могла. Осмелела, когда почувствовала тепло руки Тихона. За ужином сидела напротив него. Ощущала на себе его взгляд, а сама глядеть на него не решалась.
За столом шумно. Старцев гостями доволен. Харитонова привезла из Екатеринбурга хорошие вести. Промышленники, узнав о сговоре насчет меди, просятся в компанию. У многих есть медь, но не у всех есть капиталы поднять ее на свет божий. А время идет. Кончится полугодовой срок по царскому указу, и придется отдать ее в руки Муромцева. Мало лестного слышала Агапия за столом о своем барине. Харитонова с удовольствием поносила Муромцева, зато хозяина на все лады расхваливала. Агапия тихо спросила ее:
— Видать, Марья Львовна, хозяин дома вам давно по душе?
— Так тебе скажу. За ум Тимофея всегда уважала. Но из-за худой славы о нем, истинный бог, всегда его боялась. Ты, чать, слыхала про такое?
— Слыхала.
Харитонова уставилась на Агапию, но во взгляде под властью хмеля — сочувствие.
— Ты умная, Агапия, а дышишь возле зверя. Весь Камень знает, что Муромцев твоим разумом живет. И как возле него живешь, понять не могу.
— Власовна смелая. Что ей Гусар, ежели ко мне заехать не устрашилась, — засмеялся Старцев.
— Аль запамятовали, что сами приглашали?
— Верно. Приглашал.
— Слышал я, в Екатеринбурге болтают, будто Муромцев тебе вольную дал, Агапия? — с нескрываемой иронией спросила Харитонова.
— Будет про такое, — спокойно, но резко сказал Тихон. — Не нам Агапьину судьбу решать. Свои судьбы у нас не больно радостные. На словах все мы заботливые.
— Погоди, Тихон. Агапия в самом деле стала вольная. Почему скрываешь? — спросил Старцев.
— А чем хвастаться? Ну, вольная, а что из этого? Хомут-то на шее не обновился.
— Правда, что ли? — растерянно, с волнением спросил Тихон.
Агапия посмотрела ему в глаза, ответила:
Харитонова налила полный бокал вина и выпила его залпом.
— Выходит, не зря болтали! Хозяину за угощенье спасибо. Петр Данилович, пожалуй, нам ехать пора.
Хохликов тотчас ответил ей:
— Лошади готовы.
— Нет, Марья Львовна, на ночь глядя со двора вас не отпущу, — сказал Старцев.
— Господь с тобой. Ночь-то лунная. Едем на двух тройках, с надежной охраной.
— Все же, Марья Львовна, от своих слов не отступлю. В кои веки встретились. Посидим, побеседуем. Ведь есть о чем словом перекинуться. Охрана охраной. Ноне никому нельзя доверять. Спросите Агапию, сама при пистолете. Припомните, как в прошлом году меня на дороге подпиленной лесиной чуть не порешили. Хорошо, что за моей спиной нечистая сила, а ведь за вашей ее нетути.
— Чур, чур меня! Скажешь тоже. — Харитонова перекрестилась.
— Пошутил, чтобы попугать. Ведь знаете, как неспокойно на Камне. Останетесь у меня до утра.
— Право, не знаю. Обидеть вас не хочу. Пусть решит Петр Данилович.
— Думаю, что нам лучше остаться, — ответил Хохликов.
— Согласна. Ни в чем не могу господину Хохликову отказать.
— Он молодец. Бережет вас. Возле вас, чать, первый человек с такой бережливостью, — сказал Старцев.
— Не стесним вас?
— Еще что скажете? Домина большой. Горниц всем хватит. Тихон у меня на пасеке спит в избушке. Говорит, она медом пахнет, от этого сны хорошие видятся. Ирина, распорядись, чтобы к чаю стол изготовили, пока мы будем прогуливаться…
* * *
На прогулку из дома вышли все вместе. От луны светло. Ветер обдавал холодком. Басовито шумели сосны. Потом Харитонова и Хохликов намеренно отстали. Агапия с Манефой и Старцевым незаметно за разговором добрались до обрыва. Ветер здесь дул напористо. Манефа, постояв, сказала:
— Без шали-то вовсе студено.
— Ветерок неласковый, — подтвердил Старцев. — Пойдем, Власовна.
— Ступайте, а я побуду тут малость.
— Смотри, не остудись. Время осеннее. Не задерживайся, стол к чаю уже, наверное, изготовили.
Старцев с Манефой направились к дому. На тропинке встретились с Тихоном,
— Аль нагулялись?
— Студено стало без шали.
— Агапия где?
— На обрыве. Ступай и веди ее чай пить, — сказал Старцев.
Агапия смотрела на реку. На воде трепетная серебристая рогожка
от лунного света так и приглашала пойти по ней, как по волшебному ковру, в неведомое сказочное царство.
Агапия не слышала, как к ней подошел Тихон.
— Поглянулось? — спросил он.
Агапия, вздрогнув, порывисто обернулась.
— Напугал?
— Уж больдо тишком подошел.
— По-лесному. Никак мечтала?
— Малость.
— Может, скажешь о чем?
— Поверишь?
— Обязательно.
— Про тебя мои думы.
— И ты всегда в моей памяти.
— С той последней ночи мыслями о тебе живу.
Агапия медленно двигалась по кромке обрыва к синим скалам. Тихон шел следом. Остановилась Агапия, когда увидела возле скал блеск воды — то выливались струйки из лунки родника. Подойдя к скалам вплотную, разглядела, как из трещины в камне по мхам, словно по бархату, стекали крупные капли, падали в чашу из друзы горного хрусталя, излучавшего на лунном свету голубое сияние. Вода, переливаясь через края друзы, бежала по склону обрыва.
— Почему утаивала от меня о вольной?
— Не одинова собиралась заехать к тебе, да смелости не хватило.
— Тогда не побоялась навестить?
— Тогда от лесного огня осмелела. Сказываю, собиралась.
— Лукавишь, Гайа.
Агапия обернулась и отпрянула, увидев возле своих глаз глаза Тихона.
— Вольная, а все еще возле барина.
— Куда велишь податься? К себе не зовешь. Кому нужна, хоть и вольная?
Тихон, обняв ее, прижал к себе. Агапия услышала, как сказал:
— Моя ты, — и тотчас, разжав объятия, пошел от нее быстрым шагом, а в соснах побежал к дому.
Агапия боялась пошевелиться. Ее бил озноб. Но вот шагнула вперед и громко сказала:
— Господи, да неужли?..
* * *
Для Агапии постель приготовили на диване в рабочей горнице Старцева. Из нее выходила дверь на террасу.
Лунные снопы света, просачиваясь сквозь шторки на окнах, пятнали медвежьи шкуры на полу. Шевелились на стенах горницы тени от ветвей сосен, будто шарили большущие руки по развешанному башкирскому оружию, отыскивая нужное.
Доносил ветер собачий лай из села, брякала колотушка караульного за воротами заимки.
Агапия не спала, лежала, подложив под голову руки. Мысли о Тихоне. О чем он думал?.. Отчего не поцеловал ее на обрыве, а ушел, словно в испуге…
Открылась дверь в горницу, и вошла Манефа с горящей свечой:
— Не спишь?
— Нету сна. А ты чего бродишь?
— Не догадываешься?
Манефа, поставив свечу на пол, присела на край дивана.
— Чего уставилась? Аль не похожа на хозяйку?
— Так, стало быть…
— Третий год возле Тимофея. Жена ему перед Господом.
— Ирина про то знает?
— Кажись, догадывается.
— А в скитах знают?
— Упаси бог! — Манефа перекрестилась. — Мой грех… Неужли в самом деле не помнишь меня?
— Вот тебе крест.
— Тогда наведу память твою. Вспомни, как в лесной избушке о мертвом ребеночке убивалась. Набрели мы на твое горе.
— Кажись, вспомнила. Так разве то была ты?
— Две девки нас было и трое скитников.
— Господи! Гляди, взмокла разом вся от памяти. — Агапия вытерла руками лицо.
— Дознались мы опосле, что избушка была Тихонова. Стало быть, и сыночек его был.
— Вот видишь, бабонька, не зря ты сегодня меня в березках повстречала. Видать, к счастью я тебя подвела. Да и ночь седни выдалась бедовая. Луна разум путает. Тихон по пасеке бродит. Так-то вот, бабонька. Однако пойду, а то Тимофей хватится.
Манефа, взяв с полу свечу, встала и пошла к двери, но остановилась и сказала:
— Пошла бы на пасеку. Бабье-то счастье, видать, сызнова возле тебя. Подумай!
Ушла Манефа, плотно прикрыв за собой дверь…
Шевелились на стенах горницы тени. Агапия, поджав ноги, сидела на диване, склонила голову, не в состоянии осилить охватившее волнение. Давно ушла Манефа, а в ушах все еще звучало слово: «Подумай!» Вот в трапезной стенные часы пробили полночь. Агапия спустила ноги на пол. Встала. Торопливо оделась. Колотилось сердце. Отворила дверь на террасу. Лицо окатила прохлада. Шагала босая по холодным половицам. Сбежала по ступеням с террасы. Вышла на лунный свет. Из темноты черным шаром подкатилась к ней сторожевая собака, но не залаяла. Агапия остановилась. Собака, обнюхав ее ноги, завиляла хвостом, зевнула и легла на траву.
Колоды ульев. От них тени на земле. Избушка среди кустов. В ее окошке тусклый свет. Не видать Тихона на пасеке. Неужели Манефа зряшное болтала, чтобы взбаламутить душевный покой?
Постояв в нерешительности, Агапия пошла к избушке. Дверь в нее раскрыта. Она шагнула в сени, из них в горницу. Увидела Тихона у стола. Свечка горела, а он сидел, положив голову на руки.
— Пришла я! — громко сказала Агапия.
Тихон вскочил. Смотрел на пришедшую, будто не верил, что стояла она перед ним живая.
— Пришлая!
Тихон шагнул к Агапии, а она метнулась к нему, прижалась, и совсем задохнулась от счастья, когда Тихон поднял ее на руки…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
1
Садов в Екатеринбурге избыток.
В осеннюю пору городские площади, улицы и переулки густо усыпаны опавшей, мертвой листвой, от ее шевеления на земле слышны настораживающие шорохи и шелесты — озвучивать свой путь по уральской природе осень — мастерица. Деревья она оголяла без торопливости; в осенней окраске, совсем будто по-новому предстали перед людскими взорами привычные обличил домов, несхожих между собой по дородности и убогости…
Оскудела листва на ветвях плакучих берез карнауховской рощи, и опять стали приметными для любых глаз трещины на белых колоннах, украшающих фасад дома. Нежданно оборвалось в его летнем обиходе беспечное житье дворни. И все от того, что из Ксюшина раньше срока вернулась хозяйка. Кирилл же не докучал дворовым своим присутствием — он часто разъезжал по окрестностям Екатеринбурга. Дворня надеялась: Василиса Мокеевна выполнит свое твердое намерение дождаться в селе первой пороши. Но хозяйка решила по-иному. Все обитатели дома не сомневались, что у старухи для этого появились веские причины, о которых велись пересуды, когда поблизости не было ворчливого Тараса Фирсовича. Ему-то эти причины известны, челядь была уверена в том, но у кого же из слуг хватит смелости спросить о них старого камердинера.
С возвращением хозяйки в доме ожила обычная для него суматоха. Гости званые и незваные не переводились с утра до ночи.
На пятый день после приезда старухи из Ксюшина вернулись Ксения и Кирилл, а с ними прибыл и Сергей Ястребов.
У комнатных служанок, наблюдавших обхождение молодой хозяйки с крепостным парнем, от удивления разевались рты. А приказание Василисы Мокеевны изготовить для Сергея постель в серебряной гостиной заставило слуг окончательно растеряться от догадок. Да и как было им не прийти в замешательство: всем известно, что из этой гостиной водится дверь в опочивальню Ксении Захаровны. Правда, дверь много лет на глухом запоре, а у кого хранится ключ от ее замка, знает только Тарас Фирсович.
Первое же появление Карнауховой в соборе у ранней обедни в сопровождении Сергея Ястребова насторожило и озадачило городских сплетниц. Они кинулись за дознаниями про новости на карнауховский двор. Но люди на нем оказались на язык тугими. Несмотря на это, по городу пошли в гулянки слушки о разного рода новшествах в укладе дома знатной миллионщицы…
Солнце садилось при порывах холодного ветра.
Перед подъездом карнауховского дома кучер Патрикей остановил бег вороной тройки. Из экипажа сошла Мария Львовна Харитонова, легко поднялась по гранитным ступеням к белым колоннам и вошла в парадную дверь.
В просторной раздевальне краснощекая девушка с низким поклоном приняла от важной гостьи накидку горностаевую и побежала, шлепая по паркету большими, не по размеру домашними туфлями, но громкий окрик Харитоновой заставил ее остановиться.
— Куда понеслась?
— Знамо, хозяйку повестить.
— Знаешь, кто я?
— А то нет. Харитонова вдовствующая.
— Ишь ты! На язык, видать, скорая. Как это раньше тебя не примечала?
— С энтой весны только замаячила в доме. Потому и не примечали.
— На уральской земле сотворилась?
— Из-под Кушвы родом. Одначе пойду?
— Не надо. Сама в доме все углы знаю.
— Ксения Захаровна в малой столовой чаевничают.
— А старая барыня?
— Ее в доме нету. С час времени куда-то на тройке подалась.
— Та-а-ак! — Харитонова придирчиво оглядела себя в зеркало. Проходя мимо девушки, приветливо потрепала ее по щеке: — Баская уродилась на чью-то мужичью беду.
— А виновата в том, что ли? — оправдывалась девушка, но, встретившись с нахмуренным взглядом гостьи, убежала в людскую.
Стены в малой столовой обиты зеленым шелком с золотыми блестками. На индийской земле выткан шелк, а привезен Ксенией из Петербурга. Вокруг тяжелого стола двенадцать кресел красного дерева. В одном из них ближе к самовару — Ксения Захаровна, напротив нее сидел незнакомый Харитоновой молодой человек.
Увидев гостью, Ксения удивленно воскликнула:
— Марьюшка! Глазам не верю! Ты ли?
— Я самая, Ксюшенька. По старой привычке, явилась незваной, потому на порог дома для меня запрет не наложен.
Расцеловавшись с Ксенией, Мария Львовна подсела к столу. С нескрываемым любопытством разглядывала незнакомца.
— Кто такой, Ксюшенька?
— Разве не знаешь нашего мастера Сергея Ястребова?
— Гляжу на него впервые, но про дар, коим его бог одарил, вдоволь наслышана. Обликом, на мой взгляд, вовсе приятный. Будем знакомы, мастер из-под Оглядной горы. Харитонова я, до замужества — дочь Льва Расторгуева. Родом ты из наших Каслей?
— По глупости покойный муженек тебя Василисе Мокеевне продал.
— Чай станешь пить? — спросила гостью Ксения.
— Налей, ежели не остыл самовар.
— Только подали.
Взяв из рук Ксении чашку с чаем, Харитонова поставила ее перед собой и, не отводя глаз от Ястребова, спросила:
— Василиса Мокеевна куда подалась?
— К генералу Глинке поехала, — ответила Ксения.
— Понятно. Надо ведь полагать, все по делам медной руды хлопочет?
— Нет. Вольную законом утверждает.
— С кого крепость сняла?
— Вот с него.
— Не скажи! — Харитонова поглядела на Ястребова, потом на Ксению. — Неужели худо мастеру без воли?
— Надо Сергею вольным быть.
— Так. Не боитесь, что, став вольным, сойдет от вас дельный мастер? Крепостные на воле позабывают про благодарность своим благодетелям. Все твои фантазии, Ксюшенька?
— Угадала. Мои, Марьюшка. Едет Сергей в Петербург обучаться мудрости ваятеля, сама с ним еду.
Харитонова, поглядывая на Ксению, допила чай, опрокинула чашку на блюдце вверх донышком, сокрушенно вздохнув, сказала:
— Выходит, иной раз дивные дела творятся втайности.
— Сама виновата, что редкой гостьей у нас стала. Берложишь в Кыштыме.
— У меня там хорошо. Леса да горы. В отцовском доме все на свой вкус переладила.
— С Катериной не ссоришься?
— Поладили. Чать, сестры. Зотовскую родню привела в христианский вид. Припеваючи живу в одиночестве.
— В одиночестве?
— Будет, Ксюша, насмешничать над подругой.
— А Хохликов куда делся?
— Петр Данилович при мне. Дельным человеком оказался. Во всем ему доверяюсь.
— Ну и слава богу. При мужчине и вдоветь легче.
— Язык у тебя, Ксюшенька, вовсе без косточек. Чего это оглядываешь меня? Наряд не нравится?
— Все в тебе в самый раз. Жир слила и худобой себя украсила. В глазах эдакий блеск с грешком. Хороша стала.
— Да будет тебе при молодом человеке мои старые кости перебирать.
— Вот, Марьюшка, бывает и так, что ради одного дельного человека душой и телом можно помолодеть.
— Истинно. Верен счет, коли в руках приход. Долго прогостишь в столице?
— Устрою Сергея в хорошем месте и вернусь.
— Ох, милая, не зарекайся. А вдруг на какой тропе петербургской свои старые следы разглядишь?
— Разгляжу и сотру их новой поступью.
— Тебе, конечно, видней. Говорят про тебя в городе.
— Знаю! Говорят! Только ты себя об этом догадками не мучь. Придет время, сама тебе обо всем расскажу.
— Сейчас не скажешь?
— При мастере не хочешь тайну бабьей души раскрыть?
— Просто время не вышло. При Сергее обо всем могу говорить. Он мою тайну знает.
— Так! И на том спасибо. Все же ниточку о твоей правде будто и уразумела. — Харитонова выразительно посмотрела на Ястребова.
В столовую вошла Василиса Карнаухова в сопровождении горничной.
— Здравствуй, Харитониха. — Но, не обняв гостью, Карнаухова сразу же села в кресло. — Клавка!
— Слушаю, хозяюшка.
— Тащи домашние туфли.
— Погоди. Разуй сперва меня.
Девушка, встав на колени, сняла с ног хозяйки козловые ботинки.
— Слава Создателю! Страсть как обутки ноги нажали. Будто огнем их жгло. Генерал мне о том, о сем говорит, а у меня одна мысль: скорей до дому добраться, да разуться.
Карнаухова встала, в чулках подошла к самовару, пощупала его бока ладонями и, довольная, сказала:
— Налей, Ксюша, в самую пору по горячести.
Горничная принесла сафьяновые туфли на беличьем меху.
— Погоди, Клавка, пусть ноги жизнь обретут. Не нужна пока мне. Ступай.
— Как генерал, матушка? — спросила Ксения.
Отхлебывая торопливо горячий чай, Карнаухова ответила:
— Принял хорошо. Про тебя спрашивал, велел кланяться.
— Вольную узаконил?
— А как же! Ты, Серега, немедля к нему поезжай. Пожелал государев хозяин Урала на тебя собственными глазами поглядеть. Высокого мнения о твоем даровании. Я дала согласие, что ты ему покойного родителя из нашего голубого мрамора выдолбишь. Понял? Позабыла, что вольность тебе дала, да, по старой привычке, без твоего согласия наобещала. Так уж сделай милость, не роняй мое достоинство, от моего обещания не отказывайся.
— Я понимаю, Василиса Мокеевна.
— Поезжай. Генерал, сам знаешь, с норовом. Ждет он тебя. На тройке поезжай.
— Я тоже с ним поеду, матушка.
— Совсем дельное надумала. Может, генерал какое поручение тебе даст. Ступайте. Серега, надень то платье, которое Кирилл подарил. Тебе теперь о нарядах надо заботиться. В столице по одеже о человеке судят.
Оставшись наедине с Харитоновой, Карнаухова налила себе вторую чашку чаю, спросила:
— Может, и тебе налить?
— Пила уж.
— Тогда сказывай, каким ветром тебя ко мне занесло? Пожелала просто навестить старуху, либо дело какое нашлось? Приехала за моими новостями или своими надумала со мной поделиться?
— Соскучилась, вот и заехала.
— Решила в городе пожить?
— Нет. Только повидаюсь кое с кем и домой подамся. Ты раньше времени из Ксюшина воротилась. Помнится, обещала пожить в селе до снега.
— Надобность вынудила.
Харитонова, встав из-за стола, ходила по комнате, явно желая привлечь внимание Карнауховой к себе, к своей стати, а та, не обращая на нее внимания, пила чай.
— Василиса Мокеевна…
— Слушаю тебя.
— Чего это Ксюшенька так о Ястребове печется?
— Дурочкой несмышленой передо мной не прикидывайся. По глазам вижу, что догадалась.
— Вроде и догадалась, только ошибиться боюсь. Неужели и впрямь… В сурьез ли она? Раньше любила баловаться с мужиками.
— Тут не баловство. Ты-то как? Слыхала, Седому Гусару дорогу заступаешь.
— В этом я не одна. Главная сила в Старцеве и Зырине.
— Знаю про это. Ох, знаю! От дум про вашу спайку возле медной руды с бессонницей начинаю дружить.
— О Тихоне тревожишься?
— Тревожусь…
— О нем еще одна женская душа тревожится.
— Какая еще душа?
— Человек с духом и плотью. Будто ничего про ту женскую душу не знаешь?
— Прямо говори, Марья Львовна. Не пойму, о чем ты?
— О том, что, не ровен час, придется тебе Тихону Зырину свадьбу справлять.
— Яснее говори! — резко сказала Карнаухова.
— Аль не ясно? — пожала плечами Харитонова.
— Не крути словами.
— Тогда так скажу. Гусарову кержачку Агапью Власовну знаешь?
— Как не знать.
— Так вот она и приластилась с бабьей прелестью к Тихону.
— Слушай, — сдерживая волнение, сказала Карнаухова. — От кого про это дозналась?
Харитонова зачастила скороговоркой с придыханием:
— Самолично была свидетельницей, как она у Старцева на заимке в одной избе с Тихоном ночь скоротала. Понять нетрудно: не устоял он перед греховным делом с такой бабой.
— По какой надобности она у Старцева на заимке оказалась?
— Гусар ее ко мне посылал, а Манефа уговорила ее к Старцеву заехать. Что Агапья лаской Тихона приманила, беды в том для него будто и нет. Но, ежели взглянуть на дело по-иному, то чувствую: она не без злого умысла возле Тихона объявилась.
Харитонова увидела, как после сказанного Карнаухова неожиданно вся подалась вперед, потом со стоном откинулась к спинке кресла, закрыла глаза, нижняя ее губа отвисла и конвульсивно задергалась.
— Что с тобой, родимая? — испугавшись, шепотом спросила Харитонова. — Слышишь меня?
Карнаухова, полуоткрыв глаза, тихо ответила:
— Слышу. Не пугайся. Пройдет. Бывает такое со мной. Разом сердце холодеет.
— О господи! До онемения напугала меня. Как бумага, лицо твое побелело.
— Так, сказываешь, кержачка сердце и разум Тихона взяла в полон?
— Право слово!
— Пожалуй, можно и поверить. Баба она не без рассудка. Да и молодость с себя еще не стряхнула. В этом, Львовна, у баб вещая сила над мужиками. Не врешь, сама видела Тихона с Агапией на старцевской заимке?
— Хочешь, перекрещусь?
— Не надо. Крестом и вранье осенить можно.
— Сказала тебе, потому беду учуяла. Муромцев подослал к Тихону свою наложницу, чтобы выманила у него твои медные угодья, — шипящим шепотом убеждала Харитонова.
— Будет пугать! Может, любит она его?
— Да будет пустое молоть! Какая любовь у Гусаровой полюбовницы.
— У каждой из нас может любовь в сердце гнездо свить, — вздохнула Карнаухова.
— У тебя обо всем свое суждение. Слышала еще, что Агапия частенько к Тихону на рудник наведывается. Не зря Тихон приемыша Петюшку отослал на жительство к Старцеву.
— Все высказала? — жестко спросила Карнаухова.
— Все. Мое дело — сказать, а твое — решать. Гляди, чтобы твои медные угодья не перешли в Агапьины руки, а из них не стали вотчиной Муромцева. У кержачки мертвая хватка.
— За вести спасибо…
В опочивальне Карнауховой французские часы шептали о проходящем времени. На выступе камина в хрустальном подсвечнике догорела свеча.
Не спала Василиса Мокеевна. Третью ночь проводила в полусне. Напугала весть Харитоновой. Неожиданная, недобрая весть, перешагнув порог дома, лишила миллионщицу покоя. Правда, днем среди домашней суеты будто и забывала о ней. Не думала об Агапии, посмевшей встать на жизненную тропу Тихона, но по ночам облик кержачки стоял перед глазами, будил в разуме Карнауховой догадки и предположения, казались они ей возможными и правдоподобными.
Вот и в эту ночь легла в одежде на кровать. Забылась, задремала и тотчас пробудилась, встала вся в испарине, начала ходить, вслушиваясь в тишину комнаты, нарушаемую шепотом часов. Раскрыв на окне шторы, вглядывалась в черноту ночи. Тихо за окном в роще, даже совы не кычут. Когда устала бродить по комнате, села в кресло лицом к большому окну. Смотрела, как сквозь ветви берез медным цветом отливала взошедшая ущербная луна. Но она скоро поднялась ввысь, скрылась от взора, а окно слегка посветлело.
Опять вспомнила беседу с Харитоновой и вновь уверяла себя, что именно тогда охватила ее тревожная растерянность перед нежданной бедой. Озноб студил спину при мысли, что может остаться в жизни без самой дорогой радости. Разве может потерять ее? Потерять Тихона? Не поймет, отчего вдруг не стало у нее уверенности, что сумеет защитить себя? Прежде тоже посещали ее беды, но никогда не терялась. Может быть, всему виной старость? Может быть, новая беда не чета всем пережитым бедам? Сознавала твердо, что одними раздумьями беды от порога не отведешь. Надо, пока не поздно, действовать. Сейчас одна в доме. Днем проводила Ксению с Сергеем в столицу. Кирилл опять уехал к приискателям. Одна в доме… Вот и надо, невзирая на ночь, гнать тройку к Тихону на рудник. Приехать туда неожиданно, проверить, есть ли правда в словах Харитоновой.
— Немедля! — сказала вслух и перекрестилась. Бросилась к двери. Распахнула ее створы.
Пошла по коридору. В нем густилась темнота, разбавленная жидким лунным светом. Услышала кашель и остановилась. Видела, как из своей горницы вышел со свечой Фирсыч. Заспешил к ней торопливыми шажками.
— Опять, старый, не спишь?
— Как спать, ежели, матушка, сама которую ночь глаз не смыкаешь?
— Запричитал! Разбуди Наумыча и вели заложить тройку.
— Господь с тобой! Куда ночью надумала?
— Слышал наказ?
— Беда с тобой. Пошел я.
Камердинер побежал по коридору. Карнаухова вернулась в опочивальню и оделась на дорогу потеплее.
Спал Екатеринбург при бледном свете луны.
Ночная тишина обретала власть в этом городе над разношумием людской жизни только после полуночи, когда караульные, одолевая сонливость, начинали гасить масляные плошки в фонарях возле ворот купцов и старались реже брякать колотушками, опасаясь тревожить сон хозяев.
Пала обильная студеная роса. Намокли крыши и уцелевшая листва на деревьях, под лунным сиянием отсвечивали, лоснились.
Тройка Карнауховой, с подвязанными колокольцами, мчалась по улицам, провожаемая собачьим лаем.
Луна раскрасила уральский город причудливой пестриной теней и света. От них даже ветхие, скособоченные избенки на окраинах привлекали к себе внимание необычными, зыбкими контурами.
Дорога за Мальковкой втянулась в лес. Запорошена она листвой, а от этого тише стала выбиваемая конскими копытами дробь. Наумыч отошел от обиды, что оторвали его от лежанки. Он обернулся к хозяйке. Обложенная подушками, она сидела с закрытыми глазами.
— Дозволь спросить?
— Может, разрешишь колокольцам голос подать?
— Как хочешь.
— Тогда развяжу. Без их перезвону — скука смертная.
Наумыч остановил тройку. Развязал на дуге коренника колокольцы. Конь мотнул головой, и рассыпалась под дугой медь говорливым звоном. Бежала тройка. Густота леса перемешалась с полянками перелесков. Земля дышала прелым листом.
— Кратчайшим путем вези в Ксюшино.
— Уволь от такого желания, матушка. Ехать Демидовскими оврагами по крутым склонам в ночной час опасно.
— Луна в небе.
— Свет больно скупой. Взгляни на дорогу.
— А цветом какой? Чисто тебе молоко по земле стелется.
— К утру надо в Ксюшине быть.
— Понимаю, что надо. Только зачинай понимать, хозяйка, что Наумыч не всякий раз может выполнить приказ…
В Ксюшине, окутанном густым туманом, пели петухи. Но осенние петушиные переклички без бодрости.
Подкатив к воротам Анисьиной избы, Наумыч, обернувшись, увидел, что хозяйка спит. Спрыгнув с облучка, прошел через двор, переступил порог избы. Оглядев пустую горницу, позвал:
— Ведеркина! Жива, что ль?
Из-за полога, отгораживающего кровать, у печи услышал голос Анисьи:
— Кто там?
— Угадай. Аль со сна мой голос признать не можешь? Поднимайся, а то сворую у тебя самородные сапожки.
— Кого черт принес? — Анисья, привстав на кровати, откинула холстину полога и ахнула от удивления: — Наумыч!
— Не пужайся до икоты. Привез к тебе хозяйку.
— Где она?
— Не поверишь. В экипаже спит крепко-накрепко.
Одевшись, Анисья вышла из-за полога, перекрестилась на образ.
— Ну, здравствуй. Чую, Наумыч, неспроста прикатила Мокеевна.
— Именно, что с тайной мыслью.
— И чего стряслось? Даже ночь старую не остановила.
— Именно, что не остановила. Так меня торопила, что Демидовскими оврагами тройку пригнал.
— Не скажи? Никак вовсе сдурел. А ежели бы…
— Со мной никакого «ежели» приключиться не может. Понимай, что не зря первейшую кучерскую славу на Камне ношу.
— Расхвастался. Лучше припомни. Может, хозяйка, высказала тебе какую тревогу.
— Ни гу-гу…
— Просто ума не приложу. Однако пойдем будить, чтобы не остудилась.
— Уволь. Будить хозяйку одна ступай. Ты ей вроде подружка. А я имею наитие, что она и сейчас в большой сердитости…
Анисья Ведеркина везла Карнаухову в легкой коляске на медный рудник к Тихону.
Дорога туда со стороны Ксюшина малоезженая, да еще и кружила по лесной чащобе.
День хмурился, хотя изредка в разрывы плотных туч бросало яркие лучи осеннее солнце.
Лесная сторона без разноголосья певчих птиц казалась непривычно молчаливой. Среди сосен и елей топорщатся лиственницы с порыжевшей хвоей. По берегам речек рощицы черемух и берез в пламени огненной листвы. Перелетают на них стрекочущие сороки. Слышно, с каким остервенением дятлы долбят возле гиблых болот сухостой.
Анисья опустила вожжи. Лошадь шла шагом, но коляску поминутно встряхивало, когда колеса перекатывались через бугорки узловатых корней и кучи валежника.
Карнаухова в пути молчала. Думала о предстоящей встрече с Тихоном, но думала уже без волнения прошедших дней. Не заводила разговора и Анисья, ибо хорошо заучила привычки хозяйки.
На руднике Карнаухова оставила Анисью возле людских казарм, а сама, опираясь на посох, пошла по тропе среди вереска на холм к избе Тихона.
Шла не торопясь. На мостике через горную речушку задержалась, засмотрелась, как, вспениваясь, бурлила прозрачная вода между камней, усыпавших русло. Шумела речка не сердито, на кошачье мурлыкание походило ворчание воды. Карнаухова внезапно решила при встрече с Тихоном ни о чем его не спрашивать, просто сказать, что, соскучившись, приехала навестить, поведать, что Ксения и Сергей Ястребов скоро будут счастливыми. Приняв решение, она сразу успокоилась, почувствовав только усталость от пережитых волнений.
Сойдя с мостика, увидела идущего навстречу старика, узнала кержака Иринарха. Приняв от него по-старинному особо учтивый поклон, сама поклонилась и спросила:
— Никак от хозяина идешь?
— Не угадала. Из-под земли на свет божий поднялся, Василиса Мокеевна. Насосы в шахте чинил. Спасу нет, как нас вода под землей долит.
— Тихон дома?
— Нету. Незадача тебе вышла. Тихон Петрович чуть свет со Старцевым да с мужиками верхом на лошадях подались глядеть новые рудные угодья.
— Экий Тихон неугомонный!
— Ему иначе нельзя. Возле нас, матушка, кроме четырехлапого зверья двуногого изрядно. На всем надо Тихону держать острый глаз, да и о своей жисти заботиться.
— А тебе, старче, как можется?
— Бог милует. Как видишь, дышу. А ты, голубушка, на мой погляд, все в прежних силах пребываешь. Будь здрава, хозяюшка.
Старик поклонился и быстро зашагал к мостику…
Подойдя к Тихоновой избе, Карнаухова увидела у крыльца оседланную лошадь, улыбнулась, подумав, что Иринарх ошибся и Тихон находится дома.
Поднимаясь на крыльцо, еще раз оглядела верховую лошадь и удивилась, что раньше такой у Тихона не видела.
Миновав сени, у двери в избу чуть повременила, потом решительно открыла ее и перешагнула порог. Замерла на месте. В избе на коленях молилась женщина в синем сарафане. Выпал посох из руки Карнауховой, ударился об пол. Женщина обернулась. На ее лице не то испуг, не то удивление. Узнали друг друга. Агапия вновь перекрестилась, склонилась в земном поклоне перед иконой. Встала на ноги, подобрала посох, отдала Карнауховой, отошла к столу. Окаменела. На ее правом плече тугая коса. Шею в три ряда обвили аметистовые бусы.
Взгляда прищуренных Агапьиных глаз Карнаухова не выдержала, придвинулась к низенькому окошку, прикрыла створки, искоса поглядела на Агапию, села на лавку.
— Здравствуйте, Василиса Мокеевна, — мягко сказала Агапия, будто встретилась с желанным человеком.
На приветствие Карнаухова обернулась, молча в ответ наклонила голову.
— Встречи с вами ожидала. Сама собиралась к вам. Учуяли вы, что пора нам свидеться. Рада повидать вас в добром здравии, в полном женском достоинстве, и не велика беда, что в волосах снежок маячит, коли разум и душа живые.
— Зачем здесь без хозяина? — неприветливо спросила Карнаухова.
— С Тихонова согласия навещаю жилье. Сегодня обещалась быть, да опоздала малость, вот и осталась ждать его возврата.
— Чего молитвой у бога выпрашивала?
— Тихону доброго пути на лесных дорогах, а себе счастья от встречи. Приехали поговорить со мной?
— О чем говорить нам?
— Перво-наперво, отчего тягостно у вас на душе, потом про то, что вас сюда в путь-дорогу послало. Я вам скажу, кем стала для Тихона Петровича.
— Аль не понимаю? Полюбовницей.
— Верно, пока перед людьми в этом прозвании. Вы тоже возле Тихона в этом облике были. Посему знаете: при истой любви к мужику все прощается.
— Зачем появилась у Тихона, подлость ложной любовью прикрыв? По приказу Седого Гусара в чужую постель залезла, не уйдя из барской.
Агапия сжала кулаки, глаза ее широко раскрылись, но сдержала себя, только стала ходить по горнице, а остановившись, негромко сказала:
— Эдакую напраслину худую с языка спустили. Стыдно, Василиса Мокеевна. В ваши годы надо думать, чтобы не убить человека словом. Да и положение в крае вас обязывает не дозволять такую несдержанность. Вы-то знаете, как меня Муромцев наложницей взял. Крепостных девок не спрашивают, хорошо ли им на барском ложе. — Агапия опять заметалась по избе. — Знаете и то, что к Тихону женой вернулась, потому отдала ему с первой искрой любви святость девичьей чести. А вы, Василиса Мокеевна, о таком худо подумали. Однако не осуждаю вас. Будь на вашем месте, может, тоже несусветное языком плела. Понимаю вас, сами Тихону не чужая. Ранее меня владели его сердцем, да только свое навек ему отдать пожалели. Кто вас знает, по какой причине. В пору, когда с Тихоном впервые повстречалась, не ведала про вашу любовь с ним. Тогда кержачка Агапия, сбежавшая из скита, страсть какая робкая была. Знай, что возле Тихона чужая, богатая жена любовью греется, не посмела бы ей дорогу заступить. А теперь Агапия другая по характеру стала, возле барской дури новые навыки нажила и страх потеряла. От Тихона отойду только покойницей.
— Погоди! Душно мне, — тихо вымолвила Карнаухова.
— Может, водицы подать?
— Сама напьюсь.
Опустив платок с головы на плечи, Карнаухова поднялась с лавки, подошла к кадушке. Ковшом зачерпнула воды, напилась, остаток ее выплеснула в бадейку под рукомойником.
— Может, на волю выйдем? Не боитесь, что люди нас увидят? И мне сейчас трудно дышать. Пойдете?
Карнаухова пошла к двери. Агапия поддержала ее под руку, когда она сходила с лестницы.
В молчании обогнули избу. Сосновым бором дошли до пасеки. Сосны под ветром шумели в дружном перегуде. На стволах лесин подвешены колоды ульев. На прогалинах топорщились молоденькие елочки.
По тропинке дошли до омута в оправе омшелых валунов. Среди них щетина осоки и камыша, но уже без летошного цвета. Стылая вода с отливом темного серебра.
Из туч брызнули вдруг ослепительные солнечные стрелы, осветили лицо Карнауховой. Агапия увидела его таким красивым, будто старость не стерла с него черты молодости. Но, как только погасла солнечная вспышка, с лица Карнауховой исчезла ошеломляющая красота.
— Отойди от Тихона. Не тревожь его покой. Лишняя ты в его жизни. Он и без тебя пристал от разных тревог и забот. К одинокости привык, — говорила Карнаухова, не спуская глаз с Агапии.
— Пустое молвите. Тихон жизнь любит. Покоя и одиночества боится. Нужна я ему…
— А разве я не нужна?
— Тихон сам не знает, которая из нас нужнее. Но надвое ради нас не разломится.
— Послушай, Агапия, уразумей, Тихон — радость для моей жизни.
— В нем и для меня радость. Мало ее в жизни испытала. Аль права на радость у меня нет?..
Не досказала Агапия своих слов. Помешали людские крики. Донеслись они с пасеки.
— Никак, стряслось что на руднике, — недовольно проговорила Карнаухова.
Увидели, как по бору бежал народ. Слышны голоса: «Где хозяйка?», «К омуту надо!», «Бежим, ребята!»
Ускоряя шаги, Карнаухова и Агапия шли людям навстречу. Люди бежали к ним гурьбой, впереди Анисья Ведеркина, рядом с ней молодой парень с окровавленной повязкой на голове. Анисья кинулась к хозяйке, задыхаясь, только и могла сказать:
— Василисушка!
Карнаухова растерянно смотрела на Анисью:
— Сделай милость, толком скажи.
Парень, опередив Анисью, выкрикнул:
— Убили их на лесной дороге!
— Беда, Василисушка! Тихона со Старцевым насмерть порешили!
Отшатнувшись от Анисьи, Карнаухова в ужасе зажала руками уши:
— Кричишь-то как о такой беде…
Раздирающий душу вопль Агапии потряс всех:
— Вре-е-ете! Нельзя его убить!
Она засмеялась дико, метнулась к пасеке. Все, оцепенев, смотрели, как бежала она среди сосен и смеялась. Но вот затих ее смех, и вдруг, словно подхватив безумие женщины, захохотала заливчато над головами людей сова, перелетевшая через омут.
Под басовое бормотание сосен несли женщины в беспамятстве Карнаухову…
Прошло шесть дней.
В Екатеринбурге на кладбище, на родовой земле Карнауховых, под сенью берез уложили на вечный покой Тихона Зырина…
Возле горного озера в Белоголубином скиту могилу Тимофея Старцева укрыли бирючими мохнатыми лапами вековые ели…
* * *
Над Старым заводом крупные, по-осеннему наново вылуженные, звезды. Остуженная ночная темнота раньше срока зачернила мглу вечерних сумерек.
В парке под напором буйного ветра деревья беспомощно размахивали ветвями, обронившими листву…
На втором этаже барского дома в зеркальном белом зале горит камин, пламя вихрит огненные ленты. Перед камином стоит длинный стол, вокруг массивные кресла. На мраморной столешнице литые из бронзы часы.
Большие окна с медными решетками в обрамлении тяжелых портьер.
На золоченых цепях свисают две люстры, опутанные нитками бусин из уральских самоцветов.
Узорный паркет пола устлан коврами.
На стенах, между пилястрами, огромные зеркала, иные до самого потолка, в обвязе седого мрамора. В позолоченных рамах — родовые портреты. Муромцев даже сам толком не знал, когда и с кого писаны и каково их родство.
Посреди зала — рояль.
Три дня назад Муромцев вернулся из города и с тех пор почти не покидал белого зала. Он играл на рояле, пел под гитару, обедал и ужинал, дремал в кресле перед камином, напившись к ночи, даже спал здесь на диване.
Сегодня после обеда заводчик бродил в парке и для забавы стрелял сорок. В сумерках воротился домой, приказал камердинеру переодеть его и в бархатном халате на лисьем меху сел к роялю. Он играл, закрыв глаза, отдаваясь весь музыке. Временами переставал трогать клавиши, не убирая с них рук, вслушивался, как постепенно замирали звуки в зале.
Светло в обширном покое от множества горящих свечей. Они уютно потрескивали, слегка чадили, обливались восковыми слезами в свешниках. Яркий свет ложился на ткани обивки диванов, кресел, на парчу портьер, и вспыхивали искорки на золотых и серебряных нитках.
Последние недели Муромцев, оставив Старый завод под приглядом Агапии, прожил в Екатеринбурге. Там его застало известие о трагедии на лесной дороге. Он тотчас поехал на прием к главному горному начальнику, но не был принят. После этого заводчик послал в карнауховский дом венок к телу Тихона Зырина. Накануне похорон Зырина курьер генерала Глинки вручил Муромцеву письменное предписание: немедленно покинуть город.
Тишина в доме. Барин приказал камердинеру после заката солнца удалять из дома мужскую и женскую прислугу. Хозяина раздражали хмурые взгляды челяди. Он не сомневался, что им известно о гибели Зырина и Старцева и, главное, о том, что Комар приложил руку к черному делу, а значит, тень злодейства не могла не пасть и на самого барина.
Путаны тягостные раздумья заводчика. Его тревожили собственные предположения и опасения об исходе следствия. Смерть управляющего в перестрелке с людьми Зырина и Старцева сулила мало приятного, давала повод для подозрения не только слугам, но и властям о его причастности к преступлению. Высылка из города подтверждала, что ему придется объяснить, почему именно его управляющий руководил нападением. Муромцев уже обдумал план тайного отъезда в Петербург. В столице он надеялся использовать свои связи и вынудить Глинку прекратить следствие; на Урале прибавится новое нераскрытое преступление, и это никого не удивит — глухомань! Выехать в Петербург он собирался как можно скорее, ибо подкупленные чиновники рассказали, что генерал Глинка уже после беглого ознакомления с представленными материалами следствия склонен был участие Муромцева в злоумыслии приравнять к опасной статье закона, а именно к статье о подстрекательстве к возбуждению бунта во вверенном ему Уральском крае. А посему в управлении главного горного начальника имеется приказание генерала заготовить донесение об этом его величеству государю императору Николаю Павловичу.
* * *
Агапия пробудилась от собственного стона. Приснилось, будто синяя кошка с белыми когтями кинулась ей на спину и начала рвать волосы. Агапия лежала неподвижно, боялась пошевелиться, хотя знала, что на свете нет синих кошек.
Возле кровати на турецком столике с перламутровой инкрустацией стоит свеча. Ее серебряный огонек — с ободком синевы. Агапия силилась припомнить, в котором часу легла на постель, не сняв сарафана. Решила, что легла недавно. Свеча сгорела только наполовину. Приподняв голову с подушек, ясно услышала звон разбитого стекла. Подумала: опять почудилось. В доме ей постоянно мерещатся звуки, шорохи. Сегодня совсем немудрено почувствовать непонятное. Вон, какая ветреная ночь. Сколько раз улавливала то перескрипы ступенек лестницы, то тягучие стоны без причины открывшихся дверей.
Поглаживая рукой холодный лоб, Агапия поднялась с постели. Босые ноги утопали в ковре, а его ворс щекотал подошвы. Подошла к зеркалу, начала расплетать косу, но снова услышала какие-то звуки вроде шаркающих шагов. Насторожилась. Подумала, что барин, напившись, осмелился зайти на ее половину. Кому быть, кроме барина? Каллистрата сама проводила из дому, закрыв за ним черную дверь. Прислушиваясь к шагам, вышла в соседнюю горницу и поняла: это ветви, раскачиваясь от порывов ветра, скребут стену дома.
Вернувшись в опочивальню, опять задержала взгляд на своем отражении в зеркале. Большими показались глаза в темных подглазьях. И мгновенно похолодела — словно бы мелькнул в зеркале лик Тихона. Опять ожило в памяти все пережитое за прошедшие дни. Вспомнила, как верхом скакала на заимку Старцева, узнав о гибели Тихона. Вспомнила, как увидела в доме его мертвое лицо и упала перед ним на колени, обливаясь слезами.
Не выходил из памяти рассказ смертельно раненного Тимофея Старцева о нападении злодеев, о том, как убил он Комара, а Тихон порешил Стратоныча. Перебирала Агапия в мыслях прошедшее, гладила распущенные волосы.
Агапия взяла горящую свечу, вышла в коридор. В арке над лестницей задвинула откованную из меди узорную решетку. Повернула ключ в ее замке. Отрезала единственный путь в первый этаж. Подумала: куда спрятать ключ? На глаза попалась фарфоровая ваза. Вот куда. При падении ключ звякнул. Глухо так, будто ком земли, брошенный ею в могилу на гроб Тихона.
Оплывает в руке Агапии свеча. Капли воска обжигают кожу, застывают на ней бугорками. Вернулась в опочивальню Агапия, перекрестилась, поднесла свечу к кружевам шторы. Смотрела, как огонь, извиваясь, полз по затейливому рисунку, как перекинулся на сукно портьеры, и сразу запахло удушливо паленой шерстью. Агапия подожгла шелковый балдахин над кроватью. Наблюдая за ненасытным огнем, пятясь, перешла в розовую гостиную. Подожгла в ней шелковые штофные стены. Обходя комнату за комнатой, Агапия, не торопясь, поджигала в них шторы, портьеры и скатерти.
Идя по коридору, слышала, как в комнатах трещало дерево, пожираемое огнем. Вошла в белый зал. В нем темно. Только на нескольких свечных огарках шевелились обессилевшие огоньки.
Взгляд Агапии не сразу нашел лежавшего на диване Муромцева. Правая рука заводчика свисала до полу. На ковре рядом с пустой бутылкой лежал пистолет. Подумала, что барин мертв. Приблизившись к дивану, услышала дыхание спящего. Подняла пистолет.
Подожгла портьеру ближнего окна. Ходила по залу с пистолетом и свечой в руках. Огонь быстро перекидывался на все, что легко воспламенялось. Подойдя к столу с часами, Агапия осветила их циферблат. Стрелки миновали второй час ночи. Засмеявшись, Агапия бросила свечу на диван. Села в кресло лицом к спящему барину.
В зале от пожара уже светло. Пузырилась краска на пилястрах. Горел роскошный зал. В люстрах разноцветными блестками вспыхивали пронизи самоцветов. Метались на стенах тени. Проснулся Муромцев. С ужасом глядел на бушующий огонь.
— Горим, барин! — громко крикнула Агапия, вздрогнув от собственного голоса.
— Помоги-и-ите! — Муромцев подбежал к окну, схватился за решетку и закричал от боли — раскаленное железо обожгло ладони.
— Горим! — торжествующе кричала Агапия.
Муромцев выбежал в коридор, но тотчас вернулся.
Густой дым клубами врывался в раскрытую дверь зала. Муромцев закрыл дверь. Прижался к ней спиной.
— Что? Не уйти зверю из огненной западни! — смеясь, выкрикивала Агапия.
Муромцев схватил с горящего столика канделябр, кинулся к Агапии. Она выстрелила. Муромцев повалился на пол.
Лопались зеркала. Падали объятые огнем родовые портреты. Уже трудно дышать Агапии. Она рванула ворот сарафана. Смеясь, встала на колени, смолкнув, размашисто перекрестилась. Огонь подполз к ней по ковру…
* * *
Над Старым заводом светало…
Барский дом горел ярко. Все работные, выйдя из казарм, обнажив головы, стояли неподвижно. Ветер сносил искры в сторону завода. Народ не тушил пожар.
Кучи желтых листьев на аллеях парка в отсветах пожарища походили на тлеющие угли. Они то и дело ярко вспыхивали.
На колокольне гудел набат. Метались над казармами стаи перепуганных галок и голубей.
Безлюдно вокруг горящего дома. Только Каллистрат бегал по двору в исподнем белье и нараспев выговаривал:
— Сгоре-е-ла Ага-а-а-пья Вла-а-а-асовна. Приняла мученическую смерть.
Старый камердинер не хотел помнить, что вместе с Агапией сгорел в доме и его хозяин — Владимир Аполлонович Муромцев, по прозвищу на Каменном поясе Седой Гусар…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
1
В октябрьский день лесную заповедность нахлестывал затяжной дождь. Мелкий, без колючести капель. В воздухе от него дымка легла.
Величавы южные отроги Уренгинской ветви Уральского хребта, где все еще в горных массивах сохранялась первозданность гаганайских чащоб.
Осень и тут в полную силу правила природой. Но трудно ей здесь во всю ширь разгуляться, нельзя ошеломить людской глаз пышностью своих чарующих красок. Леса в этой стороне хвойные, не меняли они цвета ни от холодных ветров, ни от седин инея на утренних зорях. Хвоя всегда зеленая, и разве только в пору позднего осеннего дыхания, когда всякую воду остеклял лед, она слегка притушила свою яркость. В этих местах осенью даже шатуну-ветру скучно: не может пошуршать опавшей листвой и нагнать тоскливые думы в людской разум. Но и здесь у осени есть свои повадки в обхождении с природой, и узнавали их люди в лесной торжественной молчаливости.
По лесной нежити, боронясь от ненастья накинутыми на плечи рогожками, шли Савватий Крышин, Степанида Митина и Аниска, а впереди то и дело вспархивали рябчики и тетерева с жировки на бруснике. Шли путники берегом речки без тропы, с бугра на бугор, из лога в лог, обходя скалы, болотные зыбуны, муравьиные кучи. Завалы бурелома, частенько преграждая путь, вынуждали людей отходить от речки в лесную глушь, продираться меж лесин. Миновав плешины давних лесных палов, они вновь появлялись у речки, слушали ее бойкий говорок.
День задался с кусливым ветерком, но в лесу он не тревожил. А вот на рассвете, когда вышли с последнего ночлега на лесной пасеке подле Бакальского рудника, все от этого ветра поеживались.
Обойдя стороной Саткинский завод и урочища Пугачевского вала, путники утонули в лесной нежити, держа путь к Глухариному озеру возле горы Зигальги. Савватию эти места знакомы. Хаживал по ним после второго убега из острога. С той поры прошло несколько лет, а он шел уверенно, не плутал. Хорошо Савватий знал о том, что величественные горы трех Таганаев, их первобытность, пустынные горно-лесные массивы, недоступность многих мест дают возможность именно здесь уральскому беглому люду свить безопасное гнездо.
Шли путники молча, хотя у каждого есть о чем перекинуться словом. Шли, сопровождаемые настороженной тишиной, вслушиваясь, как под их ногами на мокрых настилах хвои похрустывали валежины и шишки. Для Аниски молчаливый путь особенно в тягость. Ей давно хотелось рассказать об услышанном от пасечника про Глухариное озеро. По словам старика, народилось оно в горах от диковины: упала с неба погасшая звезда, и будто нет у озера дна. Хотелось девочке поговорить, но молчала. Уж очень хмурые взгляды у Савватия и Степаниды. Молчала Аниска и тоже хмурилась.
У всех путников свои думы.
И больше всего тревожили раздумья Савватия. В них были уверенность и опасения, надежда и сомнения. И все вплеталось суровой ниткой в холстину его жизни после увода людей с Березовского рудника. Но главное — верил он теперь в надобность своей жизни, и дали ему эту веру работные люди.
А жизнь-то Савватия, Степаниды и Аниски всегда на ногах и не всегда сытая. Вольная настороженная жизнь. Покинув земли Зырина, хищничали они золото то тут, то там. Но не обошла их удача только на Железянке, однако пришлось оттуда убраться по-скорому из-за облав горной стражи. Нигде нельзя было задерживаться, особенно когда начал лист желтеть. Едва успевали на новых местах оглядеться, как люди подавали весть о грозящей Савватию беде. Искали его по Уралу с упрямой настойчивостью. Беспокоило его житье-бытье генерала Глинку. Драгуны, горные стражники, полиция, загоняя коней до мыльной пены, искали Савватия и всех смутьянов, будораживших работных людей призывным словом о воле. Ловцы надеялись, что осень и зима помогут им напасть на след, изловить и запереть в казематы острога, а может быть, просто уложить на месте. Так тешили себя надеждой все, кому генерал Глинка обещал безмятежный покой в горном Урале. Но по-иному умом раскидывали те, на ком бряцали цепи крепостного ярма.
Осень заставляла Савватия думать о скорой зиме. Вот и вел он Степаниду и Аниску, по совету Иринарха, в Уренгинскую лесную нежить, чтобы найти зимнее укрытие и не утерять силы и твердость воли для новых дел весной…
В начале сентября Тимоха отправился из села Чебаркуль лесными путями в Саткинский завод. Пойти туда он сам напросился, чтобы передать от деда Иринарха весточку скитской начетнице Гликерии, рассчитывая загодя договориться с ней о зимовье. Иринарх, снабдив Савватия грамоткой, накрепко заверил, что Гликерия непременно укажет надежное место возле глухого скита в горах Таганая. Савватий неохотно согласился отпустить Тимоху, зная, что одному отправляться в такую дальнюю дорогу опасно.
Тимоха решил спервоначала проведать своего родственника в Сатке, которого он не видел уже много лет, а главное, дознаться, безопасно ли Савватию объявиться в той округе.
Савватий, расставшись с Тимохой, условился встретиться с ним в начале октября у Глухариного озера…
Осенние дни коротки. Смеркалось. Дождь без устали нахлестывал лесную заповедность, но Савватий, Степанида и Аниска не теряли шаг. Они подходили к назначенному месту.
Аниска проснулась. Под густыми ветвями ели, как в шалаше, — сумрачно. Увидела спавших Степаниду и Савватия. Совсем близко гукал филин. Вставать не хотелось. Отодвинув рукой ветку, Аниска впустила под ель утренний свет.
К озеру вчера пришли впотьмах. Устав до изнеможения, костер все же разожгли, но есть не стали. Забравшись под еловые ветви, расстелили немудрую лопотину на настиле опавшей хвои, легли. Караулить огонь в костре первым вызвался Савватий.
В озере громко плеснула вода. Аниска вздрогнула, вылезла из-под ели, огляделась и замерла от увиденного.
Глухариное озеро лежало под прозрачной дымкой сиреневого тумана. Со всех сторон его водное пространство сжимали причудливые по очертаниям серо-сизые гранитные берега. За озером беспорядочным нагромождением утесов, лобастых обрывов, уступов, поросших лесом, вздымалась к утреннему небу гора Зигальга, венчая свою высоту голой вершиной, похожей на сжатый грозящий кулак. Вершина — в позолоте взошедшего солнца.
По берегам озера, куда бы ни переводила взгляд Аниска, к самой воде подступали высоченные ели. Они от комлей до вершин оплетены волокнистым мхом линялого зеленого и рыжеватого цвета.
Тесно лесинам у воды, но берегли друг друга в схватках с горными грозами и буранами. Если какая и погибнет от удара молнии или от ветра, то живые соседки не дадут ей упасть на землю. Так и будет стоя высыхать, напоминая о себе скрипом, и только, вконец иструхлявив, развалится гнилушками.
Взглянув на костер, Аниска забеспокоилась, опустилась на колени и, раздув золу, увидела еще живые угольки, сунула в них ветки сушняка и опять начала дуть, и, когда огонь в костре ожил, Аниска подкинула в него хворост, поднялась на ноги и с удовольствием потянулась. Сняв с рогульки чайник, Аниска направилась на берег и опять засмотрелась на вершину, похожую на людской кулак, такой грозный на фоне зеленовато-золотистого неба. Подумала: «Вот бы мне такой — всех супостатов прибила б…»
Туман над озером тянулся ввысь и рассеивался, а потому в воде становилось все более четким отражение берегов.
Густая тень от Зигальки укрывала озеро до половины, в тени вода синяя-синяя, а перед Аниской у берега такая прозрачная, что видны осклизлые камни с космами тины, кварцевая галька и утонувшие еловые шишки. Аниска вздрогнула от плеска воды под нависшей елью, оказалось, что где-то рядом на берегу звонко булькает вода. Неужели родник? Прислушиваясь, пошла между мшистыми валунами и обрадовалась, увидев родник, и тут же похолодела до онемения, встретившись с завораживающими глазами рыси, лакавшей воду. Минуту смотрели друг на друга девочка и зверь. Аниска видела, как вздрагивали на ушах рыси черные кисточки. Зверь, злобно зашипев, метнулся под еловые лапы, а Аниска от испуга присела, но все же переборола страх, поставила чайник под струю родника и, наполнив водой, медленно пошла, часто оглядываясь.
В костре уже металось огненное пламя, Аниска повесила чайник на рогульку, услышала вопрос Степаниды:
— Ты чего такая бледная?
— Со страху, мамонька Стеша. Ужасти как напугалась, аж язык во рту высох.
— Чего напугалась?
— Рысь из родника воду пила.
— Куда там, поди померещилось спросонья?
— Право слово, рысь.
Савватий, пробудившись, сказал строго:
— Ты смотри, не больно разгуливай, здесь всякого зверя полно. — Увидев горящий костер, добавил: — Не загас?
— Горит, да и по-веселому. Видать, к вёдру.
— Подкинь хворостин, заснул я на карауле, а когда, не помню.
— Устал через силу, вот и сломил тебя сон.
— Так ведь на карауле уснул.
— Беда невелика, караул не солдатский.
— Тимоха должен скоро объявиться…
После полудня под осенним солнцем легкая рябь на озерной воде отливала подсиненной золотистостью, как чешуя карася.
На омшелом валуне у самой воды, упершись в колени подбородком, сидела Аниска.
Только недавно все с аппетитом поели толоконную похлебку с гречей и напились крепкого брусничного взвара.
Погожий день, не по-осеннему теплый, радовал. У костра сидели Савватий и Степанида. На ветвях елей сохли намокшие за вчерашний день одежда и рогожи. Послышались шлепки по воде и тихие басовитые голоса. Савватий вскочил на ноги. Из-за скалы выплыл плот с двумя мужиками. Плот уперся в берег. Мужики, сняв треухи, поклонились, и седоволосый сказал:
— Примите почтение. Хоть и не званы, но в помыслах с добром.
— Милости просим, — пригласил Савватий и почувствовал на себе пристальный взгляд мужика с бурым лицом, на котором видны только белки глаз. Он мял в руках треух и растерянно произнес:
— На-кась!
— Чего «на-кась»? — спросил его седоволосый спутник, поспешно достав из-за пазухи что-то завернутое в синюю тряпицу. — Дознаваться надо.
— Погодь, Артемий, аль не примечаешь, что холодею от погляда на человека? Признал! Право слово, признал!
— Коли признал, то обозначь именем, — спокойно попросил Савватий.
— Обозначу. Савватий ты! Чугунный мастер из Каслей! Так иль нет?
— Так, — изумился Савватий.
— Понимай, что не понадобится лапка, — сказал Артемий.
— Какая лапка? — спросил Савватий.
— Обыкновенная. Заячья. — Артемий развернул тряпицу.
Увидев в его руке лапку на красной тесемке, Аниска радостно
воскликнула:
— Тимохина!
— Признала, девонька?
— Ты-то кто? — обратился Савватий к мужику с бурым лицом.
— Да Герасим. В пору, когда познал тебя, семнадцатый годок мне шел. Самолично видал, как ты в Кыштыме царю Ляксандру людской плач, прописанный на бумаге, подал.
— Не помню тебя.
— Аль мудрено? Сколь годов прошло?
— Как у вас Тимохина лапка очутилась? Сам где?
— Так что, Савватий, стоим перед тобой по его наказу. Лапку отдал для укрепу твоего доверия к нам.
— Садитесь к теплу, — ласково предложила Степанида.
Артемий и Герасим подсели к костру. Герасим протянул руки
— От эдакой встречи прямо кровь стынет. Сказать тебе надобно, Савватий, весть черную… Да не знаю, с чего и начинать…
Савватий насторожился, но смолчал. Герасим потер ладонью лоб, кашлянул.
— Не томите, мужики. Где Тимоха? — не выдержала Степанида.
— Вот ведь какое дело… Тимоху-то… Я его тоже знаю, вместе охотничали. Тимоху-то в Сатках схватили…
— Как же это?.. — растерянно произнес Савватий.
Аниска до крови закусила губу.
— Вышел он от кержачки Гликерии с собакой, да и наткнись на стражников. Борзая бросилась на них, а стражники и пристрелили ее. Тимоха в драку. Ну его и схватили. Как его повели по дороге, мы и встрелись. Узнали друг дружку. Ввечеру допустил к нему знакомый караульный. Поговорили. Доверился мне. Дал лапу — просил упредить человека. Сказал мне, что ты его с зачина октября станешь поджидать у Глухариного озера. Наказал всенепременно найти тебя возле озера да и оповестить обо всем. Наперво велел сказать, что письмо начетчице он отдал. Окромя велел сказать, что сродственника своего в Сатке не нашел, там о нем и следов не знатко. Самого-то, видать, охомутают, припишут к заводу робить. Неспокойно на заводе. Горной стражи отряд стоит. Надзор за скитниками усилен. А Тимоха-то каков? Не сказал мне, что это ты, имени не обозначил… А я вот сказался больным да и сюда.
Еще долго говорили мужики с Савватием. Уже и солнце начало клониться к закату. С озера потянуло осенним холодком. Леса залиты остывающим золотистым светом. Там вверху первозданные дебри вели наступление, стремясь овладеть вершинами гор, лесины наползали на их склоны, но в схватках с камнем и ветром многие засыхали и гибли.
— Ты, Герасим, помянул даве про стражников. Неужли сюда наведываются? — пытала Степанида.
— Да нет, они лесной глухомани сторонятся, но ноне, пожалуй, могут и заглянуть. Уж очень много их в нашу округу из двух губерний нагнали. Не глянется начальству настрой разума у работных людей. А чего настрою добрым быть? В Сатке за минувшие три года, не приведи Господь, как тяжело жилось. Посудите сами. Углежог должен привезти в завод, почитай, восемь, а то и все девять десятков коробов соснового угля, им самим выжженного из дров, им же порубленных. Вот это главный урок на год. Тут и положишь все силушки. Ан нет — ты еще поруби и привези в завод квартирные дрова три-четыре сажени, поставь в господскую конюшню четыре копны сена, приплавь в завод полтора десятка бревен. И это не все. Приказчики да надзиратели придумают тебе еще поболе всяких поторжных работ. Не горюй, мил человек, тяни из себя жилы, пока все не вытянешь… Не одно пузище смышляет о пище, и тонкий живот без еды не живет. А у нас как? Плати в контору за провиант в два раза дороже, чем на базаре, — и вся недолга. Жить можно так, аль нет?.. Конец должон быть сему? Повернуться не моги: гут тебе штраф, там тебе вычет. Мотается твоя головушка в хомуте пятнадцать часов. Когда же себя обиходить? В праздники заставляют работать. Эхма! Чего уж тут жалиться!..
Артемий уж который раз за день приметил взгляд Савватия и вынул из кармана левую руку.
— С изъяном она у меня, четырех пальцев нет. Прячу, потому иные за вора считают. Чугуну пальцы подарил. Видать, и в кармане она тебя тревожила.
— Извиняй, худого не мыслил, — ответил Савватий.
— С харчами у вас как? — спросил Герасим. — Мы на случай прихватили сохатины. Зверь ноне в добром теле.
— Давно мясо не ели, — сказала Степанида.
— Выходит, к месту прихватили. — Герасим принес с плота сверток. — Поджарьте. Соль есть?
— А как без нее? — ответила Аниска, приняв от углежога мясо.
Вершина Зигальги в закатных лучах. При затянувшейся беседе все поели поджаренную на костре сохатину.
Костер горел без яркости. Ветру к нему путь заказан, а потому дым уходил столбиком ввысь, к вершинам елей. Языки пламени с хрустом перекусывали валежины, прошивая дым искрами.
Не торопясь, обстоятельно вел разговор Герасим:
— Володел, Савватий, мною Гришка Зотов. Пятьсот работных душ старый Расторгуев дочке Катерине в приданое дал, когда пошла под венец с сынком Гришки. Осередь них была и моя душа. Озленным я жил. Деру дал из зотовского хомута в год, когда Строганова графа догляд упек Гришку в ссылку. Восемь годков прожил на воле, с Тимохой тогда и повстречались, вместе охотились. Но одинова, по своей вине, опять ногу в крепостном капкане увязил. Пымали меня за Кусинским заводом. Зотовский сынок требовал меня, а казна сама в людях нуждалась, посему приписала жигалем при Сатке. Мне тут окрест многое знакомо, знаю, где укромные места водятся. Ноне в бегах Артемий, а с ним еще семнадцать душ. Вовсе на новый манер вольными заживут. В Сибирь хотят податься. Там на беглых капканов не ставят. Слыхали, будто там и барской крепости на людей нет. Может, не все так. Но ты, Савватий, должон правду про Сибирь знать, ежели туда людям дорогу кажешь. Совет, может, какой дашь нам? Как ладить вольную жизнь? Может, тебе здеся понадобимся. Совесть у нас у всех чистая перед работным людом, хотя лики дымом закопчены да и волосы разные по белизне. Ну, об остатнем ты, Артемий, ладнее меня доскажешь.
Артемий не стар, но труд доменщика раньше времени отбелил волосы
— Боязно бередить коросты на душевных ранах, да и молчать тягостно. Может, и впрямь легче станет, ежели увижу в ваших очах понятность. Возле доменного жара с парнишечьих лет, приставлен к нему неволей. Заводская крепость самая непосильная, тут больше всего над людями начальники изгальство творят, а я с гордостью дружу, за человека себя почитаю. За самую малую обиду норовлю тем же платить. Лихой в спорах с любым начальством. Конечно, порют за это меня по-всякому, но и от моих кулаков у иных начальников не все зубы во рту. Один битый злыдень все же оставил меня без четырех пальцев. Под домной толкнул меня возле ковша с расплавленным чугуном. Хотел разом порешить, да я только пальцы в чугун макнул и остался с одним большим перстом. Ноне в пору, когда на черемухах зеленая ягода обозначилась, дошла до нас молва, будто на Березовском заводе ты, Савватий, заставил людей поверить, что в слитности их разумов о воле гнездится сила вызволения из крепостной горемычности. Боле всего озадачила людей весть, будто вызволили себя из неволи березовские уходом в Сибирь. Про тебя, Савватий, мы знали. Старые люди в Каслях за дельного мужика почитают. Но мы к молве попервости отнеслись с опаской. Посему заслали в Березовку гонца, а он, воротясь, правду за молвой утвердил. Стали мы людям про слитность разумов толковать. С людьми впотай беседовали. Верили нам мужики, но не все. Только к концу сентября на Бакальском да в Сатке согласных на уход собралось боле сотни.
Артемий, склонив голову, тяжело вздохнул, а заговорил снова, не поднимая головы:
— Погубила нас девка, привязалась к одному парню. Не знали мы, что он присушил ее к себе, потайно она донесла на него. Мы и про это не знали. Только нежданно прискакали на завод драгуны с конными стражниками и зачали работных людей в кандалы забивать. Меня с мужиками из кричного цеха да из кузни, от жигалей, двоих. И посадили всех в каземат. Пытали по-всякому, больше всего били палками. Неделю допытывались, хотели дознать, сколько людей и когда решили в Сибирь податься. Не выжили бы мы, коли не нашлась в одном караульном стражнике светлая совесть. В ночную пору выпустил он нас семнадцать человек, да и сам с нами убег с оружием. На том берегу озера живет со всеми беглыми. Только трое еще не пришли, ждем. Ежели через ден пять не объявятся, значит, либо сгинули, либо, заплутав, ушли в другое место. Вот такие мы и есть. Коли надумаете с нами в убеге сродниться, упредите. Ждем твоего совета.
Савватий, задумавшись, глядел на огонь костра. Он слышал каждое слово Артемия, и смысл их сливался в его сознании с мыслями о пережитом.
Когда Артемий замолчал, Савватий, оглядев мужиков, сказал:
— Всяко думал, как крепостные путы рвать. И вот что ноне принимаю за верное: понапрасну в разуме носил надежду найти милосердие к нам у царя. Сам однажды плач царю Александру подал. Все прописано в нем было про тяжкое житье наше. Ноне, по моей задумке, сызнова ребячьи руки отдали плач в руки царского сына, Александра Николаевича. А толку что?.. Видать, и там… у царей нет нужной нам правды для жизни. Густится во мне разумение, что от всего несправедливого и горемычного спасение наше только в воле вольной. Много к ней троп можно надумать, но как одну из них верностью увенчать? Распознать сие надобно, и распознаем. Идти к ней надо через слитность разумов, рушить крепостное житье-бытье не в одиночку, а людским скопом. Потому одинокую горячую голову плетью можно пришибить, а в людском скопе могутная сила. Надо скопом! Людей доверенных искать. Поговори, Герасим, о сплотке с кричными мастеровыми, с коломенщиками, дровосеками, углежогами. Выберите из горнорабочих десятников. Может, сговориться с другими заводами, в пользу согласие пустить. А час придет — глядишь, и сила объявится отпор дать… Долго здесь буду, порешим еще. Теперь мне дознаться через тебя, Герасим, надо, можно ли выручить Тимоху. А так — пропадет, хворая грудь у него. Друга в беде бросать — последнее дело. Такие помыслы мои.
Работяги поднялись, постояли, протянув руки к огню.
— Одначе пора нам подаваться, — сказал Герасим. — Благодарствую за советы — думать будем.
Герасим и Артемий забрались на плот и, оттолкнувшись от берега шестом, поплыли, освещаемые пламенем костра.

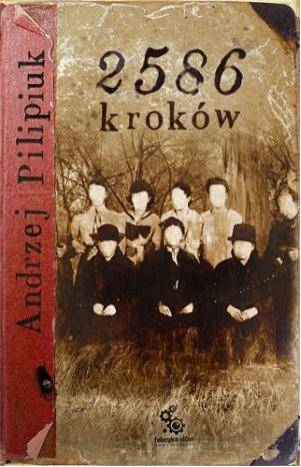



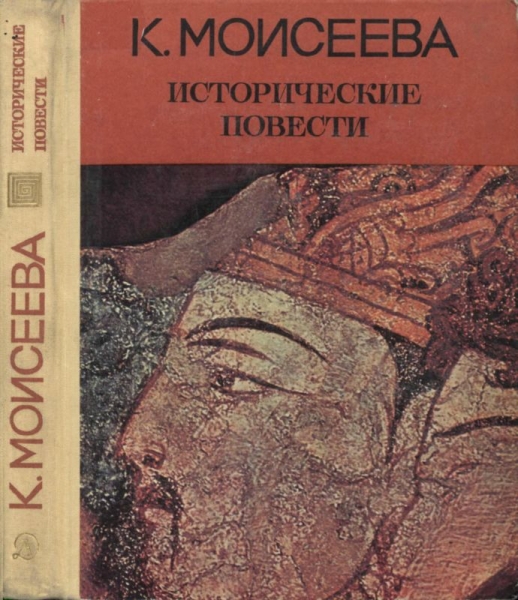

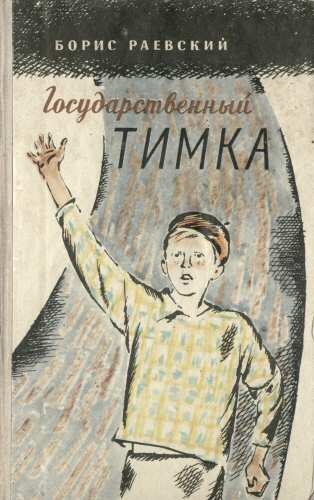

Комментарии к книге «Камешек Ерофея Маркова», Павел Александрович Северный
Всего 0 комментариев