Жила-была переводчица Людмила Савицкая и Константин Бальмонт сост. Леонид Ливак
© Laurence Saivet et les ayants droit de Ludmila Savitzky, письма, 2020,
© Л. Ливак, составление, подготовка текста, вступ. статья и примечания, 2020,
© ООО «Новое литературное обозрение», 2020
Благодарности
Мы выражаем глубокую признательность сотрудникам следующих учреждений за помощь при работе с архивными материалами: Институт истории современного издательского дела (Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine, Abbaye d’Ardenne, Saint-Germain la Blanche-Herbe); Центр гуманитарных исследований Техасского университета (Harry Ransom Humanities Research Center, University of Texas at Austin); рукописные отделы библиотек Колумбийского университета (Rare Book and Manuscript Library, Columbia University, New York) и Государственного университета штата Нью-Йорк в г. Баффало (Poetry Collection, University at Buffalo, SUNY); рукописные отделы Национальной библиотеки Франции (Département des manuscrits, Bibliothèque Nationale de France, Paris) и Библиотеки современной международной документации (Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine, Nanterre).
Особая благодарность наследникам Л. И. Савицкой за предоставленную возможность ознакомиться с документами из семейного собрания (Lestiou, Loir-et-Cher) и архивного фонда IMEC, за любезное разрешение цитировать из ранее не публиковавшихся источников и издать иллюстративный материал из семейного архива, а также переписку Л. И. Савицкой с К. Д. Бальмонтом из фонда IMEC.
Людмилa савицкая в модернистской культуре[1]
Леонид Ливак
Последняя четверть века принесла коренные изменения в двух смежных и наиболее табуированных в советское время исследовательских областях, чьи предметы – русский модернизм и российская диаспора – зачастую пересекаются географически и хронологически. Начавшись еще в перестроечное время, но вполне развернувшись лишь после распада СССР, пересмотр методологических предпосылок и приток новой информации преобразили эмигрантские и модернистские штудии. Пожалуй, наиболее значительным аспектом постсоветских подходов к модернизму является рост самой исследовательской сферы, доселе ограниченной материалом и тематикой художественного творчества в пределах канонических фигур первого плана. Отчасти расширение научного кругозора произошло за счет обращения к иным творческим формам: к философии, богословию, критике, эссеистике, переводу, науке о литературе и эстетически значимым поведенческим кодам[2]. Не менее важной в эволюции изучения модернизма оказалась немарксистская социология литературы, многим обязанная одной из альтернативных литературоведческих стратегий ушедшей эпохи, а именно – эзотерической и эрудированной фактографии, имплицитно противостоявшей советскому научному официозу[3]. Так, в сферу интересов новой литературной социологии вошли в числе прочего: среда бытования модернистских ценностей (кружки, салоны, журналы, издательства и пр.); проблематика центра и периферии культуры и вытекающие отсюда каноны и иерархии, влияющие на наше видение предмета исследования; динамика взаимоотношений создателей и потребителей культурных ценностей (проблема читателя и, шире, публики модернизма); влияние рыночных отношений на создание и бытование модернистских артефактов и т. д.[4]
Подобный отход от традиционного понимания модернизма как канонического корпуса текстов или же как не менее выборочной истории взаимосменяющихся группировок-«измов» позволяет моделировать предмет наших исследований как миноритарную культуру, чьи ценности, нормы и самосознание развивались в полемическом общении с другими социально-культурными формациями – традиционными (дворянство, купечество, духовенство) и современными (интеллигенция, марксизм) – на фоне интенсивно растущей массовой культуры в России и в Европе[5]. Одним из преимуществ этой аналитической модели является гибкость принципов классификации. Так, вопрос «кого считать модернистом?» (предмет неизбывных споров с применением жестких наборов признаков, по которым исторические персонажи делятся на модернистов и немодернистов) уступает место иным вопросам. А именно: был ли вхож тот или иной человек в модернистскую среду? А если был, то когда и до какой степени, поскольку многие творцы и потребители модернистских артефактов входили и выходили из этой культурной формации на разных этапах и географических широтах ее бытования (от Петербурга и Москвы конца XIX в. до эмигрантского Парижа 1930-x гг.) из побуждений личного, эстетического, этического, философского и идеологического порядка. Те же, кто постоянно оставался в русской модернистской культуре, перемещались из ее центра на периферию или наоборот, в зависимости от своих взглядов на эволюцию ее ценностей и доминантной художественной практики.
При таком подходе к модернизму как социально-культурной среде неизбежно встает вопрос ролей, отводившихся ее участникам и необходимых для ее существования. Иные из этих ролей исследованы лучше других. В связи с особенностями исторической оптики роль творца пользовалась до сих пор наибольшим вниманием, хотя и здесь самая продуктивная работа ведется сегодня на неканоническом и забытом материале, добываемом исследователями в исторических наслоениях авторов второго и дальнейших рядов[6]. Другая роль – потребителя модернистских артефактов – недавно выдвинулась в центр научных интересов, став проектом создания «коллективного портрета читателя модернистов»[7]. Здесь следует оговориться, что участники модернистской культуры могли выступать в нескольких ролях одновременно, хотя чаще всего ведущей была одна из них. Так, если писатели неизменно были и читателями модернизма, то его читатели отнюдь не всегда были активно творческими личностями.
Еще менее изучена, но не менее важна для понимания феномена модернистской культуры роль посредника: критика, переводчика, редактора, издателя, мецената, импресарио, – который способствовал созданию культурных ценностей; обеспечивал их распространение; содействовал их легитимации в модернистской среде и в более широком культурном поле; который, наконец, служил проводником текстов и идей между отечественным модернизмом и его зарубежными эквивалентами. Именно благодаря фигуре посредника – зачастую полиглота, географического непоседы и социально-культурного маргинала (не случайно в этой роли часто выступали женщины и евреи) – можно говорить о русском компоненте транснациональной модернистской культуры на всем протяжении ее существования. Будучи личностями творческими, такие посредники, как Зинаида Венгерова, Аким Волынский, Любовь Гуревич, Сергей Дягилев, Дмитрий Святополк-Мирский, Владимир Вейдле, Борис Шлëцер и пр., не реализовались как художники, но тем не менее внесли значительную лепту в историю русского модернизма и, не в последнюю очередь, в его взаимоотношения с другими национальными составляющими транснациональной модернистской культуры[8]. Причем именно «транснациональной», а не «интернациональной», если пользоваться номенклатурой, принятой с недавнего времени в англо-американском литературоведении, где маркер интернациональности указывает на «взаимодействие государств или культур», а транснациональностью обозначается «динамический процесс культурного смешения и миграции»[9].
Постсоветский расцвет эмигрантских штудий и их сближение с историографией русского модернизма создали благоприятные условия для изучения фигуры посредника, которую мы предлагаем рассмотреть во вступительной статье к настоящей книге на биографическом материале ее героини – Людмилы Ивановны Савицкой (10<23>.IX.1881 – 22.XII.1957), более известной под французскими именами и псевдонимами: Ludmila Savitzky, Lucy Alfé, Lud, Ludmila J. Rais, Ludmila Bloch. В наши цели не входит жизнеописание Савицкой, чей полувековой путь актрисы, литературного и театрального критика, поэта, переводчицы и детской писательницы достаточно богат на встречи и события, чтобы стать предметом отдельной монографии. Мы остановимся здесь лишь на тех аспектах ее биографии, которые проливают свет на место Людмилы Савицкой в транснациональной модернистской культуре и на посредническую роль, которую она в ней играла, проведя четверть века на перекрестке русского, французского и англо-американского модернизма. Волею судeб особое место в этой истории досталось корифею раннего русского модернизма, поэту Константину Дмитриевичу Бальмонту (3<15>.VI.1867 – 23.XII.1942), дружившему и сотрудничавшему с Людмилой Савицкой на всем протяжении ее пребывания в модернистской культурной среде. Материалы, проливающие свет на их мимолетный роман и последовавшие многолетние отношения, составляют основную часть настоящей книги. Однако книга – не о Бальмонте. В наши задачи входило показать на примере жизни и творчества Людмилы Савицкой, включая и историю ее отношений с Бальмонтом, что полноценное понимание той культурной формации конца XIX и первой половины ХХ в., которую принято называть модернизмом, требует пристального внимания к фигурам, по разным причинам не вошедшим в художественный и интеллектуальный канон русского и транснационального модернизма.
Уроженка Екатеринбурга, Людмила выросла в Тифлисе, куда ее отца, Ивана (Яна) Клементьевича Савицкого – выходца из польско-литовских дворян, члена Тифлисской судебной палаты и общественного деятеля, – перевели в 1889 г. за излишнее пристрастие к законности в бытность его членом Екатеринбургского окружного суда. Но и на Кавказе карьера этого «беспокойного человека», как его окрестили коллеги, сложилась не лучше[10]. Сотрудник «Отечественных записок», «Юридического вестника» и «Судебной газеты», где он выступал под псевдонимами Уставный, Старо-Уставный и Memor, И. К. Савицкий был редактором-издателем екатеринбургской газеты «Деловой корреспондент», к корректированию которой он привлек жену[11]. Мать Людмилы, Анна Петровна Савицкая, в девичестве Алферова, происходила из поместных дворян Курской губернии и на время порвала с семьей, чтобы выйти замуж за несостоятельного «поляка». По взглядам она была радикальнее мужа, училась на Харьковских высших курсах, где приобрела знакомства и интересы, позволившие ей позже, во время пребывания с детьми в Швейцарии и Франции, вращаться в богемно-революционных кругах, куда были вхожи и Ленин, и Муссолини[12]. От родителей Людмила переняла дух независимости и антиконформизма, послуживший затем источником ее конфликта с семьей.
Французскому она поначалу училась у нанятой в Екатеринбурге француженки, жены австрийского скрипача из городского театра; затем в тифлисской гимназии, где приобрела также солидные навыки в английском и немецком; и, наконец, в швейцарском пансионе, после того как мать, поссорившись с отцом, который переехал в Петербург, в 1897 г. увезла дочерей в Лозанну, отклонив желание Людмилы продолжать образование в Париже – городе опасном для нравственности шестнадцатилетней девушки[13]. Первые стихи Людмила писала по-русски. Из них сохранились лишь поздравления близким с праздниками. Но и эти опусы показывают ее раннюю начитанность, поскольку исполнены грамотным, пусть и не подходящим для семейных торжеств, некрасовско-надсоновским стилем «чахоточного поколения» русской интеллигенции[14], которым в юности переболели многие будущие поэты-модернисты. В Швейцарии Людмила продолжала писать стихи по-русски[15], а также давала уроки русского языка и литературы соседке по лозаннскому пансиону – Наталье Эренбург, двоюродной сестре Ильи Эренбурга[16]. Однако жизнь в Лозанне позволила ей почувствовать себя достаточно комфортно в местной языковой стихии, чтобы увлечься поэтическим переводом с русского на французский. К двум литературным полюсам вскоре прибавился третий. После кратковременной поездки в Париж, куда она впервые попала в 1900 г. в качестве переводчицы старого друга отца, пожелавшего увидеть Всемирную выставку, Людмила отправилась в Великобританию, чтобы усовершенствоваться в английском. Оттуда в начале 1901-го она вернулась в Париж, где ее ждала мать.
Именно здесь, в Париже «дела Дрейфуса», которым страстно интересовалась Анна Петровна, забросившая швейцарские занятия философией и политэкономией ради политической злобы дня, Людмила впервые столкнулась с людьми модернистской культуры. Мать неосторожно ввела ее в круг политических радикалов, где дочь познакомилась не только с разношерстыми подрывателями устоев, местными и иностранными социалистами, синдикалистами, анархистами и иными профессиональными революционерами, но и с литературно-артистической богемой, прошедшей школу раннего модернизма. Так, в памяти Людмилы навсегда осталось знакомство с франко-еврейским поэтом Гюставом Каном, в салоне которого она сошлась среди прочих с Максом Жакобом, Филиппо Томмазо Маринетти и Гийомом Аполлинером. Жена Кана будировала общественное мнение, перейдя в религию мужа в знак протеста против антисемитизма – выразительный жест, который через четверть века повторит жена русско-еврейского поэта-эмигранта Довида Кнута, Ариадна Скрябина, и который, как мы увидим, повлияет на поведенческий код самой Людмилы[17].
Политическая атмосфера, в которую окунулась Людмила, сказалась на ее первых выступлениях в печати. К этому времени относятся ее французские переводы стихотворной сатиры на обер-прокурора Святейшего синода К. П. Победоносцева и горьковской «Песни о буревестнике» для газеты «L’ Aurore», редактор которой, франко-итальянский анархист Шарль Малато, открыто жил с любовницей-англичанкой, чем особенно привлек внимание Людмилы, жадно учившейся жизни у парижской богемы и политических радикалов[18]. Таким образом, в июле 1901-го, занятая диспутами и уличными протестами, Анна Петровна с запозданием заметила, что ее дочь, безуспешно пытавшаяся подвизаться на местных театральных подмостках, слишком близко сошлась с молодым актером и денди Рене Пийо. При первом знакомстве с молодым французом, которого Людмила отрекомендовала матери своим женихом, манера Пийо элегантно одеваться (в долг, как потом выяснилось) и особенно отсутствие в нем «черт мужественных» и интереса к философии покоробили Анну Петровну – человека русской интеллигентской культуры, то есть поклонницу харизматических «светлых личностей». Наведя справки о претенденте в зятья через подругу-анархистку, мать записала его в волокиты и прохиндеи и повезла строптивую Людмилу поостыть в семейной усадьбе Алферовых в деревне Лазаревке, расположенной близ городка Короча Белгородского уезда Курской губернии[19]. Однако полгода «бесполезного заточения», как выразилась Людмила много лет спустя[20], возымели на нее прямо противоположный эффект. Оказалось, что осенью 1901 – зимой 1902 г. модернистские черти водились даже в тихом омуте между усадьбой Алферовых и домом, который Савицкие сняли на зиму в Короче.
Неподалеку, в селе Сабынино, находилась усадьба старшего брата Анны Петровны Савицкой, отставного профессора Харьковского университета Сергея Алферова, водившего дружбу с соседом, князем Дмитрием Волконским, в чьем имении гостили Константин Бальмонт с женой Екатериной (свояченицей хозяина) и новорожденной дочерью Ниной. Подобно Людмиле поэт оказался в этих краях не по своей воле: весной 1901-го он был на два года лишен права проживания «в столичных и университетских городах и их губерниях» за политическую неблагонадежность[21]. Захаживая по-соседски к Сергею Алферову, Бальмонт познакомился с его «ссыльной» племянницей и приударил за ней. Людмила была в восторге от внимания литературной знаменитости, находившейся в зените славы, тем более что с Бальмонтом можно было поговорить «о Париже и французских поэтах, цитируя Бодлера, Верлена и Малларме»[22]. Несмотря на разницу в жизненном опыте, оба подошли к последовавшим вскоре интимным отношениям одинаково, как предписывал поведенческий код модернистской культуры, к которому Бальмонт приобщился в Москве и Петербурге, а Людмила – в Париже. Не скрывая друг от друга иных сентиментальных привязанностей, они выстроили свою мимолетную связь, прерванную отъездом Бальмонта за границу в марте 1902 г., как воплощение эстетических и философских ценностей «новых людей», не обремененных общепринятой моралью. Екатерина Бальмонт была в курсе очередного увлечения мужа[23], а Людмила описывала свои отношения с поэтом в письмах к парижскому жениху, который, по ее мнению, должен был все понять, и стремилась познакомиться с женой любовника, чтобы полнее постичь его душу. Бальмонт же противился встрече женщин, произошедшей лишь после его отъезда, но прошедшей как нельзя лучше, во всяком случае по письменным уверениям Людмилы[24].
С самого начала их романа Людмила проецирует свои отношения с поэтом на распространенные в модернистской среде тройственные союзы, бросающие вызов общепринятой морали[25]. Kо времени ее знакомства с Бальмонтом практика ménage-à-trois привлекла целый ряд персоналий первого плана раннемодернистской культуры: Зинаиду Гиппиус, ее мужа Дмитрия Мережковского и Акима Волынского (которого затем сменил Дмитрий Философов); Зинаиду Венгерову, Николая Минского и его жену Людмилу Вилькину; a Любовь Блок безуспешно подталкивала Андрея Белого к построению подобного треугольника с ее мужем Александром Блоком[26]. «Я знаю, наверно знаю, что если Вы будете с нами в Париже, все устроится просто и легко ‹…› То, что я чувствую, очень, очень странно… очень странно! Но мне кажется, что я была бы радостной и красивой не только из‐за него и для него, но и из‐за Вас и для Вас», – пишет Людмила (8.II.1902), включая в гипотетический треугольник с Бальмонтом своего парижского жениха, но не жену поэта. Вскоре она объяснила Рене Пийо свой взгляд на интимные отношения с мужчинами, процитировав тот же пассаж в письме к Бальмонту: «Став твоей женой – не превратилась ли бы я в источник твоих мучений? Ты ведь знаешь, я слишком экстравагантна, слишком независима! Да вот, к примеру: я тебя люблю, не так ли. И, тем не менее, я люблю Брюсова и люблю Бальмонта. Представим себе, что я твоя жена. Я говорю тебе – я еду в Москву. Ты в праве думать, что у тебя есть основания для протеста? А вот и нет! Я хочу быть так же свободна с тобой, как вдали от тебя. Я хочу иметь возможность поехать в Москву и дать себя целовать этому мужчине – если его поцелуи откроют мне глубину его души. Я хочу быть свободной» (25.IV.1902; пер. с фр.).
Для Людмилы физическая близость – в гораздо большей мере, чем для падкого на женские прелести Бальмонта, – была формой творческого общения, неотделимой от эпистолярного романа, развивавшегося параллельно их свиданиям. «Милый Бамонт <sic>, как я рада, что была для Вас мгновеньем радости!» – пишет она 4 февраля 1902 г., употребляя интимно-ласкательное прозвище, позаимствованное из речи ее малолетнего кузена, жившего в корочанском доме Савицких. –
‹…› без меня Ваша жизнь была бы не совсем полной. Мне казалось, что дать Вам минуту красоты – мой долг, как долг цветка – дать свой сок мимолетной бабочке. Поняли? И поэтому я рада, рада, мне весело! Как хорошо, Бамонт, что Вы мне ни разу не солгали, не преувеличили своих чувств, не сказали, как сделал бы другой на Вашем месте, что Вы не можете жить без меня, что я для Вас – все, что кроме меня для Вас нет счастья в мире. Я все боялась, что Вы мне скажете что-нибудь в этом роде, – это испортило бы мою радость и убило бы мое доверие к Вам. А теперь я счастлива. Я ничего не предлагаю Вам, но даю все, что могу. Ничего не прошу у Вас, но все, что Вы мне даете, увеличивает мое счастье. Если Вы забудете меня завтра – я не удивлюсь.
Фразы «мгновенье радости» и «минута красоты» несут здесь особое значение, вполне понятное лишь внутри модернистской культуры. По ретроспективному замечанию Владислава Ходасевича, одного из ветеранов этой культурной формации, «любовь открывала для символиста иль декадента прямой и кратчайший доступ к неиссякаемому кладезю эмоций ‹…› Поэтому все и всегда были влюблены: если не в самом деле, то хоть уверяли себя, что влюблены»[27]. Анализ, данный Ходасевичем эстетически значимому поведению поэта Нины Петровской в романтическом треугольнике с Валерием Брюсовым и Андреем Белым, применим к роману Людмилы Савицкой и Константина Бальмонта, тем более что именно с мимолетной связи с Бальмонтом и началось вхождение Петровской, бывшей лишь годом старше Савицкой, в модернистскую среду. «Первым влюбился в нее поэт, влюблявшийся просто во всех без изъятия, – пишет Ходасевич о Петровской. – Он предложил ей любовь стремительную и испепеляющую. Отказаться было никак невозможно: тут действовало и польщенное самолюбие (поэт становился знаменитостью), и страх оказаться провинциалкой, и главное – уже воспринятое учение о „мигах“»[28]. Вскоре пресловутое «учение о „мигах“», отзвуки которого мы находим в «мгновеньи радости» и «минуте красоты» из письма Савицкой к Бальмонту, нашло программное выражение в статье Брюсова «Страсть»: «Эта надежда, эта вера, что будут миги полноты ощущения, в которых все утонет, все перестанет быть, и прямо очам нашего истинного „я“ откроется бесконечность. Вот это-то затаенное сознание человечества и провозглашает наше время своим открытым поклонением, своим культом страсти ‹…› Страсть – та точка, где земной мир прикасается к иным бытиям»[29].
В феврале – марте 1902 г. Людмила пишет «Бамонту» ежедневно, иногда по нескольку раз в день. Он же, называя ее то Лелли (по собственному переводу одноименного стихотворения Эдгара По), то Люси, скупится на ответы, предпочитая отделываться присылкой книг и стихов, так как играет в их паре роль наставника и, судя по всему, боится огласки, попади письма в чужие руки[30]. Людмила, слывущая в семье девушкой излишне эмансипированной, помогает поэту соблюдать приличия не из страха перед «„общественным мненьем“ <которым> мне так часто приходилось бравировать, что это стало для меня каким-то забавным спортом», но потому, что «мама не поймет наших отношений или заподозрит меня в кокетстве и будет дрожать за Вас (ей-Богу!) и страдать оттого, что у нее такая бесчувственно-жестокая дочь», – а это приведет к пересудам о «нашей чудной дружбе», создав ситуацию, «когда Вы бы слушали какую-нибудь дивную, чарующую мелодию – и вдруг бы кто-нибудь чихнул или плюнул около Вас» (9–11.II.1902).
Вместо любовных писем Бальмонт шлет ей стихотворные послания, из которых затем составит цикл «Семицветник»[31], вошедший в его поэтический сборник «Будем как солнце» (М.: Скорпион, 1903). В письме к Брюсову (15.II.1902), написанном в самый разгар романа, он упоминает эти стихи: «Я почти ничего не пишу. Только мадригалы новому гению моей души и, может быть, судьбы ‹…› Валерий, я знаю, я узнал истинное счастье. Я узнал, как через другого видишь свою душу. Как хорошо, как глубоко, как призрачно!»[32] Другому корреспонденту, Константину Случевскому, поэт пишет днем ранее все о том же трансцендентальном эффекте «минут красоты», которые Людмила считает долгом ему давать: «Что сказать Вам о себе. Я в заколдованном круге. Пишу, мыслю, подвожу итоги, иногда молюсь, иногда влюбляюсь, а теперь люблю. Ну, вот так-таки действительно люблю. Вы, конечно, не спросите, надолго ли. Если люблю, значит навсегда»[33]. Людмилу эпистолярная сдержанность Бальмонта не огорчает, тем более что каждый из них занят, в сущности, лишь собой, используя другого в качестве катализатора мыслей и чувств. «Фи! Как неприлично так часто писать человеку, от которого получаешь письма далеко не каждый день! – замечает она 9 февраля. – Но видите ли что, Бамонт, ведь я, в сущности, ни для кого не пишу, кроме себя! Я много думаю, мне необходимо дать форму своим мыслям, и вот я выражаю их в виде письма к тому лицу, к которому они имеют наиболее близкое отношение». Все ее письма Бальмонт сбережет и будет перечитывать как полноправный литературный текст два десятилетия спустя, когда их общение перейдет в иную ипостась и Людмила, в свою очередь, станет наставницей поэта[34]. А зимней связи 1902 г. Бальмонт отдаст должное в дарственном послании, сопроводившем «Будем как солнце» и намекающем на метафору из процитированного выше письма Людмилы («долг цветка – дать свой сок мимолетной бабочке»):
Посвящаю эту книгу, сотканную из лучей, моим друзьям, чьим душам всегда открыта моя душа. Брату моих мечтаний, поэту и волхву, Валерию Брюсову; нежному, как мимоза, С. А. Полякову; угрюмому, как скалы, Ю. Балтрушайтису; творцу сладкозвучных песнопений, Георгу Бахману; художнику, создавшему поэму из своей личности, М. А. Дурнову; художнице вакхических видений, русской Сафо, М. А. Лохвицкой, знающей тайны колдовства; рaссветной мечте, Дагни Кристенсен, Валькирии, в чьих жилах кровь короля Гаральда Прекрасноволосого; и весеннему цветку, Люси Савицкой, с душою вольной и прозрачной, как лесной ручей. 1902. Весна. Келья затворничества.
Людмила, подобно перечисленным здесь людям модернистской культуры стремившаяся «создать поэму из своей личности», была обязана Бальмонту входом в собственно русский модернизм, поскольку доселе она знала лишь французское «новое искусство» и среду его бытования. У Бальмонта она училась нежеланию русского модернизма «быть только художественной школой, литературным течением» и следующей отсюда необходимости поиска «сплава жизни и творчества, своего рода философского камня искусства», в котором «дар жить» ценится не меньше дара литературного[35]. «Бальмонт осуществил в себе то, о чем я мечтал бывало, – писал Брюсов Зинаиде Гиппиус в марте 1902-го, после свидания с поэтом в Москве, где тот провел сутки по пути из Сабынино в Париж. – Он достиг свободы от всех внешностей и условностей. Его жизнь подчиняется только прихоти его мгновения. Он ищет только одного – наполнять эти мгновения ‹…› Вот истинный тип декадента, не в искусстве, ибо это еще мало, но в жизни»[36].
Бальмонт подробно описывает Людмиле свою модернистскую среду в Москве и Петербурге (в ее письмах упоминаются практически все персонажи из дарственного послания к «Будем как солнце») и всячески занимается ее образованием в сфере русского «нового искусства». «„Боже, Бамонт!“ – Сколько книг Вы мне прислали!» – замечает Людмила вскоре после начала их связи (4.II.1902). Присланные альманахи и поэтические сборники становятся постоянной темой их общения. Людмила сама начинает разыскивать модернистскую поэзию в попадающейся под руку периодике, просит новых книг и подбирает тексты для перевода на французский – из Бальмонта, Брюсова, Вилькиной, З. Гиппиус, Лохвицкой и пр. (9.II.1902; 15.II.1902; 24.II.1902; 28.II.1902; 23.IV.1902). Одновременно у нее растет интерес к родному языку, чему способствует не только чтение «новой» поэзии, под впечатлением которой она больше не удовлетворяется писанием стихов по-французски (см. 24–28.IV.1902), но и эпистолярное общение с Бальмонтом:
Осенью, когда я приехала в Россию, я писала очень наивно по-русски, но зато перезабыла английский, немецкий и итальянский, так что мне даже стыдно, когда говорят о моем знании языков ‹…› Только французскому не совсем разучилась, благодаря письмам к René и потому, что я с ранних пор думаю по-французски. Но теперь я не забуду и русского – я его очень полюбила из‐за Вас. Вы «изысканность русской медлительной речи!»[37] Право, Вы заставили меня впервые понять красоту нашего языка! (24.II.1902)
Приобщение к русскому модернизму помогло Людмиле осознать ее конфликт с семьей как столкновение культур, в процессе которого она променяла ценности интеллигенции, с ее «светлыми личностями» и социальным «горением»[38], на «новую» этику и эстетику. Подобно жене, ушедшей из дворянской культуры в интеллигентскую, отец Людмилы был носителем ценностей последней. Иван Клементьевич начал свою профессиональную деятельность в качестве земского врача в Короче, где и познакомился с Анной Петровной, угодив в провинцию за политическую неблагонадежность по окончании Петербургской медико-хирургической академии. Разочаровавшись в медицине, но радея об общественной пользе, он выучился в Харькове на юриста, в результате чего и попал на Урал, где, кроме службы в Екатеринбургском окружном суде, Савицкий подвизался в качестве гласного городского и земского самоуправлений, а также почетного мирового судьи. Его смерть в 1913 г. сопровождалась некрологами, полными интеллигентской пиротехнической риторики, согласно которой покойный был мучеником, «горевшим неугасимым жаром работать на пользу ближнего» и «сохранившим верность высоким идеалам», несмотря на то, что «видел на своем пути одни лишь тернии»[39]. Дочь его, однако, смотрела на мир по-иному. Говоря о земском враче, которого ей исподволь прочили в женихи, Людмила пишет Бальмонту:
Представьте, что недавно я задала себе вопрос – (до чего я поумнела в Короче!!!) почему я люблю René, а не доктора Белявского? Белявский – герой по фактам, – он отдает свою молодость, здоровье, спокойствие, состояние – чужим для него страдальцам. Я готова стать перед ним на колени и целовать его пораненную при операции руку. А René? Он ничего еще не сделал. Он только существует – и за одно это я люблю его? Да, я люблю его за его громадную, необъятную душу, и хоть бы он умер, ничего не совершив, я любила бы его больше всех героев мира (22.III.1902).
Общение с Бальмонтом и чтение русской модернистской поэзии становятся для Людмилы средствами духовного выживания в корочанском «бесполезном заточении». Уже в феврале она высылает подборку переводов из Бальмонта в «La Revue Blanche», надеясь на поддержку их общего знакомого, сотрудника этого модернистского журнала, поэта Гюстава Кана. Но оттуда быстро приходит вежливый отказ (13.III.1902), тем более обидный, что Людмила рассматривает поэтический перевод, которым она все больше увлекается по наущению любовника, как форму полноправного творческого самовыражения и соперничества с признанными авторами. Сравнивая французские переводы, которые она посылает Бальмонту, с их русскими оригиналами (см. примечания к письмам), нельзя не заметить большую ритмическую, лексическую и даже смысловую свободу, с которой переводчица обращается со своим материалом. Неслучайно, рассуждая о собственных занятиях переводами, Людмила обыгрывает известную формулу Василия Жуковского из статьи «О басне и баснях Крылова» – «Переводчик в прозе есть раб; переводчик в стихах – соперник»[40], – проецируя данную сентенцию на поведенческий код, который сама для себя в это время вырабатывает под влиянием системы ценностей модернистской культуры:
Ах, Бамонт, какую силу я чувствую в себе. Мне хочется быть всегда одной. И я всех хочу – для себя. Мне хочется вызвать всех сильных на бой – Вас, и Брюсова, и René ‹…› Слушайте, Бамонт, слушайте хорошенько: Желание рабства исчезло во мне. Я хочу быть одной. Я хочу быть владычицей морскою. Но не хочу я бесцветной, бесстрастной, холодной морской глубины. Я хочу – бесстрастного, но яркого, но горячего солнца. И когда я выпью до дна его лучи, я возьму это солнце и повешу его как золотую безделушку в моем прозрачном подводном дворце. На чтo мне оно – истощенное? Я сама буду гореть и греть его лучами. Бамонт – в эту минуту вся моя душа в этих строках. Поймите и запомните. Преступно? Дерзко? Безжалостно? Я и не претендую ни на благонравие, ни на скромность, ни на человечность. А все-таки я Лелли. И я Вас люблю (23.IV.1902).
В тетради за 1902 г. среди переводов из Бальмонта, Брюсова, Вилькиной, Гиппиус и Лохвицкой попадаются стихи, которые Людмила пишет по-русски. Два стихотворения она посвящает Валерию Брюсову – «обер-декаденту», с которым мечтает встретиться, чтобы «поближе узнать его скифскую, стихийную душу» (23.IV.1902). Вступив с Брюсовым в переписку в марте 1902 г., Людмила шлет ему свои русские стихи и французские переводы из его поэзии[41]. Причем Бальмонт рекомендует ее Брюсову именно как участницу модернистской культурной формации: «Кстати, благодарите меня за новую „поклонницу“. Если увидите Люси – она для Вас хочет ехать в Москву, – будьте с ней как со мной. Быть может, Вы не сразу увидите, она единственна, как Дагни <Кристенсен>, как Зина М<ережковская>, как Вы, как я»[42].
Отъезд Бальмонта во Францию не прервал эпистолярного общения с Людмилой; тем более что корочанский роман лишь укрепил ее в намерении вернуться в Париж ценой серьезной ссоры с семьей, поскольку родители считали, что русская девушка, отправляющаяся за границу, должна быть движима желанием получить образование, что можно было сделать в Берлине, Цюрихе, Женеве, Вене или даже в Лозанне, куда вскоре вернулась Анна Петровна, поближе к учившейся там в пансионе младшей дочери. Людмила выбирает парижскую театральную карьеру, чем бросает вызов не только патриархальным устоям Российской империи и юридическому статусу россиянок, обретавших во Франции больше прав и свобод[43], но и аскетической этике интеллигенции. Людмила тяготилась своим положением в России: «1) Я несовершеннолетняя и представляю из себя собственность моих родителей! 2) У меня нет денег», – жалуется она Бальмонту (1.III.1902), который подталкивает ее на бунт и дает денег на обратный путь в Париж. В своем всеобъемлющем бунте – семейном, общественном, эстетическом, этическом, культурном – Людмила шла по стопам Зинаиды Венгеровой и Любови Гуревич, нашедших в «новом искусстве» и «новом сознании» путь к эмансипации, в которой они, как женщины и еврейки, живущие в России, нуждались острее мужчин[44]. Самоописание Гуревич – редактора протомодернистского «Северного вестника», для которой «борьба в защиту новых веяний» была формой протеста против ущербного статуса образованной россиянки («Ненавидя свою не вполне свободную девическую жизнь, мешавшую моему „художественному развитию“, <я> рвалась и металась как сумасшедшая»[45]) – вполне применимо к состоянию Людмилы Савицкой осенью 1901 и зимой 1902 г. И если восприятие Гуревич модернистских ценностей было опосредовано ее интимной связью с их пропагандистом Акимом Волынским, Савицкая, уже приобщившись к французскому изводу раннего модернизма, обрела в Бальмонте тем более авторитетный пример русской версии «нового сознания», что поэт находился в апогее своей славы создателя «нового искусства». Недаром Ходасевич вспоминал «прозрачную весну 1902 года» как пик литературного престижа Бальмонта в русской модернистской общности:
В те дни Бальмонт писал «Будем как солнце» – и не знал и не мог знать, что в удушливых классах 3-й московской гимназии два мальчика: Гофман Виктор и Ходасевич Владислав – читают и перечитывают, и вновь читают и перечитывают всеми правдами и неправдами раздобытые корректуры скорпионовских «Северных Цветов». Вот впервые оттиснутый «Художник-дьявол», вот «Хочу быть дерзким», которому еще только предстоит стать пресловутым ‹…› Читали украдкой и дрожали от радости. Еще бы. Шестнадцать лет, солнце светит, а в этих стихах целое откровение. Ведь это же бесконечно ново, прекрасно, необычайно! ‹…› И несколько лет прошли для меня «под знаком Бальмонта»[46].
И вот именно этот полубог от модернизма лично благословляет юную Людмилу Савицкую на побег в Париж от семейных и общественных уз и предрассудков, ссудив ее необходимыми средствами под предлогом аванса за будущие переводы (23.IV.1902). Однако богемное существование во Франции, куда она вернулась в мае 1902 г., не подозревая, что покидает Россию навсегда, оказалось далеким от корочанских мечтаний. Людмила несколько поостыла к Рене, истратив былую страсть на эпистолярные романы с французским женихом и русским любовником. Но и Бальмонт вышел из центра ее внимания – уж слишком много забот и увлечений принесли ей вновь «обретенная свобода» и «уверенность в личном праве на императив борьбы и завоеваний»[47]. На следующий же день по приезде в Париж она поступает в труппу под руководством Рене Пийо (Théâtre Musée Grévin), выбрав псевдоним, производный от девичьей фамилии матери, – Люси Альфе. Однако и на парижских театральных подмостках ей не хватает свободы для самовыражения. «Мы жили только театром, – вспоминала Людмила полвека спустя лето 1902 года. –
Мы страстно, душой и телом, отдались этому пошленькому театру комедии ‹…› В этом театре, который выеденного яйца не стоил, в зале, на сцене, за кулисами я подсознательно чувствовала малейшие проявления энергии или вялости у актеров, удовольствия или скуки у публики ‹…› В ответ на любое из этих ощущений я готова была вскочить, вмешаться, поднажать или смягчить то и это, – не действием, конечно, что было невозможно, но силой, непонятно откуда шедшей, пронизывавшей меня и не находившей практического применения. Будь я мужчиной, из меня верно вышел бы хороший режиссер. Но сколько я замалчивала, затушевывала, подавляла в себе, будучи девушкой[48].
Они с Рене сожительствуют, предоставив друг другу полную свободу побочных увлечений, чем Людмила шокирует даже видавших виды хозяек дешевых гостиниц, в которых они обретаются[49]. Пара с трудом сводит концы с концами, однако просить материальной помощи у родителей Людмила принципиально отказывается. К счастью, Бальмонт, движимый ее отчаянными просьбами (8.VII.1902; 7.VIII.1902; 17.VIII.1902; 24.VIII.1902), в состоянии ссужать их деньгами, несмотря на свое ревнивое отношение (30.VIII.1902) к связи «Лелли» с недостойным ее, заурядным и фатоватым парижским актером, который, при случае, вызволяет поэта из рук парижской полиции, куда тот угодил за публичное пьянство[50].
Осенью 1902 г. беременность заставила Людмилу на время отказаться от сцены. Сняв квартиру на богемном Монпарнасе благодаря сезонному ангажементу Рене в театре «Одеон», они становятся завсегдатаями кафе «Сиреневый хутор» («La Closerie des Lilas») – штаб-квартиры художников недавно зародившейся группы «Независимых». Здесь Людмила сходится с никому пока не известным Пабло Пикассо и иными будущими знаменитостями «Парижской школы» живописи[51]. Удаленность от России отнюдь не мешаeт ей быть в курсе жизни русской модернистской культуры. Так, поселившись в Париже весной 1903 г., Вячеслав Иванов нашел здесь брожение среди русских студентов, ратующих за «культ поэзии и идеализма», что в сочетании с поступающими из России книгами и альманахами заставило поэта воскликнуть по-французски: «C’est un renouveau! Et c’est sûr»[52]. Не случайно, описывая в дневнике столкновения с противниками модернизма, Брюсов рассматривал Москву и Париж как два фланга борьбы за русское «новое искусство». Если в феврале – марте 1903-го, вместе с Бальмонтом (вернувшимся в Россию в январе) и сотрудниками издательств «Скорпион» и «Гриф», Брюсов ведет правильную атаку на интеллигентский истеблишмент Москвы, который в ответ «изливается в брани – самой неприличной», то в апреле того же года он пропагандирует русский модернизм в Париже, где реакция интеллигенции не отличается от московской. Его доклад о «Задачах искусства» в парижском Обществе русских студентов (опубликованный в виде статьи-манифеста «Ключи тайн» в первом номере «Весов» за 1904 г.) закончился «эпическим» скандалом, по выражению выступавшего здесь же со стихами Иванова[53]. Людмила не только присутствовала на докладе Брюсова вместе с новой страстью Бальмонта – Еленой Цветковской, но и привела туда не понимавшего по-русски Рене Пийо. Брюсов так описал реакцию на свой доклад:
Вылезали какие-то «сельские учителя», как они рекомендовались, и требовали объяснить им, что такое декадентство. Народу было так много, что зала не вмещала, сидели, стояли, толпились, не впускали, было душно, жарко. На 9/10 идиоты. После, однако, остались одни сочувствующие. Соломон Поляков, Поярков, «Иван Странник», Кругликова, Пилло <то есть René Pillot>, Люси, Елена <Цветковская> и пр. (Были Ивановы, но ушли.) Пилло сказал речь, по-французски, что бывал на собраниях самого низшего плана, но таких гнусных не видывал. После говорили стихи, пили кофе, etc., etc.[54]
Причем собственно французская модернистская среда, которую Брюсов застал в Париже, поначалу разочаровала поэта, не нашедшего здесь тематики и, главное, «страстей»[55], разрывавших культуру раннего русского модернизма, но для французов бывших уже пройденным этапом. Характерно, что «перевод» французского модернизма в категории, понятные и близкие Брюсову, произошел во время его визита к Рене и Людмиле. «Я был в „La Plume“, это задворки, – записывает он в дневнике. – „Mercure“ тоже. Но у Pillot одна дама, кажется артистка, неожиданно заговорила со мной о Верхарне. Я был счастливо удивлен»[56].
Последовавшее вскоре рождение дочери, названной в честь ландышей, цветших на улицах Парижа в мае 1903 г., привело к семейному скандалу: родители Людмилы нашли непристойными обстоятельства появления на свет Анн Люси Мюгет, хотя летом того же года Людмила вышла замуж за Рене – это было условием их осенней работы в Англии. Ребенок осложнил богемное существование пары, ни материально, ни психологически не готовой к уходу за новорожденной. Заботы о Мюгет мешали им общаться с художниками-авангардистами, искать театральные заработки, гоняться за литературными новинками и увлекаться новыми знакомыми. Тем не менее во время осеннего ангажемента в Англии, куда новобрачные отправились с грудным ребенком, Людмила завела роман с Морисом Шломберже, открывшим ей новую сторону французского модернизма – прозу своего старшего брата Жана и его соратника Андре Жида, которые в это время планируют журнал, получивший впоследствии название «La Nouvelle Revue Française» и ставший одним из рупоров французской и транснациональной модернистской культуры[57].
Той же осенью 1903 г., по возвращении из Англии, Людмила приходит к заключению, что не в состоянии растить дочь и вести жизнь человека искусства. Не так давно она попрекала Бальмонта отсутствием у него семейственности: «Как Вы можете не любить детей, Бамонт? Какое зрелище может быть красивее этого постепенного расцвета, этого пробужденья души, встречающей на каждом шагу восторги откровения? ‹…› Дети то же, что искусство – в них переливается волна нашей души, чтобы жить еще и еще и еще, чтобы остаться бессмертною в бесконечном. Если бы я не встретила René, я все равно вышла бы замуж, для того, чтобы иметь ребенка» (11.II.1902). Однако год, проведенный среди модернистов, показывает Людмиле несовместимость ухода за грудным ребенком с жизнью в культуре, чья ценностная система требует преодоления патриархального быта с его «мещанским» домашним очагом. Людмила решает в пользу «нового сознания» и «новой морали», не предвидя последствий своего выбора. На деньги свекрови девочку шлют в интернат под Парижем, где Мюгет, благодаря нормальному уходу, поначалу поправляется, но в мае 1904-го внезапно умирает. Виня себя в смерти ребенка и тяготясь этим до конца жизни[58], не находя поддержки и понимания в Рене, чей дендизм теперь представляется ей недалеким и порочным нарциссизмом[59], Людмила устремляется на театральные подмостки, чтобы на время забыть о личной трагедии. Она играет без разбора в модернистских драмах и бульварных комедиях, в труппах Grand Guignol, Théâtre du Peuple, Théâtre des Arts (который затем прославится режиссурой Георгия Питоева) и Gymnase (здесь вместе с ней подвизалась будущая звезда эстрады Мистингет)[60]. Живет она «свободной жизнью женщины театра», отличающейся «неосторожным поведением» – по выражению суда, все-таки решившего в ее пользу бракоразводный процесс, затеянный в 1910 г. Рене, с которым Людмила окончательно разошлась за несколько лет до того[61]. Приехавшему проведать ее в середине 1900‐х отцу Людмила дает почитать (несохранившуюся) рукопись французского автобиографического романа, который тот назвал «сексуальным бредом»[62]. Отношения с матерью складывались не лучше. После очередной ссоры с мужем Анна Петровна переехала в Париж, прибавив к обычным политическим увлечениям курсы живописи в одной из монпарнасских художественных академий. Но, несмотря на собственное эмансипированное существование, она продолжала укорять старшую дочь за непослушание и советовала ей «отрезвиться всем на счастье»[63].
В это время круг чтения Людмилы составляет новейшая французская поэзия, а также проза Андре Жида, Оскара Уайльда, Элемира Буржа и Ж.-К. Гюисманса. Она не пропускает ни одной художественной выставки, пишет стихи по-французски (ее поэтический дебют в парижской прессе состоялся в 1908 г.[64]), стилизует свою внешность под женских персонажей художников-прерафаэлитов[65], особенно популярных в начале века среди русских модернистов[66], и ширит связи с людьми французского «нового искусства»[67]. Морис Шломберже вводит Людмилу в круг Андре Жида, чьи «Яства земные» и «Имморалист» становятся ее настольными книгами. Жид, правда, приревновал Людмилу к Морису, бывшему в его вкусе. В дневнике (25.XI.1905) он описал знакомство с соперницей в ресторане, куда они с Полем Жидом (братом Андре) и Жаном Шломберже повезли Людмилу, побывав на ее спектакле:
Мадам Альфе меня разочаровала; несмотря на приложенные усилия, я не нашел в ней всех тех качеств, которые искал. Я представлял себе Мориса в ее компании, понимая, почему он не влюблен в нее еще больше, желая, чтобы его чувство к ней поуменьшилось, и как будто опасаясь судить о качестве его любви по предмету последней. Все же вечер мы провели нескучно; при отсутствии более сочных качеств, я удовольствовался ее отзывчивостью ‹…› Не очень стараясь ей понравиться, я вел себя естественно, а она к тому же мне в этом помогала, за что я был ей признателен, сам того не замечая[68].
Вращаясь в среде французских модернистов, Людмила продолжает поддерживать отношения с их русскими коллегами, которых в Париже после революции 1905 г. становилось все больше. В том же году началась и первая длительная эмиграция Бальмонта, вернувшегося в Париж во избежание ареста царской полицией (теперь уже с третьей, гражданской женой Еленой Цветковской). Со многими модернистами Людмила знакомится в парижском салоне Бальмонта; тот снабжает ее книгами из России – как своими, так и собратьев по перу[69]. Не случайно ее приглашают выступить на вечере в честь поэта в 1912 г.:
Многоуважаемая Людмила Ивановна,
Комитет по устройству чествования Бальмонта (25-летие его литературной деятельности и его отъезд в Океанию) поручил мне предложить Вам как его старому другу и Вашему мужу[70] принять участие в банкете, который состоится в среду 25 января в 7 часов вечера в «Taverne du Negre» (17 B-rd St. Denis. Prix – 5 fr.). О согласии комитет просит уведомить по моему адресу до вечера вторника.
Я вчера не успел сказать Вам ни слова у Бальмонтов. У меня обыкновенно собирается много народу по понедельникам от 4–7. Быть может, Вы бы нашли возможность и охоту заехать завтра ко мне: тогда бы мы смогли подробнее обсудить, как все лучше устроить. Мне кажется, например, что с Вашей стороны было бы страшно хорошо, если бы Вы согласились прочесть несколько стихотворений Бальмонта по-русски и по-французски в своих переводах?
Искусству публичного чтения модернистских стихов, существенно отличавшемуся от классической декламации, Людмила училась на поэтических вечерах, а также во французском движении «народных университетов», которые ставили целью поднять культурный уровень пролетариата, в том числе при помощи новейшей литературы. Так, 6 ноября 1909 г. в университете рабочего района около площади Бастилии (Université populaire du Faubourg Saint-Antoine) с лекцией о «Поэтах сегодняшнего дня» выступил ее старый знакомый Гийом Аполлинер в сопровождении чтецов, среди которых была и Люси Альфе[72]. Незадолго до того, вращаясь в среде, где политические радикалы соседствовали с модернистской богемой и куда Людмила была вхожа еще с 1901 г., отнюдь не утратив интереса к революционным теориям и освободительным движениям[73], она познакомилась с Жюлем Рэ. Подобно Людмиле, Жюль был одним из организаторов утопического проекта артистической колонии в заброшенном монастыре недалеко от Па-де-Кале (La Chartreuse de Neuville – Невильская обитель). С 1908 по 1912 г. люди творческих профессий приезжали сюда на лето, чтобы отдыхать и работать бок о бок с семьями студентов «народных университетов», чьим просвещением они продолжали заниматься в неформальной атмосфере социалистического «фаланстера»[74].
Критик и коллекционер изобразительного искусства, пропагандист стиля Art Nouveau, вышедший из модернистского круга «Школы Нанси», преуспевающий юрист с широкими связями в парламентских и аристократических сферах, Жюль Рэ очаровал Людмилу художественным вкусом, познаниями в современном театре и литературе и социалистическими взглядами. Правда, был он также неисправимым ловеласом и, что покоробило Людмилу намного больше, «полумещанином» во взглядах на деньги, общество и мораль – однако последнее она поняла, лишь забеременев. Средства избавиться от ребенка, подсказанные коллегами по театру, не сработали, и в 1909 г. у Людмилы родилась дочь Марианна, что кардинально изменило ее жизнь, так как с этого момента ее главной заботой стало не допустить повторения трагедии с Мюгет. Это означало в первую очередь отказ от театра, так как Жюль, не без колебаний решившись узаконить их отношения, не хотел, чтобы «позорное клеймо» театрального прошлого жены сказалось на его положении в обществе[75].
После рождения дочери и отказа от театральной карьеры Людмила принялась искать нового применения творческим силам. В январе 1910 г. под старым театральным псевдонимом она публикует свою первую французскую критическую статью – «Русская игрушка». В том же году она переводит для парижской постановки пьесу Владимира Винниченко «Базар»[76]. Номинальная тема статьи «Русская игрушка» – народное мастерство в области детской игрушки – послужила поводом для обширного экскурса в экспериментальный неопримитивизм русских художников[77]. Судя по статье, а также по сохранившемуся в ее бумагах каталогу парижской выставки, организованной Сергеем Дягилевым в 1906 г. и открывшей для французской публики современную русскую живопись и графику, Людмила была в курсе художественной жизни России. Что же касается литературной продукции русского «нового искусства», то Савицкая следит за ней по книгам из России (в ее библиотеке уживаются такие художественно неравноценные издания, как альманах «Северные цветы» за 1911 г. с дарственной надписью Бальмонта и роман Евдокии Нагродской «Гнев Диониса» <1910>) и по периодике русских модернистов-парижан. Сохранился, к примеру, первый номер журнала «Гелиос» (1913), разрезанный Савицкой на статьe Оскара Лещинского «О „футуризме“» и на «Заметках о русской поэзии» Ильи Эренбурга, читая которые Людмила не могла не заметить, что эстетика и философия, сформировавшие ее вкусы и мировоззрение, отошли на периферию модернистской культуры вместе с ее ранними корифеями.
Людмила также не могла не знать, что неуклонный рост популярности Бальмонта у широкого российского читателя был обратно пропорционален его месту в меняющейся модернистской иерархии. Смена литературных поколений и эстетических доминант внутри модернистской культурной общности сделали Бальмонта падшим кумиром уже к концу 1900‐х. Брюсов попрекал собрата по перу графоманией, считая «Будем как солнце» его «самой полной книгой», после которой «начинается падение Бальмонта, сначала медленное, потом мучительно стремительное»[78]. Эренбург же писал об «изнеможении, старческой дряблости и распаде» всех светочей раннего модернизма:
Насколько было прекрасным их творчество, настолько величава их смерть ‹…› Сами поэты, точно чуя пурпур пышного заката, начинают подводить итоги своего поэтического развития. Появляется «полное собрание сочинений Брюсова», сборник «Звенья» Бальмонта. Что касается новых книг этих поэтов, то приходится отметить, что символисты либо пытаются выйти из прежнего круга, создавая вещи слабые и малоинтересные, либо повторяют старые мотивы, но с меньшим подъемом. Конечно в «Зареве зорь» Бальмонта много прекрасных стихов, но вряд ли что либо новое скажет этот поэт, блуждающий по всему миру, не замечая в нем ничего, кроме своей души, с рассеянным невидящим взором, в творчестве жадно пожирающий самого себя[79].
Таким образом, первые шаги Людмилы в литературной жизни совпали с падением престижа русских поэтов, вдохновлявших ее на бунт в начале века. Однако это, конечно, не повлияло на ее дружеские отношения с Бальмонтом. Впрочем, и молодые модернисты, печатно поносившие «отцов», искали благословления у поэтов, под знаком которых росли, как писал в 1916 г. Ходасевич[80]. Эренбург с парижскими соратниками стремился заручиться одобрением Бальмонта, но война спутала все литературные планы[81]. До войны, отрезавшей поэта от Франции на семь лет (он вернулся в Россию в июне 1913 г. по амнистии, однако приезжал во Францию летом 1914-го), Людмила мало переписывалась с Бальмонтом, имея возможность регулярно с ним видеться и не оставляя намерения издать книгу его стихов в своих переводах и в сопровождении критического этюда о его творчестве[82]. Из этого периода их общения сохранилось лишь одно письмо поэта[83], отправленное незадолго до его репатриации:
Милая, родная Люси, я должен был тотчас Вам ответить, а промедлил два дня, три дня. Мне жаль, что Вас нет здесь. Когда Вы вернетесь? Я хочу говорить с Вами еще и еще, а писать – невозможно.
Вот видите, Люси, чье имя жгуче, Люси моей Весны, – едва заговорим с Вами – и строки запели. Как дрозд, там в саду, за окном.
Катя[84] Вам кланяется. И – без параллелизма – мой искренний привет m-r Rais[85]. Где Вы и что Вы?
Я в весенней тоске.
Единственной сценической отдушиной для Людмилы в начале 1910‐х гг. остается чтение стихов на утренниках в театре «Одеон», организуемых в рамках Осенних салонов живописи поэтом и критиком Шарлем Морисом, другом и соратником Поля Верлена и Стефана Малларме. Участие в утренниках способствовало сближению Людмилы с еще одним модернистским кругом – литературной группой «Кретейское аббатство» под руководством поэтов Жоржа Дюамеля, Шарля Вильдрака и Александра Мерсеро, которую одновременно с Людмилой открыл для себя и Брюсов[86]. Однако для Людмилы, тяготящейся – вплоть до нервного срыва и попытки самоубийства – семейной жизнью как «мучительным отказом от свободы» ради благополучия дочери, самым значительным из новых знакомств становится встреча с поэтом-модернистом Андре Спиром, старым другом Жюля Рэ, который всячески поощрял переход жены из театра в литературу как более приемлемый вид искусства с точки зрения его собственного положения в обществе[87].
С Андре Спиром и его женой Габриэль Людмилу свяжет тесная дружба на всю жизнь[88]. Она восхищается стихами Спира не меньше, чем независимостью его суждений. В Спире Людмила находит качества, поразившие ее когда-то в Гюставе Кане: гордость еврейским происхождением и презрение к конформизму. Юрист по образованию, организатор «народных университетов» и профсоюзного движения, сионист, что было тогда нетипично для французских евреев, да еще и с репутацией дуэлянта, не допускавшего проявлений антисемитизма в своем присутствии, Спир был противоположностью Жюлю Рэ – ассимилянту, который стыдился своих еврейских корней и придерживался радикальных убеждений лишь моды ради. Даже экслибрис Спира бросал вызов культурному большинству, полемически апроприируя общее место триумфальной католической иконографии – женскую аллегорию иудаизма, униженную Синагогу с завязанными глазами и сломанным копьем. В компании Спиров Людмиле «легко дышалось»[89], тем более что второй брак, несмотря на разочарование «полумещанством» мужа, стал для нее очередным вызовом общественному мнению. Не следуя примеру жены Гюстава Кана и оставаясь христианкой, Людмила выдвигает юдофилию в центр своего поведенческого кода, что делает ее белой вороной как в общеевропейском культурном контексте, где антисемитизм остается признаком хорошего тона до середины XX в., так и в транснациональной модернистской культуре, относившейся к евреям ничуть не лучше[90].
О том, что «еврейский вопрос» может стать орудием самоутверждения в переходный жизненный момент, Людмила поняла из отклика семьи на свой брак с Жюлем Рэ. Если ее первый супруг не понравился русской родне «декадентским» образом жизни, то второй ужаснул еврейским происхождением. Вскоре после рождения Марианны Людмила пеняла матери, вернувшейся к больному мужу в Петербург, на невнимание семьи, однако Анна Петровна ответила встречным упреком:
Ведь ты поставила себя в такие условия, область которых мне далеко неизвестна сполна, и я в нее проникать считала бы навязчивостью, да и стеснялась. Понимаешь же, что есть что-то неладное, неналаженное. ‹…› Я папе все о тебе кратко рассказала и о девочке тоже сказала. Одного, что не сказала, это – что он еврей. Папа был еще худой, бледный, и мне жаль было сказать ему то, что могло его очень огорчить. Его не узнаешь, как он когда отнесется, но именно мне показалось, что это ему все же будет очень тяжело, и я не сказала, а он по фамилии не догадался. Вова <старший брат Людмилы, петербургский юрист> сейчас догадался и ужасно огорчен и обижен[91].
Подобная реакция несколько озадачила Людмилу, так как интеллигентская культура, в которой она росла, занимала, особенно после погромов 1880‐х гг., принципиальную позицию, противоположную антисемитизму властей и консервативно-охранительным политическим течениям. Юдофильские повести Элизы Ожешко, которые читала ей мать, и дидактические беседы с отцом по «еврейскому вопросу» были частью ее детских воспоминаний[92]. Однако к расхождению теории с практикой ей было не привыкать, поэтому всерьез ее ранила лишь просьба семьи не приезжать с мужем и ребенком в Россию к смертельно больному отцу. Поначалу ее отговаривали под тем предлогом, что евреям запрещен въезд без особого разрешения[93]. Затем, уже после смерти Ивана Клементьевича, мать писала:
Раз как-то папа говорил в таком роде: «‹…› Люся вынуждена была выйти замуж за жида»… Я возмутилась, заявив, что ты его любила и уважала и т. д. и т. д. «Почем Вы это знаете?» – Да знаю от нее, и она мне писала. «Ну, слава Богу, а я этого не знал». Вообще же он, кажется, дурно к евреям не относился ‹…› Остаюсь я и Вова. Тут дело хуже. Разумеется, против Жюля Рэ я ничего не имею ‹…› Думаю, что он имел на тебя хорошее влияние ‹…› Но вообще к евреям симпатии не чувствую, я чужда им и, вероятно, ни при каких обстоятельствах не могла бы с ними сродниться. Кроме того, здесь, в России, и особенно за последнее время, они много зла делают. Припомни, с Вовою, в сущности, вы никогда близки не были. Сколько я помню – ему не нравилась твоя манера держать себя, твои свободные взгляды на нравственность, на брак и т. д. Он не мог этого переваривать и отдалялся. Теперь, это правда, ему очень не нравятся евреи, до боли. Я ему сказала: «Люся пишет, что ты ее вычеркнул…» Он ответил: «Не я ее, а она сама себя вычеркнула». Меня надо пожалеть, не много мне радостей от таких отношений детей друг к другу! Но и тут я утешаюсь. Хорошо, что я не вижу страшного несчастия в такой разродненности: не сходитесь, будьте каждый счастлив по-своему. Не ломайтесь в угоду семейственности: может быть счастье и вне ее[94].
Для Людмилы все это было лишь подтверждением правильности жизненного выбора. Франко-еврейская литературная среда, часто пересекавшаяся с французской модернистской культурой, импонировала ей маргинальностью, которую Людмила искала и культивировала. В дальнейшем она поведет двойную литературную жизнь: в модернистских журналах и во франко-еврейской прессе[95], двери в которую ей откроют Андре Спир и Гюстав Кан. С последним она обновляет знакомство в салоне Спиров: Кан, подобно Бальмонту, продолжает звать ее «Люси», как в самом начале знакомства, в 1901 г., «будто я так с тех пор и не выросла», – комментирует Людмила[96]. У Спиров она также сближается с писателями-евреями Жюльеном Банда и Жан-Ришар Блоком, ее будущим деверем по третьему браку.
Начало собственно литературной деятельности Людмилы Савицкой приходится на 1910–1911 гг., время повторной беременности и рождения младшей дочери, Николь. Пиша стихи и прозу «без малейшей литературной амбиции»[97], она, с благословения Спира и подталкиваемая мужем, начинает печататься в журналах «La Phalange» и «Vers et Prose»[98]. Последний редактируют ее знакомые, Гийом Аполлинер, Поль Фор и Александр Мерсеро, которые помещают поэзию и прозу Людмилы среди писаний модернистов самых разных поколений и эстетических убеждений – от Анри де Ренье до Ф. Т. Маринетти. В это время кафе «Сиреневый хутор», хорошо знакомое Людмиле с осени 1902 г., служит фактической редакцией журнала «Vers et Prose», основанного Полем Фором еще в 1905 г. с целью «заново собрать героическую группу поэтов и писателей, некогда обновивших форму и содержание французской литературы ‹…› и таким образом продолжать славное движение, порожденное Символизмом». По всей видимости, Гюстав Кан, редко пропускавший вторничный литературный салон Фора в том же монпарнасском кафе, помог Людмиле войти в круг сотрудников журнала[99]. В начале 1914 г., дополнив уже опубликованное в периодической печати подборкой стихов, Людмила издает свою первую книгу, которую подписывает фамилией мужа[100]. Эту «помесь классического стихосложения с неуклюжим экспериментаторством»[101] французская критика встретила снисходительно, наградив ее убийственными эпитетами «женская», «красивая», «симпатичная» и «восхитительная» и обойдя дипломатичным молчанием прозаическую часть сборника – сказку-афоризм в поистершемся стиле Оскара Уайльда[102]. Пролистав книжку, Спир, ценивший в Людмиле незаурядный ум и литературный вкус, предложил прислать ей пороховую бочку, чтобы подорвать все эти пряные красивости (25.II.1914)[103]. Через несколько месяцев пороху, однако, стало не занимать. Разразившаяся война в очередной раз круто повернула личную жизнь и творческую судьбу Людмилы Савицкой.
Изнывая среди «мещанской» родни Жюля Рэ, служившего в тыловой администрации, Людмила страстно увлеклась приехавшим на побывку мужем племянницы Жюля Марселем Блоком, старшим братом писателей Жан-Ришара Блока и Пьера Абраама. Инженер путей сообщения, он добровольцем ушел на фронт, стал боевым летчиком и командиром эскадрильи, получил орден Почетного легиона за мужество[104]. По старой привычке Людмила не стала скрывать своего романа, однако ее красноречивое письмо к мужу, составленное по лучшим литературным правилам и оповещавшее о разрыве, возымело совсем не то действие, на которое она рассчитывала. Людмила считала Жюля, несмотря на его «мещанские» слабости, человеком своей культуры, то есть ценящим откровенность в межличных отношениях и уважающим порывы страсти[105]. Он же прагматично использовал письмо во время бракоразводного процесса как доказательство юридической вины неверной жены, получив благоприятное для себя решение суда по разделу имущества и, что важнее, исключительное право на воспитание детей. Летом 1916 г. Людмила вынуждена была уйти из дому практически без средств к существованию и без дочерей, чьим образованием, к ее вящему ужасу, занялась родня бывшего мужа.
Людмила восприняла очередной удар судьбы в рамках эстетически значимого жизненного текста, который активно для себя создавала. Все случившееся она спроецировала на литературный ряд, восходящий не к Эмме Бовари, но к Анне Карениной[106]. Так, обсуждая с Жан-Ришаром Блоком скандал в семье его брата и пытаясь смягчить упреки в эгоцентризме, который Жан-Ришар усмотрел в поведении Марселя, бросившего жену и детей ради любовницы (3.X.1916), Андре Спир подчеркивал эстетический подтекст поведения Людмилы (12.IX.1916):
Несмотря на ее вину, которую она к тому же признает, я ей больше сочувствую, чем противной стороне <то есть Жюлю Рэ и его родным>. По крайней мере, я нахожу в ней важное качество, которого те лишены, – бескорыстность. Следует также привлечь за все это к ответу ту самую великолепную русскую литературу, которая так антиобщественна для нас, чинных западных людей. И еще, Вы себе даже не представляете, насколько смешит меня мужчина, двадцать лет изменяющий всем своим женщинам и вдруг так обремизившийся ‹…› Это ли не случай, оправдывающий чувство «schadenfreude». Правда, при этом выпадают в остаток четверо несчастных детей, обреченных на печальное существование. Но ситуация могла быть менее трагичной, будь эти люди <семья Жюля Рэ> способны на чуткость и отзывчивость[107].
Переживая вынужденное расставание с детьми как повторение трагедии с Мюгет, Людмила опосредует личную драму на письме. Опасаясь потерять дочерей духовно (они видятся лишь в дозволенные судом дни, а остальное время Марианна и Николь предоставлены тлетворному, по мнению Людмилы, влиянию семьи Жюля), она так или иначе вписывает свою ситуацию в целый ряд текстов, которые выходят из-под ее пера до середины 1920‐х гг. (то есть до того времени, когда дочери становятся достаточно взрослыми, чтобы общаться с ней независимо от воли родни). В 1917–1918 гг. она ведет дневник, адресованный дочерям; по ее замыслу они прочитают его лишь взрослыми, как бы в противовес или в виде противоядия тем ценностям, которые им прививают в семье Жюля Рэ. Дневнику Людмила поверяет интимные переживания; объяснение своего поведения; свои идеалы и стремления, которые она подсознательно приписывает и дочерям; размышления о детском воспитании – то есть все, чему не место в перлюстрируемых письмах матери к семилетней Николь и девятилетней Марианне. «Я борюсь за право оставаться собой и совершенствоваться», – записывает она 29 июля 1918 г.:
Все это я хочу сохранить, развить и передать вам. Даже когда вы были младше, я развивала в вас личности. Вы, как иностранки, живете в тюремной «среде». На вас печать человеческого благородства, которая беспокоит окружающих. Они стараются загнать вас в угол, смягчить вас упражнениями в посредственности, сделать вас «послушными» и такими же безликими, как они сами. Для меня ваши «недостатки», вытравливаемые неуклюжими наказаниями, это качества, которым они неспособны дать выход и найти применение. Им, наверное, удастся немного согнуть вас, таких стройных в тот миг, когда вас у меня отняли! Они научат вас лгать, бояться, сваливать в темных углах сознания все то, что мы хотим скрыть от считающих себя нашими хозяевами. Именно здесь для меня источник самой страшной боли от нашей разлуки. Но здесь же заключена и причина моего стремления жить полной жизнью, с любовью и верой, в восхищении и простоте. Пусть не говорят, что ради своего Счастья я пожертвовала вашим: нужно, чтобы я всегда оставалась для вас источником правды. Я не только себя ради, но и ради вас разбила и переделала свою жизнь. Ведь живущие во лжи неспособны учить правде[108].
Со временем первоначальная мотивация дневника как подборки неотправленных писем для узкосемейного потребления стушевывается, и повествование приближается к модернистскому жанру дискурсивного самоанализа, напоминая розановские «Опавшие листья», – с той значительной разницей, что Людмила, отредактировав и перепечатав законченный текст, не стремилась к его публикации. Дневник так и остался в машинописи, подобно сборнику из сорока стихотворений («Poèmes pour la France»), для которого Савицкая безуспешно искала издателя в 1917 г.[109] Остался неизданным и автобиографический роман, написанный ею в начале 1920‐х[110]. Неуверенность в собственном художественном даре и, что не менее важно, равнодушие к литературному профессионализму сочетались в Людмиле с эстетической требовательностью, заставлявшей ее постоянно сомневаться в качестве своих писаний и целесообразности их публикации. Судя по ее записным книжкам, Людмила время от времени принималась составлять новую книгу стихов и редактировать роман в надежде на публикацию, но всякий раз бросала оба проекта[111]. К тому же, требуя от редакторов и издателей скрупулезной выплаты гонораров, она не жила литературным трудом, доверив свое материальное благополучие Марселю Блоку, за которого вышла замуж в 1919 г., в очередной раз сменив фамилию – официально на Bloch-Savitzky, а в личном общении с коллегами-литераторами став просто «madame Bloch».
Зато в 1920 г. увидел свет ее первый роман для детей[112], изданный под псевдонимом Lud и начатый одновременно с дневником под впечатлением общения с дочерьми. Избегая упрощений, пуританских фигур умолчания и сентиментальности, свойственных французской детской литературе того времени, роман повествует о жизни группы детей – этнических русских, немцев и евреев – во Франции времен Мировой войны, которую они пытаются осмыслить. Книга поразила критиков тонким пониманием детской психологии, тактом и способностью «по-взрослому» объяснить сложные этические, религиозные и политические вопросы. Идеологически левых читателей роман покоробил – патриотическим пафосом и отсутствием новомодного пацифизма[113]. Людмила потом признавалась в письме к Жан-Ришару Блоку (8.V.1926), что война и большевистский переворот заставили ее пересмотреть политические взгляды молодости: «Кстати, я все дальше удаляюсь от левизны, чей нарочитый интернационализм мне теперь представляется наивной утопией ‹…› Воссоздание национального сознания мне кажется единственным способом спасения цивилизации. Боже мой! Куда меня несет! Уверяю Вас, что я впервые высказываю подобное кредо!» – пишет она деверю[114]. Однако двумя годами ранее то же кредо прозвучало в ее письме к мужу (26.IX.1924) при обсуждении проекта нового романа для детей, вдохновленного, подобно предыдущему, общением с дочерьми и переживаниями об их воспитании и образовании в семье отца:
Я не люблю, особенно в детской литературе, проповедей антирелигиозности, пацифизма и равноправия. Мне не по душе системы, провозглашающие человечество вершиной творения и отрицающие сверхчеловеческое. Мое религиозное сознание растет по мере того, как окружающий мир все глубже грязнет в практических заботах несчастного и слепого муравейника, который представляют собой современные мужчины и женщины. Я терпеть не могу пацифистов наших дней, носящихся со своим абсурдным убеждением, что наивысшее благо для человека это отсутствие страдания и смерти ‹…› Можно было бы желать и достичь мира во всем мире, если бы человечество вышло из последней войны морально усовершенствованным. Однако оно, по-моему, лишь опустилось еще ниже – и не с 1914 года, а именно с 1918-го, отвернувшись от героизма храбрых, чтобы воспеть пронырливость политиков, пыл промышленников, эгоизм старых и карьеризм молодых. Мир возможен только в краю медитации и самосозерцания, как Индия Тагора. Но и такая страна становится жертвой иностранных стяжателей из‐за своего же пацифизма. ‹…› Поэтому в моих писаниях для детей не будет места идеям из <политически левых журналов и газет> «Europe», «L’ Humanité» и т. п.[115]
Впрочем, отход от политической левизны еще не означал выхода из транснациональной модернистской культуры. Напротив, 1920‐е гг. принесли Людмиле серию новых знакомств и литературных связей, позволивших ей отдать предпочтение переводу и критике как творческим сферам, в которых она чувствовала себя наиболее уверенно. Отсюда и ремарка в ее письме к Марселю Блоку (7.IX.1920): «Прочитала я статью <Анри> де Ренье, действительно отвратительно написанную! Какого черта поэты лезут в критики?» После второго развода Людмила уже не помышляла о возвращении в театр. В начале 1920‐х – уже не под псевдонимом или фамилией очередного мужа, а под собственным именем – она публикует стихи[116] и прозу[117] в журналах умеренно модернистского толка. На протяжении всего десятилетия она регулярно печатает статьи и рецензии о театральной и литературной жизни, французской и иностранной, выступая в качестве критика в целом ряде периодических изданий, от «The English-French Review», подконтрольного англо-американским модернистам, до «La Revue européenne», где редакционную политику диктуют соратник Андре Жида Валери Ларбо, конфидент Марселя Пруста Андре Жермен и бывший дадаист, исключенный из сюрреалистов за неподчинение групповой дисциплине, Филипп Супо. Однако известность и литературное признание Людмиле принесла именно переводческая деятельность.
С 1912 г. Андре Спир сотрудничал с Франком Стюартом Флинтом, Эзрой Паундом и Ричардом Олдингтоном, группировавшимися вокруг журнала Гарольда Монро «The Poetry Review». Эта поэтическая среда вскоре стала известна под именем имажистов (les Imagistes), которое придумал Паунд, веривший, что рекламный магнетизм французских названий способен привлечь потребителя не только в парикмахерскую или в ресторан, но и в книжную лавку. После того как Паунд объявил Спира имажистом, статьи последнего, переводы его поэзии и критические оценки его творчества стали появляться в англо-американских модернистских журналах «The Egoist», «The Poetry Review», «Poetry», «New Age», «The Anglo-French Review» и «The Dial». Спир, в свою очередь, прилагал усилия к пропаганде имажистов, вскоре переименовавшихся в вортицистов, во Франции[118]. В 1919 г. он отрекомендовал Людмилу Олдингтону и Флинту как тонкого критика и переводчицу[119]. Тогда же, обратившись с предложением сотрудничества к Монро, который открыл в Лондоне магазин-издательство «The Poetry Bookshop», Людмила получила доступ к новейшим книгам и сборникам англоязычных модернистов[120]. В следующем году появляются ее первые статьи о них[121] и переводы из их поэзии[122].
Остро ощущая свое маргинальное положение в модернистских кругах, где женщины – несмотря на выбор «нового сознания» и «новой морали» как средств общественной и культурной эмансипации – зачастую считались, подобно евреям, творчески неполноценными личностями[123], Людмила с опаской вошла в знакомую ей лишь по печати англо-американскую модернистскую культуру, которая была, пожалуй, даже более мизогинной, чем русская. Так, если А. А. Блок полагал, что, в отличие от авторов-евреев, женщины все же «имеют право скрывать от читателей свое авторство, а то не будут достаточно их уважать», Эзра Паунд, на раннем этапе своего творчества, опасался женщин больше, чем евреев: в 1915 г., планируя новый печатный орган, он собирался назвать его «Мужской журнал» («Male Review»), где «женщинам писать не разрешается». На замечание о потере ценных сотрудниц Паунд заметил, что таковых наберется не более полудюжины, зато искомый «прилив мужества» поднимет качество журнала[124]. После согласия Паунда на предложение перевести подборку его стихов Людмила все же переспросила, хочет ли он, чтобы перевод сделала женщина. Дело в том, что первое письмо к ней поэта (14.III.1920), глухого к славянской ономастике и принявшего корреспондентку за мужчину, начиналось словами «Cher Monsieur» (милостивый государь)[125]. В ответ на повторный запрос Паунд разразился характерной для него полукомической отповедью, мешая английские и французские фразы:
Милостивая государыня:
Какого черта мне бы пришлось не по душе, что Вы женщина. Более того, надеюсь, что Вы красавица, хотя это скорее Ваше дело, чем мое; и даже если Вы некрасивы, утешьтесь, ум тоже красота. Женщине всегда предоставлено два пути. Я, конечно, склонен считать Вас умной, потому что Вы узнали о моем существовании в мире, где подавляющее большинство того не подозревает, а большинство тех, кто знает, сожалеют о нем в той или иной степени ‹…›[126]
Обнадеженная таким образом, Людмила приступила к работе над переводами и критической статьей о Паунде. Тот, быстро оценив ее литературный потенциал – несмотря на свое убеждение, что «русские всегда были и остаются тупым и неинтересным народом»[127], – сделался чем-то вроде импресарио Людмилы среди англоязычных модернистов, засыпавших ее приглашениями к сотрудничеству. Самым значительным оказался проект перевода романа Джеймса Джойса «Портрет художника в юности» (1914–1915). Паунд, с присущей ему безапелляционностью, заставил Людмилу прочитать «Портрет…» в один из своих приездов в Париж, незадолго до прибытия туда же семьи Джойсов в июле 1920 г.[128]
Джойс поначалу собирался в Париж лишь на пару недель, и если его пребывание в межвоенной столице транснациональной модернистской культуры затянулось на двадцать лет, то этим он был обязан профессиональной и личной поддержке поклонников-энтузиастов, среди которых не последняя роль выпала и Людмиле Савицкой, высоко оценившей его первый роман. Паунд считал перевод «Портрета…» срочно необходимым для литературной репутации малоизвестного автора, работавшего в то время над «Улиссом». К Людмиле он обратился по двум причинам. Во-первых, она была подходящим литературным агентом со связями во французской печати, доказательством чему служила ее летняя публикация стихов Паунда в сопровождении критического обзора его творчества. С другой стороны, знание пяти языков (кроме русского, французского и английского, она владела немецким и итальянским) делало Людмилу идеальной переводчицей Джойса, чуткой к лингвистической полифонии прозы англоязычного ирландца, прожившего пятнадцать лет в Триесте и Цюрихе. Людмила вспоминала:
Переводя это ирландское произведение, понимаешь, что отдельные ноты его особенной музыки звучат более точно не на нашем <французском>, а на других языках. Зачастую, пока мучаешься отсутствием французского эквивалента, на бумагу просится немецкое, русское или итальянское слово. И в этом нет ничего удивительного для того, кто знает, как сам Джойс, стремясь за пределы современного английского, собирал по странам и эпохам слова, необходимые для наиболее полного самовыражения. И кто знает, не последуют ли переводчики грядущих веков его примеру, чтобы создать иную, всемирную, литературу для иного человечества?[129]
Паунд сначала предложил перевод «Портрета…» Дженни Серруи – бельгийке, чей парижский литературный салон и агентство служили связующим звеном между англо– и франкоязычными модернистскими культурами. Однако Серруи сочла роман слишком трудным. Людмила же, отложив текущие дела, с охотой взялась за проект в начале июля[130]. Роман поразил ее как своей поэтикой, так и стремлением героя, Стивена Дедала, к полной творческой самореализации в искусстве и жизни, что было созвучно модернистскому самосознанию самой переводчицы[131]. Не последнюю роль сыграла и тематическая перекличка джойсовского повествования с ее личной драмой, так как страдания юного героя в филистерской атмосфере школы-интерната напомнили Людмиле положение ее дочерей в семье бывшего мужа. Два десятилетия спустя она все еще мыслила работу над французской версией «Портрета…» в категориях ухода за оставленным на произвол судьбы ребенком. Попрекая Джойса невниманием к переводу из‐за нового детища, «Улисса», Людмила писала о «Портрете…» как о своем «приемыше», за которым ей пришлось «ухаживать по мере сил», так как он был «брошен отцом»[132]. То же проецирование личной драмы на роман Джойса мы находим в дарственной надписи на экземпляре свежеизданного перевода, который Людмила преподнесла четырнадцатилетней дочери: «Моей Марианне, ясной и веселой, эта прекрасная книга, сложная и скорбная, в переводе ее матери».
Но прежде чем усыновить героя автобиографического романа Джойса, Людмила попыталась взять под крыло его создателя. В день приезда Джойсов в Париж она предложила Паунду приютить новоприбывших в своей старой квартире в Пасси, откуда они с мужем недавно съехали, поселившись по соседству[133]. Обеспечив Джойсa с женой и детьми жильем (они пробыли у Людмилы с 15 июля по 1 ноября) и все больше входя в роль посредницы, переводчица взялась за социализацию «своего автора», как она при случае назвала Джеймса[134]. При содействии Андре Спира Людмила организовала в его салоне неформальный вечер в честь Джойсов, пригласив знакомых с литературными связями: Эзру Паунда, беллетриста Жюльена Банда и поэта Андре Фонтенаса, которые потом помогали ей искать издателя для французской версии «Портрета…». Спир же пригласил Адриенну Монье, владелицу модернистского книжного магазина-издательства «La Maison des Amis des Livres», которая привела на вечер свою подругу Сильвию Бич, основательницу книжной лавки «Shakespeare and Company» – в то время эпицентра англо-американской модернистской общности в Париже[135].
На вечеринке, состоявшейся 11 июля 1920 г. в доме Спиров, произошло знакомство Джойса с Бич, будущей издательницей «Улисса», которая, подобно Людмиле, попробовала взять писателя под свое крыло. Их конкуренцией, видимо, объясняется умаление роли Людмилы в парижской эпопее Джойса, писавшейся до последнего времени в оптике, заданной мемуарами Бич, где Савицкая упоминается лишь вскользь[136]. Несмотря на старания авторитетного биографа Джойса[137], эпизодическая роль Людмилы в парижской карьере писателя стала общим местом модернистской историографии[138]. Впрочем, отчет самой Людмилы о том же вечере, в предисловии к французскому переизданию «Портрета…» (1943), тоже пестрит фигурами умолчания[139], которые она объяснила Спиру (16.V.1945) цензурными условиями немецкой оккупации – ведь на знаменитом вечере присутствовали евреи (чета Спиров, муж Людмилы Марсель Блок, Жюльен Банда) и американские граждане (Паунд, Бич)[140]. Как бы то ни было, конкуренция двух посредниц за право считаться литературным Виргилием Джойса-Данте сквозит как в параллелизме названий их воспоминаний («Дедал во Франции» – Савицкая, 1943, и «„Улисс“ в Париже» – Бич, 1950), так и в логике Людмилы-мемуаристки, которая исподволь сопоставляет успешную рекламную кампанию, организованную Бич вокруг «Улисса», и свои усилия по запуску «Портрета…» во французский литературный оборот – усилия, казавшиеся Людмиле тем более недостаточными, чем большую личную ответственность за судьбу романа во Франции она испытывала, переживая ее как судьбу приемного ребенка[141].
Нотки разочарования, проскальзывающие в воспоминаниях Людмилы, объясняются несбыточностью ее изначальных ожиданий от проекта, ради которого она забросила все текущие дела. Восхищаясь романом, она надеялась превратить процесс перевода в эстетическое и духовное общение с Джойсом. Однако сотрудничество с ирландцем, оказавшимся, по выражению Спира, чуждым теплу человеческого общения[142], лишь ввергло ее в уныние. Втайне неся психологический груз «Портрета…», постоянно напоминавшего ей о личной драме, Людмила все же не могла удержать в секрете перипетии работы, вылившиеся в конфликт с автором, которого она обвиняла в несерьезном отношении к проекту. Он же в письмах к общим знакомым попрекал переводчицу за недостаточную расторопность, чем еще больше настраивал ее против себя[143]. Джойсу не терпелось увидеть книгу по-французски. Он надеялся, что перевод откроет ему двери в парижскую печать, которая станет новым источником материального достатка его семьи. Людмила же не торопилась, рассматривая литературный перевод как форму творческого самовыражения, а не оплачиваемую профессиональную услугу. Вот как она впоследствии описывала свою работу над «Портретом…»:
Переводить. Какой дьявольский соблазн ухватиться за крылья чужой мысли, вступить, подобно Иакову, в отчаянно неравную борьбу, из которой сегодня выходишь победителем, завтра побежденным ‹…› Переводить, настраивать компас, вбивать вехи там, где взлеты и падения вдохновения кажутся неудержимыми и непросчитанными. Однако «Портрет» из тех книг, где за кажущейся беспечностью таится математический расчет ‹…› Переводить. Дни напролет двигаться и вести себя, как автомат, так как носишь в себе мысль и ви´дение иного человека. Шаги, слова и поступки представляются предательскими постольку, поскольку не следуют из этого ви´дения, из этой мысли. Невозможное совпадение автора с переводчиком. Продолжающийся ночами поиск подходящего слова, порой распускающегося во сне цветком, цветком улетающим, за которым нужно бежать. <Ференц> Лист говорил, что «в переводе бывают точности, равные измене». Но в отношении к Джойсу неточность была бы кощунством[144].
Жалуясь Спиру на трения с Джойсом (15.III.1921), Людмила, однако, просила его «ничего не рассказывать Эзре <Паунду>, ибо следует терпеливо сносить неприятности, причиняемые нам гениями. Я давеча была на него <Джойса> сердита, но в глубине души я им восхищаюсь; да, к тому же, какое дело остальному человечеству, что переводить Джойса – невыносимое занятие??!!»[145] Наконец, в апреле 1921-го, перевод был готов и Людмила, утомленная кропотливой работой и эмоционально измученная, отослала машинопись автору, надеясь больше к роману не прикасаться, «разве что для правки гранок»[146]. Она даже попыталась сбежать от Стивена Дедала, его создателя и парижской литературной жизни, чтобы «насладиться заслуженным отдыхом в Бретани»[147]. Но и там тень Джойса и заботы о «Портрете…» продолжали ее преследовать.
В Бретани Людмилу нагнала бандероль с машинописью романа «The Switchback» («Американские горки») неизвестного ей Джона Родкера – поэта, издателя, сотрудника журнала «The Egoist» и соратника Паунда. Полистав роман, она наотрез отказалась его переводить, «представив себе муки», связанные с «передачей необычного стиля ‹…› чрезвычайно искреннего, сурового и сжатого, не прощающего ни малейшей небрежности»[148]. В устах Людмилы эта фраза звучала решением не повторять недавней ошибки. Отказ был бы еще категоричнее, знай она, что Родкер играл ключевую роль в подготовке книжной публикации «Улисса», ради которого Джойс бросил на произвол судьбы перевод «Портрета…»: Бич выпустит нецензурный роман во Франции в феврале 1922-го, а Родкер провезет его контрабандой в Англию и переиздаст там в октябре под маркой «The Egoist Press». К счастью, Родкер не успокоился. В конце лета 1921 г. они с Паундом без спросу явились к Людмиле с повторной – польстившей ей настойчивостью – просьбой, перед которой переводчица не устояла[149], чему способствовали и личные качества очаровавшего ее Родкера. В нем Людмила действительно нашла то, чего искала и не обнаружила в Джойсе, – отзывчивого коллегу и близкого друга на всю оставшуюся жизнь (несмотря даже на недовольство вторым браком старшей дочери Марианны, вышедшей замуж за Родкера в середине 1940‐х)[150]. А англо-еврейского модерниста, оценившего ум и художественный вкус Людмилы, особенно поразил ее личный антиконформизм – именно так он прочитал историю жизни новой знакомой, отдельно отметив ее юдофилию, нехарактерную как для европейской культурной жизни вообще, что Родкер знал по личному опыту, так и для модернистской среды, в которой они вращались[151]. Подобно Людмиле, Родкер видел в маргинальности одну из основных модернистских ценностей. Поэтому он сознательно играл на своем еврейском происхождении и воспитании в лондонском квартале, заселенном иммигрантами из Восточной Европы. «В Париже я чувствую себя англичанином, а в Лондоне иностранцем», – писал он, как бы дразня юдофобов Эзру Паунда и Уиндема Льюиса, с которыми тесно сотрудничал (Льюис ответил ему антисемитской карикатурой в романе «The Apes of God» <«Божьи обезьяны», 1930>)[152]. Не случайно четверть века спустя в письмах к Родкеру, которые Паунд диктовал жене в психиатрической лечебнице, куда попал по приговору американского суда за фашистскую пропаганду, поэт не только отрицал обвинения в антисемитизме (коим публично пробавлялся накануне и во время Второй мировой войны), но и просил Родкера передать Людмиле и Спиру уверения в своем благом расположении к евреям[153].
Хотя работа над переводом «Портрета…» подошла к концу, поиск издателя продолжался. Из переводчицы Людмила превратилась в литературного агента. Поначалу она рассчитывала издать роман по частям в периодике, а затем выпустить отдельной книгой. Вопреки ожиданиям Джойса отклонили и в «Le Mercure de France», чей литературный редактор, ветеран французского модернизма Андре Фонтенас, был приятелем Людмилы; и в «La Nouvelle Revue Française» – журнале, подконтрольном кругу Андре Жида и повторно севшем в лужу, отвергнув роман Джойса подобно роману Пруста десятью годами ранее; и в ряде других периодических изданий, отославших рукопись с разными отговорками. «Портрет…» казался то излишне натуралистичным; то чрезмерно непристойным; то слишком оригинальным; то очень длинным; а один рецензент даже нашел в нем нежелательный ирландский национализм[154]. Но и после того, как Людмила убедила директора издательского дома «La Sirène» Феликса Фенеона принять рукопись к печати (Джойс подписал контракт 11 августа 1921 г.), сага с «чутко переведенной, великолепной книгой», как выразился Фенеон (1.III.1922)[155], тянулась еще пару лет, пока стоявшее на грани банкротства издательство не перекупила фирма «Crès», выпустившая наконец роман в марте 1924-го, за несколько месяцев до публикации по-французски первых отрывков из «Улисса» в журнале Адриенны Монье «Commerce»[156].
Все это время Людмила спасала свое детище от красного карандаша редакторов, стремившихся стилистически «причесать» прозу Джойса[157]. Впоследствии рецензент модернистского журнала «Europe» будет петь дифирамбы «неприязни к элегантным упрощениям» в переводе «Портрета…», хваля Людмилу за «верность духу этой роскошной и щербатой вещи», а также за «передачу глубоких нюансов, в которых таится незабываемая оригинальность» романа, «противопоказанного ленивым читателям»[158]. Но и после публикации «Портрета…» уход за «приемышем» не прекратился. Теперь труднодоступному роману неизвестного писателя следовало найти место в пресыщенной событиями литературной жизни Франции. Весной – летом 1924 г. Людмила развила бурную деятельность, рассылая экземпляры «Портрета…» знакомым литераторам с просьбой о рецензиях. Позже она признавалась, что лишь критический резонанс романа окончательно убедил ее как в удаче проекта (ее французский перевод «Портрета…» останется единственным до 2012 г.), так и в собственных литературных способностях[159]. Критики подчеркивали: Джойсу невероятно повезло, так как он нашел в Савицкой вымирающий вид переводчика-альтруиста, рассматривающего свое дело как искусство, а не доходное ремесло[160]. Несмотря на хвалы и лавры первенства – ведь именно с «Портрета…» началось знакомство французского читателя с творчеством Джойса, – четырехлетний проект заставил Людмилу признать труд литературного переводчика довольно «неблагодарным занятием»[161].
Пока тянулась история с Джойсом, Людмила успела написать второй роман для детей, «Jean-Pierre», который был хорошо встречен критикой[162], и продолжала печатать «взрослую» поэзию и прозу. Но ни эти публикации, ни восторженные отзывы на переводы, ни спрос на ее критические статьи не разубедили Людмилу в оценке собственного места во французской литературной жизни как лиминального и шаткого. К тому же располагала и ее посредническая роль, так как присущая переводчице установка на эмоциональное и интеллектуальное самоотождествление с авторами-иностранцами подпитывала в ней давнишний модернистский культ маргинальности. Пищи для этого культа Людмиле и без того было не занимать: как носительнице ценностей миноритарной модернистской культуры, русской и транснациональной; как автору-женщине в модернистской среде; как иностранке во Франции, к тому же сознательно окружившей себя близкими людьми из франко– и англоязычных евреев. Даже фамилию свою Людмила трактовала как знаковую именно в смысле зыбкости своего культурного положения, и это после двадцатилетнего пребывания во Франции. Андре Спиру она объясняла (18.IV.1923): «По-французски мою фамилию пишут, как кому угодно. Я пишу Savitzky, потому что tz лучше, чем ts, передает русскую согласную, которая произносится как немецкая z или c. Это польская фамилия, и по-польски она пишется Sawicki. Но Вы ведь сами понимаете, во что это выльется при французском произношении!»[163] А Джону Родкеру Людмила писала: «Перечитываю Войну и мир. Заново живу со всеми этими дорогими мне персонажами, которых я так люблю и к которым я так привыкла с детства ‹…› На концертах Кусевицкого я вновь услышала Весну священную. Толстой самый великий романист, а Стравинский самый великий музыкант нашей эпохи. Тем не менее, я всю жизнь старалась, если не уничтожить, то во всяком случае изменить все то русское, что есть во мне. Это мне представлялось жизненной необходимостью. Все-таки, думаю, я правильно поступала» (18.VI.1927; пер. с фр.)[164].
Та же маргинальность самосознания сквозит в романе, который Людмила задумывает в 1922 г., видимо под впечатлением знакомства с Родкером, хоть написание его и растянулось на три года из‐за текущей работы[165]. С Жан-Ришаром Блоком она делится опасениями, что этот роман, озаглавленный «Entre-Deux» («Меж двух»), оттолкнет даже тех читателей, которые принимают на ура описанные с мужской точки зрения отклонения от сексуальных норм в романах Жана Кокто. В «Entre-Deux» прослеживается внутренняя жизнь женщины, равно любящей двоих мужчин и одновременно с ними сожительствующей. Однако типичная для культуры русского модернизма ситуация ménage-à-trois представлена здесь не только как явление этически и философски нормальное, но и с сугубо женской точки зрения героини-повествовательницы, которая инициирует и активно выстраивает любовный треугольник, оттеняя мужских персонажей[166]. Как и опасалась Людмила, роман остался в рукописи, поскольку его не приняли к печати ни в журналах («Europe», «La Revue européenne»), ни в издательствах («Rieder», «Kra», «Grasset»), обслуживавших французскую модернистскую культуру, а о публикации текста за ее пределами не могло быть и речи. Однако те же журналы и издатели забрасывали Людмилу просьбами о переводах и критических статьях[167], что значительно облегчило другой посреднический проект, объектом которого стал ее старинный друг – Константин Бальмонт.
С конца 1921 г. Людмила расширила свою деятельность посредницы между англоязычными модернистами и французской публикой, обратившись к бегущим из Советской России литераторам. Она не наведывалась в Россию с 1902 г., однако после большевистского переворота Россия сама нашла ее в Париже, куда после многих скитаний добралась и Анна Петровна Савицкая. Ее рассказы о пережитом, а также поступающие известия о судьбах друзей и знакомых сказались на уже упоминавшемся политическом «поправении» Людмилы[168]. К факторам, повлиявшим на эволюцию ее политических взглядов, следует отнести и чтение русской эмигрантской прессы – парижской, берлинской, рижской и пражской: в бумагах Савицкой хранятся многочисленные вырезки и целые номера эмигрантских газет и журналов[169].
Подобно многим из тех, кто в той или иной мере был причастен эстетическим, этическим и философским ценностям русского модернизма, Людмила переживала российскую катастрофу как историческую угрозу миноритарной культуре, до сих пор наполнявшей смыслом ее творческую деятельность и жизненное поведение. Отсюда, видимо, ее желание не только сохранить эти ценности путем их литературной кодификации, но и вписать их в историю транснационального модернизма. Так, к началу 1920‐х гг. относится ее работа над антологией русской модернистской поэзии, куда вошли переводы из А. Блока («Двенадцать»), З. Гиппиус, А. Герцык, В. Брюсова, А. Ахматовой, Вяч. Иванова, С. Городецкого, С. Есенина, В. Каменского, И. Эренбурга, В. Маяковского, О. Мандельштама и А. Мариенгофа[170]. Не совсем ясно, все ли переводы были сделаны в это время, так как Людмила никогда не теряла из виду литературную продукцию русского модернизма, общаясь с его носителями, жившими или бывавшими в Париже, и получая от них книги и журналы. Следует также отметить, что ее русский язык не носил видимых следов длительного пребывания за рубежом, о чем свидетельствуют заметки, сделанные ею по-русски на сохранившихся черновиках переводов[171]. Однако страх потери чувства родного языка преследовал Людмилу тем сильнее, чем регулярнее к ней обращались новоприбывающие писатели-эмигранты с предложением сотрудничества. Георгий Гребенщиков, чьи «Чураевы» заинтересовали уроженку Урала сибирской тематикой, писал Людмиле в надежде, что та станет его переводить (7.II.1923):
Chère Madame Savitzky! Прежде всего позвольте возразить против Вашей сугубой скромности. Вы не только неплохо пишете по-русски, но Вы пишете безупречно и даже превосходно во всех отношениях. Даже Ваш почерк так же ясен, подобран и прост, как и Ваша мысль. Повторяю, что я подошел к Вам впервые не из вежливости, не из лести, а по побуждениям высшего порядка. Я почувствовал здоровую, родную и свежую силу и, видимо, я не ошибся. Я поздравляю себя с такой находкой, как Вы, и только не хотел бы, чтобы Вы в дальнейшем взяли свои слова назад. Но я думаю, что тот способ, который мы избрали для обмена мыслями, то есть наши труды, – самый верный и надежный[172].
Общение Людмилы с Бальмонтом, сошедшее на нет с возвращением поэта в Россию в 1913 г., возобновилось после его повторной эмиграции. 27 февраля 1922 г. Бальмонт пишет ей в Париж из Бретани:
Люси, спасибо Вам за Ваши большие письма. Вы самый верный друг, и только Вы из друзей так часто пишете мне и даете на расстоянии чувствовать, что Ваше дружеское чувство не погасает от победительного действия географии. Вообще же Русская дружба от географии совершенно увядает. Я полагаю даже, что потому и Русская история такая скудная и неинтересная, что Русская география такая обширная.
С обновлением регулярного общения в резко изменившемся культурном контексте (сюда же следует отнести и обмен ролями, поскольку теперь наставником в их паре выступает Людмила – как проводник Бальмонта во французском литературном поле) прошлые взаимоотношения корреспондентов, особенно первое знакомство в российской глубинке и краткая любовная связь 1902 г., приобретают новую актуальность и предстают в новом свете. Параллельно желанию Людмилы зафиксировать ценности русской модернистской культуры в поэтической антологии Бальмонт переосмысливает корочанский эпизод, некогда реализовавший модернистскую «новую мораль» в ситуации вынужденной ссылки, которой оба любовника в свое время так тяготились. 1 января 1922 г. он пишет Людмиле: «Это – редкостный дар Судьбы, что я опять нашел Вас, и опять Вы поете в моей душе – так же, милая, как там, в незабвенные весенние дни, в сказочной Короче». Корочанские встречи теперь становятся не просто литературным фактом – каким были и раньше в рамках эстетически значимого поведения людей модернистской культуры, – но фактом ушедшей эпохи, значимым в первую очередь исторически, подобно проекту антологии. «Милая Люси, Ваши письма – лучевые полосы, входящие в мое окно ласкающе-напоминательно», – пишет ей Бальмонт 28 июня 1922 г.:
Эти правильно очерченные хрустально-золотистые протяжения напоминают мне, что есть мир, где жизни радуются, и где линии правильны, и где краски певучи. И напоминают мне ту любимую юную девушку, которая, кутаясь в шаль, стояла со свечой в руках на крыльце (так вижу ее), когда ранней весной я уезжал от нее. И напоминают мне самого меня тех дней, когда я любил все ощущенья бытия. Мой край растоптан. Мой народ искажен. Мой дом разрушен. Дело моей жизни истреблено, в том, что может в нем быть истреблено. Милая, мне радоваться трудно, а каждое новое огорчение падает с удесятеренной свинцовой тяжестью. Но от Вас идет свет.
Сохранив корочанские письма Людмилы, Бальмонт садится их перечитывать как эпистолярный роман, кодирующий непреходящие ценности модернистской культуры в кризисных исторических условиях. «Милая Люси, Вы никак не сможете угадать, что я сейчас делаю», – пишет он 23 февраля 1923 г.:
Я читаю лучезарные страницы невозвратимого и неизменимого.
«…Бамонт, дорогой, Вы знали много, много женщин, но Вы не знаете женщины, Бамонт». – Вы узнаете?
«…Ах, я всегда счастлива, Бамонт. Я живу. Жизнь – счастье».
«…в вечном порыве к счастью я невольно и сильно поверну жернов…»
Люси, Вы, верно, забыли, что ровно 21 год тому назад, сравнивая мои карточки и определяя мое лицо, Вы дали такую блистательную формулу, которой лучше Вы не сможете дать теперь, хотя бы пишете блестяще. Я сейчас прямо вздрогнул от восторга. Ах, в амбарах прошлого, в его рудниках, у нас много золотого зерна и драгоценных камней.
Публикации переводов из Бальмонта, видимо, компенсировали для Людмилы неудавшуюся антологию, так и оставшуюся неизданной, хотя отдельные стихи оттуда приводились в ее докладе о «русской поэзии последних пятидесяти лет», прочитанном по просьбе Александра Мерсеро перед аудиторией модернистов[173]. В отличие от джойсовского «Портрета художника в юности», введшего малоизвестного, но многообещающего автора во французский литературный обиход, переводы из Бальмонта ставили целью исторически реабилитировать полузабытого автора. Весь проект был движим верностью старой дружбе и ностальгией по молодости, прошедшей под знаком эстетики раннего модернизма, носителем которой Бальмонт оставался и в 1920-e годы. Автор оригинальной поэзии и прозы, издающейся бок о бок с последними писаниями дадаистов и сюрреалистов[174], Людмила отдавала себе отчет в том, что в лице Бальмонта имеет дело с поэтом, сброшенным с «парохода современности» и оказавшимся на периферии модернистской культуры[175]. Лишним подтверждением тому была реакция Бальмонта на ее перевод романа Джойса, который поэт не дочитал до конца, так как ему «европеизм восприятий становится все более и более чужд» (1.VI.1924). Поэтому в переписке Людмила подталкивает Бальмонта к самоописанию в контексте современной литературной жизни, что помогло бы ей подать поэта французскому читателю если не последним словом в эстетике, то по крайней мере ключевым персонажем в истории модернизма. Долго уходя от ответа, Бальмонт сдался 23 ноября 1923 г.:
На Ваши вопросы отвечаю наконец, прося простить, что не сделал этого ранее. Как Вагнер, Толстой и некоторые еще, я скромно полагаю, что каждый большой художник есть самозамкнутый мир, сам себя исчерпывающий, и учеников или последователей в искусстве быть не может. То, что лично сделал в Русской поэзии я, остается моим и лишь во мне. Поэты, которые что-либо из меня взяли, как Блок, Белый, Северянин, некоторые нынешние, тем самым кажутся мне нелюбопытными и производными. И, взяв из меня, они лишь извратили у себя свою напевность, желая отличиться в оригинальности. У Блока – цыганщина, у Белого – сумасшествие, у Северянина – вульгарная пошлость. Из нынешнего поколения наиболее самостоятельными являются Ахматова и Марина Цветаева, обе от меня совершенно независимые. Я их ценю обеих очень. Но Цветаева гораздо сильнее, хотя Ахматову и прославляют больше мулы поэзии, то есть петербургские бессильные стихотворцы. Из самых последних поэтов мне кажутся самыми сильными Кусиков и Есенин. Кусиков при силе изящнее и симфоничнее. Есенин часто умышленно хулиганит. Маяковский – преждевременно устаревшая блудница поэзии. Продавшись большевикам и разменявшись на стихотворные плакаты гнусно-агитаторского характера, он утратил свою силу и сохранил лишь нахальство, которое похоже на бульварные лица и кафешантанные жесты. Совершенно пакостный богохульник Мариенгоф любопытен лишь как психиатрический тип. Есть какие-то еще московские светильники мира, но память моя не удержала их имена. Вообще, кроме Кусикова, они все мне кажутся явлением такого свойства, что, если бы не уважение к Вашему женскому сану, я должен был бы использовать сейчас значительную долю бранного лексикона, который, к сожалению, в нашем мужском уме так же богат, как хорошие словари.
Не случайно, что для франкоязычного вечера в честь Бальмонта (22 января 1923) Людмила выбрала монпарнасское литературное кабаре «Хамелеон» – один из парижских эпицентров транснациональной модернистской культуры (среди прочих здесь собирались и русские поэты-авангардисты)[176], – но окружила Бальмонта на сцене французскими модернистами первого призыва, чье присутствие подчеркивало историческую роль виновника торжества. Рене Гиль председательствовал, Андре Фонтенас читал переводы из Бальмонта, а сама переводчица и организатор вечера намеренно стушевалась, не дав присутствовавшему на вечере Петру Шумову снять ее для галереи фотопортретов людей искусства, над которой фотограф-эмигрант тогда работал[177]. Причиной тому были не только скромность Людмилы и нежелание затмить героя вечера. Она стремилась оживить литературного кумира своей молодости, который для модернистского певца стихий выглядел на фотографиях слишком уж поистершимся. Именно поэтому Андре Спир решил не публиковать их и заказал портреты Бальмонта и Людмилы художнику (и хореографу) Александру Сахарову – специально для журнального отчета о вечере в «Хамелеоне»[178].
Не случайно также и то, что во вступительном слове на вечере Савицкая охарактеризовала труд переводчика в категориях, напоминавших самоописания ранних модернистов как жрецов, вслушивающихся в божественную мистерию и интуитивно претворяющих ее в стихи-молитвы:
Говорят, любой перевод – измена. Однако что знали бы мы о Гомере, о Данте, о Шекспире без дерзания кучки избранных «изменников» и что представляли бы из себя миры Расина и Бодлера? Перевод приближается к священнодейству и уж никак не уподобляется второсортному и сомнительному виду искусства. От переводчика требуются все свойства жреца: призвание, самоумаление, пророчество, проникновение в глубинные связи между человеческой душой и вселенским бытием. Поверьте, что переводы, которые вам сегодня прочтут, не пошлый «компромисс», а отдаленное эхо голоса Бальмонта[179].
В конце 1921 г. Людмила подписывает контракт с издательством «Bossard» на «захватывающий», по ее словам[180], проект сборника ранее публиковавшихся путевых очерков Бальмонта для серии литературных переводов, которую предприимчивый парижский издатель задумал в ответ на растущий во Франции интерес к событиям в России (в той же эстетически всеядной серии выйдут книги И. Бунина, З. Гиппиус, Г. Гребенщикова, А. Куприна, Д. Мережковского, И. Шмелева и пр.)[181]. С этого момента Людмила становится основной переводчицей и фактическим литературным агентом Бальмонта во Франции, а также пропагандистом, растолковывающим французскому читателю значение и особенности творчества поэта[182]. За время их интенсивного сотрудничества, с 1922 по 1926 г., кроме работы над трудоемкой боссаровской книгой, Людмила помогает Бальмонту выступить во французской печати около тридцати раз с подборками стихов, старых и новых, с прозой и критическими статьями, и вводит его в круг своих литературных знакомств[183]. Одновременно она подталкивает поэта к более активному поиску связей во франкоязычной литературной среде, в том числе при помощи программы франко-русского сближения, проводимой в начале 1920‐х гг. французской секцией Комитета помощи писателям и журналистам в Париже[184]. Сотрудничество с Людмилой и ее терпеливое посредничество дразнят Бальмонта миражем постоянного места во французской литературной жизни, в которой он видит главный источник материального благополучия своей семьи. «Я был бы безумно счастлив, – пишет он Людмиле 19 марта 1922 г., – если бы у Вас перевод магически продвинулся и мы скоро начали бы читать корректуры. Я в надеждах на печатание во Франции. Увы, иначе отъезд в Алеманию (то есть Германию, от фр. Allemagne. – Л. Л.) станет горькой неизбежностью». Репутация Людмилы как переводчицы и критика и ее намерение заново представить поэта французскому читателю (она не скрывала своего недовольства ранее публиковавшимися переводами его лирики[185]) даже вселяют в Бальмонта надежду на второе литературное дыхание, так как широкая известность во Франции стала бы своеобразным реваншем за давно утраченную им позицию корифея русского модернизма.
Оскомина от джойсовского проекта не внесла существенных изменений в философию перевода Людмилы, продолжавшей ориентироваться на художественное и духовное созвучие с оригиналом, а не на скорость работы или пожелания редакторов. Поэтому рыночные прерогативы Бальмонта не могли не столкнуться с творческим подходом переводчицы, как и в случае с «Портретом художника в юности». До поры до времени качество переводов перевешивало для Бальмонта размеренный темп работы. «Люси, – пишет он 2 апреля 1922 г., –
мне хотелось сказать Вам, что я очень-очень, что я совсем особенно – ценю Ваше благое желание меня переводить, и Ваша манера переводить меня мне нравится настолько, что уже не подходит здесь это маленькое слово: «Нравится». Нет, не нравится, это гораздо больше, это – радость угадания моей души другою душой, родной и видящей. Я буду горд и счастлив, когда эти страницы появятся в печатном виде.
Но вскоре Бальмонт начинает ее торопить: давление литературного рынка и материальной нужды было трудно совместить с отношением к переводу как процессу творческого и духовного общения. Весной 1922 г., одновременно работая над текстами Родкера и Бальмонта и неся на своих плечах издательскую судьбу джойсовского «Портрета…», Людмила жалуется Спиру на «неблагодарность» и «утомительность» труда переводчика[186]. К июню ситуация с книгой путевых очерков Бальмонта начинает напоминать издательскую драму с «Портретом…»: Людмила угрожает Боссару разорвать контракт, принципиально отказывая редакции в праве вносить стилистические изменения в текст ее перевода, передающего стилистику автора[187]. Ее бескомпромиссность доводит Бальмонта до состояния истерики. С одной стороны, он озабочен скорейшим получением гонорара и новыми контрактами, которые надеется заключить на волне критического резонанса, вызванного книгой, чье издание вдруг повисло на волоске; с другой же стороны, он не смеет обидеть переводчицу, работающую практически даром[188]. В письмах к мужу, находящемуся в постоянных разъездах в силу профессиональных обязанностей главного инженера железнодорожной ветки Париж – Орлеан, Людмила более откровенна, чем в переписке с коллегами. Так, жалуясь Марселю на «изжогу от бальмонтовской корректуры» и от назойливых просьб поэта о все новых переводах, она восклицает: «Послать бы его подальше, но я ведь его „пропагандистка“ в парижском литературном мире ‹…› Как же мне осточертело, осточертело, осточертело переводить! От одной мысли о переводе болит голова» (22.IX.1922; пер. с фр.). А финансовую сторону переводческой работы она доходчиво объясняет Джону Родкеру:
Как бы я хотела не зарабатывать литературой. Но это невозможно, потому что я обязана помогать целому ряду несчастных людей, – ты ведь знаешь, у меня есть русские друзья в Париже, и ты понимаешь, что это значит. Каждый франк, вырученный за мои писания, попадает в отдельный конверт, где я держу свои личные деньги, – и этот конверт слишком часто пуст! ‹…› К примеру, в прошлом марте я должна была получить гонорар за перевод Джойса. Я обещала отдать эти деньги одной из своих подруг, которой нужно было поправить здоровье в деревне. Редакция не уплатила и мне пришлось брать обещанную сумму не из Конверта, а из мужнина кармана (4.XII.1922; пер. с англ.).
Именно отвращением к рыночной логике – отвращением, изначально и широко распространенным в транснациональной модернистской культуре, – объясняются конфликты Людмилы с заказчиками переводов (редакциями и отдельными авторами). То же нежелание заниматься искусством профессионально сквозит в ее выборе круга литературного общения, где приоритет отдается не полезным или престижным связям, а близости философских и эстетических взглядов. «Ходила я вчера в Международный Литературный Кружок <Cercle Littéraire International>, потому что Бенжамин Кремье <литературный критик и глава организации> написал мне, что пригласил туда Бальмонта», – сообщает она Андре Спиру (2.II.1923), подталкивавшему Людмилу к выходу из узко-элитарной модернистской среды в «большую» литературу: «Я внесла свой членский взнос… но чувствую, что не стану туда часто захаживать, если Вас там не будет. По-моему, тамошняя моральная атмосфера слишком холодна и отдает аривизмом (то есть карьеризмом, от фр. arrivisme. – Л. Л.). Мне больше по вкусу Хамелеон!»[189]
Подобная позиция не могла не сказаться на посреднической роли Людмилы. Непрекращающиеся срочные просьбы Бальмонта, который стремился утвердиться во французской печати, претят ее философии перевода, где качество намного важнее количества. Этим, видимо, объясняется ее попытка отойти от сотрудничества с поэтом к концу 1926 г. и уделить больше внимания переводам из Родкера, чей последний роман, «Adolphe 1920», становится, благодаря энтузиазму Эзры Паунда, событием литературной жизни англо-американской модернистской культуры[190]. Годом позже, уступив мольбам Бальмонта и опять взявшись его переводить, Людмила немедленно вспоминает горький опыт общения с «наглыми издателями» и жалуется, что переводческая работа больше не приносит ей «никакого удовлетворения»[191]. И если томик путевых очерков Бальмонта все же увидел свет благодаря конъюнктуре французского книжного рынка первой половины 1920‐х[192], то в дальнейшем французские издатели были менее расположены рисковать ради полузабытого русского модерниста. Книга его избранной лирики осталась в рукописи, как и переведенные Людмилой «Фейные сказки». Для последнего проекта Бальмонт познакомил ее с Натальей Гончаровой (6.II.1922), согласившейся иллюстрировать французское издание сказок, что дало переводчице возможность беседовать с художницей на интересующую обеих тему детской литературы[193].
Выход Людмилы в «большую» литературу не состоялся в основном из‐за нежелания быть профессиональным писателем, о чем она откровенно сообщала мужу (22.IX.1922), подталкивавшему ее, вслед за Андре Спиром, к занятиям литературой. Зато к концу 1920‐х гг. четко наметилось намерение Людмилы выйти из транснациональной модернистской культуры, с которой у нее все чаще возникали разногласия эстетического, идеологического и этического порядка. Уже в 1923 г. она издевается над художественной эволюцией Макса Жакоба и Жана Кокто, приравнивая их творчество к игре в буриме своих дочерей, чьи стишки «критика превознесла бы за восхитительную новизну, актуальный юмор и дерзкое очарование, так характерное нашей эпохе», – будь под ними подписи вышеупомянутых модернистов[194]. Годом позже, делясь с мужем впечатлениями от перечитанных «Страданий юного Вертера» (28.IX.1924), Людмила признается, что роман Гете «помогает глубоко дышать и заглядывать за наш узкий горизонт, который пучится такими пузырями „в стиле гор“ как Пруст, Жид, Радиге и пр.!». Однако растущее недовольство доминантной эстетикой зрелого модернизма не мешает Людмиле делиться с Родкером (17.VII.1929) своим восхищением новым романом Жана Кокто «Ужасные дети».
В середине 1920‐х к отталкиванию от новейшей эстетики прибавляется проблема «полевения» модернистской среды. Трения с «большевизанствующими» французскими литераторами особенно сказались на посреднической деятельности Людмилы, так как меняющаяся идеологическая конъюнктура сузила возможности для печатания русских эмигрантов по-французски[195]. Так, 10 мая 1924 г., благодаря ее за публикацию очередной серии переводов в «Le Mercure de France» и «Les Cahiers idéalistes», Бальмонт сокрушается, что в последнем журнале его имя появилось бок о бок с
идиотской и преступно-лживой статьей какого-то глупца о кровавом Ленине, <что> было для меня изумленьем и горем[196]. Я хотел тотчас же написать письмо в Русские газеты и снять с себя возможное обвинение в большевизме. Решил, что не стоит. Дюжардэн[197], конечно же, лишь Дон-Кихот и способен принимать барана за Сарацина. Пусть. Я ему напишу дружески и книг его попрошу. Но думаю, что, написав статью о нем, я предпочел бы ее увидать где-нибудь в Реальных Тетрадях, а не в Идеальных.
Со временем ситуация лишь ухудшилась. Во второй половине 1920‐х гг. Бальмонт вступил в публичный конфликт с французскими литераторами-«большевизанами». Обмениваясь открытыми письмами с Роменом Ролланом, он с гордостью шлет Людмиле вырезки из газетной полемики (19.XII.1927; 15.I.1928; 18.III.1928). Одновременно он отказывается печататься в модернистских журналах, которые подозревает в просоветских симпатиях и где Людмила предлагает поместить переводы его стихотворений и критических очерков. «Дорогая Люси, – пишет ей Бальмонт 19 декабря 1927 г., –
‹…› Прошу Вас, пошлите очерк о Пшибышевском в „Mercure“, или в „Nervie“, или куда хотите, но только никак не в „Europe“: с коммунистами я ничего общего иметь не могу, писать <редакторам> Базальжету, или Аркосу, или Дюжардену не буду ни молниями, ни чернилами, ни даже слюной. Убийц и их сотрудников я просто презираю, и это – беспредельно. В честность людей, которые не хотят видеть, что коммунисты враги рода человеческого и всего, что мы любим как святыню, – чем жив Божий Дух на земле, – верить никак не могу ‹…› Дюгамель hâbleur <пустозвон> и циничный врун. Быть может, он не получил взятки от палачей, но ведь глупый человек, не умеющий и неспособный видеть, легко может быть подкуплен лестью и даже одним зрелищем, которое лгуны, живущие гибелью России, умеют устраивать отлично. Для меня все эти потакатели убийц – еще хуже, чем самые убийцы».
Ту же растущую идеологическую непримиримость Людмила находит и в «полевевших» французских литературных кругах, где русские писатели-эмигранты становятся персонами нон грата. Об этом она уведомляет Бориса Зайцева, которого берется переводить в конце 1920‐х гг. – в знак своей эстетической эволюции, так как художественного традиционалиста Зайцева трудно отнести к писателям, чьим творчеством Людмила могла заинтересоваться в модернистский период своей литературной деятельности. 27 марта 1929 г. Зайцев пишет Людмиле[198]:
Мне кажется, что я перед Вами очень виноват – заранее прошу меня извинить. Рассказы, Вами любезно переведенные, не только нигде не напечатаны, но я и никаких усилий к этому не прилагал[199]. Трудно мне предлагать, навязывать свои вещи людям, для которых это совсем неинтересно! Я думаю, Вы поймете меня. Но почему же я ничего Вам своевременно не написал? Вот тут самая слабая точка моего поведения. Конечно, надо было написать… но я тогда очень «чувствительно» относился к невниманию, мы ведь, русские писатели, очень были избалованы Россией, жизнь сама к нам шла, мы не умели завоевывать ее, поэтому мне как-то трудно было говорить с Вами о своих неудачах. Теперь я смотрю спокойнее, больше понимаю «здешних», чувствую себя совершенно одиноким и живу келейно. Во всяком случае, и больше знаю жизнь. Как никак – Париж мировой «люмьер». ‹…› Вы совершенно правильно определяете мнение о нас здешних писателей. В частности, не предлагайте ничего мною написанное в «Europe» – там имени моего не следует называть (хотя покойный Базальжет и относился ко мне неплохо – пока не стал большевизанствовать).
Людмила тяжело переживала «полевение» французских коллег, с которыми ее связывали многолетние личные и профессиональные отношения, тем более что их политическая эволюция неизменно вела к одиозному отождествлению «русского» с «советским». В середине 1930‐х гг., на гребне волны энтузиазма французских интеллектуалов по отношению к сталинизму, захлестнувшей среди прочих и ее деверя Жан-Ришара Блока, Людмила записывает в дневнике, как больно ей видеть «достойных людей на службе у извращения благородной идеи», имея в виду «узко понятую, политически урезанную идею коммунизма, которая во Франции превращается в поклонение СССР, чьи имитативность и нетерпимость напоминают святошество религиозных изуверов». В тех же размышлениях мы находим и одну из причин выхода Савицкой из транснациональной модернистской культуры:
Что же мне делать? Если я молчу, мое присутствие гнетет и выражает неодобрение. Если я говорю – мои слова другим кажутся не к месту и несвоевременными. Я все больше чувствую, что мне следует удалиться. И это, вероятно, произойдет даже не по сознательно принятому решению, а само собой, как устраивается все, ставшее необходимым. Я пишу, чтобы объяснить, почему это рано или поздно случится. Мне нужно поместить себя в нечто подобное мыльному пузырю, себя и весь свой багаж, оставив достаточно места и для других[200].
Как знак выхода Людмилы из модернистской культуры сотрудничество с Зайцевым интересно еще и тем, что оно материализовалось по инициативе группы младших писателей-изгнанников, стремившихся наладить постоянное общение с французской культурной средой. В созданной ими для этого Франко-русской студии (1929–1931) эмигрантские писатели, критики и философы, в основном ветераны русского модернизма или представители его послевоенного поколения, встречались с французскими коллегами для регулярных дискуссий на литературные и общекультурные темы[201]. При Студии существовала переводная издательская программа без определенной эстетической направленности, ставившая целью компенсировать враждебность «левых» кругов к русским эмигрантам, которые могли, таким образом, печататься в серии «Les maîtres étrangers» издательства «Saint-Michel». Это позволило Зайцеву просить Людмилу о переводе романа «Анна» (1929), что она и сделала[202], встречаясь с автором и редакционным комитетом программы на заседаниях Франко-русской студии[203]. Получив возможность сблизиться с представителями русской модернистской культуры в Париже – многие участники Студии входили в круг журнала «Числа», – Людмила все же ограничилась сотрудничеством с Зайцевым, которое стало последним переводческим проектом в ее литературной деятельности до Второй мировой войны. Даже тот факт, что ее старая подруга Ирма Владимировна де Манциарли была меценатом и сотрудницей «Чисел», не повлиял на отход Людмилы от транснациональной модернистской культуры, претившей ей теперь и в этическом отношении.
Если идеологическая «левизна», а также дух дада и сюрреализма не нашли такого яркого выражения среди сотрудников «Чисел», как в послевоенной когорте французского модернизма, и те и другие продолжали хорошо знакомую Людмиле практику эстетически значимого поведения, чьи последствия в виде искалеченных жизней она испытала на себе и с возрастом стала воспринимать как малооправданные. Одновременно с Савицкой к подобному заключению пришел и Владислав Ходасевич, чью статью о жизнетворчестве как «истории разбитых жизней» она могла читать в одном из апрельских номеров парижского «Возрождения» за 1928 г., тем более что Ходасевич цитировал здесь дарственное послание Бальмонта из «Будем как солнце» как пример «утечки» творческой энергии в повседневное поведение людей модернистской культуры[204]. И если поводом для размышлений поэта послужило самоубийство в Париже в феврале того же года сверстницы Людмилы – Нины Петровской, ставшей знаковой фигурой русского модернизма путем участия в его жизнетворческих экспериментах, для Савицкой толчком к критической переоценке эстетически значимого поведения стала очередная личная драма, а именно трагическая судьба близкого ей человека, писательницы Мирей Авэ, бывшей в течение двадцати лет связующим звеном между Людмилой и Ирмой де Манциарли, которых Мирей считала «самыми умными» из знакомых ей женщин[205]. Последние годы жизни Мирей, чья развязка вписалась в целую серию подобных трагедий, замешенных на наркотиках и культе саморазрушения как средствах преодоления «буржуазной» морали и быта среди авангардистов послевоенного призыва – от Реймона Радиге и Жака Ваше до Бориса Поплавского[206], – стали окончательным толчком к отчуждению Людмилы Савицкой от транснациональной модернистской культуры.
Людмила познакомилась с Мирей, младшей дочерью художника Анри Авэ, в чей салон были вхожи поэты Поль Фор, Гийом Аполлинер и Жан Кокто, во время отдыха в упоминавшемся выше фаланстере «Невильская обитель», летом 1908 г. Десятилетняя девочка поразила Людмилу творческой одаренностью, а ее недетская жажда познать мир напомнила Людмиле собственную юность. Став наставницей Мирей в Париже, поскольку богемная семья мало занималась дочерью, Людмила взялась за ее образование и подготовила к поступлению в лицей. Но Мирей бросила учебу, чтобы посвятить себя литературе: круг Аполлинера усмотрел в ее полудетских стихах и прозе второе пришествие Артюра Рембо и принялся издавать ее писания уже в 1913 г. К шестнадцати годам Мирей – литературный вундеркинд и достопримечательность салонов – успела побывать в любовницах у Фора и Аполлинера, а также прослыть невестой Алексиса Леже, писавшего стихи под псевдонимом Сен-Жон Перс. Однако сближение с Кокто открыло ей эстетическую ценность более радикального бунта против «буржуазной» морали с ее пуританской сексуальностью. К концу десятилетия Мирей отдала предпочтение лесбийским связям, которые служили к тому же, благодаря состоятельным любовницам, важным материальным источником для пристрастившейся к наркотикам в окружении Кокто и нуждавшейся в деньгах писательницы[207]. В 1920‐х гг. Мирей продолжала писать поэзию и прозу, но прославилась как неординарная личность, поскольку текст жизни, над которым она усердно работала, взяв моделью модернистский миф о Рембо[208], превратил ее в знакового монпарнасского персонажа. Этим объясняется и то, что дневник, который она беспрерывно вела с 1913 г., оказался впоследствии ее главным литературным достижением.
Людмилу Савицкую Мирей считала верным другом, моделью поведенческого антиконформизма и учителем в вопросах эстетики, хоть и сопротивлялась старанию наставницы развить ее литературный дар путем систематического образования и интеллектуальной дисциплины (круг Аполлинера, напротив, ценил в Мирей «дикую» непосредственность). К тому же Людмила, которую транснациональная модернистская культура так щедро одарила «приемышами», поначалу не пыталась оградить ученицу от опасностей богемного существования, предоставив Мирей полную свободу действий. В стихотворении «Без объятий», написанном по горячим следам развода с Жюлем Рэ и потери родительских прав, Людмила даже похвалила Мирей за то, что она живет так, как ее наставница лишь мечтает жить[209]. Однако к середине 1920‐х гг. Людмила не могла не осознать всю разрушительность подобных фантазий: ей пришлось периодически ухаживать за бывшим «гениальным ребенком», превратившимся в психологически неуравновешенную наркоманку, которую частые любовные драмы повергали в пресуицидное состояние (среди любовниц Мирей была и английская писательница Мэри Батс, оставившая ради нее своего мужа Джона Родкера). Мирей оставалась глуха к увещеваниям Людмилы, «казавшимся ей стилем рококо среди модерных развлечений ‹…› Беда в том, что, окруженная в этой гнилой компании людьми поверхностного интеллекта, она слишком молода, невежественна и ленива, чтобы заметить их фальшь», – жаловалась Савицкая в письме мужу (12.IX.1923). К концу десятилетия изможденная опиумом Мирей (в 1926 г. она, благодаря своему внешнему виду, сыграла роль Смерти в пьесе Жана Кокто «Орфей») больше не в состоянии была заниматься литературой. Даже дневник ее обрывается в 1929 г.
Летом того же года Людмила приютила Мирей в своей парижской квартире, но та сбежала через неделю, ужаснувшись «мещанскому» стилю семейной жизни наставницы, лишенному, по мнению Мирей, полета воображения, не говоря уже об отсутствии необходимых ей наркотиков[210]. Местная клиника для наркоманов, куда Людмила затем ее поместила за свой счет, не понравилась Мирей, и она обвинила старшую подругу в намерении лишить ее свободы. На большее, однако, у Людмилы не было средств. В 1930 г. она обратилась к модернистам, близко знавшим Мирей, включая и Кокто, с просьбой помочь оплатить курс лечения в Швейцарии; но у модных писателей денег для Мирей не нашлось[211]. Людмиле пришлось искать помощи у родственников Мирей, с которыми та давно порвала. Попав наконец в 1931 г. в швейцарский санаторий, Мирей вскоре там и умерла. В 1929 г., помышляя о самоубийстве, она оставила на хранение у Людмилы чемодан с рукописями, взяв слово в случае смерти автора никому их не отдавать[212]. Людмила слово сдержала. Чемодан нашла ее внучка лишь пятнадцать лет назад – на чердаке деревенского дома, купленного Людмилой и Марселем Блоком в начале 1920‐х гг. по соседству с домом Спиров на берегу Луары, недалеко от Орлеана. В результате стала возможной сенсационная публикация дневника Мирей Авэ и ее переписки с Аполлинером. Судя по всему, именно эта трагическая история, развязка которой совпала с сотрудничеством Людмилы в издательской программе Франко-русской студии, и послужила последней каплей в ее разрыве с модернистской культурой.
К той же эпохе начала 1930‐х относится и ее ощущение возрастного рубежа, который Людмиле представляется не в категориях прожитых лет, а как результат накопленного опыта: «Старая, я чувствую себя таковой, потому что я пожила, то есть уже очень давно испробовала на себе все то, что другим представляется актуальным жизненным материалом: выбор „морали“, выбор общественной позиции, выбор категорий бытия, „религиозной“ позиции, человеческой позиции, и т. д.»[213] А еще через двадцать лет, вспоминая время, проведенное на перекрестке национальных модернистских культур, Савицкая приходит к более категоричному выводу, чем тот, который мы находим в ретроспективном анализе модернистского опыта у Ходасевича. Собственные фотопортреты, сделанные до 1930‐х гг., вызывают у Людмилы «отвращение при виде этой „очаровательной“, мечтательной, поэтической, изменчивой женщины, лишенной, по-моему, истинной человеческой сущности. Я себе не нравлюсь, вот какая у этой истории мораль»[214].
С начала 1930‐х гг. Савицкая больше не выступала в роли посредницы между модернистами, их издателями и публикой. Забросив «неблагодарное занятие» литературным переводом на вершине признания, когда ее авторитет в этой сфере стал непререкаем[215], она посвятила себя литературной и театральной критике, причем ограничилась сотрудничеством во франко-еврейской прессе, выйдя из модернистских журналов, что было и выражением политического кредо в эпоху, когда одни модернисты не могли ни о чем писать, кроме всемирного еврейского заговора, а другие пели дифирамбы сталинизму и ездили в политическое паломничество в СССР[216]. Из той части литературного наследия Савицкой, которая не имела отношения к переводу и писалась с середины 1930‐х гг. до конца жизни, не сохранилось ничего, кроме неопубликованных пьес для детского театра, дневников и воспоминаний. Круг ее литературного общения сузился, совпав с кругом близких друзей, среди которых ключевыми фигурами оставались Андре Спир и Джон Родкер, подобно Людмиле отошедшие от «нового искусства» и среды его обитания: первый – ради сионистской деятельности в контексте растущего европейского антисемитизма, второй – в пользу библиофильского, эстетически всеядного издательского дела, а также ради пропаганды психоанализа в англоязычном мире с личного одобрения бежавшего из нацистской Вены Зигмунда Фрейда.
В историографию европейской культурной жизни Людмила Савицкая вошла лишь как литературный переводчик, повлиявший на теорию и практику этого вида искусства во Франции[217]. Тому способствовало и ее возвращение к «неблагодарному занятию» в середине 1940‐х, когда материальная нужда послевоенных лет заставила Людмилу вновь взяться за переводы, теперь уже без эстетического разбора: работу над модернистскими текстами[218], которую она получала благодаря своей репутации переводчицы «трудных» писателей, Савицкая перемежала с «хлебными» контрактами по советской литературе (от «Одноэтажной Америки» Ильи Ильфа и Евгения Петрова до «Взятия Великошумска» Леонида Леонова[219]), чрезвычайно популярной в освобожденной Франции. Что же до положения Савицкой на стыке русского, французского и англо-американского компонентов транснациональной модернистской культуры, то эта история канула в Лету; или, в лучшем случае, ушла в примечания к биографиям Джойса и Паунда, где Людмила обычно фигурирует в неузнаваемом виде «madame Bloch», о которой известно лишь то, что в момент сотрудничества с Паундом и Джойсом она была «тещей Джона Родкера» (за 25 лет до того, как Марианна вышла за него замуж)[220]. Да и личность той, кто была названа «весенним цветком» и кому было адресовано посвящение к «Будем как солнце» («Люси Савицкой, с душою вольной и прозрачной, как лесной ручей») и цикл стихотворений «Семицветник», – до последнего времени оставалась практически неизвестной[221], несмотря на центральное место книги Бальмонта в истории русского модернизма.
Подобная судьба типична для людей модернизма, выступавших в роли посредников между создателями культурных ценностей и их публикой. Логика художественных иерархий не только выдвигает на первый план литературных светочей и кумиров, какой бы короткой и преходящей ни была их слава, но и предрасполагает исследователей к игнорированию «малых сих» модернизма. Те же табели о рангах мешают изучению модернизма как исторического феномена, и это изучение сводится к описанию «вершин» культурной системы, неоправданно упрощенной как функционально (за счет игнорирования разнообразия ролей внутри каждой национальной модернистской культуры), так и географически – поскольку национальные модернистские культуры не вписываются в физические границы стран, на языках которых они создаются, что и позволяет нам говорить о существовании транснациональной модернистской культуры в конце XIX и первой половине ХХ в. Роль посредника, рассмотренная здесь на биографическом материале Людмилы Ивановны Савицкой, как никакая другая роль внутри модернистских культурных формаций позволяет историку поближе рассмотреть механизмы смешения и миграции, сводящие национальные модернистские культуры в транснациональное целое.
Весной 1924 года Бальмонт вернул Савицкой ее старые письма, которые, таким образом, сохранились. Тогда же Людмила отдала поэту его письма начала века. Местонахождение этих документов остается невыясненным. В итоге письма Бальмонта 1920‐х гг. сохранились в бумагах Савицкой, однако ее письма к нему постигла судьба всего распыленного и утерянного архива поэта.
Публикуемые ниже письма Людмилы Савицкой хранятся в ее архивном собрании: Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ1, папка «Lettres de Ludmila Savitzky à Constantin Balmont». Письма Константина Бальмонта хранятся в том же архивном собрании: картон SVZ1, папки «Lettres de Constantin Balmont à Ludmila Savitzky. 1913–25»; «Lettres de Constantin Balmont à Ludmila Savitzky. 1922»; «Lettres de Constantin Balmont à Ludmila Savitzky. 1923»; «Lettres de Constantin Balmont à Ludmila Savitzky. 1926–1931»; «Lettres de C. Balmont à Ludmila Savitzky. 1928–1931»; картон SVZ29, папка «Lettres de Balmont à L. Savitzky + autres lettres du dossier». Местонахождение остальных писем в том же архивном собрании оговаривается отдельно.
Орфография и пунктуация писем приведены к современным нормам за исключением тех мест, где особенности авторского правописания несут дополнительную смысловую нагрузку.
Иллюстративный материал, помещенный в книге, взят из библиотеки Людмилы Савицкой и из частного собрания ее наследников. Первая серия иллюстраций следует хронологии и тематике вступительной статьи; вторая соотносится с лицами и событиями, упоминаемыми в переписке Л. Савицкой и К. Бальмонта.
Письма Людмилы Савицкой к Константину Бальмонту
«Боже, Бамонт!» – Сколько книг Вы мне прислали![222] Мерси. А если бы Вы знали, как скучно у нас! Даже смешно, право. Просто не верится, что был тут когда-то Бамонт, что в этом зале он читал «Огонь»[223], а в той комнате слушал мои рассказы, что еще третьего дня мы хохотали в столовой – и так много было жизни, движенья, мыслей, – в этом доме, где теперь слышится только шум колес Жоржиковой лошадки, да воркотня бабушки[224]. Мы с Наташей[225] бродим как тени, одна поющая, другая ноющая. Вчера после обеда (как странно было обедать втроем) мы все поехали на именины к известной Вам Анне Евдокимовне[226]. Так как туда собралась премиленькая компания корочанских кумушек, то я удрала в Ванину[227] комнату. У меня болела голова, я потушила лампу и целый вечер валялась, слушая долетавшие до меня обрывки оживленных разговоров. Наташа и Ваня взяли каждый одну из моих рук и все время их целовали. Потом мы вернулись домой. Светила луна и было хорошо, тепло, легко – и скучно без Вас, и как-то весело. Сегодня утром я проснулась в 12ть! Какое счастье – спать! А потом проснуться и лежать, лениво, в полумраке. Бабушка принесла мне посылку от папы («Il Fuoco» D’Annunzio)[228] и письмо от René[229], такое обожающее, милое, что оно как раз подходило к моему кошачьему настроению. Сегодня солнце, и все так светло, прозрачно. После обеда ямщик принес мне Вашу посылку и Ваше письмо.
Милый Бамонт, как я рада, что была для Вас мгновеньем радости! Мне с самого начала смутно почувствовалось, что Вы не пройдете мимо меня, не остановившись ни на минуту. Мне казалось, что я Вам нужна, что без меня Ваша жизнь была бы не совсем полной. Мне казалось, что дать Вам минуту красоты – мой долг, как долг цветка – дать свой сок мимолетной бабочке. Поняли? И потому я рада, рада, мне весело! Как хорошо, Бамонт, что Вы мне ни разу не солгали, не преувеличили своих чувств, не сказали, как сделал бы другой на Вашем месте, что Вы не можете жить без меня, что я для Вас – все, что кроме меня для Вас нет счастья в мире. Я все боялась, что Вы мне скажете что-нибудь в этом роде, – это испортило бы мою радость и убило бы мое доверие к Вам. А теперь я счастлива. Я ничего не предлагаю Вам, но даю все, что могу. Ничего не прошу у Вас, но все, что Вы мне даете, увеличивает мое счастье. Если Вы забудете меня завтра – я не удивлюсь. Если я навсегда останусь светлым лучем, запавшим в пропасть Вашей души, я – я удивлюсь еще менее!
Пишите мне, когда только захотите и все, что захотите. Ах как странно, что Вы не здесь, что Вы среди совершенно других, чужих мне людей, и как странно, что Вам они не чужие!
До свидания. Я могла бы целый день дурачиться над листом бумаги, говоря Вам всякую ерунду.
Правда, не похоже на то мутно-зеленое послание Вашей томной героини, призывающей своего Туллио?!![231] Даже бумага не похожа – у меня «papier fin»[232] – не смейте сомневаться, это даже на обложке напечатано.
Наташа Вам кланяется, она все заглядывает в мое письмо.
Вы на меня не сердитесь за такое глупое письмо? А можно Вам писать по-французски, когда мне нужно будет говорить о высоких материях, а?
Слушайте, вот что, Бамонт, как Вам не стыдно? Зачем Вы поцеловали Наташу? Вы ведь знаете, какая она странная девочка и как на нее действуют такие вещи!
Присылайте скорее Ваши стихотворения. Я Вам напишу, когда вздумается, – Вы ведь не будете требовать от меня корректности в этом отношении? Сейчас мы с Наташей пойдем на почту и отправим это письмо.
Нет, право, я не могу представить себе, что последние 5–6 дней были не сном. Все по-старому, все на месте – все тот же дом Потехиной, на Дворянской улице, в городе Короче!!! А где же жизнь, а где же огонь?
Моя тетя[233] приедет через 2 недели и умчит свое семейство в Петербург. Я буду свободна – свободна!! Ну, tout vient à point à qui sait attendre[234].
До свидания, Бамонт. Неужели же Вы так далеко, что не слышите даже отчаянного визга Вашего друга Жоржа?
Солнце спряталось за садом. Наташа жужжит у меня над ухом – невозможно писать, да и пора идти на почту.
Несколько часов тому назад я обещала Вам написать, «когда вздумается». И вот мне уже вздумалось! Это даже не совсем прилично, кажется. Но я ведь во многом не согласую своего поведения с правилами приличия! Так что это не составит исключения. Ужасно грустно. Так грустно без ласки, без любви, без блеска. В Вашей комнате все по-старому. Я пошла туда и легла на сундук, свернувшись калачиком. Мне казалось, что я пришла к Вам, и что я делаю Вам что-то приятное, за что Вы мне очень-очень благодарны. Я вспомнила свой сон накануне Вашего отъезда. Мне так ясно-ясно приснилось, что я страдала, и страдала, помню, из‐за мамы и из‐за René[235]. У меня была страшная, почти физическая боль в сердце. И вот как-то внезапно я очутилась в Вашей комнате на Вашей постели, а Вы сидели на кресле и, держа мою руку, рассказывали мне какую-то тихую колыбельную сказку. Я так явственно чувствовала, что мое лицо мокро от слез, и что я улыбаюсь, и что я засыпаю, и что мне хорошо благодаря Вам. И, знаете, ничего не значит, что это был только сон – ведь после него у меня осталось к Вам точно такое же чувство светлой, теплой дружбы, как если бы все это произошло в действительности.
Скажите мне, что когда Вы перестанете любить меня, как любили в течение нескольких часов увлеченья, у Вас останется такая же нежная, ясная дружба ко мне! Это было бы так необычайно красиво! Отдаленная от Вас всевозможными мелкими и крупными преградами, я знала бы, что я всегда близка к Вам, всегда дорога Вам, как мне всю жизнь будет близок и дорог тот красивый водяной цветок, который я видела где-то, когда-то, давно-давно, в детстве.
Сегодня, возвращаясь с почты, мы с Наташей шли медленно и безмолвно. Блеск луны отражался в зеркально-ледяной коре, покрывавшей землю. Весь этот глупый, несносный городишко как-то преобразился и стал почти красивым, грустно улыбаясь в объятиях мягкого вечера.
А дома нас ожидала бабушка, тараторившая без умолку в обществе Анны Евдокимовны, Соколова[236] и той отвратительной докторши, которая всегда внушает мне желание прочесть ей вслух: «Но мерзок сердцу облик идиота…»[237] – Эта гиппопотамообразная особа – отчаянная кокетка и ненавидит всех привлекательных особ женского пола. Мне она очевидно делает честь, считая меня очень опасной соперницей, так как один мой вид приводит ее в ярость, которая выражается в умиленных поцелуях, комплиментах и приглашениях, перемешанных с колкостями, такими же тяжеловесными, как и она сама. Наташа вчера сказала мне: «Счастливая ты! Все тебя любят. Тебя ненавидит только Мария Феликсовна (это докторша) и все такие как она. А остальные все тебя любят. Скажи мне, правда, кто тебя не любит?»
Я подумала и решила, что я действительно счастливая.
Как мне нравится «Лелли»[238]! Ничего особенного, кажется, нет в этом стихотворении, но – ах, как от него пахнет фиалками, как оно нежно, как ласково и красиво!
Может ли это быть так же красиво по-английски?
У Вас были Лелли, Бамонт? Правда, Бамонт, Лелли самое счастливое существо в мире? Лелли одним взором может разогнать самые черные тучи. Лелли одною улыбкою может рассеять печаль. Лелли одна может дать бесконечное счастье и одна может быть бесконечно счастливой. Бедная Лелли, зачем она не там, где тучи, зачем она не там, где печаль? Бедная Лелли, напрасно глядящая в темную ночь своими светлыми, материнскими очами!
У Вас были Лелли, Бамонт? У него никогда не было Лелли, светлой, тихой, ласкающей Лелли… Не правда ли, милый Бамонт, Лелли должна идти к нему, Лелли должна положить свою легкую, освежающую руку на его усталый, горячий лоб? Бедная Лелли, одиноко глядящая в темную ночь своими светлыми, материнскими очами! Вам жаль бедную Лелли, Бамонт? Счастье солнца в том, что оно дает свет и тепло – счастье Лелли в том, что она дает ласки и любовь.
Сегодня утром я пила кофе одна в столовой, когда в дверь просунулась рука почтальона. Газеты – письмо от René и – от Вас. Какое тонкое! Ну, да это ничего, значит завтра будет другое, правда?
Бамонт, знаете, я только теперь, только после Вашего отъезда поняла, какой Вы милый, чудный, единственный Бамонт! Мне и скучно без Вас, и так отрадно, что я могу Вам рассказать все, все, что думаю, и знать, что Вы все поймете! Ваша душа превратилась для меня в какого-то ангела-хранителя, в какое-то золотисто-белое облако, окутывающее меня – между нами нет ничего мучительного, ничего вынужденного, натянутого. Если бы я была уверена, что при более продолжительной совместной жизни такие светлые отношения между нами остались бы неиспорченными, я всей душой желала бы вновь увидеть Вас – и надолго. Но –
– как выразилась, исказив Ростана, Ваша большеголовая приятельница[239].
Вы знаете, бабушка, воспользовавшись тем, что я долго сплю, куда-то удрала с самого утра. Наташа все еще не идет из гимназии, теперь уже скоро 3 часа и мне ужасно хочется есть.
Это Ваше письмо вернуло мне аппетит, Милостивый Государь, чем Вам премного обязана! Я ведь Вам еще не рассказала, что все эти дни мне ужасно нездоровилось, и я с утра до вечера валялась полуодетая, ни с кем не разговаривая. Это даже подало повод няне высказать следующие глубокомысленные наблюдения: «И как это человек может похудеть в два дня! – вон у нас Людмила-то Ивановна как измучились! И чего это Вы все тоскуете? Неужто в женатого влюбились? Полно Вам! Ведь женатый он, – а Вас еще сколько женихов ждет хороших!» – на это я рассмеялась, а Наташа возразила, что «ведь люди скучают не только по тем, в кого они влюблены!» и няня поколебалась в постановке своего диагноза.
А знаете, почему я кисну в самом деле? – Я не могу, положительно не могу жить без ласки, без любви, не могу выносить холода. Это доводит меня до отчаяния, до сумасшествия. Я написала два совершенно диких стихотворения, какими-то необычайными размерами – Nuits d’Exil[240].
Первое мне даже стыдно написать Вам, до такой степени оно – dévergondé[241] –
А другое, написанное на следующий день, вот:
Nuits d’Exil. II
Вот и разберите – «апрель, или май?» – Я не знаю.
Сегодня, после Вашего письма я оживилась, и даже нашла в себе достаточно сил, чтобы надеть платье – то самое черное платье, которое я носила при Вас.
Бамонт, помните, что Вы мне сказали: «Пишите мне о том, что Вы думаете делать»? Вот что: я представляю себе самое лучшее, что только может случиться; мама получает письмо от René и говорит: «Ну, так и быть, едем в Париж». Покончив с Корочею, мы едем – и Вы едете в то же время с нами. Бамонт, милый, у меня явилась какая-то странная твердая вера в то, что Вы мой добрый гений и что Вам я буду обязана огромной частью своего счастья. Я знаю, наверно знаю, что если Вы будете с нами в Париже, все устроится просто и легко, и мама все поймет, всему поверит. Какое основание я имею так думать, я сама еще не разобрала, но не могу отогнать от себя мысли, что так и случится. Ведь подумайте, какою пыткою была бы для меня жизнь между ним и вечно подозрительной, вечно стерегущей обвинения <sic> мамой! И мне кажется, что тот Бамонт, которого я видела во сне, не решился бы отпустить свою маленькую Люси на такое мученье! Скажите, Бамонт, что Вы хоть постараетесь устроить так, чтобы мы ехали вместе? – Ради Бога, только не подумайте, что я как Besnard[244] хочу извлечь из Вас пользу! – Подумайте, если бы Вы не были для меня тем, чем Вы кажетесь моей душе – близким, дорогим, светлым братом – разве я допустила бы в себе мысль поставить Вас – наравне с собою – мамой – и им?
Ах как это было бы чудно, хорошо, как красиво! Весна, Париж, молодость, красота! Я была бы такою радостной, такой красивой, какой Вы меня еще никогда не видали.
То, что я чувствую, очень, очень странно… очень странно! Но мне кажется, что я была бы радостной и красивой не только из‐за него и для него, но и из‐за Вас и для Вас. Верите?
Ах да, Бамонт, я ведь написала одно стихотворение для Вас – напишу потом. А Вы, Бамонт, пришлите мне все свои стихи, относящиеся ко мне[245], и непременно пришлите свою карточку, хотя, пока, я еще очень живо помню Вас.
Бамонт, дорогой, ведь Вы не сердитесь, когда я говорю о René – это было бы так глупо!
Скорее пишите, Бамонт, и побольше. – Вот сию минуту принесли телеграмму от мамы, в которой между прочим сказано «подробности нарочным». Хоть бы мама догадалась сказать Вам об этом нарочном – Вы бы написали мне. А то так долго идут письма через Белгород.
Правда я много Вам пишу, Бамонт? Вам ничего, что я говорю «Бамонт»? Константин Дмитриевич – Боже! «Нет конца»! Да и потом я чувствую себя с Вами, как Жоржик в ту минуту, когда он с нежным полувопросительным взглядом произнес «Бамонт! Я упал!». И кроме того я не знаю, как Вас иначе называть.
Бабушка зовет меня в гости к докторше – «Да лучше удавиться!» Хочется бесконечно болтать с Вами, но писать противно. – Если бы Вы были тут, Бамонт, мне не было бы так холодно и скучно. Знаете, Бамонт, – Вы только что поцеловали меня в лоб и в глаза. Как хорошо! Мерси.
Ooh! How shocking![246]
В этом письме Вы должны прочесть еще много, много кроме того, что написано.
9го февраля. Гадкий Бамонт, с маминым нарочным – ничего, по почте – ничего. А мне скучно. Хорошо, что я вчера опоздала послать это письмо на почту – теперь Вы его получите сегодня же.
Смотрите – моя шпилька упала из волос прямо на письмо, хочет к Вам! Ну Бог с ней!
Фи! Как неприлично так часто писать человеку, от которого получаешь письма далеко не каждый день!
Но видите ли что, Бамонт, ведь я, в сущности, ни для кого не пишу, кроме себя! Я много думаю, мне необходимо дать форму своим мыслям, и вот я выражаю их в виде письма к тому лицу, к которому они имеют наиболее близкое отношение. Поняли?
Вот, например, сегодня я решила не скучать, а заняться делом. Взяла Ваши книги, стала перелистывать с твердым намерением перевести что-нибудь. Но, представьте, еще не могу. Я еще недостаточно отвыкла от Вас! Читаю, и невольно погружаюсь в размышления о том, что Вы думали, когда писали такое-то стихотворение, как рождались слова в Вашем уме, как они сплетались в стройные строки, какие образы мелькали в Вашем воображении, какие страданья, какие наслажденья переживали Вы в те минуты.
Когда все это перебродит у меня в голове, осядет, остынет, тогда, быть может, я еще лучше стану переводить Вас, – но пока не хочется трогать, не хочется нарушать гармонии впечатлений.
Я ищу Вашу душу в Ваших стихотворениях, и нахожу ее во всевозможных фразах, во всевозможных настроениях. Вот это написано в минуту безотрадного пессимизма. Вот это навеяно какой-то легкой весенней мелодией, – другое пахнет мадригалом и родилось в увлеченьи flirt’ом, с сознательною неискренностью; а следующее – о, как далеко Вы были от земли, как близко к звездам, к правде, к Богу, когда оно рассыпалось по бумаге созвучными словами под Вашей полубеспамятной рукой! В некоторых стихотворениях меня опьяняет нежная музыкальная прелесть, поразительная непринужденная легкость звуков… Другие сразу ставят меня на край чудовищной, неодолимо влекущей пропасти, из которой несется точно родной призывный мотив – таких больше всего в «Горящих зданиях». Если хотите, я назову Вам для примера: «Я не из тех, чье имя легион»[247], «Замкнуться, как в тюрьму, в одну идею»[248], «Пять чувств – дорога лжи, но есть восторг экстаза (!)»[249], «Морской разбойник»[250], «Я устал от нежных снов»[251], и рядом то, которое кончается:
Но есть еще особый отдел стихотворений – который заставляет меня задуматься, вздохнуть – и улыбнуться! Это – стихотворения к женщинам, или вызванные ими. Когда я их читаю, мой Бамонт кажется мне моим младшим, неопытным братом! Бамонт, дорогой, Вы знали много, много женщин, но Вы не знаете женщины, Бамонт.
Вы говорите, что Вам никто не сделал столько зла, как женщина, Вы говорите
Вы говорите о рабстве, возрастающем с удвоенной силой даже после того, как Вы сбросили с высоты прекрасную колдунью…[254] Милый, милый Бамонт! Вы никогда не знали настоящей любви, Вы знали мученья и восторги страсти, знали нежную красоту, граничащую с мечтою, – но если бы Вы любили совершенною, полною, единственною любовью, Вы никогда не узнали бы разочарованья. Спросите у René, что такое женщина (то есть что такое любимая и любящая женщина для мужчины) – только свет, только гармония, только счастье. Она не преграждает пути к правде, потому что правда – в ней самой. Ее объятья не могут отдалить от остальных людей, потому что она не только страсть, но и любовь. Желанье убить ее не может прийти на ум, потому что она – жизнь и сила. Вы это чувствовали, когда написали (кому?)
Но это было не чувство, а только предчувствие, раз оно изменилось, прошло. О если б Вы знали как широка, как необъятна, как бесстрастна настоящая любовь! В ней нет мучений, нет ревности, страсть в ней – подобна падающей звезде в холодном величии мирозданья. Слияние двух душ с бесконечной душой Природы.
Странно! Я нашла стихотворение «Нет и не будет», чтобы переписать Вам эти строки, и взгляд мой упал на стоящее рядом «До последнего дня»[256]. Как оно похоже на то, что я думала о Вас недавно. Перемените, мысленно, местоимения и все будет верно:
Ну скажите, что неправда! Накажите меня за мое нахальство! Только – я Вам не поверю. Если даже Вы меня вовсе уже не любите в настоящее время, то все же была такая минута, когда Вы меня любили бесконечно, всею силой, всей красотой Вашей души – помните, когда я сидела на сундуке и рассказывала Вам о себе.
Да, да, Вы меня так любили, не думая ни о чем и ни о ком, ни о себе, ни обо мне, величественно, красиво, бесстрастно. И в эту минуту на Вашу душу легла моя печать, и с этой минуты Вы стали моим, и никто не будет владеть Вами так всецело, как я в эту минуту. И за это – за это я дарю Вам то красивое, ароматное, безымянное чувство, которое Вы сами вызвали во мне. Как хорошо! Правда?
11го февраля утром.
Сейчас только проводила бабушку в Сабынино и через 2 минуты после этого получила Ваше письмо. Бамонт, дорогой, я не умею ни звать, ни обещать, ни вообще «устраивать» своего счастья, подбирая для него цветы как для букета. Обо мне кто-то заботится, без моего ведома, кто-то посылает мне неожиданные радости, неожиданные волненья. Если этот кто-то, без моего участия, снова приведет Вас ко мне – я буду счастлива. Сама я (подумайте, такое маленькое, глупенькое человеческое существо!) не могу решить, что лучше для меня, для Вас, – для мира!
С практической точки зрения, как можете Вы приехать так, чтобы не сделать неприятности маме? Если кому-нибудь другому Ваш приезд покажется странным, – это пустяки. Мне так часто приходилось бравировать «общественное мненье», что это стало для меня каким-то забавным спортом. Но ведь Вы знаете, мама не поймет наших отношений или заподозрит меня в кокетстве и будет дрожать за Вас (ей-Богу!) и страдать оттого, что у нее такая бесчувственно-жестокая дочь. А страданье мамы, хотя и ничем не оправдываемое, и особенно ее подозрение, непременно вольют хоть каплю горечи в наше радужное счастье. А я так боюсь, так ненавижу горечь, Бамонт, и так хочу сохранить светлой и чистой нашу чудную дружбу! И Вы тоже, правда? Значит, делайте так, как можно, как нужно. Мама, а может быть и Вова[258], приедут завтра. Если они будут звать Вас – приезжайте. Наш дом до приезда бабушки и тети (следовательно, до конца этой недели) пуст и сравнительно спокоен. А потом пойдет укладка и отъезды. Гостиницы здесь дурацкие, хотя одна из них и сносная. Как называется – не знаю.
Но ради Бога, Бамонт, не позволяйте никому неосторожно прикоснуться к крыльям нашей бабочки – она такая нежная, легкая!
«Стыдного» стихотворения я Вам пока не пошлю, а вот вчерашнее:
У Наташи хранится пузырек с водою и надписью: «Вода, которую пил Бальмонт перед отъездом из Корочи, 3го февраля 1902 г.»
Извините! И тут не упустила случая рассказать Вам немножко «ерунды».
Кажется все.
Ваш мужик торопится ехать[260].
До свидания? Chi lo sa[261].
Будьте осторожны, Бамонт. С Вами не было такого случая, когда Вы бы слушали какую-нибудь дивную, чарующую мелодию – и вдруг бы кто-нибудь чихнул или плюнул около Вас? Знаете, я больше всего на свете боюсь таких вещей! А теперь все так красиво, так светло, так гармонично – ах!
Бамонт, милый – сейчас получила Ваше письмо по почте. Конечно, Ваше стихотворение – «Нет, ты не поняла»[263] очень хорошо, очень. Только в нем – ошибка, потому что я не «не поняла» – от того-то я и не могу любить его так, как люблю другие.
Вы говорите, что у меня талант, и что я сама это очень хорошо знаю. А помните, что я Вам однажды сказала: «Мои стихи мне нравятся постольку, поскольку в них отражается моя душа», – это единственная оценка моего «таланта», по крайней мере, для меня. И писать я буду всегда, когда мои мысли будут требовать стихотворной передачи. Переводить Вас я буду непременно. Это меня просто – cela me passionne[264]. Господи, только бы покончить с противными вещами, только бы больше не раздваиваться!
Странно – я не получала от René письма для мамы, а между тем он, по-видимому, писал. Неужели – «не судьба»? Ну ничего, ведь должно же это как-нибудь уладиться, правда?
Ваши карточки, в сущности, не так дурны, как кажутся. И потом они дополняют одна другую, и передают то впечатление, которое производит Ваше лицо. В профиль – благородно-тонкий облик средневекового лорда – голова так и просится на большую ослепительно-белую фрезу. (Напрасно только Гн Здобнов потрудился сделать Вам благонравную бровь. Да и ус один совершенно лишний[265].)
En face[266] – неукротимые черты сына русских степей. Что-то светлое – и грустное, что-то сильное и задумчивое, что-то далекое – и откровенное во взгляде как бы постоянно расширяющихся, пристальных глаз. Что-то необузданно-жадное в напряженном трепете ноздрей. Что-то роковое, что-то решенное в каменном молчании властного рта. И как верно угадала природа, что вокруг такого лица нужны отсветы медно-огневых волос.
Я, вероятно, пошлю это письмо с нарочным, которого мама собирается отправить в Сабынино. Скажите ему, чтобы он и на обратном пути заехал к Вам.
Моя тетя приедет только к 20‐му. Может быть, Вова и Володя[267] соберутся приехать в Корочу, пока бабушки нет.
Передайте мой привет Екатерине Алексеевне[268]. Мне она нравится в моем воображении, потому что, мне кажется, Вы ее глубоко, сильно любите. Только мне она представляется тем, что называют «Умной женщиной» – решительной, спокойной, тактичной, образованной, способной все понять, делающей гладкой и приятной свою и чужую жизнь. Я иногда завидую таким женщинам и – ужасно боюсь их! То есть не боюсь, а стесняюсь. Почему Ваша жена мне представляется такою – я сама не знаю, и очень может быть, что я ошибаюсь, только все-таки я не могу предположить, чтобы она была иною, раз между вами существуют искренние дружеские отношения.
Какой серый день! От вчерашних слез у меня болит голова. Няня больна и сегодня мне опять придется гулять с Жоржиком. Мы уходим далеко, бегаем, останавливаемся смотреть на ручейки, бегущие по колеям, разговариваем с гусями, наблюдаем за грачами и воронами, бросаем камешки в яр, и повсюду ищем орла, «бошую пицу олла», которая скоро-скоро «пилетит».
Как Вы можете не любить детей, Бамонт? Какое зрелище может быть красивее этого постепенного расцвета, этого пробужденья души, встречающей на каждом шагу восторги откровения? Когда я бываю с Жоржиком, я так сливаюсь с ним, что мне становятся вновь близкими все удивленья, все радости, все впечатленья ребенка. А потом – я думаю о своем мальчишке. Какой он будет жизнерадостный, задумчивый, хорошенький – и мой! И когда моя жизнь начнет увядать, я буду знать, что вся моя сила, молодость, красота уходит в него, и когда никто уже больше не назовет меня своей нежной, светлой Лелли, я буду счастлива верою в то, что для него я до конца своей и его жизни останусь нежной, светлой, единственной. И когда он найдет свою Лелли, он полюбит ее из‐за меня, для меня, той любовью, которая жила во мне, той любовью, которая дала ему жизнь. Дети – все. Дети будущее. Дети то же, что искусство – в них переливается волна нашей души, чтобы жить еще и еще и еще, чтобы остаться бессмертною в бесконечном.
Если бы я не встретила René, я все равно вышла бы замуж, для того, чтобы иметь ребенка. Извините, это неправда. Я сказала глупость, не подумав: я бы ждала, ждала René, потому что такой ребенок, какого я хочу, может быть только сыном самой красивой, самой гармоничной любви. Но ведь не могло же случиться, чтобы я не встретила René! Мне кажется, что я сама создала его, силой своей веры в него.
Я никогда не ошибалась, всегда знала, что это еще не он, мой инстинкт уверенно вел меня к нему, и потому я сразу узнала его, без объяснений, без удивленья. Это было вечером 14го июля. Мы стояли на балконе, увешанном фонариками, над бурной толпой наводнявшей Boulevard St. Michel. Я была в длинном розовом пеньюаре и с большим полотенцем на мокрых, только что вымытых волосах. Я стояла, во весь рост прислонившись к двери, – он против меня, облокотившись на перила, спиной к улице. Нам обоим было легко, весело, хорошо. Он сказал мне, улыбаясь, немного бледный: «Savez-vous, je crois que nous serons autre chose que des amis – plus!»[269] Я ответила: «Nous serons ce que nous serons, sans étiquettes! – Oui, parce que Jean est mon ami, mais vous, ce n’est pas la même chose»[270].
Я поняла, я знала. И все-таки, чуть слышно спросила: «C’est vrai?» («En ce moment les deux mains sur ta poitrine»[271], – вспоминал недавно René. – Конечно! Мое сердце было так полно счастья!) – «Je crois!» – «J’espère!»[272] – И больше ничего. Только на другой день, утром войдя в мою комнату, залитую солнцем, он поцеловал меня – в губы – долго-долго и я видела только золотой лучистый свет в его длинных темных глазах. Мы не думали ни о близости, ни о любви, ни о нашей красоте – мне только казалось, что мы два сплетенных стеблями цветка, которые тянутся, растут, поднимаются к солнцу через ароматную прозрачность воздуха.
И это было – преступленье. It was awfully shocking![273] Не правда ли? И это нужно было искупить разлукою, горечью, страданьем…
На языке благоразумных людей это называется «вешаться на шею», «позволять себе возмутительные вольности с едва знакомым человеком», и т. д. У меня не хватило благоразумия, чтобы сознать свою ошибку, и я возмущенно заявила, что лучше уеду до тех пор, пока мама убедится, что я права, чем делать вид, что уступаю.
Через две недели, в Швейцарии я с открытыми плечами и руками танцевала в объятьях усиленно прижимавшего меня к себе кавалера, и на другой день написала René размышление о том, что ведь это уже куда безнравственнее и «стыднее». Мама, читавшая тогда мои письма вместе с René, решила, что я соблазняю его рассказами о своих голых руках!
Боже, как все это мерзко, возмутительно! Оттого-то мир так мрачен, что слишком яркие светильники нужно прятать под колпак, из боязни ослепить стариков и кротов!
Ну, будет. Я могу Вам писать бесконечно. Только ему и Вам. Это ужасно много. Я не думала, чтобы кто-нибудь другой мог любить меня так же светло и хорошо! Как я Вас люблю, мой Бамонт!
12го февраля 1902.
«…До тебя я не знал, что такое любовь, я знал только страсть. В глазах тех женщин, которым я обманчиво говорил „люблю“, не было той чистоты и глубины, где теперь навсегда утонула моя душа. В них только был какой-то неясный намек на то, что в твоих темных глазах нашло такое прекрасное и полное воплощение. Те женщины, которых я знал до тебя, были как бы предчувствием тебя. Вот почему я говорил им „люблю“, вот почему моя ложная любовь к ним не должна оскорблять тебя…
…Без обещаний мы связали нашу жизнь, но нет той силы на земле, которая бы смогла расторгнуть наш союз».
(«Крымский вечер». В Безбрежности[275])
«Неужели Вы есть на свете, Люси! Наконец я встретил Вас? Наконец… О, как долго Вас не было! Я всегда думал о Вас. Я ничему не удивляюсь. Я вижу Вас как солнце. Я думал о нем раньше. Но я всегда всем лгал. А Вас я не обманываю, все могу сказать Вам, счастлив Вашим счастьем, не боюсь, не оглядываюсь, не рассчитываю. Как подумаю о Вас, говорю: „Так это значит верно. Можно действительно все понять в другом, и все для него сделать, ничего не прося. Радость дать. Отдать себя“. Я твой».
(Из письма к Люси)
Какая разница между этими двумя видами любви, и насколько вторая красивее, выше, светлее первой. Там– Вы счастливы, потому что наконец встретили то, чего напрасно искали в других женщинах, и что нашло такое прекрасное и полное воплощенье в темных глазах Вашей подруги. Что же это? Это – сочувствие, это – понимание Вашей души, это – отзыв на Ваши желанья, это – любовь, та любовь, для которой синонимом служит русское простонародное выражение «жалость». (Вы знаете, крестьянка часто говорит, что ее муж ее «так жалеет, и она сама его страсть как жалеет!»)
А здесь, во втором случае, совсем иначе. Тут Ваша душа так же трепещет от благодарности к другой душе, но уже не только за то, что эта другая душа поняла Вас, сознала Вашу красоту, а и за то, что она невольно заставила Вас понять самого себя и самому сознать свою красоту. – Помните:
Так вот, если прежняя Ваша любовь перенесла Вас в небо, то настоящая возвысила Вас до неба небес.
Но что же будет дальше – подумайте! Что если я тоже только предчувствие другой или других? Вы превратитесь в бестелесного духа, Вы сольетесь с Богом, Вы достигнете Нирваны. Я говорю это полушутя, но с твердым сознанием, что говорю чудную, радостную правду.
Зачем Вы всегда говорите, что лгали предыдущим? Это не так. Вы всегда говорили правду. Только «правда» для Вас изменялась с каждым новым периодом Вашей жизни, с каждой новой фазою Вашей души. Изменялись Ваши потребности, изменялась Ваша способность любить, изменялось земное воплощенье Вашего идеала любви.
Так, по крайней мере, понимаю Вас я, считая Вас своим братом, таким же, как и я –
Сегодня мне все как-то тяжело и больно. Окружающее противно. Будущее темно. Какая-то усталость, горечь, мрак. Утром я получила письмо от René – милое, спокойное письмо, где он говорит мне о своих делах, о новой пьесе, в которой он играет, о моем приезде, который будет для него таким счастьем. И – Вы не можете себе представить, до чего меня возмутило это письмо. Он так спокоен, он знает, что я существую, что я его люблю, знает, что рано или поздно я буду его женой – чего же, в самом деле, ему волноваться? А между тем, и не смотря на то, что я прекрасно знаю, что подобные минуты уверенного бесстрастия у него редки, я почувствовала к нему какую-то дикую ненависть – и если бы Вы видели то насмешливое, злое, едкое, оскорбительное письмо, которое я ему написала, Вы удивились бы (не Вы, впрочем) той ярости, которая может иногда овладеть Вашей ласковой Лелли.
Завтра – завтра будет иное. Я не умею долго страдать. А сегодня мне было очень больно.
Вечером приехала мама. Одна мама. И когда я увидела, что она одна, я поняла, что все время ждала Вас, стараясь не ждать и не надеяться. И мне стало еще больнее. Так больно, что слезы невольно переполнили глаза и быстро-быстро одна за другой покатились по щекам.
Без мамы – я одна. При ней я еще «однее». Я выслушала ее рассказы о том, что было в Сабыниной (или не, по Вашему). В заключение она сказала: «Сережа[279] просит меня пожить у него подольше. Я ответила, что это зависит от того, как я устроюсь с тобою. Если ты решишься на что-нибудь, я поживу у Сережи до лета».
«Если ты решишься на что-нибудь», – это намек на мое безумное предложение поехать в Италию до конца июля, то есть до тех пор, пока папа не будет в состоянии сопровождать меня в Париж. Теперь я увидела, что это (Италия) было бы бесцельно и глупо, и что я просто физически не вынесла бы такого нового добровольного истязания. Или в Париж, или никуда. Я ничего не ответила маме, боясь ее расстроить. Пошла и легла на свою постель. Приходит мама: «Что ты, Люсик? Плачешь? Что с тобой?» Мама легла со мной рядом, обняла меня, стала гладить по голове. О как мне хотелось, как мне хотелось, чтобы она вдруг стала мамой, чтобы она не делала вида, что не знает причины моих слез, а наоборот заговорила бы о ней, чтобы она не старалась остановить моих слез, а дала бы им вылиться вместе со всей горечью, накопившейся в сердце, чтобы она прервала наконец эту ложь молчания, отдалившего нас друг от друга!.. Ничего. Фразы вроде:
«Ты бы почитала мне что-нибудь. Свои стихотворения – какие можно: Бальмонт говорит, что ты ему послала одно очень красивое»[280].
«А знаешь, Mme Бальмонт[281] знает Либертада…[282]»
Потом, наконец:
«Ну будет, деточка, умойся, потом поужинаем, потом я лягу, а ты мне почитаешь. Умойся, будь повеселей».
«Да, лишь бы вида неприятного не было!» – сказала я.
Мама засмеялась, не поняв, или притворившись, что не понимает. И действительно: какое кому дело до того, что мне нужно плакать, кричать, надорвать свое сердце, чтобы выбросить из него тяжелую глыбу печали. Лучше лгать, чтобы не было неприятного пустого места за ужином и заплаканного лица в доме! Я умылась, поправила волосы. Немного пудры вокруг глаз, чуть заметная улыбка – и опять девочка хоть куда! После ужина мама легла спать, а я стала читать ей вслух «Родину» Зудермана[283].
Теперь час ночи. Все спят. Я пишу с почти закрытыми глазами – больно.
Что Вы хотите в благодарность за Шелли?[284] Хотите положить мою голову к себе на плечо – и сидеть так, тихонько, долго
Спокойной ночи, мой милый Бамонт!
Сегодня на меня напала какая-то странная уверенность, что Вы очень скоро приедете. И мне кажется, что это будет очень хорошо.
Мне даже не придется посылать Вам этого письма. Ничего. Вы его прочтете здесь. Мама так мило вспоминает о Вас. Вчера я читала ей Ваши стихотворения, обращая ее внимание на те, которые мне особенно нравятся, подчеркивая и повторяя красивые места, и заставила ее согласиться, что ни у одного из русских поэтов, кроме Лермонтова, нет вещи мелодичнее «Ветра»[286], или «Волны»[287], или – ну, словом, у Вас есть много таких стихов, которые просто сводят меня с ума своею дивной гармонией. Они – мои, они мне так близки, что я даже не удивляюсь их прелести, а только замираю от счастья. Я часто, часто перечитываю, повторяю и во сне и наяву Ваши «Аккорды»[288] – в них есть что-то поразительное, это не простые звуки – каждое слово живет, в каждом слове какая-то заколдованная душа, неотразимо влекущая и волнующая. От последних трех строк мое сердце поднимается до горла, точно я слушаю слова какого-то магического заклинания. Только в этом стихотворении есть что-то, что режет мне ухо, – это –
Неужели Вы не находите в этом диссонанса? Гëте… «попал не в свое общество» среди других неподражаемых сравнений и эпитетов. И я не могу с ним примириться. Если бы он был в другом стихотворении, я бы посмотрела на него сквозь пальцы, но это, это – понимаете, в нем есть какая-то стихийная красота, Вы поете не о людях, а о духах, о гениях, которые действительно –
(О эта последняя строчка! Она моя!) Зачем же сравнивать одного из них с человеком, или хотя бы с другим подобным ему гением?
Няня совсем заболела, у нее инфлюэнца и доктор велел отделить от нее Жоржика, поэтому я сегодня целый день провела с ним. Его люльку перенесли в мою комнату, и я вместо колыбельных песен пою ему Ваши стихи – «Горный король на далеком пути», «Два голоса», «Тишину»[289]. «Тишина» лучше всего служит для этой цели. Как хорошо должно быть засыпать под чуть слышное –
Как мне хочется, чтобы Вы приехали!
Вы привезете мне «Огонь»[290], правда? «Огонь» и огонь.
Бамонт, Вы будете писать для меня? И не только хорошенькие стихи, не только милые, нежные песни?
Я хочу кинжальных слов![291]
Вот и у меня должно быть инфлуэнца. А тут еще третьего дня я целую ночь не спала из‐за Жоржика и все это натянуло мне нервы, как струны. Вчера перевела три Ваших стихотворения, и хотя мне это дается очень, очень легко, но все-таки то усилие, посредством которого я вырываюсь на мгновенья из корочанской атмосферы, изнуряет меня. Вчера к ночи во мне дрожала каждая жилка и казалось, что душа постепенно выливается через концы пальцев. – Знаете? –
«Только Вы можете заставить ее сделать такую работу»! Конечно, Бамонт: только Вы можете помочь мне заставить себя сделать такую работу, какую Вы мне предлагаете. Будьте только со мной. Помните, на другой день после Вашего приезда в Корочу я рассказала Вам о том впечатлении, которое произвела на меня наша встреча в Сабыниной, – с каким восторгом увидела я живого, родного человека после всей мертвой гнили, к которой мне пришлось прикасаться за последние полгода. Я сразу ожила, встрепенулась, стряхнула паутину с своих крыльев, стремительно окунулась в свой чудный светлый мир, по котором тосковала моя душа. Помните:
Смотрите, не отдавайте меня больше ни бабушке, ни Анне Евдокимовне, ни нотариусу, – ни всему елика суть корочанские твари!
Не могу никак решиться отправить это письмо по почте, все мне кажется, что Вы сейчас приедете.
А знаете, Ваше письмо, пересланное через князя[296], я получила только вчера, и даже позже, чем следующее, отправленное с нашим обратным нарочным! Вчера вечером прочла маме вслух половину «Пана». Вот кто «любит описывать природу!» А какой возмутительный перевод! Ваше предисловие – прелесть, жемчужинка![297] Как чудно Вы пишете прозой. Ну да на то Вы и мой Бамонт!
Моя подруга Ольга Лемпицкая[298] пишет мне «tu as de la chance d’avoir fait la connaissance de Balmont. Je ne sais pas comment tu fais pour connaître toujours des gens intéressants, même en vivant dans un trou, si j’ose parler aussi irrévérencieusement de Korotcha»[299]. Я даже рассмеялась – ведь, si j’ai de la chance[300] – это не потому, что Вы Бальмонт, а потому, что Вы мой Бамонт. Правда?
Приезжайте скорее. Привезите «Огонь» непременно, мне кажется, что я его хорошо переведу – я его так люблю.
А с другими поэтами мне надо еще познакомиться, ведь я их так мало знаю.
Сейчас я сделала лицо Медузы. У меня на столе зеркало и я часто делаю всевозможные лица. А странно, что в разговоре с людьми я не умею composer ma figure[301] нарочно. Иногда это могло бы быть мне полезным, правда? Ну да ничего, раз все меня и так любят. Сегодня я буду валяться. Мне хочется, чтобы кто-нибудь носил меня на руках.
Accords[302].
Le 19 février.
Бамонт, Вы меня забыли!! Ай-ай, какой гадкий Бамонт! А я все время с Вами. Правда «Аккорды» очень хорошо переведены? Ну похвалите-же! Если бы Вы знали, сколько сил у меня является, когда меня хвалят, и какой хорошей я делаюсь, когда меня любят!
Знаете, я так и не получила от René письма для мамы – как странно, что пропало именно это письмо! Вместо этого я взяла да сама написала маме все, что передумала за последнее время. Жду благоприятной минуты, чтобы дать ей прочесть это письмо. А то говорить слишком трудно, она так расстраивается. Как Вы далеко, Бамонт! Вот я уж и не знаю, интересуетесь ли Вы тем, что я рассказываю! Любите подольше Вашу Лелли. Приедете?
Многоуважаемый Константин Дмитриевич,
Я почувствовала к Вам величайшее уважение после того, как Вы перестали мне писать, после того, как Вы даже с Вовой не прислали мне ни одной строчки, противный, противный Бамонт! Вчера – но нет, подождите, вот что: Вы получили мои последние переводы? Если да, то сейчас же, не дочитывая этого письма, ради Бога, возьмите «Опричников», зачеркните 2 последние строчки и напишите:
И не сердитесь за то, что сначала я перевела это так наивно – просто такой оборот пришел в голову и я написала его, не долго думая. Точно так же в «Аккордах» нужно поставить «Appels d’étendards écarlates, promesse de gloire aux puissants». Правда?
Да, ну и вот вчера приехал Вова и взволновал наше затишье, стал рассказывать о сабынинской жизни, о бабушке – и ужасно много о Вас, – он и мама Вас очень полюбили. И от Вовиных рассказов мне стало так скучно, так скучно без Вас. Мама все говорит, что по рассеянности как-то слабо приглашала Вас сюда, но рассчитывает, что это не помешает Вам приехать. Этот нарочный посылается для того, чтобы вызвать сюда Володю Алферова по делам. Скоро приедут тетя и бабушка и начнут собираться в путь. Мама просит передать Вам, что если наш «кавардак» не пугает Вас, то она очень будет рада, когда бы Вы ни приехали – при Вас ведь здесь никто не стал бы стесняться заниматься своими делами, а моим главным делом было бы занимать Вас! А если Вам противны шум и суета, то мама даст Вам знать, как только они прекратятся.
Словом, поступайте, как хотите. Мне страшно хочется видеть Вас поскорее, а суета может продлиться еще 2 недели. Но с другой стороны – какое же Вам удовольствие выслушивать еще больше, чем писк Жоржика? Боюсь звать. От Соколова уже пришли брать письма для нарочного, и я спешу, хотя мне нужно было бы много-много рассказать Вам. Мама и Вова шлют поклоны Вам и Екатерине Алексеевне, передайте ей и мой искренний привет. Если не хотите приехать, Бамонт, то хоть пишите, по крайней мере. Я Вас очень люблю.
Сегодня утром явился Соколов и стал усиленно звать нас к себе на блины. Вова болен и не решился выходить из дому, а я махнула рукой на свою лихорадку и поехала с мамой. Я, по правде сказать, ужасно люблю бывать у Соколовых – у них все так спокойно, так чисто, так пахнет стариной – но стариной хорошей, сохранившей какую-то трогательную свежесть, и сами они такие милые, добрые старички. Я когда-то показывала Вам их домик; он стоит недалеко от тюрьмы и они никогда не открывают ставней у тех окон, из которых может быть видно это отвратительное зданье. И вот, после блинов, мы сидели за чаем в одной из крошечных беленьких комнаток, увешанных иконами и уставленных растеньями. В маленькие окна вливались целые потоки золотых лучей и выгон так и лоснился всею огромною скатертью тающего снега. Я смотрела вокруг себя и думала о том, как я люблю все, все, решительно все – и громадное добродушное лицо Соколова и кроткие участливые глаза его жены, и эти скрипучие телеги на выгоне, и вазу с яблочным вареньем, которое пронизывающие лучи превращают в груду прозрачных янтарей, и даже яркие лубочные портреты государя и государыни над черным клеенчатым диваном. И мне пришло в голову, что Вы непременно, непременно должны побывать у Соколова, когда приедете в Корочу. – «А вот и наш нарочный», – воскликнул Федор Емельянович, глядя в окно. Через пять минут я читала Ваше письмо и еще больше любила весь мир.
Вы мой милый, хороший Бамонт. Мерси за то, что Вы хотите приехать только тогда, когда в Ваших мыслях не будет никаких посторонних, обязательных вещей! И потом, я буду совершенно здорова, а то сейчас Вы не можете себе представить, как меня истомило то, что я называю лихорадкой, для простоты, но что имеет еще какой-то другой нервный характер. Днем меня мучат разные мрачные мысли, к вечеру у меня делаются галлюцинации – все вокруг меня движется, все звучит, проходят тени, слышатся голоса, и все это – и мысли и звуки и призраки переливаются, как в калейдоскопе, освещаясь, то самыми черными, то самыми нежными, розовыми, голубыми, палевыми, серебристыми цветами.
René тоже болен, и знаете, сравнивая число его письма с датами моих стихотворений, я вижу – и уже не в первый раз, что он заболевает в те же дни, как я, и таким же образом, что в одно и то же время и почти в один и тот же час он думает то же, что и я. Правда, это странно? А раз, когда я была в Лозанне, ему приснилось или представилось ночью, что я лежала на постели в большой темной комнате, заложив руки под голову и открыв глаза. Потом встала, пошла в темноте в смежную мамину спальню, постояла там, стиснув пальцы, и вернулась обратно. Все это так и было на самом деле. Да и много таких случаев, не говоря уже о том, что стоит мне сказать «regarde!»[303] как он уже видит то, что я хочу ему показать, например именно ту чайку, в целой стае, которая почему-то привлекла мое внимание, или ту маленькую деталь картинки, которую я случайно открыла. А знаете, когда я с ним, мне это нисколько, нисколько не кажется странным. Ведь так и должно быть.
Бамонт, я ему все написала о Вас, и милый мальчик, он все понял! Бамонт, ведь Вам не скучно то, что я Вам рассказываю? Ведь я люблю Вас больше, чем мутно-зеленая обожательница Туллио! Я Вас люблю за все, и за то, что Вы меня любите, и за то, что Вы Бамонт, и за то, что Вы устали – о за это я прежде всего полюбила Вас, а потом уже за остальное!
Ну вот, слушайте отрывки[304]:
Lorsque tu m’as parlé d’un poète nommé Balmont, je savais qu’il allait t’aimer et j’attendais ta lettre avec impatience…
J’ai reçu hier tes trois lettres merci ma Lucy adorée – ta biographie ressemble énormément à ma vie. Merci de ta lettre – j’ai compris – je t’aime! Je bénis Balmont. Non tu n’es pas un démon, tu es toi tout simplement et je t’aime pour tout cela et telle que tu es. Balmont te fait voir cette vérité que je pensais depuis si longtemps et que je ne pouvais plus te dire: tu n’as pas le droit de nous priver l’un de l’autre. Cela seul serait un crime. Pas de pitié. Je t’embrasserais pour cette parole, Balmont! Il est de notre race, lui!
Ma Lucy, ma Lulia, écoute j’aime mieux t’appeler Lulia que Lucy tu veux bien, dis ma maman chérie. Je t’aime, démon, je t’aime de toutes les façons – je t’aime – et moi-même je suis démon comme toi et j’aime autant que toi-même ce démon qui est en moi. Reviens vite, Lulia, reviens vite. Je te jure que je ne deviendrais plus qu’un raté si tu prolongeais cette torture inutile et grotesque. Je t’aime ma Lucy non tu n’es pas folle, ni moi non plus. Nous serions fous si nous voulions aller contre la seule vérité vraie, la nature qui nous a faits l’un pour l’autre. Reviens je t’aime. Comprends-tu que si j’ai horreur des femmes autres que toi c’est parce que j’ai attendu que tu viennes, depuis des années. Ce n’est pas une femme que je cherchais, c’est toi. C’est toi que j’attendais, que je connaissais. Tous ceux qui t’ont aimée t’ont dit que jamais une femme ne leur avait donné autant que toi! Moi je ne te dirai jamais cela, ce n’est pas ainsi que je pense. C’est que les femmes ne m’ont jamais rien donné et je ne leur ai jamais rien donné. Toi tu es toi, je t’aime et voilà tout. Et je te donnerai tout et tu me donneras tout et je te veux comme tu me veux comprends tu?
Tu comprends maintenant quelle souffrance est la mienne? C’est que, vois-tu, pour un homme ce n’est pas tout à fait, tout à fait la même chose – et un homme qui agit, qui doit lutter pratiquement! Et puis il faut que tu reviennes. Cette douleur d’attendre a fini par influer sur moi physiquement. Depuis quelques temps j’ai comme une sensation vague, une douleur imprécise, il me semble que mon dos s’affaiblit, c’est une sorte de lassitude avec mal à la tête presque tout le temps. Je n’en souffre pas mais c’est une sensation presque constante et je sens très bien que cela vient de l’abus que nous faisons de cet éloignement. La lutte contre soi, le recroquevillement sur soi même tout cela est la cause – et je sens si bien que si tu étais là tout disparaîtrait. Je me sens si fort si souple dans le fond et pourtant je m’épuise peu à peu. Oh Lucy tu n’as pas le droit de me diminuer par une pitié injuste. Pour ne pas faire de la peine à ceux qui ne comprennent pas il ne faut pas sacrifier ceux qui comprennent et qui boivent la vie dans votre parole, dans votre regard. J’ai mis toute ma force en toi, tu ne peux pas m’abandonner. Balmont a raison. Et puis il me semble que tu peux revenir maintenant, puisque nous attendrons, voyons, mais au moins nous attendrons ensemble!
Почему и для чего я Вам пишу все это? А потому, что я Вас люблю, и для того, чтобы Вы знали все обо мне.
А Вы знаете, что то письмо, которое René прислал мне для мамы, просто-напросто застряло в руках нашей достопочтенной бабушки? Какая мерзость, правда? Мама и Вова сами заметили это по всему бабушкиному виду и настроению. Да ведь ей это не в первый раз!
Ну ничего – я говорила Вам, что сама написала маме обо всем. Теперь она все знает, но еще не разговаривала со мною, тут ведь опять поднялись истории из‐за судебных дел[305]. Я сказала маме, что Вы знаете все. Что-то будет?
Папа написал мне письмо полное упреков, в ответ на то, в котором я сказала, что не поеду в Италию и вообще не имею ни одного желания, кроме как ехать в Париж. Посмотрим, что скажет мама. Как я рада, как я рада, если бы Вы знали, что я хоть разрушила эту отвратительную преграду молчания, ставшую между ней и мной!
Ах как мне нездоровится. Вчера я писала Вам с такой поспешностью и рассеянностью, что забыла вот что: конечно нужно переменить так
Я пока ничего больше не переводила. «Пана» прочла. Чистая-чистая капля росы на душистом цветке. Радость в тревогах и в самой смерти нет печали. Нет рожденья, нет смерти, все безначально, все бесконечно, все прекрасно в светлой безбрежности природы. Вот эхо того слитного аккорда, который прозвучал в моей душе. Я могла бы анализировать его по нотам, но не хочу прикасаться к его стройной гармонии.
Вова спросил меня с наивным удивлением: «Отчего это ты не читаешь мне писем Бальмонта?» – «Оттого, что между нами есть две великих тайны!» – ответила я полушутя. – «Ну, дай! Я их никому не открою!» – «Ну нет, шалишь!»
Господи, как у меня болит голова, а я все пишу и пишу!
Мерси за книгу – я рада буду прочесть хорошую биографию Шелли[306]. Сейчас попробую читать. Милый Бамонт, и Вы также больны? Я Вас так люблю, так хочу обнять Вас и тихонько, нежно поцеловать, чтобы Вам стало лучше. Отчего это неприлично? Отчего люди так глупы, что находят это неприличным? Вы бы ведь подумали, что это совершенно естественно и хорошо? И я тоже – и René тоже, а еще? Как мало людей, которые поняли бы это!
Раз летом, в горах, я очень подружилась с одним симпатичным и красивым молодым человеком. Он стеснялся говорить с другими, а мне открыл все свои мысли, планы, мечты и я стала очень близка к нему, а он был очень одинок, несмотря на внешний вид, представлявший скорее обратное. Раз мы с целой компанией барышень и молодых людей расположились на отдыхе у крошечного сапфирно-синего горного озера. Я лежала на дне опрокинутой лодки, греясь на солнце. Он сидел невдалеке. Его в шутку стали называть le Bébé de Lucy[307], находя, что я отношусь к нему по-матерински. И вот я увидела, что у него грустное-грустное лицо и спросила, что с моим Bébé. Он переменил выражение и полу-комичным тоном ответил: «Bébé est triste, Bébé va pleurer parce que sa petite maman ne l’embrasse jamais!»[308] За его шутливостью звучала томительная жажда ласки. Я притянула к себе его голову и поцеловала. И, Боже, сколько разнообразных впечатлений увидела я в глазах окружавших! Бывший с нами молодой английский clergyman[309] сказал «Ooh!» и согнал муху со своего носа. Толстый, белокурый Paul Heubi[310], развалившийся на траве, сделал масляные глаза и засмеялся, как бы говоря, – «Так вот она какая!» Затянутая в рюмочку Marthe N., прерывая объяснение, которое давала Paul’ю насчет удобства альпинистских панталон для дам, прищурила глаза и воскликнула, – «Tiens, tiens! Cela devient sérieux!»[311] Томная fräulein[312] Helene молча бросила камешек в воду. Простодушная и сантиментальная Lily несколько минут спустя спросила меня в ужасе: «Lucy!!! et que dirait l’autre? S’il savait!!!» – На что я ей ответила смеясь: «L’autre le saura après demain, chérie, parce que je lui écris tout. Mais sois sûre que même en me voyant faire ce que tu trouves si terrible il ne répondrait que par un sourire d’approbation!»[313] На лице бедной девочки отразилось полнейшее недоумение, при виде которого ее сестра Jeanne улыбнулась с сознаньем своего превосходства, возразив: «Mais bien sûr, qu’est-ce que cela peut lui faire s’il a confiance en vous! Seulement, Lucy, avez-vous pensé au jeune homme, à Francis? De quelle façon peut-il interpréter votre manière d’être avec lui? Un cœur de 25 ans est si vite enflammé!» – «Soyez tranquille, ma chère Jeanne, Francis me connaît assez pour ne pas prendre en mal mes intentions. Et puis, voyons, quand donc aurez vous fini de me sermonner, je vous prie?»[314]
Бамонт, Вы не находите, что я злоупотребляю Вашим терпением, рассказывая Вам всякую ерунду, которая мне – passe par la tête[315] (хотела сказать «проходит через голову»). Написала несколько фраз по-французски и стала запинаться в русском. Я ужасно быстро разучиваюсь. Осенью, когда я приехала в Россию, я писала очень наивно по-русски, а говорила и того смешнее, а теперь стала прилично изъясняться по-русски, но зато перезабыла английский, немецкий и итальянский, так что мне даже стыдно, когда говорят о моем знании языков. Если бы кто-нибудь внезапно заговорил со мной на одном из них, я растерялась бы до глупости. Только французскому не совсем разучилась благодаря письмам к René и потому, что я с давних пор думаю по-французски. Но теперь я не забуду и русского – я его очень полюбила из‐за Вас, Вы «изысканность русской медлительной речи!»[316]. Право, Вы заставили меня впервые понять красоту нашего языка!
Опять 2 страницы пустяков. Не сердитесь, так я могу писать только René и Вам, следовательно, это доказательство моего высшего расположения! Да и потом ведь это немного вентилирует Ваши мысли, отягощенные всякими переводами и корректурами, правда?
Ну, до свидания. Ваши стихи про солнце хорошие[317].
Ну вот, я взяла у Вани «Журнал для всех» и прочла в нем несколько стихотворений Гиппиус[318], которые мне не понравились. Все-таки перевела одно из них. Скажите, где мне достать произведения Лохвицкой[319], Гиппиус, etc.? Если у Вас есть что-нибудь в этом роде – пришлите, я Вам возвращу их в целости. А то – выписывать не знаю откуда, не знаю, стоит ли и буду ли я их переводить, и что именно. Мне сначала нужно проникнуться духом автора, а потом уже переводить! Мне все нездоровится, а Вам?
Вчера отправила Вам претолстое письмо. Это не значит, что мне сегодня не о чем болтать, но я спешу отправить это письмо на почту, а то и так уж с этой почтой возмутительная канитель.
Нового у нас ничего. Ждем кого-нибудь из Сабыниной сегодня. Скоро ли Вы окончите Ваши работы? Пишите же, Бамонт! И пришлите «Огонь», а также и какой-нибудь сборник другого поэта, если хотите, чтобы я, не охладев, принялась за дело. Вас пока перестала переводить, потому что Вова ежеминутно выводит меня из нужного для этого настроения своими шутками и разговорами. До свидания, мой Бамонт.
<Приложение к письму>
Христу[320]
À Baudelaire[321]
Я только что перевела это и спешу послать Вам, хотя очень может быть, что еще что-нибудь исправлю. У нас ничего нового. Начинаются сборы и суета невыносимая. Знаете, Бамонт, лучше не приезжайте, а подождите, пока я приеду в Сабынино – это случится недели через две вероятно. Или даже раньше. А то здесь настоящий ад и я буду страшно занята. Минутка, когда я могу сосредоточиться на своих мыслях, быть с René и с Вами и с собою, является для меня необыкновенно редким счастьем! Пишу, может быть, холодно и сухо, Бамонт, но это от торопливости, Вы знаете. Отчего нет писем от Вас? Уж не больны ли Вы? До свидания, не забывайте Вашу Лелли.
Бамонт, почему Вы мне не пишете? Надеюсь, что Вы не больны, и еще более надеюсь, что Вы не забыли меня. Вчера я послала Вам с Володей перевод Вашего стихотворения к Бодлеру, и вчера же Вова стал приставать ко мне, зачем я не отдам напечатать ни одного перевода. Так что я по его совету послала в Revue Blanche[322] чуть-чуть исправленные стихотворения: «Опричники», «Я устал от нежных снов», «Аккорды» и к Бодлеру. Хорошо я сделала?
Сегодня у нас в доме страшный кавардак: укладывают мебель для отправки в Петербург и я принимаю в этом самое деятельное участие. (Ого! явилась докторша. Слышу из зала ее лягушачий голос.) Едва нашла минутку, чтобы написать Вам, но не знаю, что и говорить – перед глазами все еще тюфяки, рогожи, веревки и т. д.
Вова едет с тетей в Сабынино завтра. Оттуда тетя с бабушкой, вероятно, поедут в Харьков, потом опять сюда, и как только сборы будут окончены – в Петербург. О наших делах у меня с мамой еще не было разговора, но она, очевидно, собирается пожить несколько недель у Сергея Петровича[323] и рассчитывает увидеться с папой, который, может быть, приедет туда на Пасху. (На Пасху!!!) Боже мой, Бамонт – у меня не хватает терпения. Сегодня ночью я ревела, ревела как безумная. И каждую ночь я реву. До истерики – мне все здесь так ненавистно, так опротивело – если бы Вы знали! Я вспоминаю о том, что я делала в прошлом году в это время в Париже. В марте – я была уже так счастлива предчувствием René. Боже, я никогда, никогда не была так счастлива, как в Париже, от января до августа прошлого года. О, как могла я уехать, сама, сама согласилась бросить счастье – и для чего? Принесла ли я этим счастье хоть маме? Нет. А теперь – мучиться еще месяца 2–3, терзаться бесполезно томительными разговорами с мамой, с папой – и главное, главное знать, что René страдает, утомляется, охладевает к своему делу. О, как я была бы рада сразу покончить, порвать со всем этим, уехать с Вами! Я даже поговорю об этом, хотя знаю, что на маму это может навести дикий ужас. И потом, наверно, будут говорить о моей жестокости, о том, что я не дала им успокоиться, поразмыслить, «а они несомненно сделали бы все для моего благополучия» etc, etc. К чему все это!
Сейчас получила письмо – от мамы. Ответ на мое. Не легче. Она расстроена, устала. Она считает меня влюбленной, опьяненной, страдает за меня, боится, что я попаду в неволю, что René «запряжет» меня как-то и вместе с тем она находит, что в нем нет «черт мужественных». Я не понимаю таких противоречивых взглядов: раз у него нет силы и мужественности, то как же он может поработить меня? Впрочем, ведь мама думает, что это «физическая потребность любить шутит со мною шутку», что я «влюблена в созданный мною образ». (Если бы даже и так – то что же делать?) Мама говорит, что при нем я теряю голову и ставлю ее, маму, ни во что. Что она не удержит меня от решительного шага, могущего наложить на меня вечную цепь. Что я не даю ей никаких гарантий. Что папа, кажется, не отказывается поехать со мною в Париж в конце лета… Что при всем этом она понимает, жалеет и любит меня и всеми силами желает помочь мне. Впрочем, нет, не помочь, а спасти!
Боже! Ну что из всего этого будет? Доказывать ей, что она ошибается в René – бесполезно ввиду отсутствия осязательных доказательств. Остается ждать папу? Но папа такой человек, который и при осязательных данных не отрешится от предвзятого мнения – а это мнение у него аналогично с маминым, так как основано только на ее рассказах.
Сейчас попробую еще написать маме.
Милый Бамонт, merci за то, что я могу говорить Вам обо всем!
Написала маме много-много. Она должна понять. Но теперь уже 3 часа ночи. Иду спать. Хоть бы завтра было письмо от Вас, Бамонт.
Страшно спешу. Бамонт, мама говорит, что я ужасно глупо сделала, что посоветовала Вам не приезжать. Наоборот, если бы Вы могли приехать теперь, пока не будет бабушки и тети, а следовательно и суеты, – Вы сделали бы нам не только удовольствие, но и услугу, потому что Ваше присутствие успокоило бы нас, дало бы нам возможность прийти в себя, etc, etc. Объяснять очень долго, но одним словом – Вы нам нужны и именно Вы. Мама и Вова в один голос пристают, чтобы я хорошенько написала Вам об этом и я от себя и для себя очень прошу Вас приехать. Завтра с обратным извозчиком – ведь очень удобно?
А Ваши дела – разве нельзя их отложить? И вовсе Вам незачем ехать за границу прямо отсюда. Разве Вы уже совсем не хотите видеть нас еще в Сабынине?
Стихи Минской[324] ничего себе, но, знаете, они почему-то страшно напоминают мне одну тифлисскую вывеску: «Не уежай галубчик мой, а заежай павеселица в садек мой!»[325]
Ну так что же – заедете Вы в наш корочанский «садек»? Смотрите, ведь по этому я могу составить себе понятие о степени Вашего расположения к нам!! Бегу укладывать всякие штуки.
До свидания – жду.
Мама и Наташа Вам кланяются и тоже ждут.
P. S. Место, во всяком случае, будет и кровать найдется. В гостиницу не ездите ни за что – это будет неудобно.
Бамонт, милый – простите, что буду писать скверно, у меня страшно болит голова. Я для того и пишу, чтобы побыть с Вами, отдохнуть. Для меня такое горе, что Вы не приехали сегодня, да еще вдобавок, что вместо Вас приехали бабушка и Катя[326], привезшие массу неприятностей. О эти отвратительные, отвратительные Лазаревские дела[327]. Если на меня они так сильно действуют, то маму они должны просто убивать.
Бамонт, дорогой, Вы были нам так нужны, мы обе отдохнули бы с Вами. Господи, как у меня болит голова. Я пишу почти с закрытыми глазами. Вы говорите, что со стороны мамы – преступление задерживать меня с собою. Нет, Бамонт, не преступление, и совершенно естественное проявление материнской заботливости, étant donné[328], что она считает René недостойным меня, и боится, что я сама увижу это, но увижу не раньше, чем сделаю непоправимый поступок.
В своем втором письме я старалась доказать ей, что при несомненной аналогичности моего характера и моих суждений с ее, невозможно, чтобы я любила человека, которого она имела бы полное основание считать тем, чем ей представляется René. Одна из нас должна ошибаться и при более серьезных исследованиях ошибка должна исчезнуть и наши мнения должны слиться в одно. Для этого нужно только, чтобы мы подошли поближе к René и взглянули на него без parti-pris[329], как подошли бы взглянуть своими глазами на картину, о которой мама слышала только дурное, а я только хорошее. «Дай мне гарантии, что ты не потеряешь головы». Я могу только обещать притвориться холодной, быть сдержанной – и я уверена, что исполню это обещание для своего собственного счастья, которое было бы неполным, если бы я признала себя бессильной доказать маме ту истину, в которую я так сильно верю.
Я написала все это маме и прибавила, что если она все же откажется ехать со мною в Париж, то пусть она отпустит меня туда с Вами. (Это, должно быть, произвело на нее впечатление чего-то чудовищного. Не думаю, чтобы Вова об этом говорил с Вами. Неужели?)
Ждать папу – бесполезно, тем более, что он и при наличности самых убедительных фактов может не пожелать отказаться от предвзятого мнения. Он такой.
Бамонт, если Вы любите Вашу маленькую Люси – останьтесь в Сабынино до нашего приезда. Никто не может мне заменить Вас, и Вы мне так нужны. Мы приедем – самое позднее – через 2 недели.
«Огонь» перепишу, но перевести, вероятно, не буду в состоянии, пока не прекратится суматоха. Если бы Вы знали, какой у меня безумный вид – щеки горят, глаза блестят, под глазами сине-лиловые полукруги, – все зеркало пылает от моего отраженья.
Но это ничего. Мне противен только несчастный вид, а безумный – ничего. René говорит: «Oh comme je plains les faces douloureuses qui traînent leur misère aux deux coins de leur bouche! Faces flétries, faces de vaincus, étoiles éteintes et rampantes, qui jamais ne remonteront, qui jamais ne luiront, jamais ne connaîtront l’éther pur du réel, jamais ne comprendront que l’Amour est le prix d’une montée sans trêve vers la Beauté, que seuls peuvent s’aimer au-delà du temps ceux qui vivent au-delà du temps. Mon amie! qu’importe la mort des choses si nos âmes ont reçu l’Amour éternel»[330].
Милый! Если бы Вы знали, как меняется его лицо, когда он так говорит или пишет. Мама думает, что он только говорит, но я знаю, что в такие минуты он, при известном стечении обстоятельств, может совершить подвиги, достойные не только героев, но богов.
И он всегда живет, его мысль работает неустанно, тысячи выражений сменяются в его темных глазах и даже странно поражает при его жизнерадостности грустная глубина его взгляда.
Недавно, в солнечный весенний день, он писал мне, сидя в Café de France: «Oh la vie avec toi, la vie pure et intense. Mes poings se serrent et je sens ma force. Avec toi je suis invincible – je veux! Je suis préparé à tous les ennuis, à tous les déboires. Ils glisseront sur nous parce que nous nous aimons. Je suis sûr de la victoire parce que toujours on est vainqueur quand on comprend et quand on est nous. Je voudrais hennir comme les chevaux!»[331]
Если он «не то, что я воображаю» – то все же он любит меня так, как я хочу. Значит он ошибается во мне? А это невозможно. Да и за одну его любовь я буду любить его всю жизнь, потому что он весь в этой любви. Как ни верти – нельзя даже предположить, чтобы он был не он.
Бамонт, если даже я отброшу в сторону мысль о маме – я ведь не могу уехать: 1) я несовершеннолетняя и представляю из себя собственность моих родителей! 2) у меня нет денег. А главное – я не могу оставить маму в ее заблуждении. Я ненавижу все ложное. Милый Бамонт, сделайте так, чтобы мама поехала со мною!
Боже, как долго идут письма к Вам.
Смотрите – я вчера перевела от скуки:
Mon Jardin[332]
Помните – я Вам как-то говорила, что написала René злое, оскорбительное письмо. Оно на него подействовало ужасно – я не могу рассказать Вам содержание его ответа, а посылать его Вам бесполезно – Вы не разберетесь ни в этом безумном почерке, ни в спутанном стиле. Если бы Вы знали, как я люблю его за все, и за его возмущение, и за его угрозы, и за то, что он говорит мне: «Folle, trois fois folle, qui ose me dire que je ne suis pas toi! Tu joues avec moi, c’est dangereux – car je t’aime, etc.»[333]
Но я вижу, что мы оба сойдем с ума, если так будет продолжаться. А с другой стороны – мама. Невозможность уйти.
Научите меня, что мне делать, Бамонт?
Катя зовет укладывать вещи.
До свидания. Не забывайте меня, мой Бамонт!
Мы собирались разъехаться в субботу 9го. Но вчера был ужасный, ужасный, трагический день всеобщего «примирения» (!!) Приезжал Дмитрий Петрович. Бабушка решила прекратить иск[334]. Сцены, слезы – ужасно. Весь день. Сегодня бабушка заболела. Насколько опасно – неизвестно. Доктор не знает, что будет. Наш отъезд может быть замедлен. Спешу писать. Лучше никому не рассказывайте об этой истории.
Неужели мы с Вами больше не увидимся? Вы так и бросите свою Лелли на произвол судьбы?
Ах, Бамонт, как тяжело.
Письмо René отдадите или отошлете после, правда?
До свидания – когда? Бамонт!
<Приписка сверху> Письмо Брюсову отправлено[335].
Бамонт, мой милый, дорогой, Вы, вероятно, уже дома. А мне еще не верится, что Вы были здесь и уехали. Мне казалось таким естественным Ваше присутствие, Ваша близость, я вовсе не думала, что это может прекратиться. А теперь я вдруг поняла, что Вас здесь нет и что я многого, многого не досказала Вам. И сейчас я не соберу всех мыслей, но вот, слушайте главное из недосказанного.
Вы спросили меня вчера – неужели René понимает наши отношения? Помните, я ответила, – «Н-да!.. Понимает, понимает!» Так вот, теперь я объясню Вам, почему «н-да…», а не «да!»
Когда я рассказала ему всю историю Вашего первого пребывания в Короче, – он понял и принял это просто и естественно. Но, помните, после Вашего отъезда я слегка заболела и впала в какое-то горячечное, безумное настроение, стала писать ему сумасшедшие, злые письма, точно в бреду, написала «L’éclat du jour blesse mes yeux»[336], и т. д. Все это, очевидно, повлияло на него, тем более, что и он был нездоров в то время, и его взгляд на вещи временно изменился (для меня совершенно понятным образом). Вот, что он пишет мне в своем последнем письме:
«Ta conduite dans cette affaire est irréprochable et vraie, car tu as agi selon ta conscience; je l’ai compris et je partage le sentiment qui t’a fait agir. Pour Balmont – je comprends son sentiment. Il est juste qu’il l’éprouve, puisque moi aussi je t’aime! Je me mets à sa place et je comprends. Mais… (réflexion absolument personnelle et que tu peux fort bien ne pas admettre) pour moi, me trouvant en face d’une jeune fille, sachant que cette jeune fille est une femme supérieure, sachant que cette femme est la fiancée d’un autre, je concevrais pour cet autre une grande estime. Donc, je considérerais cette jeune fille comme sacrée (etc) – ou alors c’est que je ne respecterais nullement cette jeune fille ni son choix d’un homme qu’elle aime, et que ses décisions à elle n’auraient aucune valeur pour moi puisque j’admettrais à priori que l’homme qu’elle a choisi est incapable de la rendre heureuse – c’est un dilemme. Maintenant, écoute moi, ma chérie adorée plus que tout: Si Balmont t’a fait comprendre certaines choses, il a eu raison – et il a eu tort car ne considérant que son désir il a eu moins de respect des choses que tu ignores. Il a brusqué certaines sensations pures, certains sentiments de jeune fille, il a amené chez toi une crise peut être douloureuse et c’est pourquoi je dis qu’il ne t’a pas aimée pour toi. Rappelle-toi notre premier baiser – jamais je n’aurais osé le donner si je n’avais compris que toi-même le désirais autant que moi – c’eût été pour moi un sujet de remord éternel. Il parait que les hommes mariés 2 fois ont moins de scrupules, moins d’expérience et moins de respect»[337].
Ведь это правда, Бамонт, Вы должны сознаться, что действительно не считались со мной – ведь Вы понимаете René, да? А я ему ответила вот как – переписала весь Ваш диалог с Вовой; в нем так видна суть Вашего отношения ко мне. А затем – постараюсь точно вспомнить даже слова, какими я это выразила: «Quant au „côté physique“ de la chose, voici comment je l’explique: il m’est arrivé parfois, lorsque j’étais en extase devant la beauté d’une fleur, de presser mes lèvres sur ses pétales. Je savais que la fleur ne répondrait pas à mon baiser, qu’elle n’en avait pas besoin, qu’elle appartenait à un autre monde – et pourtant je l’embrassais sans faire attention à ne pas froisser le satin des pétales. Et le froissais-je réellement? Je ne sais pas. Voilà. N’est-ce pas?»[338]
Правда, Бамонт? Ведь Вы понимаете и меня и его? А он – он теперь еще лучше поймет Вас. Сегодня я рассказала ему о Вашем втором приезде, о нашем вчерашнем разговоре до 3-х часов ночи. Вы были такой хороший, милый Бамонт. Я чувствовала в Вашем взоре, в Вашем возмущении против мамы, против моей собственной медлительности, гораздо больше любви, чем в Ваших поцелуях. Так целовать Вы можете всякую женщину, – так бескорыстно страдать Вы можете только за бескорыстно любимого друга. Бамонт, дорогой, милый Бамонт, мерси! Я Вас так люблю!
«Tu n’aurais pas dit que je n’étais pas sacrée pour lui»[339]. Да, теперь он поймет, мой глупенький мальчик! А знаете, Бамонт, я так рада, что он не совсем сразу понял!! Бамонт, Вы его увидите – любите его, для меня, Бамонт! Он – я. Бамонт, расскажите ему, какая я, как я хожу, двигаюсь, говорю. Вот я знаю, какой Вы, а когда Вова приехал из Сабыниной и стал рассказывать о Вас всякие мелочи, мне было так приятно, точно я сама Вас немножко видела.
Говорите с ним обо всем, не стесняясь, как со мною. Он знает все, что я знаю о Вас, и все, что Вы знаете обо мне (одну капельку не все, что Вы знаете. Но Вам не догадаться, что это за капелька!). Напоминаю Вам, что он живет у своего товарища (а товарищ живет со своею сестрою – не примите ее за кого-нибудь другого). Утром Вы, вероятно, застанете его на Rue Rennequin, а в остальное время в театре. Ах Бамонт, Бамонт, как я рада, что Вы его увидите. Почему это Вы не радуетесь этому со мною? Ведь Вы же увидите другую часть меня – второе panneau[340] двухстворчатой картины. Вы будете вместе – он и Вы – для меня это почему-то имеет громадное значение.
Я еще не говорила с мамой. Все время отправляли багаж на Прохоровку, а сейчас сидит какой-то гость.
Мне нездоровится.
Знаете, Бамонт, я, по Вашему совету, хотела запереть свою шкатулку и – вспомнила. Я вообще имею какой-то не то страх, не то отвращение к деньгам, – но эти маленькие, блестящие розовым отливом, скользящие между пальцев монетки произвели на меня иное, странное впечатление, которого я не умею объяснить Вам. Потом я подумала: «Это деньги Бамонта, и мои, и René, наши!» – и мне стало так хорошо и весело! А мама пришла бы в ужас. Странно, странно.
Я люблю Екатерину Алексеевну, Бамонт, и мне кажется, что я ее верно представляю себе. Я сегодня писала о ней René и прибавила, что мне кажется неизбежным, что Вы возвратитесь к ней, как возвращается в родную пристань корабль, уставший от ужасов и радостей борьбы и бурь. (Извините за сравнение, если оно покажется Вам банальным.)
Завтра напишу Вам еще, если будет возможность. Хочу читать Случевского[341] и увлечься каким-нибудь стихотворением для перевода. Ах вот что – в «Воззвании к Бодлеру» переведено так:
Как Вы это находите? Это в последнюю минуту перед отправкой Натансону[343] подсказал мне Вова. Тогда я не размышляла. Теперь мне это очень нравится, придает более мистическую окраску, не правда ли?
Знаете что, мне еще ужасно нравится в моем переводе
В этом lli и flûte и во всей строчке что-то весеннее, мелодичное, легкое. Да, еще вот что:
А то «céleste accord» – как-то избито. Ну, будет с Вас моего писания!
Катя собирается ехать завтра, и я дам ей бросить это письмо на станции. Бабушке не лучше и с мамой я еще не могла поговорить. Перевела 1 стихотворение Случевского и половину «Огня». Завтра напишу Вам еще. Без Вас больно и скучно. Бамонт! Столько хотелось бы еще сказать Вам – но не так, не словами, не письмами. Пишите скорее Нетти и Дагни и Скирмунту[346], чтобы за компанию пусть и мне досталось строчек десять!
Бамонт, сию минуту я говорила с мамой. Опять – «не знаю, не знаю, не знаю», – но я добилась более или менее категорических ответов.
1) Она хотела бы дать мне возможность «отрезвиться», хотела бы поехать со мною в Париж, но не может придумать обстановки, при которой она же сама своим мучительным сомненьем, своим страдальческим видом не была бы помехою этому отрезвлению и не ускорила моей гибели. Ждать папу – мало помощи; взять Ясю[347] – тоже. Словом, она не знает, не придумает etc.
2) Но удерживать меня она не хочет, и с каждым днем все больше убеждается, вместе с папою, что нужно оставить меня на произвол судьбы и моего собственного заблуждения. «Пиши папе, пусть пришлет тебе заграничный паспорт. Я вынуждена ничего не иметь против этого. Решай, решай по своему, и за себя и за меня… или только за себя».
Ну вот, Бамонт, это главное. Остальное – запутанная паутина мыслей, чувств сострадания, боли, непонимания. Ах, как я устала.
Ну вот, Бамонт, что я думаю делать. Как только доставлю бабушку в Петербург и получу паспорт (если папа захочет), то поеду в Париж. Если мама до тех пор найдет возможность создать себе «подходящую обстановку» и поедет со мною – я буду счастлива. Если нет – уеду одна, что ж делать.
Поговорите с René о том, как достать денег – но только в том случае, если мои родители не предложат мне этого сами.
Пожалуйста, Бамонт, дорогой, устройте еще, чтобы я могла на первое время поселиться одна, самостоятельно – это еще для мамы.
Иначе я не буду спокойна. Бамонт, ведь Вы мне поможете? Ведь я все-таки еще не очень взрослая особа, и для меня это довольно сложно. Во всяком случае, поговорите хорошенько с René обо всем этом. Хоть бы застало Вас это письмо. Простите, что плохо пишу – голова разламывается от боли. Поцелуйте меня над глазами, мой милый Бамонт, не оставляйте Вашу глупенькую Лелли, которая еще не достигла сверхчеловеческого бесстрастия и еще не умеет причинять боль сo спокойным сердцем.
Вы, может быть, и не знаете, Бамонт, как много Вы для меня сделали и как Вы мне нужны? Как мне нужна Ваша любовь.
Мой дорогой Бамонт. Я успела написать Вам в Сабынино только одно письмо, в котором говорила о своем разговоре с мамой. Получили ли Вы его? Хотелось бы чаще и лучше писать Вам, но – знаете ли Вы, что значат болезни окружающих, нестерпимые капризы бабушки, недоспанные ночи, etc? Все это доводит просто до отупления. Бабушка поправляется страшно медленно, Наташа же совершенно здорова, и так как ей нужно поскорее поступить в петербургскую гимназию, то очень может быть, что мне придется везти ее туда, оставив маму с бабушкою еще на некоторое время в Короче. В таком случае мы поехали бы через Прохоровку и мне, к самому искреннему сожалению, не удалось бы познакомиться с Екатериной Алексеевной. Когда будете писать ей, скажите, что мне хотелось бы поцеловать ее от всей души, как милую, добрую сестру.
Бамонт, неужели Вы через неделю уже будете в Париже? Мама, сейчас же после нашего разговора, написала папе, прося его выслать мне заграничный паспорт, и я сама написала ему о том же. Посмотрим, как это все устроится! Ну, право же, я сама никак не могу думать о каком бы то ни было устройстве. Вот сейчас у меня явилась надежда, что скоро я увижу René и все уладится – и вот мне уже так весело, так хорошо, что, кажется, лучшего ничего и не может быть! А между тем, как только нужно будет вновь рвануть цепь и сделать маме больно – ах, как страшно даже подумать об этом! Теперь мама спокойнее, чем когда бы то ни было и очень мила со мною, но что будет дальше? Я все-таки не робею, не думайте! Только – ах, эти проклятые деньги! Будь у нас деньги, René мог бы приехать за мною в Петербург, тогда мне было бы легче, тогда и мама бы может быть поехала с нами…
Да, вот еще что, Бамонт: Вы пишете об «авансе за мою работу» – нет, не надо, Бамонт, это было бы такою тяжестью для меня. Ведь я же еще ничего не сделала! Если бы Вы были миллионером и дали мне эти деньги просто так– я бы их взяла нисколько не смущаясь, – но как аванс за неисполненную еще работу – неловко и стыдно. Вдруг эта работа так и останется недоконченной. Вы знаете, что я долго, долго, долго не смогу Вам возвратить этих денег и это будет мучить меня. Ведь у René и без того долги, которые я просто ненавижу, а тут еще был бы долг у меня. Ну да, словом, Вы знаете, я в деньгах ровно ничего не смыслю и очень боюсь их – они так пачкают и липнут!
Ах, вот что, Бамонт: представьте, что за ответ я получила:
La Revue Blanche
avec tous ses regrets de ne pouvoir publier la traduction, d’ailleurs excellente, des vers de M. Constantin Balmont[348].
Kêkça veut dire?[349] – Имеют ли они что-нибудь против Вас? Mlle Kahn[350] может быть напишет мне об этом. Да ведь Вы увидите ее отца – просто возьмите у него стихи (хотя я послала их не ему, а редактору Натансону) и поместите их в другой журнал, а лучше всего отдайте Malato[351], он прийдет от них в восторг и устроит, куда следует. Не забудьте, что Malato наш друг, непременно познакомьтесь с ним. Он – прелесть, несмотря на некоторые странности. Да неужели же Вы получите это письмо уже в Париже? А я буду в Короче? Смотреть в окно на топчущуюся в грязи рыжую корову? Между тем как Вы будете любоваться нежными молоденькими листьями каштанов на залитых солнцем Champs Elysées, или ехать на империале конки, над веселым движением и гамом Quartier Latin[352]. Ах, если бы Вы знали, как, даже независимо от René, я люблю Париж, как я всегда стремилась туда с детства, чувствуя, что там, и только там, ждет меня счастье.
И Вы будете разговаривать с René – как странно! – обо мне, а я буду тут. Ах, Бамонт, Бамонт, Бамонт! Будьте с нами всегда!
Вы любите René? Это больше всего беспокоит меня, почему-то! Потому что я не хочу потерять Вас, понимаете?
Вы будете говорить с René совершенно откровенно, правда? Совсем как со мною?
Вот что, Бамонт: Когда Вы увлечетесь кем-нибудь другим, Вы все-таки будете любить меня? Ну, конечно, разве можете Вы совсем разлюбить Вашу маленькую Люси? Большую – может быть и разлюбите (то есть Люси-женщину), а маленькую Лелли-Люси – никогда. Потому что ведь маленькая больше большой!
Бамонт, Вам весело, что Вы в Париже?
А мне, Бамонт, ужасно тяжело! Так хочется обнять кого-нибудь, кто бы этого хотел всем сердцем, кому бы это было нужно – обнять его и подставить к его губам свои губы, глаза, волосы – слушать, как льется жизнь во мне и в нем и во всем мире. Я целую свои руки, плечи, целую себя в зеркало, потому что возле меня нет никого, как я. Ведь нельзя же так жить? Одной? Правда?
<Окончание отсутствует. К письму приложены стихотворные переводы>
И еще посылаю Вам «Волну», немного исправленную. Вчитайтесь: она, право же, хорошенькая. В ней много певучей легкости. То, что теряется из оригинала, не может сохраниться ни в каком переводе: это нежные всплески русского л: люблю, утоплю, сплю.
La Vague[354]
Бамонт, мой дорогой, как хорошо, что Вы мне часто пишете! А то у нас тут, знаете, можно совсем сойти с ума! Бабушкина болезнь оказалась намеком на паралич, что довольно важно в ее годы. Ей все не лучше. Иногда она весь день и всю ночь кричит от нестерпимой головной боли. Левая сторона ее туловища, особенно нога – онемела, и лицо тоже вследствие невралгии тройничного нерва. Пишу Вам об этом подробно, чтобы охарактеризовать свое собственное положение и настроение. Ведь возиться день и ночь с больною развалиною, день и ночь слышать мучительные стоны – и не знать, и не знать, чем помочь, и не знать, когда это кончится – это доводит, по меньшей мере, до отупления. Наташа совсем здорова и мне, вероятно, в скором времени придется везти ее в Петербург. Боюсь, однако, оставлять маму одною, пока бабушкино здоровье не примет решительного поворота к лучшему.
От папы еще не получала ответа на свое последнее письмо. Вы говорите: «Докажите ему всю нелепость и несправедливость ожиданья…» Докажешь! Когда он мне вот что пишет: «Если здраво рассуждать, то окажется, что ты еще добрых 2–3 года нужна нам всем для доброго совместного жительства. Особенно же ты нужна бедной маме, которая, право, не менее бедна от разлуки (негеографической) с тобою, чем René от географической разлуки. Сойдешься ты вновь с мамой и все пойдет хорошо. Правда, в этом отношении и с мамой нелегко: она, видимо, прочно в тебе изверилась», etc, etc.
Как Вам это нравится? Поддавайся я немного более влиянию таких увещеваний, я в скором времени признала бы свою любовь к René грехом и преступлением и оскорблением родителей!
И до какой же степени должна слабеть память к старости, чтобы человек, бывший раз молодым, мог давать своей дочери такие советы!
Пишите мне, мой Бамонт. В Париже Вы поневоле вспомните меня, а то в Москве Вы, наверное, не думали о Вашей маленькой Лелли – Вы не тем были заняты![356]
Напишите мне все о René. Как и где Вы его увидели, как он ходит, как он смотрит, что он Вам сказал с самого начала, каким голосом, как он говорит обо мне, все, все. Если бы Вы знали, с каким нетерпением я жду письма, из которого узнаю о Вашем первом впечатлении. И жду, и боюсь, и радуюсь. Смотрите, не потеряйте адрес: chez M. Frémont, 1 Rue Rennequin. А наш в Петербурге Гончарная № 13 кв. 50. Если я уеду отсюда внезапно, я, вероятно, телеграфирую René, и тогда Вы оба пишите мне по этому адресу в Петербурге.
Мой, мой Бамонт! Мерси за телеграмму. Я ее только что получила – в такое безотрадно серое утро, после такой тяжелой ночи, если бы Вы знали! Когда я прочла ее, то подумала («про себя», но не «вслух» – против своего обыкновения!!): «Ведь смешно, что приходится писать: „Жаль, что не в Париже будете переводить поэтов“, вместо того, чтобы сказать: „Мне больно, что Вас нет со мной“; и вместо „я так Вас люблю!!“ говорить „скучно без Вас“». Громко – я только засмеялась и сказала: «Бедный Бамонт, какую ерунду (извините) пишет!» А мама с добродушно-снисходительной улыбкой произнесла: «Пфф! Выпивши, может!»
Бабушке нисколько не лучше, она все стонет, все больше капризничает.
Стоны, стоны, стоны, стоны – нет конца!
Если бы моя душа была только здесь, я бы уже сошла с ума. Но моя душа везде, везде, и если здесь она немного страдает, то что значит это страдание в сравнении со счастьем, которое сияет для меня в каждом атоме мирозданья! Я смотрю на это больное, отвратительное тело в то время, как натираю его водкой, – около меня раздаются пискливые оханья, и мне жаль, и я помогаю, насколько могу, но я не здесь – я там, где грохочут изумрудные глыбы морских волн, или там, где проглядывают средь первых зеленых былинок крошечные ароматные фиалки, или там, где спят вечным сном равнины полярных снегов, или там, где живым потоком волнуется многотысячная толпа парижских бульваров. Я не страдаю, в настоящем смысле этого слова. Я не умею страдать. Я все люблю, все! Я радуюсь настоящему, я обожаю прошлое, я замираю от счастья при мысли о будущем. Помните пробуждение Вагнеровской Брунгильды:
Salve, o sol! Salve, o luce! Oh salve, salve, fulgido di! E tu salve, o mia fulgida terra![357]
Это пробуждение, это счастье сознанья жизни – мое почти постоянное настроение, это leit-мотив моей души, – Gloria agli Dei![358]
И как Брунгильда – я тихо спала, и он пришел и вся душа моя запела: «O Sigfrido, sublime eroe, di vita e luce apportator! Sol l’occhio tuo poteami fissar, svegliar tu mi potevi solo! – Salve, o luce! Gloria agli Dei!»[359] Я вся – любовь ко всему. И я люблю Вас, Бамонт. Я ничья, и я его, и я Ваша.
Так скучно, Бамонт! Дождь льет и льет и льет, теплый, тяжелый, серый. Бабушка все хнычет, – может быть оттого, что ей чуточку лучше. А тут еще, представьте, заболела наша знакомая Mme Нечаева, мать тех знаменитых «мопсиков» – помните? Паралич, да куда страшнее, чем у бабушки. Она 3й день лежит без сознания, несчастный муж ее просто с ума сходит. Мама половину времени проводит у них, между тем как я вожусь здесь с бабушкой. Видите, как весело. Так много хотелось бы Вам сказать, да некогда, и не вяжутся мысли и не клеятся слова. Голова отяжелела. Только ночью и отдыхаешь немного. Милая, добрая ночь! Она дает мне такие чудные сны – совсем, совсем похожие на действительность, она уносит меня так далеко, далеко отсюда! Сегодня, между прочим, я видела во сне такого хорошего Бамонта, и мне было так весело, так легко! Мерси, Бамонт, за то, что Вы думаете обо мне так часто. Я всегда чувствую Вашу мысль со мною. Вы однажды сказали: «Я благодарю Бога за то, что Он дал мне узнать Вас». Я тоже, Бамонт, часто-часто благодарю кого-то за нашу встречу, за Вас, за все. Где Вы сейчас, Бамонт, что Вы делаете?[360]
Сейчас я люблю Вас так, как будто все хорошее, что я имею, дано мне Вами, вся жизнь, вся радость, все счастье! Может быть, мне это кажется, потому что в эту минуту Вы желаете мне всего этого сильно-сильно?
Бамонт, я так жду Вашего письма, что решительно не в состоянии писать Вам. Ведь, подумайте только, если Вы полюбите René, Вы станете мне вдвое ближе, вдвое дороже, вдвое – Бамонтее! И я буду вдвое счастливее! Скорее, скорее пишите, Бамонт. Мне так хочется получить завтра или послезавтра телеграмму от вас двух! Неужели это не прийдет Вам в голову? Бамонт, Вы еще не забыли, Вы еще любите Вашу маленькую Лелли?
Спокойной ночи!
Сегодня ждала письма от Вас и напрасно. Мой гадкий Бамонт ни разу не написал мне с дороги. Уж не завезла ли его куда-нибудь какая-нибудь прекрасная полячка? Не сердитесь, что мало пишу – я думаю о Вас, по крайней мере, 20 раз в день, если не считать того, что полу-сознательно я все время чувствую Вас около себя. Пишите же, Бамонт, ведь Вы не сидите весь день над больными, как я!
Вчера я получила длинное-предлинное письмо от René. Ну, конечно, он понял и полюбил моего Бамонта, после того, как я ему все как следует объяснила.
Слушайте, я давно уже получила письмо от Lucienne Kahn[361], которая тогда еще ничего не успела узнать о моих переводах; мне их возвратили из редакции и они меня злят. Послать их Вам? Их непременно нужно напечатать, потому что французам стыдно не знать моего Бамонта.
Бамонт, так Вы мне напишете все очень подробно о René – чтó он говорит, и как он говорит, и показался ли он Вам порывистым черным жеребенком, у которого пламя пышет из ноздрей? Показалось ли Вам, что в его глазах написано:
Поняли ли Вы, что он для меня «eroe-fanciullo, adolescente divo»?[363] (Зигфрид не выходит у меня из головы.) Поняли ли Вы его красоту и силу молодости, которую, кроме себя, я нашла только в нем – да в Вас? Ведь Вы тоже, несмотря на всю Вашу опытность, так же юны душой и мечтой и желанием, как мы! Правда, Бамонт? Представьте, что недавно я задала себе вопрос – (до чего я поумнела в Короче!!!) почему я люблю René, а не доктора Белявского? Белявский – герой по фактам, – он отдает свою молодость, здоровье, спокойствие, состояние – чужим для него страдальцам. Я готова стать перед ним на колени и целовать его пораненную при операциях руку. А René? Он ничего еще не сделал. Он только существует – и за одно это я люблю его? Да, я люблю его за его громадную, необъятную душу и хоть бы он умер, ничего не совершив, я любила бы его больше всех героев мира.
Бамонт, пишите, пишите скорее, я горю от нетерпения. Неужели Вы не пришлете мне телеграммы!
Я прыгаю от радости и целую Вас за то, что Вы Бамонт.
P. S. Если пойдете к Гончаровой и Лемпицким, то не забудьте, что их адрес теперь: 11 Rue Charcot, Neuilly s/Seine[364].
Где Вы живете? Боже, Бамонт, пишите, пишите мне о моем Париже; неужели он забыл меня? Нет, не может быть, я там, везде, на Champs Elysées, на бульварах, в Люксембурге; пускай René покажет Вам наши скамейки в Люксембурге и наш балкон на St. Michel. На мосту Henry IV он в 1й раз, идя рядом со мной, взял меня за руку, выше локтя. Мама была с нами.
Я Вас очень люблю, Бамонт! Не забывайте Вашу Лелли.
<Приписка сверху> 11 avril. Сейчас же пишу еще. Получила Ваше письмо, пересланное из Петербурга. Сколько впечатлений от этих 20и строк! Я Вас очень люблю, мой Бамонт! Лелли. Жду писем.
Ecoutez, non, vraiment je ne sais pas à qui écrire! Je vais écrire à tous les deux ensemble. Je n’ai plus de jambes. Je vais vous raconter toute ma journée d’aujourd’hui. Je me suis réveillée plus gaie qu’un pinson. Vers 11 heures – le facteur – rien pour moi! Ma figure devient longue – longue – «comme un jour sans lettres!» Je me dis – «Si René ne m’écrit pas, c’est explicable, cela le dégoute, les lettres, mais Balmont??? Que fait-il, où est-il?» Enfin, je me résigne à l’attente et je me mets à emballer mes affaires, car à moins d’incidents imprévus, je partirai dans 10 jours pour St. Pétersbourg. Une cascade de rayons dorés tombe à travers les mailles d’un châle rouge suspendu à ma fenêtre en guise de rideau. Moi-même, en matinée et dans le désordre de mes cheveux, je suis agenouillée devant ma malle, lorsque maman entre dans ma chambre: «Voici un télégramme pour toi» – «Mon Dieu! Est-ce possible!» – (J’allais dire – «enfin!!!») – «Mais signe donc!» Je signe et je cours à la cuisine donner le reçu et le pourboire au facteur – avant d’avoir lu la dépêche. Mon Dieu, je sais bien ce qu’il y a là-dedans – je ne sais pas la formule – voilà tous. «Nous vous attendons, ma sœur!» Bamont, mon ami! Merci!!! Un frisson de joie me secoue. J’enfonce mes dents dans ma lèvre pour ne pas hennir comme un petit cheval. Je presse le télégramme sur mon cœur, sur ma bouche, sur ma figure, je l’écrase dans mes poings comme un citron dont j’aurais voulu exprimer tout le jus. Je saute de joie. Merci, merci pour chaque mot!
Nous– vous êtes ensemble! Tu vois mon Bamont, René? – ose dire maintenant que j’ai tort de l’aimer – (Oh, vous savez Bamont, René ne m’a jamais dit une chose pareille; c’est une façon de parler – voilà tout).
Ma Sœur– alors, vous avez compris mon vilain garçon, Bamont? Vous avez reconnu votre frère? Et c’est pour cela que je suis doublement votre sœur – par mon âme et par la sienne! Vous l’aimez?
Non, non, non, je ne puis pas dire 1/100000 de ce que je sens.
Et, Maman, elle, ne comprend pas. Le télégramme était ouvert quand elle me l’a passé. Il est très probable qu’elle l’a lu, sans avoir fait attention à l’adresse. Elle doit penser: «Encore un fou! Encore un qui tire Lucy vers le gouffre!» Pauvre maman. Pour ne pas lui faire de la peine, j’ai caché ce que j’ai pu de mon bonheur tout au fond, tout au fond de mon cœur – mais je n’ai pas réussi à composer mon visage comme tous les jours. J’étais si rayonnante que Natacha qui n’avait pas vu le facteur me dit en me rencontrant dans la salle: «Mon Dieu, Lucy, que tu es jolie! Que cette matinée te va bien! Mais qu’as-tu? Qu’as-tu donc? Pourquoi es-tu si gaie?» Moi, je ne pouvais pas parler. Dans ma chambre je lui ai montré le télégramme. Alors elle m’a embrassée. Chère petite fille! Au moment même où je pensais:
«Pas un être pour partager ma joie! Maman en souffre – le reste du monde est indifférent» – en ce moment-là même cette petite m’a embrassée, puis, écrasant mes doits entre les siens, me dit en fixant sur moi ses grands yeux noirs: «Sais-tu, je suis si heureuse pour toi!» La femme de chambre un peu bête dit en clignant des yeux: «Mademoiselle n’as pas mal à la tête aujourd’hui?!!» C’est que c’est un événement, lorsque mademoiselle n’a pas mal à la tête!
On a sorti une des doubles fenêtres – vous savez, Bamont, celle du fond du corridor, qui donne sur la gallerie, entre votre chambre et la salle à manger. L’après-midi, Natacha et moi, nous sommes échappés par cette porte pour aller cueillir des perce-neiges au jardin. Vous ne pouvez pas vous figurer, Bamont, ç’en est tout bleu, sous les arbres. Oh les chères petites fleurs. Elles ont des âmes, je sais! Natacha m’en a apporté 3 sur la même tige: «Tu vois – c’est Lucy, et Balmont et – ?!» – deux étincelles malicieuses jaillissent de dessus ses cils. – «Et ça, vois-tu, ces deux fleurs sur la même tige? Une est claire et l’autre foncée. Tu vois, Lucy?!»
Mais que faire de toutes ces fleurs que je puis à peine tenir dans mes deux mains? J’ai envie de voir la joie qu’elles peuvent donner à d’autres. Je vais les porter à mon cousin Jean et à sa mère. Je vais m’habiller. J’enlève ma matinée pour mettre un corsage – je me regarde dans la glace et je vois que Natacha a piqué des perce-neiges dans mes bandeaux. Amoureuse de moi-même? Vous vous moquez, Bamont, mais vous dites la vérité. Mais oui, je me suis admirée – parce que j’étais si blonde, si jeune, avec ces fleurs d’un bleu si tendre près de mon visage d’un rose si tendre. J’étais votre Printemps, Bamont, – et la petite fiancée de mon René.
Un quart d’heure après – je m’admirais encore avec mon grand chapeau noir et mon costume uni et simple comme une amazone. J’avais envie de gambader comme un cabri. Nous sommes descendues en ville. Chemin faisant nous avons rencontrés des petits amis à Natacha et après avoir porté les perce-neiges à Jean, nous sommes allés nous balader tous ensemble. Au cimetière – et puis dans un grand fossé aux bords verdoyants et où il y avait des chèvres, et puis par ces rues isolées où il y avait tant de neige il y a 2 mois, vous savez, Bamont, – et qui maintenant sont toutes jolies grâce au ciel bleu et à l’herbe nouvelle. Nous avons babillé et rigolé et mangé des bonbons. Les gosses m’ont raconté leurs farces d’écoles, et moi je les ai fait rire aux éclats en leur parlant des niches que je faisais à mes professeurs, il y a 5 ou 6 ans.
Maintenant, il est 8½ du soir. Maman est sortie. Natacha chante des poésies de Balmont au lieu d’apprendre sa géographie – et moi j’écris au lieu d’aller apprendre la géographie avec Natacha.
Qu’aurai-je demain? Une lettre – de qui?
Savez-vous, Bamont, que Vova, après un silence très prolongé et des voyages dans les environs de Kiev et d’Odessa, nous écrit qu’il a décidé de ne point allez à Pétersbourg et de ne pas se faire avocat pour le moment. Il veut, je crois, se fixer à Odessa et travailler jusqu’au mois de septembre pour préparer son doctorat. Mes parents en sont mécontents, mon père surtout, car il n’approuve pas les changements d’idée trop rapides. Maman va très bien. La grand’mère se rétablit à vue d’œil, mais elle ne quitte son lit que pour passer 1 heure – 1½ h. dans un fauteuil. Sa jambe paralysée l’empêche de marcher et n’a pas l’air de vouloir mieux se conduire! Le docteur pense que dans 1 mois elle pourra tout de même entreprendre son voyage à Pétersbourg.
En revanche, aucune amélioration dans l’état de Mme Nétchaeff. C’est terrifiant.
Tiens, ça a l’air d’être une lettre pour Bamont. Vous savez, Bamont, si j’écrivais à René, ç’eût été à peu près la même chose, mais tout entremêlé de phrases comme: «Ah mais non, ce que je te dis là est stupide!» – «D’ailleurs, pourquoi est-ce que je t’écris? Tu sais tout ce qui est en mon âme!» – «Ah, mon Dieu, que de paroles, que de phrases impuissantes pour t’exprimer une chose que mon seul regard suffirait à te faire comprendre!» etc.
Bamont, Bamont, mon ami, n’est-ce pas que vous m’écrivez et vous me racontez tout? Votre rencontre – et tout, tout ce que vous vous êtes dit. J’y pense tellement. Tous ces jours-ci je n’ai fait qu’y penser. Ah, mon Paris! Lorsque je suis à table – tout d’un coup l’avenue de l’Opéra surgit devant mes yeux, ou bien un coin des boulevards, ou bien une sortie du Métropolitain, débordante de monde…
Bamont, je ne puis plus rien traduire ni écrire! Je suis devenue si bête, si vous saviez!
Je vais vous écrire bientôt, demain peut-être, et en russe – il me semble que vous aimez mieux quand je vous écris en russe? Pour le moment je ne puis plus rien dire. J’ai besoin de vos lettres qui me rendront l’intelligence, j’espère!! Oh, si vous saviez avec quelle impatience je les attends. Merci, Bamont, mon Bamont, merci de ce que vous êtes notre Bamont.
<Перевод:
Слушайте, я ведь на самом деле не знаю, кому писать! Напишу сразу обоим. Я не чую под собой ног. Расскажу вам весь свой день. Я проснулась веселее зяблика. Около 11 часов – почтальон – мне ничего! Moе лицо вытягивается – вытягивается – «как день без писем»! Я говорю себе: «Рене мне не пишет, и это понятно, ведь он испытывает отвращение к письмам, но Бальмонт??? Что он, где он?» Делать нечего, в ожидании, я принимаюсь укладывать свои вещи, так как, если не случится ничего непредвиденного, я уеду через десять дней в Санкт-Петербург. Поток золотистых лучей падает сквозь петли красной шали, которой занавешено мое окно. Сама я, еще не одевшись и с растрепанными волосами, стою на коленях перед чемоданом, когда мама входит ко мне в комнату: «Тебе телеграмма» – «Боже! Неужели!» – (я чуть не сказала – «наконец-то!!!») – «Ну, что же ты, расписывайся!» Не прочитав послания, я расписываюсь и бегу на кухню отдать почтальону квитанцию и чаевые. Боже мой, я прекрасно знаю, чтó там – я просто не знаю формулировки – вот и все. «Мы ждем Вас, сестра моя!» Бамонт, друг мой! Спасибо!!! Я дрожу от радости. Я закусываю губу, чтобы не заржать, как жеребенок. Я прижимаю телеграмму к сердцу, к губам, к лицу, я сжимаю ее в кулаках как лимон, из которого хотят выдавить весь сок. Я скачу от радости. Спасибо, спасибо за каждое слово!
Мы – вы вместе! Рене, ты видишься с моим Бамонтом? – попробуй теперь сказать, что я не должна его любить – (Oх, Вы знаете, Бамонт, что Рене никогда ничего подобного мне не говорил; подвернулась такая фраза – вот и все).
Сестра моя– значит, Вы поняли моего несносного мальчишку, Бамонт? Вы узнали своего брата? И поэтому я Вам дважды сестра – своей душой и его! Вы его любите?
Нет, нет, нет, я не в состоянии высказать и стотысячной доли того, что я чувствую.
Ну, а мама не понимает. Она открыла телеграмму перед тем, как передать ее мне. Вполне возможно, что она ее прочитала, не обратив внимания на адрес. Она, наверное, думает: «Еще один помешанный! Еще один, толкающий Люси к пропасти!» Бедная мама. Чтобы не делать ей больно, я, по мере сил, упрятала свое счастье на дно сердца – но лицо не смогло принять обыденного выражения. Я излучала такую радость, что Наташа, не видевшая почтальона, сказала мне при встрече в комнате: «Бог мой, Люси, как ты красива! Как тебе идет утренний убор! Да что с тобой? Что случилось? Отчего ты так весела?» Я же была не в состоянии отвечать. В спальне я ей показала телеграмму. И вот тогда она меня поцеловала. Милая девочка! Как раз в тот миг, когда я подумала: «Совершенно не с кем поделиться радостью! Маме она причиняет страдания – всем остальным все равно», – в тот самый миг эта малышка меня поцеловала, а затем, сжимая до боли мои пальцы и глядя на меня своими большими черными глазами, она мне сказала: «Знаешь, я так за тебя рада!» Глуповатая горничная сказала, моргая: «У барышни сегодня не болит голова?!!» Ведь это событие, когда у барышни не болит голова!
Уже сняли часть двойной оконной рамы – Вы знаете, Бамонт, той самой, что в конце коридора, откуда вид на галерею, между Вашей спальней и столовой. После обеда мы с Наташей выбрались через эту дверь собирать в саду подснежники. Вы себе не представляете, Бамонт, какая синь от них под деревьями. О, милые цветочки. Я знаю, у них есть душа! Наташа принесла мне три цветка на одном стебле: «Смотри – это Люси, это Бальмонт, а это – ?!» – две лукавые искорки блеснули из-под ее ресниц. – «А это, видишь, вот эти два цветка на одном стебле? Один светлый, другой темный. Видишь, Люси?»
Но что мне делать со всеми этими цветами, которые едва умещаются в обеих руках? Мне хочется увидеть радость, которую они могут принести другим. Я отнесу их своему двоюродному брату Ване и его матери[366]. Иду одеваться. Снимаю утренний убор, чтобы надеть корсаж – смотрю на себя в зеркало и замечаю, как Наташа тянет подснежники из моих лент. Влюблена в самое себя? Вы в насмешку так говорите, Бамонт, но это правда. Да, конечно, я собой залюбовалась – потому что я была так светловолоса, так молода, с такими нежно-голубыми цветами вокруг такого нежно-розового лица. Я была Вашей Весной, Бамонт, – и юной невестой моего Рене.
Четверть часа спустя я все еще любовалась собой, походя на амазонку в большой черной шляпе и простом костюме. Меня, как козленка, тянуло резвиться. Мы пошли в город. По дороге нам встретились Наташины друзья и, отнеся подснежники Ване, мы пошли гулять всей компанией. На кладбище, затем по большому рву с зеленеющими краями и пасущимися козами, а потом по безлюдным улицам, где лежало столько снега два месяца назад, Вы знаете, Бамонт, и которые теперь так красивы под голубым небом и молодой травой. Мы болтали, хохотали и ели конфеты. Дети рассказывали мне о школьных проделках, а я их смешила до коликов рассказами о подвохах, которые делала своим учителям пять или шесть лет назад.
Теперь половина девятого вечера. Мама ушла. Наташа распевает стихи Бальмонта вместо того, чтобы учить географию – а я пишу вместо того, чтобы заниматься с Наташей географией.
Что принесет мне завтрашний день? Письмо – от кого?
Знаете, Бамонт, Вова, после очень долгого молчания и странствий вокруг Киева и Одессы, сообщил нам о своем решении не ехать в Петербург и не становиться пока адвокатом[367]. Он хочет, по-моему, основаться в Одессе и, до сентября, готовиться к получению докторской степени. Мои родители этим недовольны, особенно отец, так как он не любит опрометчивых решений. У мамы все хорошо. Бабушка быстро идет на поправку, но встает с постели лишь на час-полтора, чтобы посидеть в кресле. Парализованная нога мешает ей ходить и, похоже, не желает вести себя лучше! Врач, однако, считает, что через месяц она сможет отправиться в Петербург.
Зато в состоянии г-жи Нечаевой никакого улучшения. Это ужасно.
Подумать только, а письмо ведь написано Бамонту. Знаете, Бамонт, если бы я писала Рене, все вышло бы приблизительно так же, но с постоянными вкраплениями фраз типа: «Ах, да нет же, я чушь несу!» – «И вообще, зачем я тебе пишу? Ты знаешь все о моей душе!» – «Ах, Боже мой, сколько слов, сколько фраз, неспособных выразить то, что ты бы прочитал в одном моем взгляде!» и т. п.
Бамонт, Бамонт, друг мой, Вы ведь мне напишете и все мне расскажете, правда? О вашей встрече – и обо всем, обо всем, что вы друг другу сказали. Я так много об этом думаю. Все последние дни я только об этом и думаю. Ах, мой Париж! Я сижу за обеденным столом – и вдруг, перед глазами встает авеню Опера, или же перекресток бульваров, или выход из метро, где толпятся люди…
Бамонт, я больше ничего не в состоянии переводить или писать! Если бы Вы знали, как я поглупела!
Я скоро Вам напишу, может быть, завтра, и по-русски – мне кажется, что Вам больше нравится, когда я Вам пишу по-русски? Теперь же мне больше нечего сказать. Я нуждаюсь в Ваших письмах, которые вернут мне разум, я надеюсь!! О, если бы Вы знали, с каким нетерпением я их жду. Спасибо, Бамонт, мой Бамонт, спасибо за то, что Вы наш Бамонт.
Мой дорогой Бамонт! Сегодня опять почтальон ничего не приносит для меня, а только заказное для мамы от тети Кати[368]. Я уже готовлюсь поникнуть главою на грудь, как вдруг оказывается, что в этом заказном вложено Ваше письмо! Я и обрадовалась – и вместе с тем мне стало грустно… Обрадовалась потому, что я ведь угадала, что Вы любите Екатерину Алексеевну и что Вы вернетесь к ней, так как она – Ваша настоящая жена, и я знаю, как она Вас любит[369]. Передайте ей мой нежный, нежный поцелуй!
Вы пишете: «Поймите мою боль. Боль, но и радость». Милый Бамонт, да, я понимаю. И мне больно от Вашей боли и радостно от Вашей радости! Я Вас так люблю – и ее тоже! Она милая – правда, какая она милая, Ваша жена, Бамонт?
А грустно мне стало от остального. От всего тона Вашего письма и особенно от этих фраз: «И потом я больше не люблю его (Вы напрасно беспокоились)», – что это значит? Non capisco[370]. И еще приписка сверху: «Не думайте, что я враждебен к нему», – точь в точь как в мамином письме. Что это, Бамонт? У меня слезы так и подступили к горлу… Затем я подумала, что Вам вообще тяжело было в те дни, тяжело от усталости, от разлуки с Екатериной Алексеевной, от всего вместе. Когда я прочла слова: «Я был один, в отчаянии, плакал и молился», – мне так захотелось быть около Вас, крепко прижаться к моему Бамонту, сказать ему, что солнце – золотое, что пролески синеют между старых прошлогодних листьев, что все красиво, все весело, все живет! Мой дорогой Бамонт! Вы не тоскуете больше? Нет? Вы пошли к René, правда? И нашли в нем друга, нашли в нем меня, и он сказал Вам хоть частичку того, что я хотела сказать Вам о молодости, о счастье? О, да? ведь да, Бамонт? И Вы берете назад свои жестокие, холодные, противные слова: «И потом я больше его уже не люблю (Вы напрасно беспокоились)»?
О, как эгоистичен становится человек от усталости и огорчений, если даже Бамонт, мой чудный Бамонт, мог забыть о боли, которую такие слова должны были причинить его маленькой, любимой Лелли.
Но пишите же мне скорее, как Вы встретились и что из этого вышло? Я боюсь теперь, после Вашего письма, что Вы, может быть, не от всего сердца послали мне вчерашнюю телеграмму. Ведь Вы пошли к нему на встречу, хотя и «не враждебно», но с сердцем закрытым и холодным. Сумел ли он открыть и согреть Ваше сердце? О, он должен, должен понять и полюбить Вас, и до того напомнить Вам Вашу Люси, Вашу весну, чтобы Вы сами стали весенним и радостным!
Вы больше не будете грустить, Бамонт? О, пишите же мне, пишите скорее. Я с Вами, я Ваша – и как только Вы перестаете мне писать, мне кажется, что Вы перестаете чувствовать меня вблизи Вас, мне нужны Ваши письма, чтобы вполне ясно сознавать, что я Ваша, а не корочанская. О, скорее бы, скорее к Вам.
Папа пришлет мне паспорт, а может быть и деньги. На той неделе, вероятно, я уеду в Петербург, а потом – потом, я, право, не думаю о дальнейшем «устройстве» – я, как птицы небесные, не привыкла ни сеять, ни жать. O mon Dieu, que votre volonté soit faite…[371]
Я стараюсь сделать так, чтобы ехать не на Прохоровку, а на Сабынино, хотя и не знаю, там ли Екатерина Алексеевна. Если даже я и увижу ее, то не знаю, сумею ли я сказать ей, что я ее люблю. Я очень застенчива при первом знакомстве, хотя застенчивость моя выражается не робким, а скорее холодным и высокомерным тоном и видом, который многие принимают за сухость и надменность. Но она ведь, впрочем, знает, какая я и поможет мне быть самой собою. Правда?
Слова Вашей телеграммы все время поют в моем уме. – Ma sœur! – Милый Бамонт! – Раньше, хотя я и любила, когда Вы называли меня своей сестрою, но при этом мне всегда неприятно вспоминалась фраза из одного Вашего письма: «Я получаю письма от своих „сестер“, но Вы заставили меня всем им изменить. Гадкая Люси!» Неужели и я Вам такая сестра, неужели и мне Вы для кого-нибудь можете изменить? Нет ведь? Нет?
Я хочу быть Вашей сестрой, но дело в том, что если бы я и не хотела, я была бы ею. Я хочу быть Вашей сестрой, если René Вам брат, если Ваша душа была нераздельно слита и с ним и со мною в ту минуту, когда Вы писали ma sœur! Я хочу, чтобы было так, я верю в это и я люблю Вас, Бамонт, и я счастлива. Ах, я всегда счастлива, Бамонт! Я живу. Жизнь – счастье. Какое бы горе ни свалилось на меня – все перемелется, потому что в вечном порыве к счастью, я невольно и сильно поверну жернов – перемелется – мукá будет! Чистая, белая, красивая, живительная жизнь – счастье! Правда, мой Бамонт?
Будьте всегда нашим светлым братом.
Милый Бамонт – простите, что не пишу. Я совершенно больна, и душой и телом, под влиянием какой-то необыкновенной тоски, овладевшей мною после Вашего первого письма о René. Если он не кажется молодым, то в этом виною мое отсутствие. Вы не можете себе представить, как я мучаюсь этой мыслью, она ни на секунду не покидает меня, она точно наступила тяжелой пятой на мою голову и силится, силится ее раздавить. Это ужасно. Я всего пугаюсь, чего-то боюсь, жду чего-то страшного, весь день хожу, как привидение и всю ночь томлюсь, то бессонницей, то кошмарами. Мне мерзко брать перо в руки. Скажите René об этом; я не могу, решительно не могу, писать ему – мне слишком тяжело. Может быть, впрочем, его и Ваши письма оживят меня, – если же нет, пусть, ради Бога, не сердится, но я буду молчать до самого приезда.
Все это так страшно, так непомерно мучительно, поймите! Перемелется? Знаю. Но молоть-то как трудно!
Мама! Мама! – Ах, Бамонт, если бы Вы знали!
Он не молод? Что же должно было с ним сделаться! Ведь он – сама юность, он весь жизнь и огонь.
Если ничего ужасного не случится, я выеду в Петербург на будущей неделе. В Петербурге останусь всего несколько дней.
Простите – перо падает из рук.
Фиалки уже расцвели.
Как долго останетесь Вы еще в Париже?[372] Бамонт, Вы любите меня? Ну поцелуйте меня, ну не позволяйте мне болеть и страдать! Бамонт, дорогой!
<Приписка сверху, другим почерком: Наташа[374]>
Monsieur Constantin Balmont
12 Museum Road
Пробыла в Сабынине 2 дня. 2 раза видела Екатерину Алексеевну. «Боже, Бамонт!» Хоть бы скорее доехать до Петербурга, чтобы написать Вам все – так много! И все такое светлое, хорошее! Вы меня не забыли? Ниночка[376] прелесть. Когда мы увидимся? Скажите, Бамонт, Люси еще немножко Лелли для Вас?
Бамонт, всего два слова, потому что я совсем больна. Я была в Сабынине, видела Катю. Ах, какая она, Бамонт! Таких не бывает! Я ждала такую, хотела такую, но ждала и хотела, как невозможное, желала увидеть ангела, духа – и увидела больше, увидела воплощенье какой-то неясной, но светлой моей мечты!
Бамонт? Вы думали, Вы могли думать, что не любите ее? Боже, как ослепляет проза жизни, какою непроницаемою пеленою разъединяет она две родные души! Нужен порывистый, грубый жест разрыва, чтобы эта лживая, призрачная пелена распалась прахом, правда?
Я не могла, не умела сказать ей, Кате, как я ее люблю – и Вам не умею. Тогда мне казалось странным – зачем идет дождь, когда во мне так светит, зачем тут княгиня Волконская[377], зачем чужие, когда Катя моя – моя, раз она Ваша, Бамонт, да? Ведь Вы сказали однажды: «Все мое должно быть для Вас Вашим».
Мне так не хотелось говорить, вести себя корректно, называть ее Екатерина Алексеевна. И от этой неестественности я чувствовала себя неловко, и даже не совсем пришла в себя, когда мы остались вдвоем. Мне хотелось бы прильнуть к ней, как к большой сестре, и чтобы мы обе молчали и обе улыбались, смотря как Ниночка, прижав к себе рамку с «папой», похлопывает ее рученкой, приговаривая: «Ну! спите!» Я никогда не забуду поразительного выражения глаз, губ, всей фигурки Ниночки, когда она, вдруг услышав церковный звон, остановилась, напряженная, немного согнувшись, подняла пальчик и произнесла строго, и властно, и вопросительно: «Мама!?» Каждое движение, каждый поворот ее головки так необыкновенно выразительны! Как могли Вы так мало говорить мне о ней?
Скажите, Бамонт, ведь Катя поняла меня, да? Если нет, пошлите ей это письмо, впрочем, это ведь невозможно, чтобы она не поняла!
Я напишу ей – не знаю, когда. Я заболела, как только приехала сюда. (Верно, простудилась. Страшная боль в груди и в спине, там, где легкие.) И потом – я не знаю, как называть ее. Мне трудно писать ей точно какой-нибудь знакомой!
Отсюда думаю уехать немедленно по получении заграничного паспорта. Пишите мне поскорее. Мне так скучно без Вас. Мне кажется, что мой образ постепенно стирается с Вашей души, точно Вы забываете Вашу маленькую Лелли. В такие минуты я глотаю слезы и говорю про себя: «Зачем? Не надо, не надо, чтобы это прошло, сгладилось, забылось! Это было так хорошо, так красиво! Так близко к Богу!»
Пишите мне, мой – написала «мой» и испугалась. Неужели Вы уже не мой Бамонт? Видите, что значит неделя без писем – я уже не знаю, боюсь, сомневаюсь… Нет, это потому, что я больна, и потому, что я совсем одна здесь, у Китаевых. Они такие другие![378]
Не могу больше писать. До свидания. Когда Вы вернетесь в Париж?
Моя болезнь наводит страх на меня. Я так боюсь умереть здесь, среди чужих. Далеко, так далеко от Вас, от Кати, от René. Нет, ну какой смысл был бы в моей смерти? Ведь в природе все логично, а это было бы нелепо. Правда?
Не уходите от меня, Бамонт. Я Вас не пускаю.
Вчера получила пересланные из Корочи 2 Ваших письма – одно злое, другое милое, оба одинаково дорогие, понятные мне. Я Вас люблю, Бамонт. И ни с кем не соединяю. Помните это твердо. Я Вас вижу везде, и в других, и ни в ком. Ни в Кате, ни в ком. Поймите.
«Не будьте его женой до моего возвращения»[379].
Смешно, Бамонт. Разве я могу это отсрочить, или ускорить для своего, или чьего-нибудь удобства? Я стану его женой не раньше и не позже той минуты, когда это должно будет случиться. И когда это случится, это будет хорошо. Мой инстинкт меня не обманывает.
Но приезжайте скорее. Я всегда жду Вас.
Что Вы с ним не совсем сблизились – для меня понятно. Вы бы и меня считали не такой близкой, если бы я была мужчиной. И потом, он такой ребенок. В его прямолинейной душе нет перепевных, изменчивых мелодий, нет извилистых, туманных очертаний, а есть определенные, однозвучные колокольные удары, решительные, смелые контуры, мысли постоянно воплощающиеся в абсолютные образы, – меняющиеся, но абсолютные. Я пишу стихи, – а он нет. В этом наше различие. И Ваше с ним.
Я Вас люблю.
Бамонт, что за непослушание? Ведь я Вас просила не присылать мне денег. Они меня ужасно озадачили. Китаевы подняли меня на смех, рассказывая всем: «Представьте, с Люси огромное несчастье – получила 100 рублей и страшно огорчена!» Николай Егорович (тетин муж) даже целую лекцию прочел мне о том, как нужно драть деньги, не стесняясь, чтобы не упустить своего счастья. «Вы – этого, послушайте, так сказать, Люси: раз этот самый, так сказать, Бальмонт, этого, посылает Вам эти деньги, то значит он, так сказать, заинтересован в том, чтобы, этого, побудить Вас, так сказать, сделать эту работу. Другое дело, если Вы, так сказать, этого, не желаете продолжать – ну, тогда, знаете, этого, так и скажите ему, что „я, так сказать, не желаю иметь с Вами никакого дела и прошу Вас, этого, деньги Ваши принять обратно“. Ну, а раз этого нет, то и пользуйтесь ими, так сказать, без зазрения совести…» и т. д. и т. д.
Хоть и убедительно, без сомнения, но я не убедилась. А все-таки эти 100 рублей повлияли на меня, напомнив мне, что заняться переводами в настоящую минуту – значит избежать приятных разговоров с Николаем Егоровичем и хоть немного отвлечься от мыслей о маме и о том, что папа не шлет заграничного паспорта. И вот я засела за переводы. «Обер-декадент» Брюсов, как называет его Ваша belle-sœur[380] Волконская, – очень заинтересовал меня. Я так хотела бы поближе узнать его скифскую, стихийную душу. Перевожу, стараясь передать упорную дикость и дерзость размера
Перевела еще «Юному поэту» и «Памяти Е. И. Павловской»[384]. Хочу перевести два лучшие (по-моему) «К Скифам» и «Соблазненным братьям»[385].
Ах, да, а вот ведь Ваше[386]:
Хорошо, правда? Ну, поцелуйте Лелли. А вот еще[387]:
Лохвицкая хорошенькая, изящная, особенно когда подражает Вам:
Но не очень вдохновляет меня ее poésie à l’eau de rose[389]. По крайней мере, сейчас не вдохновляет. Может быть, я и многое переведу из нее – но летом, когда согреюсь, когда разнежусь, когда снова стану влюбленной. Сейчас я не женщина. Я похожа на Брюсова. «Как царство белого снега, моя душа холодна»[390]. Холодная, свободная, злая.
Вы знаете, что René ангажирован в Evian? Вы приедете в Швейцарию летом? Когда мы увидимся? Я хочу попасть в Париж как можно скорее, чтобы до закрытия театров поговорить с Antoine’ом[391] или кем-нибудь вроде него и определить, что мне делать и на что рассчитывать. А папа медлит с паспортом. Возмутительно.
Отчего Вы мне ни разу не написали из Оксфорда? Пишите о Кате. Скажите ей, что я ее люблю. Не пишу ей потому что – странно. Сандрильона[392] писала доброй волшебнице, своей крестной матери?
Ах, Бамонт, какую силу я чувствую в себе. Мне хочется быть всегда одной. И я всех хочу – для себя. Мне хочется вызвать всех сильных на бой. На бой – Вас, и Брюсова, и René. Чувствовать и в себе и в противнике силу – непреклонную, непобедимую. Знать, что я не сломлю и не сломлюсь – но чувствовать силу – силу! Вы одной рукой поставите меня на колени – но я отомщу. Я могу Вас убить, Бамонт. А этот Брюсов – я бы хотела легко, как птица крылом махнуть концами пальцев по его лицу – и чтобы на щеке его ярко загорелись кровавые полосы от моих острых ногтей.
Ах! pardon! Что это со мною? Fi donc, какое некорректное поведение со стороны такой благовоспитанной барышни!
Гиппиус не печатала своих стихотворений отдельным сборником?[393] Где же прикажете их доставать?
Слушайте, Бамонт, слушайте хорошенько:
Желанье рабства исчезло во мне. Я хочу быть одной. Я хочу быть владычицей морскою. Но не хочу я бесцветной, бесстрастной, холодной морской глубины. Я хочу – бесстрастного, но яркого, но горячего солнца. И когда я выпью до дна его лучи, я возьму это солнце, и повешу его, как золотую безделушку, в моем прозрачном подводном дворце. На что мне оно, – истощенное? Я сама буду гореть и греть его лучами.
Бамонт – в эту минуту вся моя душа в этих строках. Поймите и запомните. Преступно? Дерзко? Безжалостно? Я и не претендую, ни на благонравие, ни на скромность, ни на человечность…
А все-таки я Лелли. И я Вас люблю.
Бамонт, я глупенькая Лелли, сейчас начала писать Вам, а вышло, что написала Брюсову[394]. Знаете что? Экспромт после чтения его стихов. Вот:
Иначе я не могу выразить Вам того впечатления, которое он на меня производит. Я серьезно сказала тете, что еду в Москву, что мне надо видеть Брюсова[395]. Потом, отбросив от себя его книгу, стала думать. Если он не такой, как в стихах, – слабее, – если он только хорошее чучело леопарда – на что мне разочарование? Если он таков, каким я себе представляю его, то
Этого я ему не послала. А то – написала, потому что не могла иначе.
Пожалуйста, Бамонт, повернитесь в профиль и будьте нежным, будьте ласковым, потому что я этого Вашего Брюсова ненавижу и я устала. Вам бы следовало мне писать, потому что я могу наделать глупостей. Возьмите меня в свой воздушно-лучистый дворец красоты. Ах, Бамонт, какой Вы милый, чудный! Как я рада Вам, как мне хорошо с Вами.
Мерси, Бамонт. Я отдохнула.
Только что получила Ваше длинное письмо. Мой – мой – мой дорогой Бамонт! Как я Вас люблю! Вот – переписываю то, что получила и написала сегодня до Вашего письма:
Ça y est. Je suis directeur du théâtre Grévin. Salle charmante. Je suis en train de composer ma troupe. Tu n’es pas là. C’est Claire Mars, la sœur de la femme de Beaulieu qui est mon collaborateur et toi tu attends un passeport à St. Pétersbourg! Charmant!! O mon amie, mon amie, reviens. Mais tu ne comprends donc pas? Il faut que tu reviennes. Il faut que Mars te connaisse… Quand elle te connaîtra, elle ne souffrira plus. Et elle souffre parce que je crois qu’elle m’aime. Mais viens donc. Ah ça, crois-tu donc que mes lettres sont des paroles? Tu ne sais donc pas que j’ai failli devenir fou? Il faut que Mars te voie. Alors elle comprendra pourquoi tu m’aimes et pourquoi je t’aime et elle ne souffrira plus. J’ai senti tout cela. J’ai voulu lui présenter Jean. Je le lui ai présenté – et au contaraire je l’ai sentie après plus près de moi. Je peux me tromper, je le souhaite de toute mon âme. Mais je crois malheureusement avoir raison et avoir vu juste. Et je l’aime beaucoup, elle est vraie, elle est pure, elle est forte, elle est incapable de sacrifier son idéal à un sentiment d’affection étroite, elle est jeune et elle marche seule dans la vie en dehors des lois, en dehors de la famille. Il ne faut pas qu’elle souffre, n’est-ce pas? Comprends-tu maintenant – il faut que tu reviennes.
Ah reviens! Car je ne sais plus. Reviens, j’ai besoin de toi.
Calmez vous, calmez vous, mon ami, ne vous faites pas de mauvais sang à cause de moi! Mlle Claire Mars vous aime? Cela lui fait du bien. Aimer est toujours beau et noble et grand. Aimez-la vous-même, tant que vous pouvez. Aimez-la autant que moi, plus que moi – que puis-je avoir contre? Et ne pensez pas que je souffrirai. Je vous le répète pour la centième fois: si vous ne m’aimez plus, je comprendrai que vous n’êtes pas celui que j’aime, celui que j’aime ne peut aimer que moi, celui que j’aime restera toujours en moi-même s’il n’existe pas en dehors de moi. Je vous dirai plus – il y a des moments où je doute de vous et ces moments sont ceux où vous doutez de moi. Déjà vous dites non sans hypocrisie: «Elle est vraie, elle est pure, elle est forte, elle est incapable de sacrifier son idéal», etc. Ouf! Quel reproche mal dissimulé! Vous n’avez pas le courage de me dire bien en face que je suis une faible et une timorée? Vous croyez qu’il est plus convenable de le penser en silence? Et – pardon, si ce n’est pas indiscret – m’aimez vous, avec ça? Ou bien m’attendez vous pour faire le choix entre moi et Mlle Mars? Quel défaut a-t-elle donc? Elle n’est pas assez jolie? Toujours plus jolie que moi, je pense, car je ne le suis pas du tout, au sens propre. Il n’y a que des fous comme Balmont qui me trouvent belle.
Ecoutez, mon ami, – que ce «vous» ne vous étonne pas, il m’est venu tout naturellement et sans méchanceté. Ne cherchez point de mauvais sentiments dans ce que je viens de vous dire. Mais sachez bien que c’est l’expression vraie de ma pensée. Surtout ne m’attribuez point le ridicule de la jalousie. Je suis trop froide, trop impassible, trop amoureuse de moi-même en ce moment-ci, pour être jalouse. Et c’est avec le plus grand calme que je vous comprendrai, je ne cesserai pas d’avoir pour vous des sentiments d’amitié pure et de confiance et d’estime et vous serez – et tu seras toujours, toujours mon Bébé chéri et tu pourras toujours venir vers ta maman dans tes instants de douleur ou de lassitude.
Suis-je folle ou suis-je refroidie? Il me semble que c’eût été même mieux ainsi. En restant ton amie – je resterais toujours ta maman, ta petite sœur Thérèse… En devenant ta femme – ne deviendrais-je pas une cause de tourments pour toi? Je suis par trop extravagante, par trop indépendante, tu sais! Tiens, un exemple: Je t’aime n’est-ce pas. Et pourtant j’aime Brussoff et j’aime Balmont. Supposons que je suis ta femme. Je te dis – je vais à Moscou. Tu peux croire que tu as le droit de faire des objections? Ah mais non! Je veux être aussi libre que je le suis loin de toi. Je veux pouvoir aller à Moscou et me laisser embrasser par cet homme – s’il me faut ses baisers pour pénétrer jusqu’au fond de son âme. Je veux ma liberté… Mais t’accorderai-je la tienne bien facilement? Et si je souffre de te l’accorder? Ma souffrance nous rendra malheureux tous les deux. C’est comme ça qu’il est, mon amour. Le veux-tu? Réfléchis bien, je t’en prie. Me comprends-tu et crois-tu que je suis la femme qu’il te faut? Nous nous aimons, – mais sommes-nous faits pour vivre ensemble? Enfin, nous verrons cela lorsque je serai à Paris, n’est-ce pas?
Oh, mon Bébé, je deviens toute tendresse à la seule pensée que tu es seul et que tu as besoin d’une maman. Sais-tu pourquoi je vais à Paris? Pour savoir ce que j’ai perdu de mon français et ce que j’ai à faire pour entrer au théâtre au plus vite. Je veux voir Antoine. Après demain je vais avoir la réponse télégraphique de mon père au sujet du passeport. Je ne viendrai pas dans la pension que tu me proposes. Je veux que nous soyons complètement indépendants l’un de l’autre. Ouf! Je crois que je t’ai dit tout ce que j’avais sur le cœur. Ecris-moi davantage à propos de la salle Grévin. Et Evian alors? Je serais presque heureuse que tu n’y allasses pas car je crains que cela me ferait prendre de nouveau une position fausse entre mes parents et toi si cette affaire continue.
Ecris-moi vite, Bébé chéri, mon enfant, je t’aime. Claire – c’est joli. C’est un nom que j’adore depuis les premières lectures de mon enfance. Je voudrais l’embrasser pour son nom. Si tu l’aimes je serai sa maman aussi bien que la tienne. Je suis comme dans un rêve.
Мой милый, мой Бамонт, я не знаю, я хотела бы говорить не словами, я хотела бы петь Вам свою душу. Вы боялись огорчить меня Вашим письмом. Да ведь я знала все. Знала то, что Вы думаете – и сама так думала. Сейчас – я жалею, что не написала ему, что я его не люблю. Но в ту минуту я этого не думала, да и теперь не знаю – правда ли это. Может быть, и разлюбила. Потому что я перестала чувствовать в нем силу, равную своей. Но не знаю, отсутствует ли она в нем на самом деле, или я ее просто забыла. В моей душе какой-то вихрь. Неужели все это так просто? Так искренно верила, так твердо любила – и вдруг прошло! И не жаль. И я смеюсь! Ну нет, правда, этого не может быть? Ах, да Бог с ним, увидим! Вы будете всегда со мной, да? Вы знаете, одно время, когда я Вам не писала с неделю, – вот теперь, недавно, – я думала, что я Вас люблю. Может быть. Теперь я уж ничего не знаю. Знаю только, что я кого-то люблю всеми атомами своего существа. Я устала. Сижу вот уже полчаса над этим листом и думаю. Знаете – ведь René без меня пропадет. Ведь я должна его воспитать, сделать из него то, чем он должен быть. Он обожает себя– это его болезнь. Обожает себя не в будущем, не в идеальном, а в настоящем, в обыденном. Меня он – только любит, с смутной примесью обожания. Я должна влюбить его в себя до безумия, до отречения от своей личности. В этом было бы его спасение. Но тогда – я его, значит, не люблю? Если я могу его покорить, значит, он не я. Опять я
Даже больше – мне это противно. Будь что будет[397].
Вы, Бамонт, обещаете мне писать «мало и редко». Мило с Вашей стороны. Мне так нужен мой дорогой Бамонт. Если мне будет очень тяжело – я к Вам приеду. Катя милая. Как хорошо она пишет Вам обо мне. Я с Вами. Совсем с Вами.
Когда я пишу Вам, стихи слагаются сами собою. Я Вас люблю. Я устала. Что будет?
С добрым утром, Бамонт!
<Приписка на полях> Песня нового утра
Décidément! Je n’y vais pas de main morte![398] Кажется, скоро я буду говорить Вам только стихами.
Написала Кате все. Мне нужно было рассказать ей всю себя, и я сделала это при помощи своих стихов[400].
Вот один перевод из Лохвицкой[401]
Хоть Вам и некогда, а все-таки пишите мне, Бамонт. Так грустно под этим заплаканным небом. И вообще – я не знаю. Устала. Голова разламывается. Поцелуйте Вашу Лелли. Вашу. У Вас в комнате нет большого дивана? Пока Вы пишете, я хотела бы лечь клубочком в уголок его, чтобы Вы не думали о моем присутствии, чтобы я знала, что я с Бамонтом.
Сказка для Ниньчика
Ах, Бамонт, Бамонт, я сойду с ума.
(К предыдущему стихотворению)
Несколько месяцев тому назад, читая одно из Ваших стихотворений, я задумалась и сказала: «Ну уж, этого я не понимаю». Вова, смотревший через мое плечо, прибавил: «Да и Бальмонт сам не понимал, когда писал, будь уверена!» А сегодня, просыпаясь, я невольно произнесла эти строки, как мои собственные:
Сегодня я так причесана. Всем нравится. Я похожа на ту карточку, которую Вы любите. Волосы выигрывают в цвете и воздушности. Но очертанья другой прически больше подходят к моей душе.
Мертвенно-бледная ночь
А сегодня – снег…
Сейчас получила телеграмму от отца «паспорт получится тридцатого». Пишите: Poste restante, Paris[404]. Я совсем во сне, или совсем больна. Мой милый Бамонт.
Monsieur Constantin Balmont
12 Museum Road
Бамонт, не забывайте меня. Скоро напишу. Все очень просто, но трудно рассказать. Пишите все, что думаете обо мне– если думаете о Лелли!
Бамонт, дорогой, простите, ради Бога, и верьте, что Ваша маленькая Лелли думает о Вас каждый день, и часто всеми силами желает Вашего присутствия и ждет Ваших писем. Я послала Вам открытку по приезде в Париж, а René до этого писал Вам 2 раза. Неужели Вы ничего не получали? Мы страшно заняты театром Grévin, где проводим весь день. Пока вынуждены ставить глупые водевили для привлечения публики. С сентября рассчитываем ставить серьезные пьесы. Вот и вся наша жизнь, горячая и деятельная, перемешанная с разными надоедливыми интрижками, неприятностями и т. д. Понимаете, что при таких условиях нет возможности сосредоточиться и дать себе или кому-нибудь другому ясный отчет во всем, как я привыкла делать в своих письмах к Вам. Маме и папе пишу кратко и редко. А Вам – Вам мне больно писать так, как сейчас, неполно, нецельно. Каждый день мучаюсь этой мыслью. Столько хотела бы рассказать Вам обо всем, чтó увидела и узнала. Как бы мне хотелось.
А где Ниньчик? Целую Вас и Катю и люблю Вас бесконечно.
Monsieur Balmont,
Merci de votre mot. Nous travaillons ferme et malheureusement on nous force à jouer des pièces inférieures et drôles?? C’est la direction du musée qui nous impose cette condition pour nous autoriser seulement en octobre à jouer des choses sérieuses enfin… Nous ne manquons pas de courage.
R. Pillot[405]
Бамонт, простите мое бесстыдство: я пишу Вам, чтобы просить у Вас денег. До сих пор не писала Вам потому, что чувствовала возмутившую Вас «убогость» моих писем. Я люблю Вас, Бамонт. Я Люси и Лелли. Вы увидите. Мелочная деятельность мешает мне сосредоточиваться и быть Лелли в письмах, как прежде. Лучше не писать!
Я жду Вас и Катю. Когда Вы будете в Париже? Мы оставили театр Grévin на днях. Ищем другого театра. Пока я довольна свободой. René страшно утомлен и болен. Вы не можете себе представить, какая мука видеть его бледным, усталым, измученным, знать, что неделя отдыха в деревне возвратила бы ему все его силы – и не иметь ни одного су в кармане. Мы жили тем, что получали в театре. Мама прислала мне 1 раз 100 francs за все время и теперь мы едим очень мало и в долг. René, чувствуя Вашу антипатию, умолял меня не просить у Вас денег. Но, Бамонт, он моя жизнь, и солнце гаснет для меня по мере того, как меркнут его глаза. Мне нужны деньги, чтобы хоть на неделю уехать на берег моря, подальше от этой жары, пыли и грязи. Я возвращу Вам все зимою. В Ваших последних письмах Вы как будто забыли Вашу маленькую Лелли – но я Вас люблю, и потому решаюсь просить Вашей помощи. Пришлите, сколько можете. Простите, Бамонт, дорогой, я так измучена, я так хотела бы плакать на Вашей груди. Простите.
Ах да, Mme Лемпицкая давно уже просила меня «исходатайствовать» за нее, чтобы Вы достали ей какую-нибудь работу – перевод – рекомендовали бы ее в какой-нибудь журнал, – что-нибудь, словом, чтобы она могла зарабатывать немного[406].
Простите, Бамонт, «на этот раз еще убогое» письмо.
Будьте искренни с Вашей маленькой Лелли во имя Вашей прежней и моей настоящей любви – это правда, Бамонт.
Приезжайте скорее. Поцелуйте Катю.
Бамонт, мерси. Я была очень огорчена. Это имело вид: «Вы просите денег? Вот деньги», – и потом холодная открытка… И «Я Ваш» в конце показалось мне ложно. Какой ужас эти деньги. Мне так холодно всегда от них. Особенно в этом случае. Хотелось брыкнуть, как лошадь, и убежать от этих двух бумажек. И тут же другая мысль: «Он болен. Он поправится», – заставила меня протянуть к ним руку. Это ужасно. После того, как я Вам писала – René совсем расклеился и доктор велел немедленно уехать на месяц в деревню, говоря, что его организм, несмотря на удивительную крепость и здоровье, страшно утомлен деятельностью. Теперь ему лучше.
Пишите, Бамонт, – если я ошиблась. Катя, дорогая, милая, крепко, крепко Вас целую, как мою милую старшую сестру[407]. Где Ниньчик?
Я Вам писала в Bruxelles[408], Бамонт, – получили ли Вы мое письмо? Где Вы и Катя? Если напишете мне совершенно искреннее письмо, буду очень облегчена, так как мне кажется, что Вы так далеко, что Вы больше не понимаете, не любите Вашу Лелли. Не хватает смелости писать Вам. Мама в Лозанне. Мы ищем ангажемента на зиму.
Бамонт! Простите карандаш – я нездорова и пишу в постели. René гуляет и я одна – совсем одна и с Вами. Мне так хотелось бы болтать с Вами просто, по-дружески, как прежде! Но есть что-то, чтó Вы во мне не понимаете. Так в последнем письме, почему Вы говорите о «побежденных»? Вы считаете меня «побежденной»? Да? О, Бамонт, Вы забыли Вашу Лелли! То, что, по-Вашему, победило меня – в сущности ничего не изменило во мне. Я, правда, переживаю какую-то «crise»[409], какой-то глухой переходный период, после которого знаю, что наступит гроза – и за ней новый свет, новый простор неизведанной чистоты…
То, что мешает мне писать – это и есть именно шум, временное состояние, а не что-нибудь иное. Наоборот, в Короче я была на высоте победы после одного из пережитых периодов борьбы, – и потому писала Вам спокойно и ясно.
Нет, Бамонт, раз уж Вы взялись любить Лелли – любите ее всегда, и ищущей, как теперь, и нашедшей, как тогда. Мы все еще на берегу моря в очаровательном зеленом местечке. Думаем остаться здесь еще 2 недели, затем поехать в Париж, а оттуда к 10му сентября в Орлеан, куда мы ангажированы на зиму.
Вы сердитесь на меня за мое церемонное отношение к Вашим деньгам. Но Вы не можете себе представить, до какой степени я глупа в таких случаях. Я никогда до сих пор не думала о деньгах и не знаю, как с ними обращаться, чтобы не шокировать старших, к которым невольно в этом случае присоединила и Вас. Не вините меня, если, не находя в своем уме подходящих выражений, я употребляю общепринятые слова: в сущности, я думаю так – у меня нет денег, у Бамонта они есть, мне они нужны, Бамонт мне их даст, и все это очень логично, так же логично, как было бы обратное. Потому-то я и обращаюсь к Вам скорее, чем к своим родителям, – у них мне страшно тяжело просить денег, особенно из‐за René. И вот теперь я опять не знаю, что делать. Нам нужно прожить еще 2½ месяца до получения жалованья в Орлеане. Нужно заплатить парижской хозяйке около 150 francs. Нужно, главное, – иметь каждому по 4 костюма для сцены, обувь, шляпы, etc.
Для всего этого, в обрез, нам нужно 2 тысячи франков, которые необходимо достать в 2 недели. У «своих»? Ни за что. После тысячи возобновленных историй по поводу René они мне дадут половину из снисхождения, с сомнениями и вопросами: «Нельзя ли было бы как-нибудь иначе устроиться, да что же из этого дальше будет, etc.» Нет, уж лучше заранее разбить голову об стену! Понимаете, Бамонт? Скажите, как мне быть? Можете Вы достать мне 2000 francs? Это уже не пустяки и, конечно, Вы не рассердитесь за «я отдам»! Но отдам не скоро – года через 2, понемногу! Наше жалованье вдвоем 350 francs в месяц. На 300 будем жить, а 50 откладывать на уплату разных долгов.
Такая мерзость эти деньги! И что за жизнь у тех людей, которые постоянно думают о них!
Через 2 недели Вы будете в Париже? Около 20го, да? Мы тоже – я так рада буду видать Вас, Бамонт, мой милый. René прекрасно понимает разницу Ваших отношений к нему и ко мне. Поэтому мы с Вами будем часто вдвоем, и будем разговаривать, как в Короче, и Вы снова узнаете Вашу Лелли, и увидите, что она не побежденная.
Чтó Вы пишете в последнее время? Пришлите мне Ваши последние стихотворения. Любите ли Вы Samain?[410] Некоторые его строки напоминают Ваши. Мне страшно нравится его Cléopâtre, особенно 2я часть. Что Вы делаете в Оксфорде? Отчего бы Вам не приехать сюда? Я так была бы счастлива. Здесь так хорошо, тихо, море такое чудное, такие высокие отвесные falaises[411]. Вчера вечером мы пришли на берег – и так и застыли на месте. Нет, этого не рассказать словами – такая прозрачность отхлынувшего моря, такие дивные опаловые, серые, бледно-зеленые, бледно-лимонные, бледно-лиловые полосы неба на горизонте, и черный, совершенно черный силуэт паруса. А над тяжелыми скалами – тяжелые глыбы грозовых облаков из золотисто-дымчатого топаза. В первую секунду я увидела все это – во вторую подумала о Вас. Пишите мне, Бамонт, поцелуйте Катю, когда будете писать ей, и Ниньчика тоже. Вы очень любили Катю, когда она была с Вами!
Мама теперь в Лозанне, а папа на пути туда же. Посылаю письмо без марки, так как вот уже неделя, как у нас нет ни 1го су! Ждем манны небесной и не унываем!! Целую Вас крепко, крепко.
Ваша прежняя, не побежденная
Monsieur Constantin Balmont
12 Museum Rd.
Angleterre
Дорогой Бамонт,
Только сегодня из Вашего короткого письма я узнала, что Вы послали мне 5 фунтов. Они действительно получены в почтамте. Дело в том, что Вы должны были послать мне в письме бланк, по которому я могу получить их здесь. Если его у Вас нет, справьтесь на почте, будьте добры, Бамонт, у нас нет ни сантима. Большое спасибо. Если бы я знала, что Вы послали нам денег, то, конечно, не беспокоила бы. Скоро напишу.
Дорогой Бамонт,
То, что Вы принимали за расписку, и был бланк, предназначенный мне и по которому я получила 126 francs. Мерси тысячу раз. Если бы Вы знали, как такие «посылки» для нас много значат, – ведь до октября мы ничего не зарабатываем, и следовательно живем «подаянием». Если можете, продолжайте проливать на нас Ваши щедроты и да воздаст Вам Всевышний сторицею за каждую каплю.
Я же могу «воздать» Вам только благодарность и любовь, – чего Вы вовсе не заслуживаете, гадкий Бамонт. Пишете мне коротенькие денежные письма в 8 строк и считаете себя «исполнившим долг».
Знаете, я не верю Вашим «спешным» занятиям. Просто Вы забыли Вашу Лелли, потеряли веру в нее, считаете ее «очеловечившейся» и не интересуетесь больше такой обыкновенной особой. Не хотите приехать в Париж, думая, что Вам больно будет видеть «остатки» прежней Люси… Ну, разве не правда?
А если бы Вы знали, как Вы ошибаетесь!
И все из‐за того, что одно время мне было некогда писать Вам и Вы воспользовались этим временем, чтобы замкнуться до того, что теперь я не нахожу слова, которое могло бы открыть этот Сезам. Писать – не хватает духу. Вы теперь такой важный. Боюсь, что скоро придется убедиться, что Бамонт стал мне чужим. Ну право, и если так, то лучше я с голода умру, чем просить денег у своего ех-брата, который меня больше не любит и не хочет знать!
Ну будьте милым хоть раз, Бамонт, – напишите, раскройтесь!
И приезжайте в Париж, противный.
Да, действительно, Вы правы, Бальмонт <sic>, я знала, почему Вы молчали до сих пор, и какое чувство заставляло Вас замыкаться. Я давно уже отгадала это, но я хотела, чтобы Вы сами прямо и откровенно сказали мне, в чем дело. А! «Вы потеряли во мне нежнейшую девическую душу, от которой Вы многого ожидали!» А! Из-за того, что я часто говорю «мы» вместо «я», я «в значительной степени утрачиваю Ваш интерес!». Наконец-то Вы высказались прямо.
Нет, таких мыслей я не ожидала от моего прежнего Бамонта. Я знала, что Вы не понимаете единственной любви, находящей все виды силы, нежности, страсти, красоты – в одном и том же существе. Но я знала также, что, говоря Вам о своей любви, я нашла в Вас отклик и чуткое понимание всех моих мыслей.
Вы не поняли René, узнав его в невыгодные минуты и потому, что я сама в то время дошла путем усталости до порога сомнения.
Но сами Вы верили в меня и считали меня действительно нежнейшей девической душой, способной все понять, – как могли Вы подумать, Бамонт, что после 3х месяцев, проведенных вместе с René, я могла бы допустить малейшую ложь, малейший компромисс в моих отношениях к нему.
Вы забыли, Бамонт, что во мне нет лжи, что я вся – правда и что если бы я не любила René как мое лучшее Я, я не осталась бы с ним ни минуты?
Если Вы знаете это и то, что он для меня все, что есть лучшего во вселенной – как можете Вы говорить мне теперь о его «плоскости», etc.?
Если Вы считаете мою любовь ослеплением, как можете Вы говорить слепому, что солнце – черное? Я Вас не понимаю.
Да, я повторяю Вам, Вы его не поняли, Вы не поняли, как он чист и прекрасен и далек от земной грязи и плесени. Да, я говорю «мы», потому что мы– одно и то же, как 2 облака, слитые в одно – одно облако, а не два.
По-Вашему, женщина, говорящая Мы вместо Я, теряет свою ценность и становится частью. По-моему, женщина, отдающаяся человеку, с которым она не чувствует себя нераздельно слитой в одно мы– делает подлость, отдаваясь из интереса, или из животной страсти.
Может быть, Вы поймете меня в этом, может быть, не поймете, как я не понимаю Вашей любви, переходящей с одной женщины на другую.
Я нахожу гораздо более ограниченной Вашу многообъемлющую (объемлющую много экземпляров), чем мою любовь, объемлющую весь мир и всю меня в одном экземпляре.
Вы несомненно поняли бы меня, если бы понимали René. Но Вы 4 раза писали мне свое мнение о нем, и каждый раз это мнение было противоположно предыдущему, и каждый раз оно носило характер решительности и бесповоротности.
Уверяю Вас, Бамонт, что Вы не имеете о нем ни малейшего понятия и что Ваше полубессознательное желание, чтобы все женщины любили только Вас (скажите, что это неправда) – главная причина Вашего нерасположения к нему.
Если Вы приедете сюда до нашего отъезда (мы уезжаем 10го-11го сентября) и захотите просто, по-прежнему, взглянуть на нас, как когда-то на меня одну, Вы увидите, что далеко не потеряли то, что нашли во мне хорошего и светлого.
Мы с удовольствием поищем Вам комнаты, где угодно, скажите только какие. Эдинбургская улица в quartier de l’Europe – 2 шага от Gare St. Lazare[412]. Дом, где мы живем – очень хорошая гостиница; если хотите, мы возьмем какую угодно комнату для Вас.
Простите, что посылаю письмо без марки, – не могла не высказать Вам своих мыслей, а денег нет.
До свидания, Бамонт. Я «как следует» хочу Вас видеть, так как люблю Вас и хочу, чтобы Вы меня понимали. Простите за резкость, и отвечайте откровенно и поскорее.
Приложение
Константин Бальмонт Семицветник
Люси Савицкой
Письма Константина Бальмонта к Людмиле Савицкой
St-Brevin-les-Pins
Loire Inférieure
Villa Ferdinand
Люси, последняя моя мысль вчера, когда я уезжал из Парижа, была о Вас, первая моя мысль здесь, после того как я свиделся с родным, безбрежно любимым мною Океаном, о Вас.
Это – редкостный дар Судьбы, что я опять нашел Вас, и опять Вы поете в моей душе – так же, милая, как там, в незабвенные весенние дни, в сказочной Короче.
Да будут дни Вашей жизни легки и светлы, как лепестки яблонного цвета и белые кувшинки одуванчика, улетающие под теплым ветром. Лик Судьбы обращен к Вам ласково. Ваш любимый[413], – отдал он душу Вам, – отдал Вам тот талисман любви и верности и умного понимания, который встречается очень редко. Передайте ему больше чем дружеский, – братский привет. Он мне понравился, выражением правдивых глаз, сразу, а за эти дни встреч[414] я его по-настоящему полюбил.
2 января. Утро.
Вы видите, Люси, работать Вам придется, как Геркулесу. «Край Озириса» я послал Вам сегодня. Материал о Индии пришлю на днях. «Змеиные цветы», Вы сказали, у Вас есть[419]. Напишите мне поскорее. Благодарю А. Фонтэнаса и M-me Fontainas за стихи[420]. Я им напишу. Прилагаемый очерк о Достоевском не поместит ли он где-нибудь, – где захочет[421]. Был бы очень рад.
Слушаю Океан. В душе жажда творчества.
Целую Ваши руки.
Всегда Ваш «Бамонт».
P. S. Елена[422] шлет ласковые приветы Вам и Marcel Bloch’у.
Бретань. 1922. 22 января. Ночь.
Люси, милый друг, я вернулся домой и пишу лишь два слова. Страшно устал. Как жаль, что меня не было, когда Вы были здесь[423]. Очень это огорчительно.
Посылаю Вам листок слов, которые Вас затруднили. Теперь они будут Вам все ясны. Французское название «плавунца» Вы найдете по Латинскому термину верно у Ларусса.
То, что мною выбрано из написанного о Мексике и Египте, непременно должно войти в книгу. Когда у Вас наберется страниц 100–150 готовых, мы произведем точный подсчет букв и строк и выясним соотношение Русского текста с Французским. Менять указания Боссара[424] мы к сожалению никак не можем. Надо иметь 400 страниц, на странице – 36 строк, в сроке – 40 букв. Не пугайтесь. Это лишь сразу кажется страшно.
Милая, простите, что только эту скуку пишу. Завтра надышусь Oкеаном и здешней тишиной, и напишу что-то лучшее.
Привет Вашему мужу. Целую Ваши руки.
P. S. Елена шлет свои нежные чувства. Завтра пишет Вам сама. Пожалуйста, разведайте, выдумщик ли Жироду[425] или нет (ибо в 1-м случае он для меня –3.000 франков, во втором +3.000 франков. Различие!)[426].
Бретань. 1922. 27 января.
Милая Люси, вчера я мысленно говорил Вам разные слова, и прежде всего то, что, отдохнув от суетливого пути и почувствовав, что душа моя целиком ко мне вернулась, я вдвойне и втройне жалею, что Вы и ласковый муж Ваш были здесь в мое отсутствие. Как бы мы обрадовались друг другу, и сколько бы читали, и сколько бы говорили! Malheureux que je suis![427] Мы проходили бы около пенящихся волн Океана! Около Океана я никогда не чувствую себя неудачным и скучным. Какой случай быть блестящим потерян! Я чувствую, что Вы улыбаетесь, и перехожу к другому.
Касательно Жироду я уже написал одному его приятелю, и пока ничего не нужно воспринимать и предпринимать в этой грустной области. Если обещанные 3.000 франков не посланы из министерской кассы, очевидно, их нет, или еще нет. Хуже, если их уже нет – с отшествием Бертело[428]. Так или иначе, на ближайшей неделе я буду в ясности.
В Ницце я не погибал – совсем напротив. Но некие надежды мои погибли. Т. е., на моем вечере поэзии было 30 человек. Но я гостил в имении, где было сказочно прекрасно. И, если бы не мысль о покинутых, я бы долго оттуда не вернулся. О, мне даже больно об этом думать.
Елена и Миррочка[429], кажется, уже написали Вам длинные письма.
Я радуюсь, что Вы принялись вплотную за мою Мексику. Когда Вы кончите перевод всего, и мы прочтем его вместе, и сдадим в печать, мне кажется, я буду чувствовать, что небо действительно голубое и желанное. Ведь это будет начало нового моего литературного бытия. И цветок нашей нежной дружбы. Мы вдвоем, я и Люси, переплывем моря и войдем в сердца.
Я не говорил Вам. Конечно, Александра Васильевна Гольштейн (относящаяся к Вам однако хорошо) приревновала. Я отстоял Вас всячески. Я подчеркнул, что именно Вас хочу для перевода моих стихов и прозы. Она воображала, что Ренэ Гиль будет в обиде на меня[430]. Я ему написал, рассказал о Боссаре, о том, что Вы переводите меня, что мне хотелось бы слышать от него, что в нем нет никакого недружеского чувства. Он мне пишет, что конечно нет, что он напротив радуется этому, и приветствует в этом Вас и меня.
Люси, я пишу сейчас роман, «Под Новым Серпом». Там моя родная деревня, и детство, и юность, и все[431]. Ведь Вы переведете это, когда я кончу?
Листок слов прилагаю.
Просьба. Не можете ли мне послать небольшой курс орнитологии (о птицах), а также какую-нибудь монографию о перелетах птиц? Мне крайне нужно. Если у Вас нет, попросите у кого-нибудь. Или, справившись, велите какому-нибудь магазину послать мне наложенным платежом. Очень прошу.
Зачем мы не вместе? Мне грустно.
Кончаю письмо в полночь. Буря, молния и гром. Совсем волшебство. Приветы нежные.
Ваш К. Бальмонт.
Бретань. 1922. 31 января.
Люси, я посылаю Вам два малые документа. Сопоставьте числа, и Вы увидите, где правда и где в вежливой форме наглая ложь[433]. Впрочем не все ли нам равно. Главное следствие: мой очерк не появится в «NRF». Значит можно и нужно поместить его где-либо в ином месте. Если Вы имеете такое место, пожалуйста, отдайте туда. Мне все равно, где. На Божьей ризе или у Дьявола на спине, безразлично.
Простите, что я бранюсь. Людишки так надоели мне. «Коротенькие души», как говорит Достоевский.
Милая, напишите мне несколько ласковых слов.
Ваш К. Бальмонт.
Бретань. 1922. 5 февраля.
Люси, милая, простите машинную рукопись, но у меня болит рука. Я отвечаю на Ваши письма тотчас же, разве с промедлением одного дня, а если бы не бесконечная работа, я писал бы Вам ежедневно. Насчет моих скобок к чудовищному слову Орнитология, Вы неправы. Конечно, я знаю, что Вам известны и орнитология, и ихтиология, и всякие логии, но дело в том, что я питаю к ним глубокое отвращение, как и вообще, к искажению Русского языка какими-либо иностранными словами, вводимыми без всякой надобности. Поэтому, уступая обычаю, я сказал Орнитология, а уступая собственному желанию говорить правильно по-Русски, сказал О птицах. Совсем так же, в письме к Елене, к Кате, или к кому-либо близкому, я много раз писал Ботаника и прибавлял Наука о растениях. Итак, не мучьте меня «Орнитологией о птицах», что, впрочем, очень остроумно, а достаньте мне о птицах вообще, и в частности о перелетах птиц, одну-две книги. Заклинаю Вас. У меня остановится из‐за отсутствия таких книг большая красивая работа, которая составит мою и Вашу славу, в этом я ручаюсь, т. е. в славе. Будьте добренькой. Мне это абсолютно нужно, и скоро. Не может быть, чтоб в Париже нельзя было этого достать. Кстати, если идти с С.-Жерменского бульвара по улице Бонапарта, по правому тротуару, в одном из маленьких магазинчиков, где выставлены сплошь научные книги, я видел прошлой весной книгу о перелетах птиц, с изображением на обложке отлетающих журавлей или чего-то в этом роде. Я тогда искушался ее купить, но кошелек мой был почти так же легок и воздушен, как мои стихи. Он не стал, правда, тяжелее, но, если это не дороже франков 20-и, я бы купил.
Листок затруднительных слов прилагаю.
Насчет квартирки в Клямаре пока нельзя думать.
Андрэ Жиду, независимо от Коломбье, я напишу дня через три, и письмо перешлю Вам для проверки и поправки, а если позволите, то и для передачи[434].
Касательно Жироду, дело вот в чем. Я был у Жироду, застал лишь Морана[435], который говорил за него, или вернее от лица обоих, со мною. Мы условились, что я переведу для них три книги Жида, «Царь Кандавл», «Пасторальная Симфония» и «Странствие Уриэна», причем было говорено, что заплачено будет по три тысячи франков за книгу, первые же три тысячи мне Моран обещал послать вперед, как только я извещу, что я вернулся в Бретань и принялся за работу. Разговор был 28-го декабря. Вернулся я сюда 1-го января, а 2-го или 3-го послал Жироду подробное письмо о том же, и о разговоре с Мораном, прося послать эти 3.000 фр. Ни денег, ни ответа я не получил. Между тем «Симфония» Жида почти вся уже мною переведена. Я написал об этом приятелю Жироду, князю В. Н. Аргутинскому-Долгорукому[436], но пока еще ответа от него не имею. Писал Мережковскому[437]. Он ответил, что они, т. е. эти Французы, все обнадеживают, что это не потеряно, а лишь замедлено министерскими перетасовками. Перетасовки перетасовками, а работа ведь сделана, и делал я ее, опираясь на точные слова. Дело сие деликатное, и его легко испортить. Я не знаю, как поступить. Рассудите Вы, ибо Вы лучше знаете здешние нравы. И если можете деликатненько подтолкнуть через кого-нибудь ускорение этой денежной посылки, Вы меня выведете из болота. Если нужно ждать, я вздохну и буду сидеть в трясине до Страшного Суда. Я человек терпеливый.
Роман мой поет и играет. Я через неделю кончу уже 1-ую часть. Из этого Вы видите, что он не будет слишком длинный. Прочесть его Вам в Вашем милом домике в Клямаре будет моим восторгом. Я знаю, как он понравится Вам, и заранее вижу Ваше лицо.
Не тяготитесь приготовлением моей книги «Голубая даль»[438]. Это вся моя надежда сейчас на то, что мне можно будет остаться во Франции и переехать в Париж. Мне очень не хочется уезжать в Чехию или даже в Германию, куда все-таки придется уехать, если я буду все в той же оброшенности[439]. Если книга путевых впечатлений скоро появится, я знаю, она мне откроет новые пути, и к тому времени, я думаю, у Вас будет готова уже и книга моих стихов, а у меня мой роман, «Под Новым Серпом». Кстати, как бы Вы перевели это заглавие? Нужно передать и оттенок Новолунья и оттенок острого нового серпа, которым жнут самым реальным образом.
За хлопоты о «Достоевском»[440] и отрывках Мексиканских большое спасибо. Как было бы приятно видеть их напечатанными в «Журнале Латинской Америки»[441]. Я был бы прямо счастлив. Ведь этот журнал, конечно, читается и в Мексике и в Перу и в Бразилии, в странах, которые всегда поют в моей душе.
Фонтэнасу и Спиру[442], которых я читаю, мой поклон и большой привет Вашей маме[443]. Воспоминание о Короче одна из золотых страниц моей жизни.
Елена больна, лежит, завтра ждем доктора. Верно ползучее воспаление легкого. Она целует Вас. Благодарила Вас за юбочные монетки, в Самоанской открытке[444]. Дошла?
До свиданья, мой милый друг. Я силен и бодр и грустен. Но когда пишу роман, бываю счастлив от творческого ясновидения. Ведь это все мое детство и еще другое.
Привет ласковому Марселю, и Вашим милым девочкам[445].
Сердцем Ваш
P. S. Я подсчитал буквы, строки и страницы Мексиканских отрывков. Если иметь в виду, что французский перевод, кажется, раза в полтора должен быть длиннее Русского текста, – так уверил мосье Рош[446], – Вы верно уже приготовили почти треть всей книги.
Мне бы очень хотелось прочесть эти отрывки в вашей передаче. Не пришлете ли заказной бандеролью? Я бы вернул через два-три дня. Прошу.
Бретань. 1922. 6 февраля.
Люси, вчера я забыл вложить в свое письмо к Вам письмо к Гончаровой[447]. Вот письмо к ней. Сколько знаю, утром она всегда занята, а между 4-мя и 7-ю, лучше всего около 5-и, она дома и вполне визибельна. Это очаровательная женщина.
До новых строк. Привет.
К. Бальмонт.
1922.II.14. Ночь.
Люси, я хотел тотчас же послать Вам листок слов. Но ждал обещанной «о-птической книги для юношества». Заметьте, я люблю Лапласа[448], но также люблю читать о звездах и луне в календарях. И очень люблю книги для юношества. Но о-птическая книга не дошла до меня и ныне. Бедный я, разговариваю с трясогузками, дроздами, реполовами и овсянками, и душа моя делает движения глухонемого.
Заглавие, Вами придуманное, длинно. У меня уже было «La Fumée Bleue»[449], но это легковесно. Хорошо ли сказать «Visions Solaires»[450]? Если одобрите, да будет – это[451].
Милая, не увидите ли Вы Jean Variot[452]? Месяцев 13 тому назад он взял у меня небольшой рассказ «Le Rêve Blanc» и хотел напечатать в «La Revue Hébdomadaire». Мне надоело ждать. Рассказ, я знаю, можно напечатать в другом месте[453]. Варио бывает, кажется, ежедневно около 4-ех часов в своей «Société littéraire de France», 10, rue de l’Odéon. Если бы Вы его увидали и потребовали от моего имени, чтобы или он напечатал немедленно, или же отдал Вам рукопись?
Вернулись ли Вы из поездки?
Мы мерзнем и всячески пропадаем. Но я кончил 1-ую часть своего романа. Не знаю, возьмут ли его «Современные записки». Я ведь опять стал начинающим писателем, не лишенным таланта и подающим надежды[454].
Мои шлют привет Вам и Марселю.
Лапку Вашу деятельную лобзаю.
К. Бальмонт.
Бретань. 1922. 19 февраля. Вечер.
Люси, могу ли я Вас просить об услуге? Пожалуйста, переведите, не в очередь, то есть по возможности тотчас, мое «Слово о музыке» и пошлите мне перевод. Я же перешлю этот перевод Кусевицкому[455] в Париж, где он сейчас. Он обещал, вместе с Русским текстом, напечатать это в своем издательстве в Берлине.
Миррочка шлет Вам свои нежные чувства и листок с желаемыми книгами.
Я жду птиц и Ваших слов. Может, завтра будут. Соскучился о Вас.
Мои шлют привет Вам и Марселю, и я конечно.
До новых строк.
К. Бальмонт.
P. S. Были ли Вы у Гончаровой?
Бретань. 1922.II.22.
Люси, большое спасибо Вам и Марселю за все книги о птицах. Несмотря на элементарный их характер, они обе желанны мне и полезны для того, для чего нужны. Книга Фигье[457] напомнила мне как раз те книги о птицах, которые я читал в детстве, т. е. перенесла меня именно туда, где я хочу сейчас быть мыслью.
До следующих строк, более подробных. Приветы.
К. Бальмонт.
P. S. Посылал ли я Вам (в рукописи) или только собирался послать – «Дыхание Ганга»[458]?
Бретань. 1922.II.23.
Люси, я получил сегодня, и уже отправил в заказном письме Кусевицкому, Ваш великолепный перевод моего «Слова о Музыке». Как четко и сильно вышли у Вас эти строки, особенно «Чернобыль», да и все. И Елена, и я, мы находим, что по-Французски это звучит сильнее и определеннее, чем по-Русски[459].
Будьте добры, Люси, доставить русский текст Кусевицкому, у меня больше нет экземпляра. Я не знаю адреса Кусевицкого и направил свой пакет в Grand Opéra, Direction, M-r le Chef d’Orchestre, Serge Koussevitzky, – сейчас там идут репетиции его постановки «Бориса Годунова».
Я мечтаю скоро, в половине марта, перекочевать в Париж. Мне довольно одиночества. Но все дело в монетах, а их мало летает в моей окружности.
Вы говорите – разве у нас нет Вас? Моя милая, ну конечно же есть. Но ведь золотых приисков у Вас тоже не имеется. А пропадать мы иногда пропадаем в точности и определенно, т. е. улетучиваются всякие гроши.
Сейчас я в надежде на свой роман. Если с ним устроится, будет немного легче.
Люси, есть ли у Вас моя книга «Ясень»[460]? Там есть хорошие «фейные» стихи.
Радуюсь на птичьи страницы. Спасибо Вам за этот присыл. Вообще Вашу душевную ласку я ценю и чувствую очень.
К. Бальмонт.
Бретань. 1922. 27 февраля.
Люси, спасибо вам за Ваши большие письма. Вы самый верный друг, и только Вы из друзей так часто пишете мне и даете на расстоянии чувствовать, что Ваше дружеское чувство не погасает от победительного действия географии. Вообще же Русская дружба от географии совершенно увядает. Я полагаю даже, что потому и Русская история такая скудная и неинтересная, что Русская география такая обширная.
Не ссорьтесь с этим дураком, Рошем, если Вы уже не поссорились, но напишите ему так, как хотели. Конечно он нагло-глуп. Но мы его обойдем[461].
Анне Петровне и г-же «Аничке» мои приветы[462]. Надеюсь, мы скоро увидимся. Мечтаю и хочу. Мечтаю однако о Вас, а не о «Аничке».
Если перевод «Белого Сна» недостаточно хорош, просто пошлите его мне, – разумею, если Вы его выцарапаете у Варио[463]. Но если Вам не хочется видеть его, забудьте. Это не столь важно.
Листок слов прилагаю.
Как я рад и горд за Сильвэна Леви[464]. Я его давно люблю и ценю исключительно. Я в Париже не встречал более благородной и изящной души. Сообщите мне его адрес, я напишу.
Милая, привет Вам и Марселю. Я грущу, но бодр. Пишу свой роман.
К. Бальмонт.
Бретань. 1922. 5 марта.
Люси, Вы меня радуете, и письмом, и вестями. Как это хорошо, что Вы его отделали. Так ему и надо. И некоторые трезорки делаются шелковыми после удара хлыста. Закон некоторых изысканных душ.
«Sensations de voyages» было, помнится, не «Sensations», а «Impressions», не знаю, что предпочтительнее. Это должно остаться как подзаголовок к «Visions Solaires» (Технически это выгодно, – публика охотно читает путевые книги).
Ответу из «Amérique latine» я очень рад[465].
Перед Фонтенасом мне очень совестно. Клянусь Вам, что через два дня я ему напишу. А пока, если увидите его, скажите ему, что я часто вспоминаю светлую встречу с ним и с женой его у Вас. Пусть он простит мне мой Русский эпистолярный недуг. Я, право, заслуживаю снисхождения: За эти два месяца я написал половину своего романа в 3-х частях, писал еще другие вещи для заработка, и все это ежедневно истребляло меня.
Поклонитесь от меня Вашей Marianne[466].
Я получил от Кати[467] письмо в ответ на то, что писал ей, вернувшись из Парижа. Она просит передать Вам привет и сказать Вам, что она очень радуется на то, что Вы разошлись с Вашим тираном и счастливы с Марселем[468].
Шлю Вам «Дыхание Ганга», «Сарасвати» и «Пение»[469]. Еще 3 или 4 вещи пришлю в ближайшем письме.
Милая, пришлите мне сколько-нибудь Вашего перевода. Хочется почитать в полном спокойствии. С Вами прочтем все вторично вместе.
Я рассчитываю, что дней через 10 мы поедем в Париж.
Светлых снов Вам.
Ваш К. Бальмонт.
P. S. Елена поправилась. Она все собирается Вам писать. Но Мирра поглощает ее, как безжалостный левиафан морей.
1922. 13 марта. Бретань.
Мы все радовались за Вашу милую малютку, что так рано узнала хирургический нож[470]. Впрочем Миррочка узнала его (трепанация) двух месяцев от роду. Да поправляется Марианна (прекрасное имя).
Я радуюсь также за судьбу Вашей статьи обо мне[471], но огорчает, что «Фейным Сказкам» у Французских издателей так же мало везет, как у Русских[472]. А «Достоевский»[473]? А «Le Rêve Blanc»[474]? Получили ли Вы «Дыхание Ганга»? Шлю еще несколько лепестков. В «Литургии Красоты» хорошо бы взять «Три Страны»[475].
Весенние поцелуи Вам.
Ваш К. Бальмонт.
1922. 19 марта. Бретань.
Люси, милая, я так привык к частым весточкам от Вас, что вдвойне беспокоюсь, не получая от Вас так долго письма. Здорова ли Ваша девочка? Надеюсь, что никакого осложнения не случилось.
Мы наконец едем в Париж. О, это мы! В двух буквах так много стеснения для того, кто во всей своей поэзии говорит всегда – я. Пока это мы исчерпывается мною и Еленой. Мы едем 21-го в Париж, и, если мы найдем свободную комнату, остановимся в том же Grand Hôtel de Passy. Иначе где-нибудь по соседству. Во всяком случае тотчас найдем друг друга?[477]
Я был бы безумно счастлив, если бы у Вас перевод магически продвинулся, и мы скоро начали бы читать корректуры. Я в надеждах на печатание во Франции. Увы, иначе отъезд в Алеманию[478] станет горькой неизбежностью.
2-я часть моего романа сегодня кончена. При свидании буду читать Вам и 1-ю часть и 2-ю.
В тех страницах Вашего перевода, которые Вы прислали, я нашел как нежеланное лишь следующее: –
На стр. 1-й: «colosses sculptés»: «Colosses» ненавижу. «Исполин», «исполинский» – «géant», если нет ничего лучшего.
– 8-й: «administré par les prêtres»: «administré» ненавижу.
– 18‐й: «Vera-Cruz… comique»: «comique» резко, – лучше «amusante».
И это все! – Ваш перевод, как я писал, нравится нам всем исключительно. Вы передаете все интонации текста, языком изящным. Одинаковое знание двух языков, при Вашей чуткости, Вам служит магически.
Милая, Вы спрашивали о Жиродý. Мережковская[479] мне пишет (вчера), что они (Месьё Ж. и Моран) собрались уплатить по 3000 франков мне, Мережковскому, и Бунину[480]. Тaк кaк у меня и у Бунина уже готово по переведенной книге Андрэ Жида, это лишь справедливо[481]. Была, однако, речь о 3-х переводах для каждого. Подождем.
Миррочка и Анна Николаевна[482] приедут через неделю после нас.
Я радуюсь Парижу и свиданью с Вами, очень, очень.
Привет Вашему мужу. До скорой встречи.
Елена целует Вас.
К. Бальмонт.
Пасси. 1922. 2 апреля.
Люси, я только что собирался писать Вам, как пришло письмо от Вас. Мне хотелось сказать Вам, что я очень-очень, что я совсем особенно ценю Ваше благое желание меня переводить, и Ваша манера переводить меня мне нравится настолько, что уже не подходит здесь это маленькое слово: «Нравится». Нет, не нравится, это гораздо больше, это – радость угадания моей души другою душой, родной и видящей. Я буду горд и счастлив, когда эти страницы появятся в печатном виде.
Вчера я был с Еленой у Роша[483]. Voilà un type[484]. Вы его пронзили[485]. Расскажу при свидании. Впрочем, он похож на гимназиста, который горд своим саморазвитием. Он мне объяснял Куприна[486] и Достоевского.
Рош выразил, кажется, неподдельную радость, узнав, что Вы уже кончаете перевод, а также, что я уже прочел часть его. О романе он дважды сказал, что возьмет его.
Меня огорчило, что перевод Щупак[487] Вам не пригодился. Но, на досуге обдумав все, я ждал, что Вы именно так напишете. Сотрудничество в тонкой работе – вещь нестерпимая.
Мои Вас целуют. Привет.
К. Бальмонт.
Бретань. 1922.IV.24. Вечер.
Люси, мой милый друг, я читаю и перечитываю Вашу работу[488]. Но она исполинская! Теперь, имея ее всю, я изумлен, я растроган, я восхищен, что такую работу Вы сделали так скоро и так хорошо. Не нахожу слов признательности.
Я кончаю последнюю главу «Мексики». Все их высылаю Вам завтра утром. В течении этой недели верну и все остальное.
Я отметил то, что мне не нравится, и с чем не согласен, карандашом на полях и в тексте. Чего не захотите или не сможете изменить, оставьте – как сочтете нужным. Вы увидите, что я прошу очень малых изменений. Отдельные слова могут быть переданы более образно. В 3-х – 4-х местах есть неточность. Есть 3–4 пропуска.
Не имею сейчас возможности сделать справку – le или la, по-Французски, свастика. Мне кажется – le, у Вас – la (в «Mosaïque Fleurie»). Напишу в следующем письме.
Пожалуйста, пошлите мне тотчас же Русские тексты «Японии» и «Океании» (у меня лишь часть дубликатов).
Милая, когда я был в Париже, у меня были события внутреннего порядка, которые меня поглотили и растерзали[489]. Когда-нибудь скажу. А пока не дивитесь и не сердитесь, что я выказал Вам так мало внимания. Когда я был у Вас в последний раз и слушал забавную декламацию мальчика, мне было так тяжко, что я каждую минуту боялся рухнуть в обморок на пол[490]. Хорошая была бы картина. Меня возвращала к жизни Ваша Николь[491]. Я боюсь, что, увидав ее еще однажды, я в нее окончательно влюблюсь. И Марианна тоже прелестна. Люси, целую Ваши руки.
Ваш К. Бальмонт.
P. S. Люси, я разобрал ящик с заветными книгами и нашел «La migration des symboles» par le comte Goblet d’Alviella, и книжечку L. de Milloué, «Le svastika». Я прав.
Сегодня ночью буду читать Ваш перевод «Египта».
Как, верно, Вам было трудно переводить «Молитву» Словацкого[492]! С Польского на Русский гораздо легче ее переводить, и то было местами трудно. Но какая это сильная и живописно-выразительная поэма!
St.-Brévin-les-Pins,
Loire Inférieure.
1922.IV.27.
Люси, милая, я дочитал последнюю страницу Вашей работы и я счастлив, что Вы ее сделали. Это будет такая полная, такая цельная книга, и она так изящна во Французской одежде, каждая страница звучит, а такие страницы, как последние страницы «Мексики», как многие страницы «Египта», как все страницы «Японии» и «Океании», не только звучат, но и поют.
Только теперь, прочтя Вашу тщательную, тонкую работу целиком, я вижу, сколько труда, и сколько угадчивости, сколько вдохновения вложили Вы в нее.
Я послал Вам сегодня Египетские очерки и первый очерк Океанский, текст которого у меня нашелся. Завтра, верно, получу от Вас другие тексты, сверю, и верну Вам все остальное.
Я отметил места, с которыми не согласен. Их немного. Если, по размышлении, Вы в чем-либо не согласитесь со мной, Вы можете настаивать на своем, и я не буду оспаривать. Ведь Вы Французский язык знаете бесконечно лучше меня, и, быть может, некоторые места, мне не нравящиеся, я вижу слишком Русским зрением.
Меня огорчило, что почти все стихи в «Океании» Вы выпустили. Но, может быть, так будет стройнее.
Частности. Я всегда пишу с большой буквы слова: Солнце, Луна, Море, Океан. После двоеточия всегда начинаю фразу с большой буквы. Пожалуйста, соблюдите это. Не знаю, как Французы пишут имя Египетской богини Тэфнут. Вы пишете ph, Англичане пишут f.
Неточностей во всем этом множестве страниц вряд ли наберется десяток.
Буду с волнением ждать того дня, когда Вы отнесете всю рукопись Боссару.
Откликнитесь. Елена целует Вас. Приветы.
К. Бальмонт.
1922. 1 мая.
Люси, от Вас нет отклика. Я беспокоюсь, захворали ли Вы или кто-нибудь из Ваших близких. Елена, желая помочь мне скорее прочесть весь Ваш перевод, разыскала в своих сундуках дубликатные листки «Японии» и «Океании». Я все сверил, не нашлось только «Фейного Творчества»[494], но я его помню наизусть (кроме имен). Таким образом, сегодня к Вам уехали последние очерки. Эти последние очерки нравятся мне больше всего, хотя, как я говорил, мне нравится очень и все, целиком.
Ваш К. Бальмонт.
Бретань. 1922.V.3.
Люси, милая, Вы-таки свалились[495]. Когда я был у Вас в последний раз, на Вас уже лица не было. Хочу думать, что Вам теперь лучше.
Все мои соболезнуют Вам и шлют приветы.
Перебирая бумаги, я нашел свой старый очерк о Поль Форе[496]. Сомневаюсь, чтобы Вы его знали, и, полагая, что Вам будет приятно его прочесть, посылаю.
Целую Ваши трудолюбивые руки, и кланяюсь Марселю.
К. Бальмонт.
Бретань. 1922.V.4.
Люси, отвечаю на Ваши соображения.
Со всеми Вашими пропусками я согласен. Конечно, мне неизбежно жаль, что пропуски есть, но я сам вижу, что так стройней.
Заглавия частей книги все мне нравятся.
На первой странице (Вы не упомянули) ведь будет: «Visions Solaires. Impressions de voyage»?
P. 58. «Нужно беречь наши бедные глаза». Это, сколько помню, говорит батюшка в «L’ Intérieur» Мэтерлинка[498].
124. «répandre l’eau» меня немного удивило, но это верно. Некоторые отметки лишь указывают, что мне хотелось бы замены синонимом. Но я не настаиваю.
128. Сколько знаю, – Tecucistecatl – правильно. Правописание имен Мексиканских, как и Египетских, весьма произвольно и капризно.
137. «le passage de l’esprit» (переход). Нет ли синонима? Это слово неприятно (увы, опять, конечно, для Русского слуха!).
147. «Campement» мне больше нравится, чем «positions».
173. «Krophi et Mophi». Да.
188. Орфографию египетских богов оставьте, как она у Вас установлена, но Keb вернее, чем Seb. Итак: Keb, Tephnuth, Set, Noûct, и прочее.
188. «Сердце дышит рожденьями». Сердце своим дыханием (биением) создает рождения. В этих рождениях все то, чем сердце дышит, т. е. живет, вся его сущность. Формула трудная.
204. «figure de lumière». Слово слишком геометрично. «Просветленной» это что-то более vague[499]. Однако можно это сохранить.
– В тексте есть «над стремниной» («Край Озириса» 136) и потом «в горах». Сейчас, не имея Французского перевода, не знаю, почему мне показалось, что надо «précipices». Верно, из‐за «стремнины».
205. «Porteuse de Ciel» – вполне точный перевод. Но по-Французски не звучит немного забавно? Нельзя сказать – «Celle qui porte le Ciel»?
208. «Приснопамятная» – если возможно, «triplement mémorable». Но вместо «triplement» какое-нибудь более достойное слово.
Перевод «Исповеди» совершенно удался Вам.
222. Svietachvatar правильнее было бы Shv…, но я предпочитаю форму Sviet… Это из «Упанишад».
224. В поэзии «пряжа» и «ткань» часто отождествляются.
239. «Nobounaga».
242. «Yoshivara» понятие весьма знаменитое. Без этого имени слова «публичного дома» звучат грубо. Если непременно хотите выпустить Jошивару, просил бы вместо «публичного дома» сказать «дома посвященного страсти» (если это по-Французски не комично).
290. В Новой Зеландии говорят о лиственной сосне «kaouri». В двух ученых «Географиях Растений» этого термина я не нашел, и вижу, что «araurcaria» – верный перевод. Вероятно, kaouri местная форма сокращенного имени.
316. Ветки Древа Грусти (Tree of Sadness) покрыты маленькими голубыми цветками.
165. «Ключи жизни» – clefs, а не fontaines. Их лик .
Это изображение на стенах Египетских храмов встречается в таком количестве, что воистину эти ключи жизни струятся, образуют струи.
Милая, кажется все![500]
Я послал Вам вчера копию (адски плохую) двух частей моего романа. Если у Вас будет досуг и героизм глаз, прочтите те места, которые отпечатались лизибельно[501], и, при свидании с Боссаром или Рошем, расхвалите немилосердно мой роман. Моя просьба инсолентна[502], но, если Вы ее не исполните, я не скажу слова упрека.
Ах, Люси, Солнце светит, а душа моя в Аду. То, что в сердце, всего более жестоко.
Привет Вам и Вашим. Отзовитесь скорей.
К. Бальмонт.
1922.V.15.
Фонтэнасу, пожалуйста, передайте мою признательность. Я настоящий поклонник его стихов. Сейчас читаю по вечерам вслух его новую книгу, и как только окончу ее, напишу ему подробное письмо.
Как жаль, что Вы хвораете! Я надеюсь, что это неопасно?
Не читайте больше мой роман по плохому экземпляру. Я пошлю Вам для прочтения хороший экземпляр. Он будет готов через 2–3 дня.
Мюра обещал мне перевести роман, а Александра Васильевна обещала помогать ему в этом[504]. Дальнейших сведений от него пока не имею.
Мне хочется, чтобы Вы прочли мой роман целиком, и я думаю, что Вам будет интересно его прочесть. Я говорю там о себе столь много внутренно-заветного, интимного, как не говорил еще нигде никогда.
Привет сердечный.
К. Бальмонт.
1922.V.24. – Живы ли Вы, Люси? Откликнитесь, если можете. Мы все очень о Вас беспокоимся. Привет Марселю и Вашим очаровательным девочкам. Ваш К. Б.
1922.V.29.
Люси, я очень радуюсь, что Вам нравится мой роман. Когда у Вас будет свободная минутка, напишите мне подробнее, что именно Вам пришлось по душе. Пока удержите рукопись у себя. Я еще не знаю, куда ее направить. Может быть, ее нужно будет послать в Париж, в этом случае ей не нужно будет излишне путешествовать.
Я ближусь к концу последней части.
Как жаль, что такая задержка с Боссаром. Надеюсь, – вернее, хочу надеяться, – что тут не лежит на дне какая-нибудь зловещая гадина, которая нас укусит. Во всяком случае, с нетерпением буду ждать дальнейших сведений.
Вы, должно быть, продолжаете хворать?
А неприятности какие? Нельзя их развеять?
Привет Вам нежный.
К. Бальмонт.
1922. 2 июня.
Люси, я получил вчера письмо от Роша. Оно столь же гениально, как он сам. Я однако напишу ему, что принимаю то, что он предлагает, т. е. «d’ignobles» вместо «les ignobles» и опущение слов о немыслимости Германии без Рейна (o, tempora!)[506], а равно и о перестановке заглавия и подзаголовка.
А какие изумительности он написал Вам? Хочу надеяться, что ничего чрезмерного, и что я благополучно получу корректуры. Кстати, для чтения корректур мне необходимо иметь Ваш текст, или же читать их лишь после Вашего прочтения.
Через несколько дней кончаю 3-ю часть романа, и тотчас пошлю ее Вам для прочтения.
Как Вы? Кажется, не очень хорошо?
Нежный привет Вам.
К. Бальмонт.
Бретань. 1922. 11 июня.
Люси, я получил Ваше письмо, и оно огорчило меня больше, чем могу выразить. Я был уверен, что Рош устроит Вам какую-нибудь гадость. Мне хотелось бы думать, что историю эту можно еще распутать, не уступив нам наших прав, но все же не доводя до таких крайностей, как призрак суда.
Я отрицаю за Рошем какое-либо право делать Вам и мне стилистические замечания. Ни Вы, ни я, читавший Ваш перевод и вполне его одобряющий, находящий его художественной и тонкой передачей моих текстов, не представляем из себя пятнадцатилетних гимназистов, которым уроки стилистики полезны. Во время последнего моего разговора с Рошем, в присутствии Елены, он говорил о своем «несомненном» праве рассмотреть, корректен ли Ваш перевод с точки зрения чистоты Французского языка, и с этой точки зрения, чисто грамматической, настаивал на своем праве сделать, если нужно, Вам указания. Указывая ему на то, кто Вы, я выражал сомнение, чтобы тут понадобились какие-либо указания. Во всяком случае, он сказал, что никакие изменения текста не могут осуществиться без предварительного Вашего согласия. Итак, тут можно предлагать, просить, но не требовать и не настаивать. Тем менее имеет он права предъявлять претензии стилистические.
Грамматика? Сомневаюсь, чтобы он резонно уловил Вас в чем-либо таком. И я хотел бы спросить, чтó, Рене Гиль есть ли Французская грамматика? И грамматика ли Бодлэр, или Верлэн, или Маллярмэ?[507]
Тот мусью, по имени Икс или Игрэк, который хочет Мексиканские кодексы назвать увражами[508], этим самым показывает, что он человек совершенно малограмотный. Это термин, принятый у всех мексиканистов, будь они Французы, Испанцы, Англичане, или столь страшные для Роша Немцы. А переводить словом «эвейе»[509] «понимающий взгляд» показывает в этом Игрэке, играющем в шулерские карты, желание заставить нас говорить языком комивояжэров, к чему конечно мы не имеем ни желания, ни даже способности.
Это мое письмо, если считаете полезным, прошу перевести дословно и осведомить Роша. Буду с нетерпением ждать конца тяжбы. Но как это тяжко.
Ласковые приветы ото всех. Елена и Мирра сами напишут. Я только что кончил свой роман. Пошлю Вам 3-ю часть завтра-послезавтра.
К. Бальмонт.
P. S. Миррочка очень благодарит за карточку.
Бретань. 1922.VI.13.
Люси, я послал Вам вчера телеграмму, и хочу, чтобы она не была истолкована Вами как-нибудь неверно, что при краткости телеграмм всегда возможно[510].
Я разумею телеграммой следующее. Не отступаясь нисколько от наших прав, на которые сделано явное посягновение, я убедительно прошу сделать все возможное, чтобы не доводить до разрыва с Боссаром. Все мои надежды были построены на выходе «Visions Solaires», на обещанном напечатании перевода моего романа, и на дальнейших, возникающих отсюда, возможностях. Если это рушится, не только сейчас я впадаю в безвыходность, но и дальнейшее мое пребывание во Франции становится фактической невозможностью.
Напишите мне, пожалуйста, так скоро, как сможете, о дальнейшем ходе всего.
Я прошу Вас также написать мне подробнее, какие фамозные[511] изменения предлагают Вам сделать. Мне надо быть вполне осведомленным, на случай возможного, письменного или личного, разговора с Рошем и Боссаром.
Получили ли Вы 3-ю часть романа?
Я пишу сонеты и томлюсь.
Привет Марселю и Вам
К. Бальмонт.
Бретань. 1922.VI.14.
Люси, сегодня у нас праздник, и я даже весь день ничего не делаю. Получил последний № «Le Monde Nouveau» с Вашим лучезарным очерком обо мне и с превосходнейшей передачей четырех сонетов[512]. Читая и перечитывая, не знаешь, какой сонет лучше вышел. Каждый лучше. А очерк написан не только красиво и с настоящим острием, но в нем и чувствуется та стальная правильность движений и та мягкая гармония, которые отличают кошек и пантер. Глупец (а большинство читателей, везде, глупцы, желающие чтением лишь подтвердить свою глупость) должен оцарапаться, пытаясь сорвать здесь розу, и, оцарапавшись, увидит, что это роза совсем настоящая.
Привет Вам. Я хотел бы, чтобы Вы написали обо мне целую книгу.
Посылаю Вам стих «Он Читающий Звезды». Не откажитесь перевести. Это для женевской газеты «La Famine», издающейся в пользу голодающих в России.
Все шлют Вам ласковый привет.
К. Бальмонт.
Бретань. 1922.VI.20.
Люси, милая, не умею выразить, как Ваше последнее письмо, все переливающееся весельем и остроумием, обрадовало меня и всех нас, – не обрадовало, а вернуло способность дышать, освободив от кошмара нескольких недель. Последние две недели я ни о чем другом не думал. Я чувствовал себя оскорбленным за Вас и за себя, и так как я всегда, в практических вещах, в достаточной степени «out of space – out of time»[513], я совершенно терялся в мыслях, что мне нужно сделать и как я должен поступить. Я несколько раз хотел написать Monsieur Булыжнику[514], что, дескать, vous n’êtes qu’un goujat[515]. Если бы я лучше владел, чем это есть в действительности, Французским эпистолярным слогом, я бы верно это уже и сделал. Но я рад, что я не владею эпистолярным слогом. Последние несколько дней были совершенно невыносимы. Я считал, что положение дела безвыходное. Ибо какой же выход там, где с одной стороны тупоумная слепота, а с другой справедливая настойчивость оскорбленной гордости. И я говорил своим: «Считайте, что дело потеряно. Люси не может уступить, и не должна уступать. И в ней сейчас задето троякое достоинство: Самолюбие женщины, самолюбие писательницы, самолюбие Польки[516]. Это будет тройной взрыв». И я думал про себя уныло: «А потом возникну я с своей словесной палицей, но булыжник есть булыжник».
И вдруг, как писательница, Вы напали на врага во всеоружии полного парада шпаги, – как женщина, сумели превратить это в гипнотизирующее зрелище, избегнув бесполезного убийства, – и как Полька, мазуркой ошеломили врага и добили не убивая, так что он запросил пардону.
Честь и слава Вам!
Должен сказать, что и Елена и Анна Николаевна все время, пока я малодушествовал, держались иного взгляда на положение вещей и были уверены, что Вы благополучно распутаете узел. Но тревога, конечно, была большая.
Меня продолжают мучить два обстоятельства. Тут г. Булыжник опять лжет. Он говорил мне неоднократно, – и Боссар тоже, – что «как только m-me Savitzky кончит перевод, он будет сдан в набор и месяца в 2–3 книга будет напечатана». Теперь я должен ждать до августа. Это очень скучно, а в августе новые могут быть придуманы задержки. Затем, навязанное название книги мне ненавистно. Я люблю и хочу «Visions Solaires», а как подзаголовок – «Impressions de voyage». Когда мы писали договор, это последнее сочетание слов было взято provisoirement[517], до приискания настоящего. А когда настоящее было найдено, Булыжник пристал ко мне, что, мол, выгоднее назвать иначе, географы будут покупать книгу. Какой вздор! Много ли географов?[518] И мне вспоминается драма Бьëрнсона, «Geografie ock Kjärlighet» («География и любовь»)[519]. Там муж – ученый географ, понемногу заполняющий весь дом книгами. Жена терпела, терпела, но когда, завладев всеми комнатами, он стал наконец ставить книги в спальню, она его бросила. «Visions Solaires» индивидуально и интимно (для меня, как солнечного поэта). Похлопочите, чтобы оно было восстановлено вместо вынужденного, которое я принимал в письме условно («si vous insistez»[520]).
За монеты признателен Вам безмерно. С тем, что у меня найдется, я могу теперь спокойно прожить лето и писать, не чувствуя ежедневного бича заботы. Спасибо Вам, великодушно не притязающей на награду за «travail phénomenal»[521], и за душевное изящество Ваше, и спасибо Марселю, что он не восстает на Ваше расточительство.
Хотелось бы прочесть отзывы о Вашей статье.
До новых строк. Поцелуи Вам и приветы.
Светлых снов!
К. Бальмонт.
Бретань. 1922.VI.25.
Милая Люси, Ваше письмо ко мне о моем романе – настоящая хорошая статья, которую нужно было бы развить, дополнить цитатами и напечатать, – и благо будет мне, если у меня много найдется таких читательниц и читателей, как Вы. Но тут и недоуменный вопрос – и при нем готовый горестный ответ. Конечно, немного. То, что я написал, между прочим, о проклятии наших дней, о неизбежном нарастании машинных душ с машинными чувствами, ведь это, увы, давно свершившийся факт. Ваша душа – цветок, растущий из глубины, он слышит дыхание другого цветка. Мне довольно этого. Но я знаю, что не наша впечатлительность владычествует над миром.
Я пишу сейчас Вам только эти несколько строк. Волнения последних недель совсем сразили меня, и я сейчас так истерзан, что хоть на мир Божий не глядел бы.
Как только немножко радости вернется в мое сердце, напишу Вам подробнее.
Напишите что-нибудь яснее о Вашем новом домике, и когда Вы в него переезжаете[522]. Мы радуемся за Вас, а Миррочка по вечерам загадывает нам по-очереди загадки, какой дом хочет иметь каждый из нас, и мы развиваем наперерыв поэзию архитектуры.
Привет нежный.
К. Бальмонт.
Бретань. 1922.VI.28.
Милая Люси, Ваши письма – лучевые полосы, входящие в мое окно ласкающе-напоминательно. Эти правильно очерченные хрустально-золотистые протяжения напоминают мне, что есть мир, где жизни радуются, и где линии правильны, и где краски певучи. И напоминают мне ту любимую юную девушку, которая, кутаясь в шаль, стояла со свечой в руках на крыльце (так вижу ее), когда ранней весной я уезжал от нее. И напоминают мне самого меня тех дней, когда я любил все ощущенья бытия[523].
Мой край растоптан. Мой народ искажен. Мой дом разрушен. Дело моей жизни истреблено, в том, что может в нем быть истреблено. Милая, мне радоваться трудно, а каждое новое огорчение падает с удесятеренной свинцовой тяжестью.
Но от Вас идет свет. А свету Ирина Сергеевна и Жоржик-Горик всегда радовались[524].
Люси, я хочу написать мосье Булыжнику то, что прилагаю. Повергаю это на Вашу цензуру и прошу, изменив то, что сочтете нужным, прислать мне в образцовой Французской речи. Быть может, Вы прибавите, что, строго и повторно размыслив, я непременно хочу сохранить заглавие «Visions Solaires» – и почему. Я же перепишу и пошлю. Мне хочется, чтобы именно это письмо было безукоризненно стилистически.
От Мюра все еще нет никакого ответа. Послал запрос.
Хотелось бы увидать «переделанный» сонет «Aurorale»[525].
Со свечных дел мастером хотел бы помочь Вам разлучиться, но, увы, навряд ли смогу – у меня с Парижем больше нет почти никаких связей.
Мой милый друг, до новых строк. Елена действительно напишет Вам завтра.
К. Бальмонт.
P. S. Le R. P. Grumel franciscain fait demander si Mr. Balmont ne voudrait pas écrire un article sur St. Francis d’Assise qu’il ferait paraitre dans l’Élan des Jeunesses[526]. Не хотите ли участвовать в этом предприятии? Не укажете ли мне что интересное о Франциске Ассизском?
1922. 7 июля. Бретань.
Милая Люси, Ваше письмо меня смутило и, мне кажется, Вы не вполне меня поняли. Я ведь и сам чувствовал, что в таком виде мое письмо к Рошу резко. Поэтому я просил Вас изменить его, т. е. переделать по Вашему усмотрению, ибо Вы умеете говорить с такими персонажами, я же не умею и никогда не умел, даже в России, тем менее во Франции. Но что-нибудь вроде моего письма должно быть написано. Если Вы возьметесь это сделать вместо меня, я буду, конечно, этим счастлив, так как я могу понапрасну испортить все, я этого мусью поистине ненавижу. Я нахожу, что если его пустые глазелки видели Вашу статью обо мне, он может и должен понимать теперь, кто я, а следственно и быть несколько вежливее. Мне непосредственно он после того письма ко мне, которое находится у Вас, до сих пор ничего не написал. Я же считаю, что он должен известить меня, когда он пошлет мне корректуры. Я считаю также, что, обдумав, я никак не могу согласиться на изменения моего заглавия «Visions Solaires». Относительно романа он вовсе не «en principe» соглашался его напечатать, а формально обещался и спрашивал даже, кто будет переводить. Я поручил Мюра перевод, опираясь на это формальное обещание.
Научите, пожалуйста, как мне поступать дальше. Помимо Вас я сам ничего не предприму.
Дошло ли мое «Марево»[527]? В этой книге Вам мало что понравится. Когда уезжаете на отдых?
P. S. Ваш очерк обо мне имеет большой успех среди моих Французских знакомых.
Сосны. 1922.VII.16.
Люси, где Вы? В душе моей за эту зиму возникла новая потребность: часто получать от Вас письма. Жестоко, приучив меня к этому, лишать меня этой радости. Но Вы, вероятно, как раз в хлопотах поселения в своем деревенском доме. Если Вы в деревне, хочу думать, что у Вас есть печка. Нынешний июль более похож на декабрь. Все же иногда я пишу стихи, и сегодня, должно быть по закону контраста, написал сонет о Индии.
Ваш К. Бальмонт.
1922.VII.25. Сосны.
Милая Люси, Ваше молчание очень беспокоит. Не захворали ли Вы? Или Вы так устали, что с переездом в деревню решили на время – для всего и для всех – задернуть занавес?
Я получил от Murat перевод первых 4-х глав романа. По-видимости, он справится со своей задачей, но я, конечно, не могу его перевод сравнивать с Вашим.
Когда Вам будет нетрудно, будьте добры отослать 3-ю часть моего романа по адресу: M-r S. Murat, 18, rue Palestine, 19e.
А 1-ю и 2-ю части романа по адр.: M-lle O. Mojaïsky, 5 bis, rue Henri Martin, 16e (Ольга Николаевна Можайская – молодая поэтесса, переводящая меня на Английский язык[529]).
Напишите мне несколько слов, когда будет минута и охота.
На днях пошлю Вам новые свои стихи.
К. Бальмонт.
Бретань. 1922. 6 августа.
Милая Люси, я не писал Вам эти последние дни, ибо опять нимало не похож на Радугу, а Вы мне тосковать запретили. Что мне написать Вам о себе? Но ничего нет, что бы стоило говорения. Бывают дни нелогические и неизвинительно-серые, непростительно-неуместные, даже на фоне Французского неба, когда изменяют даже Июль и Август, и две эти календарные несомненности похожи на Декабрь. Так и я. Увял. Погас. Верно, расцвету и зажгусь, но пока этого нет.
Чек из «Нового мира» на тридцать франков давно получил. Я выписывал также от «Администратора» сего журнала пять экземпляров июньского номера наложенным платежом, он прислал мне даром эти экземпляры. Должен ли я все-таки послать ему 10 франков, или считать, что это любезность?
Рошу я не писал, ибо не знаю, что же ему написать. Он мне тоже ничего не написал и корректур я не получал. Кстати, мне кажется, что было бы наилучшим, если бы мы получали корректуры одновременно, но чтобы я свою корректуру посылал Вам, а Вы бы, просмотрев ее, отсылали Рошу, во избежание разночтения? Или как? Решите, пожалуйста, Вы.
Мне кажется, что уже пора бы добиться корректуры.
Посылку рукописи Мюра и Можайской, конечно, можно отложить до дня, когда Вас это не затруднит.
Елена послала Вам три Ваши книги и шлет Вам приветы.
Мой милый друг, дня через два я пошлю Вам стихов и, надеюсь, не мертвое, а живое письмо.
К. Бальмонт.
Бретань. 1922.VIII.14.
Люси, милая, мой единственный добрый друг, Вы меня трогаете так, как если бы вернулись времена детства и из соседней комнаты прибежала нежными ножками сестренка, – которой у меня, к сожалению, не было в детстве, ни потом, – и пролепетала: «Вот, крестная подарила мне шоколадный пирожок. Бери себе половину и половина мне».
Зачем Вы мне послали эти 60 франков? Поистине, весь шоколадный пирожок целиком принадлежал Вам. Однако сердечное спасибо, и с мальчишеским своекорыстием я отправляю подаренную половину в рот.
Рецензию из «Echo de Paris» я прочел с удовольствием весьма большим. Верну Вам ее завтра.
В «Le Monde Nouveau» напишу сегодня же.
Рошу писал дней пять тому назад, спрашивал о корректурах и о формальном его решении насчет романа, который, «опираясь на его доброе слово, я поручил переводить M-r S. Murat, Французу, знающему Русский язык так же хорошо, как Французский». О Вас я еще раньше сообщал ему, что Вы слишком утомлены, чтобы взяться за роман, но что, конечно, Вас я предпочитаю кому-либо. Думаю, что, если он не в отъезде, дня через 2–3 будет ответ.
Как жаль, что Вам уже надо возвращаться к работе. Передайте наш привет Марселю.
Шлю Вам два последние стиха[530]. Хочется знать Ваше ощущение от них.
Светлых снов Вам, и радости покоя.
К. Бальмонт.
Бретань. 1922. 17 августа.
Милая Люси, я написал носительнице красивого имени Солянж Санглин[531], или вернее религиозно переписал Ваше к ней письмо, сделав вид, что это я так великолепно владею французским языком и куртуазным искусством об одной вещи сказать двенадцать слов, из которых одно приятнее другого для слушающего или читающего. О, если б я владел этим даром, я бы, верно, давно прославился в Париже и не ждал бы от каменных управляющих книгоиздательских фирм совершенно напрасно ответа на свои письма и корректур своих книг.
Август вступил во вторую половину, молчание боссаровского молодца грубо продолжается, и в третий раз я уж, конечно, писать ему не буду, хоть провались вся Земля в тартарары.
Если Вы имеете теперь возможность, пошлите, пожалуйста, две первые части моего романа Ольге Николаевне Можайской, 5 бис, улица Анри Мартэн, а 3-ю часть Сержу Мюра, 18, улица Палестины.
Сколько еще будете жить в собственном своем доме? И что делаете?
Мы постановили выбраться отсюда в Париж, а если в Париже ничего не найдется, то в Клямар или Фонтенэ-о-Роз. В начале сентября Анна Николаевна поедет в Париж на поиски, а мы останемся до начала октября. Если, однако, она быстро не найдет, переедем в конце сентября. Я так говорю. Мы так хотим. Но что из этого выйдет, не знаю. Мои берлинские десятки тысяч марок превращаются в малюсенькие франки. Но здесь топь и надежды влекут в Париж. Полагаю, что это будет крушение всей моей жизни во Франции. Однако еще не падаю духом. Возвращаю статью о Вас, или вернее о нас, или еще вернее сумму цитат из Вашей работы, которую да дарует мне Судьба увидеть напечатанной.
К. Бальмонт.
Бретань. 1922.VIII.18.
Люси, я вчера писал Вам, а сегодня получил № «Amérique Latine» с Вашим прекрасным переводом моих Мексиканских страниц[533]. Не нужно ли написать несколько строк в редакцию и не будете ли Вы добры составить это письмо? – Меня пригласили прочесть осенью в Сорбонне какую-нибудь лекцию по-Французски. Если «Visions Solaires» в октябре еще не выйдут[534], – что, кажется, очевидно, – я думаю прочесть «Океанию». Если же они выйдут, может быть, Вы захотели бы перевести «Лики Женщины в поэзии и жизни»[535]? Я пошлю Вам эту вещь, быть может, она Вас заинтересует. Но это, конечно, отнюдь не новая обязанность. – У меня сидит Миррочка, мешает мне и говорит, что у Вас «очень молодое лицо». А я прибавляю: «И душа».
Ваш К. Бальмонт.
Сосны. 1922.VIII.30.
Люси, милая, куда же Вы пропали? Я писал Вам несколько раз. Откликнитесь. Очень скучно и тяжко, когда даже Вы молчите.
Шлю Вам один из последних стихов[536].
Получил письмо от Кати, целую повесть. Она расспрашивает о Вас и шлет Вам свой привет.
Я немного живу. Это – противоположность детской формулы: «Она немного умерла» (обморок).
Светлых снов.
К. Бальмонт.
P. S. Привет Вашим девочкам, если они уже с Вами.
1922. 7 сентября. Сосны.
Люси, наконец весточка от Вас. Рад, что у Вас нет никакого несчастия.
Корректур, ни письма, не получал. Будьте добры послать мне один экземпляр.
Пишу новые стихи. На днях пошлю Вам кое-что из них. Писал Вам несколько раз.
Привет от моих.
Ваш К. Бальмонт.
1922. 11 сентября. Сосны.
Люси, я ждал сегодня от Вас корректур «Visions Solaires», но их нет. Если еще не послали, пошлите, прошу.
Посылаю Вам 3 стиха[538].
К. Бальмонт.
Бретань. 1922. 14 сентября.
Люси, милая, большое спасибо Вам – и опять мое сердце проникается нежной признательностью к Вам. Увидев вчера целиком корректуры «Солнечных Видений», я впервые увидел, какое количество труда Вы осуществили, а прочтя более половины всего подряд, снова ощутил, сколько внимания, работы и тонкой художественной впечатлительности Вы должны были истратить, чтобы вот я, сидя в своей утренней постели, мог с жадностью поглощать лист за листом. Втройне и вдвойне слава Вам.
Я уже читаю Японию и завтра, верно, кончу чтение всех корректур. По прочтении я отошлю их Вам с указанием замеченных мной погрешностей? В общем, корректура превосходная. Опечаток очень мало. Пока, до присылки моего экземпляра, замечу лишь следующее. Очень много стертых строк, преимущественно в начале страницы. В 8-й пластинке перепутан распорядок текста. В «Ниле» прозаическая строфа о Волге набрана как стих, мелким шрифтом. Считаю, что стихи о Индии как текст, а не цитата, должны быть набраны крупнее, как остальной текст книги, иначе это какое-то странное поношение стиху как стиху, и полное зловредительство для глаз.
Как Вы предполагаете, скоро ли Боссар сможет прислать мне последние корректуры? Я уж горю нетерпением увидеть книгу напечатанной, не столько из‐за корысти, – хотя и это, – сколько из жажды ощутить себя наконец существующим на Французской земле, ибо я все-еще призрак и личинка, а между тем ведь я бабочка, и красивая, правда?
Целую Ваши творческие и трудолюбивые и милые руки, мой светлый друг.
К. Бальмонт.
1922.IX.16.
Люси, я кончил вчера все корректуры. Сегодня читаю и просматриваю вторично. В понедельник верну корректуры Вам? Это ведь лучше, чем непосредственно посылать Боссару? Если Вы сочтете нужным послать мой экзэмпляр в Париж, пошлите. Если нет, просмотрите мои отметки, – может быть, они пригодятся Вам, ибо одно зрение никогда не может увидеть все погрешности, – говорю на основании долгого опыта.
Жду Ваших слов. Приветы.
Ваш К. Бальмонт.
P. S. Я хотел бы очень, чтобы Вы приложили в виде предисловия к «Visions Solaires» Ваш очерк обо мне, немного расширив его биографичность.
Сосны. 1922.IX.17.
Люси, милая,
Посылаю Вам корректуры, прочитанные мною тщательно, – почти все дважды. Просмотрите мои указания. Я, быть может, не все исправил так, как нужно. Кстати, говоря об океане, я всегда говорю «чайки», не обозначая «океанские чайки». Вы везде переводите «mouette», между тем, для «океанской» чайки есть хорошее слово «goéland». И не единственно ли верное?
Если Вы не будете отсылать мой экземпляр Боссару, и если он Вам не нужен, я очень хотел бы получить его обратно, по миновании надобности.
До новых строк. Спасибо за письмо. Пришлю Вам много новых стихов. Приветы.
Ваш К. Бальмонт.
Сосны. 1922.IX.19.
Люси, нет, M-lle Solange Sangline мне не ответила на благоговейное послание. Но, вероятно, она напишет мне два слова, если Вы пошлете ей мой сонет, сопроводив его Вашим изящным перепевом.
Прилагаемую программу будьте добры перевести теперь уже и вернуть мне. Я должен к 1-му октября доставить ее декану.
Знаете ли, какое чувство Вы дали мне возможность испытать, – редко мною испытываемое? Прочтя целиком «Visions Solaires», я проникся почтением к себе!
Приветы светлые. Скажите Вашим детям, что я их молю не отнимать Вас у меня окончательно.
К. Бальмонт.
1922.IX.20. Сосны.
Люси, вот «Лики Женщины». Я поставил в скобках цифры страниц, на которых не настаиваю. Те места, которые я хотел бы сохранить из осужденных страниц, я отметил вертикальной чертой.
Я думаю, что, если Вы будете переводить эту вещь, о чем я Вас прошу[542], Вы лучше меня увидите, какие места подлежат выпущению, как невыразительные по-Французски, какие, напротив, – звучат. Но на первой половине я настаиваю целиком (кроме слишком подробного изложения драмы Ибсена, быть может, вовсе подлежащего исключению, ввиду наличности отрывка из «Эдды»[543]).
Если бы, однако, Вы захотели перевести мой очерк целиком, конечно, я был бы счастлив. Быть может, можно было бы издать его отдельной книжечкой.
В России эта «лекция», многократно прочитанная, от Москвы до Тифлиса и от Петербурга до Владивостока, имела огромный успех.
Шлю Вам также два сонета и «Семь Коней»[544].
К. Бальмонт.
Сосны. 1922. 4 октября.
Люси, если Вам больше не нужен тот экземпляр корректуры «Visions Solaires», который был у меня, будьте добры послать его мне. Я хочу по приезде в Париж прочесть отрывки из нашей книги в некоем салоне.
Вы не упомянули в последнем письме, дошел ли до Вас мой сонет «Solange Sangline», и нашли ли Вы благоуместным послать его неведомой музе.
Получил телеграмму от Анны Николаевны. Она нашла квартиру около bd Pasteur. Мы остаемся здесь еще десять дней. Елена шлет привет. Вы, должно быть, совсем погибли от забот.
К. Бальмонт.
Сосны. 1922. 11 октября.
Люси, вчера я получил от Вас 80 страниц корректур. Сегодня в 11½ часу утра они отбыли к Вам, внимательно перечитанные. Кроме заглавного листа, который, пожалуйста, исправьте по своему усмотрению (конечно «сотрудничество» неуместный миф), я усмотрел такое ничтожное количество погрешностей, что считаю возможным bon à tirer[547]. Нужно только обратить внимание типографии на то, что на некоторых страницах есть стертые буквы.
Пишу вслед закрытку и посылаю Вам стих «Люси Савицкой».
К. Бальмонт.
1922. 12 октября.
Люси, шлю Вам стих, внезапно, не знаю почему, пропевший в моей душе.
От S. Sangline я получил очень милое, любезное письмо. Она его адресовала на мою старую парижскую квартиру, оттого и задержалось.
Спасибо за корректуры. Верну завтра же.
Стих к S. S. Вы неверно поняли, милая дуэнья, и очень меня огорчили, не переведя и не послав его по адресу или не вернув мне с переводом. Я отнюдь не задавался кокетством. Я лишь выражаю восхищение именем, а имя ее весьма цветочно.
16-го уезжаем в Париж, 2, rue Belloni, XV.
Целую Ваши руки. Привет Марселю.
К. Бальмонт.
Люси Савицкой
1922. 8 октября.
Люси Савицкой
1922.Х.25.
1922. 30 октября. Париж.
Люси, спасибо за большое письмо. Вы преувеличиваете, дорогой друг. Конечно, маленькое усиление моего слова есть в Вашем переводе сонета к Солнцеангельской[548] (если бы она знала, что о ней уже имеется целое dossier!), но в конце концов мой последний сонет к Вам есть поэтическое лукавство. Distinguo. Это так. Но кто же установит, где в желанности кончается одно и начинается другое.
Конечно, я не академик. Помилуйте. Я полная противоположность какой-либо академии. В этом мое горе, т. е. счастье.
Когда Ломоносову какие-то глупцы грозили отставить его от академии, он сказал крылатое слово: «Академию можно отставить от меня, но не меня от академии». Подобно, могу сказать, что академию можно приблизить ко мне, но сам я не делал ни шагу, чтоб к ней приблизиться.
Милая, напишите обо мне для «Visions Solaires» побольше[549]. Вы хорошо говорите обо мне. Подчеркните, что я не только поэт, но что своей поэзией (единственный среди Русских поэтов) я построяю цельный культ Огнепоклонничества и Солнцепоклонничества.
Если можете двигнуть грузные хляби Боссаровской печати, побудите доставить мне окончательные корректуры. Еще дней десять я продержусь, а там, боюсь, начну потопать.
В четверг приеду с Еленой часам к 6-ти, непременно, и независимо от Миррочки, если позволите, которая зависит от дождя, я же не.
Целую Ваши руки. Привет Марселю.
Ваш Бальмонт
1922.XI.7. Париж.
Милая Люси, я получил Ваше очаровательное предисловие[550]. Оно мне очень нравится и, благодаря Вам, я на днях появлюсь перед Французскими читательницами так, как видел себя во сне мой маленький Игорь: В новом кафтане, в новых лапотках, и в шляпе с павлиньим пером[551]. Андрэ Фонтенас окончательно будет мне завидовать. Кстати, я еще его не навестил. Но это оттого, что на лекции своей я простудился[552].
Был сейчас (7-й час вечера) у Роша. Он был весьма любезен со мной[553]. Он что-то напутал с корректурами. Отправил их все печатать, потом выяснилось, что они не все подписаны к печатанию. При мне телефонировал в типографию. На днях пришлет окончательные.
Знаете ли Вы, что такое Librairie Internationale? Некоторая посольская дама, жена прибалтийца, но сама Француженка, у которой я завтра буду обедать, предлагает мне устроить в этом издательстве мой роман[554]. Соглашаться? Или вести атаку на «Nouveau Monde» или «Nouvelle Revue» или «Revue de Paris», в смысле предварительного использования романа?
Посоветуйте!
Вернуть ли Вам préface[555] или можно оставить?
Извиняясь пред Марселем, что ему опять пришлось угощать обедом такого скучного гостя[556], как полусонный поэт (я уже был простужен тогда), шлю Вам самые светлые пожелания.
К. Бальмонт.
<Приписка Елены Цветковской на полях.> Милая Люси, что Вы с девочками предполагаете делать в ближайший четверг? Если направляетесь в Париж, быть может, заехали бы к нам, и Мирра, жаждущая встречи, присоединилась бы к вам, если намечены какие-нибудь развлечения, или, быть может, они просто позабавились бы у нас, а мы порадовались бы на Вас. Или же, наконец, если решено проводить время в Clamart, Мирра часа в 2 дня приехала бы туда, если это ничего не нарушит. Жду отклика. Целую. Е.
1922.XI.13. Париж.
Милая Люси, если я был нелеп у Вас в последний раз, то у себя, мне кажется, я просто был несуществующим призраком[557]. Обязуюсь исправиться. Быть веселым, разговорчивым, приветливым, находчивым, остроумным, даже умным, словом, совершенным.
Милая, я письмо Ваше последнее внимательно читал, но, если при разговоре с Вами говорил невпопад, это потому, что в ту минуту я был смертельно утомлен, т. е. в ту минуту настолько растерзан и беспомощен, что мне все казалось безвыходным. Правда, в некоторых вещах я и всегда беспомощен. Мне кажется, например, что скакнуть на тигра легче, чем так прямо скакнуть на Жироду и сказать ему: «Я талантливый, я иногда гениальный, изволь, мусью, заставить другого мусью меня печатать»[558]. А как на него не скакнуть? О, я не знаю! В конце концов, я ни с кем не умею говорить. Научи´те меня, прорепетируйте, я могу быть весьма хорош. А мои самостоятельные деловые шаги могут быть просто трагичны.
Люси, я внимательно прочел все корректуры и отослал их Вам сегодня утром. Пожалуйста, пошлите мой экземпляр Рошу. <Приписка на полях: Я этого хочу непременно.> Это произведет на него должное впечатление. Все погрешности должны быть исправлены. Однако еще раз спрашивать корректуры не только бесполезно, но и вредно. С каждым разом они не лучше, а хуже.
Не приедете ли Вы с Марселем (в день, который Вы назначите, но не в пятницу) обедать к нам и провести вечер. Впрочем, и пятница возможна, но лучше встретиться без случайных людишек[559]. Мы все очень хотим Вас обоих видеть у себя.
Целую Ваши руки.
К. Бальмонт.
P. S. Что такое «Comédia»? Кто есть Jean-José Frappa[560]? Хотели ли бы Вы увидеть какие-нибудь Ваши переводы из меня напечатанными в «Комедии»[561]? Некая M-me Nicolet (вдова художника) предлагает это устроить[562]. Я боюсь этой дамы Николет, она ниагарна настолько, что упорно зовет меня Mr Belmont.
1922.XI.19. Вечер. Париж.
Люси, милая, я преступно не ответил Вам на предпоследнее письмо, – но тотчас сделал то, что нужно. А именно, отправился на заседание Комитета Писателей, прочел Ваше письмо о Тимофеевой, произвел впечатление, и Чайковский (председатель) тотчас согласился хлопотать в Крымском Землячестве города Парижа и обещал известить меня, когда будет послана Ара[563].
Потом я ездил к князю Аргутинскому (приятелю Жироду)[564], и наводил разные справки, после чего на днях попытаюсь увидеть Жироду и приглашу его к себе. Но я не знаю, пойдет ли он ко мне.
В «Comédia» еще не имел мужества отправиться с глупенькой интродукцией к M-r Frappa от M-me Nicolet, но, кажется, решусь.
Большое спасибо за хлопоты у Жалю[565]. Сегодня у меня был Мюра, обещал не позже четверга прислать почти всю 1-ю часть. Завтра я напишу ему и попрошу свидания во вторник (или, если ему неудобно, в другой ближайший день).
Напишу Вам еще, быстро. Падаю от усталости. Видел сто человеков. Не стóит видеть сто человеков. Но Париж – левиафан.
Ваш сердцем
Париж. 1922. 22 декабря.
Люси, вчера я провел вечер у одного из боссаровских переводчиков М. Д. де Грамона[567], он кажется и поэт. Там был редактор «Женевского Обозрения», Робер де Трас из‐за которого, насколько я понял, и был весь вечер[568]. Был некий поэт Шарпантье[569], еще какой-то мусью, весьма жовиальный, хотя с перерубленной щекой и со стеклянным глазом; были званы и все знаменитые братья-разбойники, то бишь братья-писатели, Мережковский, Гиппиус, Бунин, Куприн, Бальмонт, с присными их. Конечно, когда я пришел с Еленой, – то есть, со значительным опозданием, – около полезного де Траса сидели – справа Мережковский, а слева Гиппиус, окружая его замкнутым кольцом своей беседы, а Бунин с женой замкнули в такое же кольцо жовиального мусью, имя которого от меня ускользнуло, но который, вероятно, чем-нибудь полезен страждущему человечеству, если Бунин так усердно развивал на нем свои скромные способности говорить по-Французски. Мне достался бесполезный и как будто довольно глуповатый Шарпантье. Я с ним вежливо поговорил, потом заскучал, потом внутренно озлился, и громко сказал Елене, воспользовавшись минутой сравнительного молчания: «Amiga!
Признаюсь, мне стало приятно, что Бунин очень побледнел. Он человек подозрительный и страшно самолюбивый. Но милая дуэнья велела мне быть серьезным, и потому, стряхнувши с себя и свирепость и робость, я вежливо и бесцеремонно вмешался в разговор Гиппиус и де Траса, в две минуты его, этого принципала минуты, заинтересовал, а через пять минут и Мережковский и Гиппиус были оттеснены в сторону, и весь вечер де Трас говорил почти исключительно со мной. Рассказываю Вам все это так словоохотливо, чтобы воспроизвести обстановку и сказать Вам, что де Трас просит Вас безотложно послать ему по адресу – Genève, Revue de Genève – поэму мою о Париже, – если Вам не жалко для этого журнала, прибавляю я, – и несколько стихотворений, где я противопоставляю Русское, Скифское – Европейскому. Нужно сказать, что я, кажется, более всего заинтересовал де Траса моими довольно резкими словами на эту тему, говоря о статье последнего номера журнала, посвященной Русским. Мне кажется, что хорошо было бы послать – «Скифы» из «Горящих Зданий», новых «Скифов», написанных в этом году летом, я посылал Вам – «Мы Скифы, мы птицы», – «Только» и «Неистребимое» из «Марева», и Ваш дивный перевод «Кто думает, что убивая…»[571]. Если бы Вы присоединили несколько слов от себя, это было бы чудесно[572].
Вечер кончился вполне благополучно. Братья-писатели, не исключая и меня, отбыли домой первыми, все вместе, сомкнутым строем. При этом душка-христианин Хапхапкин-Пронырковский[573], прощаясь, сказал мне: «До свидания, милый». Скажите после этого, что человеческая природа не улучшается.
Строгая дуэнья, одобрите меня.
Одобрите меня еще за то, что я через Анну Николаевну расспросил Александру Васильевну о ее отношении к «Солнечным Видениям»[574]. И вот подлинные слова Александры Васильевны: «Вот это действительно хорошо. Тáк – стоит переводить. Великолепно перевела Людмила». Передаю во всей выпуклости.
И еще. С разных сторон мне передают, что Французы моими выступлениями в Сорбонне были захвачены[575]. Это, быть может, несколько смягчит Вашу суровую требовательность. Что до меня, я продолжаю скорбеть, что столько труда было вложено – для помрачительного зрелища полупустой залы. И тягостное чувство глубокого презрения к людям и нехотения жить не оставляет меня.
Завтра мы ждем Вас и Марселя к себе. Вы не забыли? Вечером. Приезжайте. Может быть, при беседе лучше выясним характер посыла в Женеву.
К. Бальмонт.
1922.XII.23. 4-й час дня – Милая Люси, я только что получил Вашу пнэ[576]. – Криница, по словарю Даля, есть: ключ, родник, колодец на водяной жиле; отсюда производное, кринка, крынка. Я употребляю слово криница всегда в смысле: заветный колодец, свежительный заповедный ключ. Я в восторге, что Вы так быстро откликнулись. Не думаете ли Вы, что после заглавия каждого стихотворения хорошо поставить дату написания: 1-ые «Скифы» – 1899, 2-ые – 1922, «Париж» – 1914 (другие даты видны по дате книги)[577]. Касательно «Скифов» я дорожу приоритетом. Блок, коего «Скифы» появятся в «Revue de Genève»[578], был еще немой несмышленыш, когда я написал своих, и мои «Скифы» оказали также большое влияние на Брюсова, и вообще в свой час имели смысл боевого знамени, как вся книга «Горящие здания», о которой еще в нынешнем году, в Москве, на тайном собрании молодых поэтов читался, в этом смысле, доклад. (Времена катакомб!) В сегодняшнем дне есть нам – Вам и мне – маленькая радость: в «Comoedia» наконец нас хвалят, и весьма[579]. Вчера я обедал у Comtesse de Béhague[580]. Хозяйка ко мне и Куприну, особенно ко мне, была исключительно внимательна и мила. Были еще: Мережковский, Гиппиус, Бунин, Жалю, Анри де Ренье[581], пленительная жена поэта[582], которой я ухитрился сказать: «Госпожа! Вы меня сделали несчастным: Весь вечер меня мучает желание сказать Вам, что Вы – лучший сонет А. де Ренье» – Когда она спросила: «Разве это так?» – Я ответил: «Разве Вы в этом неуверены?» И она весело согласилась. Был еще Поль Моран, и какой-то путешественник по Африке, и какая-то красотка в воздушном серебряном платье. Все это было весьма шармантно. Рукопись «Ликов Женщины» еще пересмотрим. Кажется, их охотно напечатают, но мне хочется еще раз где-нибудь прочесть их.
Все-таки будем ждать Вас. Привет Марселю.
К. Бальмонт.
P. S. В душе моей бездонная грусть, и я хотел бы не быть[583].
1923. 12 января. 1 час дня.
Милая Люси, я порывался после лекции к Вам. Но нельзя было. Пока не услышу Ваш голос – хотя через письмо – я в тревоге. Довольны ли Вы были мною 10-го?[584]
Я не успел ничего путного сказать той даме, с которой Вы меня познакомили. Я был слишком утомлен и взволнован видением Истар[585].
Шлю Вам текст. Недостающие несколько страниц доставлю днем в субботу.
Молю исправить возможно скоро. Я выступаю не 17-го, а 18‐го, в 9 часов вечера, там же. (В четверг.)[586]
Снесся ли с вами, телефонически либо иначе, мусью Мерсро[587]?
Ах, я хочу Вас видеть!
Шлю газету с нашей победой[588].
И шлю любок <sic> моего сердца.
К. Бальмонт.
1923. 13 января. 4 часа дня. Париж.
Люси, посылаю Вам малые документы. Так я поступил? Завтра сделаю визит Вашей знакомой певице[589]. Окончание текста лекции посылаю заказным через час-два.
Всего лучшего.
К. Бальмонт.
1923. 25 января. Париж.
Милая и дорогая Люси, у меня нет слов, чтобы выразить Вам, как я был счастлив и горд, когда Вы говорили в «Хамелеоне» в понедельник и во вторник[590]. Я любовался на Вас, и чувствовал, как Вы мне дороги. Я восхищался той легкостью, тем грациозным изяществом, с которыми Вы делали логические и художественные повороты, являли легко-перекручивающиеся извивы, напоминающие полет ласточки[591]. И – воистину – в женской душе больше язвящей, тонкой, жалящей прелести, чем в мужской.
Эти два праздничные вечера – как две розы в саду[592]. В саду, где мерцают и алая, и белая.
Только что написал – кажется, выразительное – письмо Андрэ Фонтэнасу и послал ему сонет по-Русски, по-Французски и по-Русски в Латинской транскрипции.
Пока пишу Вам, принесли Ваше письмо. Спасибо. Переводы чудесные. Особенно «Sans paroles»[593]. Завтра же постараюсь «поместить». В Женеву напишу. О comtesse Béhague пока не слышно. И вот уже неделю Jaloux мне не отвечает на письмо (что совсем нехорошо, ибо, кроме того, я заходил к нему, не застал, и оставил в двери визитную карточку). Не знаю, как заставить его заговорить – или хотя вернуть мне 1-ю часть романа в переводе.
Милая, в субботу будем ждать Вас и Марселя[594].
Светлых снов – и расцветающих часов!
К. Бальмонт.
Париж. 1923. <3>[595] февраля.
Милая Люси, мое молчание было бы совершенно неизвинительной небрежностью, если бы получение «Васеньки»[596] в Вашем чудесном переводе не совпало с тяжелыми днями, о которых именно Вам, столько уже для меня сделавшей, я не хотел говорить ничего. Эту неделю мы совсем изнемогали от полного безденежья, – и как раз в четверг, когда мне нужно было ехать в Народный Университет читать свой роман[597], у меня было – ровно франк с тридцатью сантимами на четыре билета в метро, да у Анны Николаевны нашлось пятьдесят сантимов на булку, которая явилась моим московским обедом в Париже. Я не написал Вам о «Васеньке» не оттого, что я был в унынии, нет, я был совершенно бодр и даже весел, но, во-первых, я напрасно мыкался по городу, наводя бесполезные справки, во-вторых, на меня напало, вероятно, не вполне нормальное упрямство, возбранявшее мне писать. Я думаю, что Судьба нас испытывает всегда лишь до известной степени. Во всяком случае, когда я весело глотал свой чай с булкой, это было шесть часов вечера, и я только что убедился, что до Университета мы сможем доехать, а оттуда придется идти пешком, что уж не так страшно. В семь часов газета «Слово»[598] уплатила мне 100 франков, и мы дополнили свой обед. В восемь часов мне принесли письмо от казначея сорбонского и при нем чек в тысячу франков за выступления. В десять часов в Университете мне вручили 100 франков, на которые я никак не рассчитывал, ввиду малочисленности слушателей. Это походило на реплики Судьбы. Но сейчас, соображая, что через месяц будет то же, за исключением сорбонских денег, я чувствую в душе безграничную усталость. Мне хочется спокойно лечь в постель, и, ни на кого и ни на что не жалуясь, уморить себя голодом, как это сделал благородный Ирландец, увидевший во временном несчастии вечный смысл[599].
Я восхищен Васенькой во Французском костюмчике. Я верю, что он будет любимцем многих парижанок и парижан. Но я скорблю, что Белая Невеста[600] не шествует по белым страницам, заполняя их. Шлю рукопись. Может, Вы сами пошлете ее Жалю? Если хотите, пошлю я. Мне все равно. Если у Жалю есть мозг, а у него он в добром состоянии, он будет в восхищении от нашего дитяти[601].
Может быть, увидим Вас сегодня или в ближайшие дни? На трапезу с Китаянкой пойду непременно[602]. Марселю поклон. Целую Ваши искусные руки.
К. Бальмонт.
P. S. Только что получил письмо от интересной Русской дамы, у которой много знакомых Французов: Из письма: «Все, кто читал „Visions Solaires“, находят, что совсем не чувствуется, что это перевод. Действительно, прекрасно переведено». Дама прибавляет о своей радости, что ее «маме» тоже очень нравится. А ее мама, кстати, Полька, в свой час сбежавшая от мужа с некоторым Французом.
Все мои знакомые тоже выражали восторги по Вашему адресу.
P. P. S. Вопрос Ваш о «созе», в которой Вы правильно угадали сову, указует, что Вы забыли о врученном Вам листке опечаток. Или потеряли его?
Париж. 1923. 4 февраля.
Милая Люси, мне хочется посоветоваться с Вами в новой моей беде. Я посылаю Вам письмо Мюра. Пожалуйста, прочтите его и рассудите, как мне лучше поступить. Весной, говоря с Мюра и предлагая ему переводить роман, я ничего не скрывал в шатком отношении ко мне Роша. Я ему сказал, что Рош дважды дал мне слово, что он мой роман возьмет, и это слово было дано при свидетельнице, Елене. Говорил, что, если он даже и отказался бы подписать со мною контракт, напечатание романа тут или там, в журнале или в ином издательстве, мне представляется несомненным. Он со мною согласился и за перевод взялся. С переводом первой части, совершенно для меня непредвиденно, он продержал меня восемь месяцев. Решение свое он мне, рассудив с собой об этом еще два месяца тому назад, а может быть и при первом даже разговоре, сообщает лишь теперь. В конце концов, это его дело, но я бы, по совести говоря, на его месте поступил иначе. Или вовсе не взялся бы за работу, или сделал бы ее уже давно. У меня возникают теперь такие возможности. Самая желанная, я о ней говорю как о первой, вероятно и наименее возможная. Это просить Вас и предложить Вам, воспользовавшись переводом 1-й части, или не воспользовавшись, как Вам заблагорассудится, перевести роман в тот срок, который Вы нашли бы возможным и, конечно, считая Ваш гонорар переводчика Вашим, а никак не моим. Это было бы так пленительно желанно, что я не решаюсь верить в это, но, если бы это было возможно, все другие разговоры тут же и пали бы. Если Вы скажете, что это немыслимо, я или должен взять у Жалю 1-ую часть и начать самостоятельные шаги, чтó – и может обидеть Жалю и вряд ли даст те результаты, которые возможны при содействии Жалю, или же снова обратиться к Рошу и настаивать, не выбирая момента, на подписании договора, ссылаясь на данное слово, – это может привести к договору, а может и вызвать полный разрыв, ибо я, давая слово, держу его и не могу, в случае отказа Роша, не сказать ему слов окончательных и уничтожительных. Размыслите обо всем этом, милый друг мой, и посоветуйте. Я теряюсь в предположениях и огорчен очень. Ссориться мне ни с кем не хочется. Это и некрасиво и глубоко бесполезно.
Я был в редакции «Нового Мира». Тотэн был болен[603]. Я говорил с каким-то юным секретарем. Спрашивал о моей статье о Достоевском[604]. Он сказал встревоженно, что такой не поступало в редакцию. Отдал три Ваши перевода «Север», «Олень», и «Я в этот мир пришел». Он взял радостно и через день в письме подтвердил, что эти стихи приняты редакцией[605]. «Без слов» сегодня посылаю Лалуа в «Комедию»[606]. Еще у меня просил редактор «Франко-Бельгийского Обозрения»[607] дать ему стихов, но у меня больше ничего нет.
Приветы. И с нетерпением буду ждать Вашего ответа.
К. Бальмонт.
Париж. 1923. 9 февраля.
Люси, Ваше большое письмо столькое взбудоражило во мне, что я мог бы обо всем этом лишь говорить живым голосом, не иначе.
У меня просьба к Вам. Не переведете ли Вы мой сонет «Вещун» и сонеты о Китае из «Сонетов Солнца» – «Ткань», «Китайская греза», «Занавес»[615]. Я бы отдал их Лалуа, – или Вы сами бы их послали после напечатания «Безглагольности»[616].
Могу ли я отдать в «Gaulois» «Ирландскую девушку» и «Иди тихонько»[617]? У меня нет больше ничего из Ваших переводов.
Где мой «Достоевский»? Я хотел бы его отдать в «Nouvelles littéraires».
Не соберетесь ли к нам вечером? Были бы так рады. Обещался быть Р. Гиль. Верно будут еще люди.
Привет Марселю. Приезжайте!
Ваш К. Бальмонт.
P. S. Если Вы не сможете приехать завтра, назначьте, пожалуйста, день у Вас или у нас, нужно говорить.
Париж. 1923. 20 февраля.
Милая Люси, мы провели несколько суток в страхе, что у Миррочки дифтерит, – поэтому я молчал, поэтому, также, мы не были у Тампоралей[618] и не известили их даже. Страхи рассеялись, у Мирры ангина, но все же она должна лежать несколько дней, а мы пребывать как души Чистилища, хотя доктор сказал, что это не заразительно.
Я еще не поблагодарил Вас хорошенько за быстрый присыл нескольких прекрасных Ваших переводов. Я тогда же послал в письме к Луи Лалуа четыре сонета о Китае и в «В моем саду». Ответа еще не имею. Думаю, что он все или часть напечатает в «Комедии»[619]. С остальными стихами не мог еще ничего предпринять. Не то, что я пал духом, но мной овладело глубокое равнодушие к собственной своей участи, ибо ничто не делается так, как я хочу. Да, в конце концов, пожалуй, совсем ничего не делается, кроме того, что время от времени я делаю какие-то движения, чтобы убедиться, что можно было, за неосуществимостью мечты, не делать никаких движений.
Кстати. Или вовсе не кстати. Я получил письмо от некоего Я. Зборовского, которое прилагаю[620]. Мне кажется, стоит перевести эту статью, хотя она не Бог весть что[621]. Я написал Зборовскому, что Вы моя единственная переводчица и что он должен списаться с Вами. Статья эта совсем маленькая.
Посылаю Вам только что написанную мою поэму «Мое – Ей»[622]. Новорожденные стихи, как известно, очень любы родителям и мне кажется, что это очень хорошо. Конечно…
Что пишете Вы? Над чем работаете? Увижу ли Вас раньше дня Страшного Суда? Между прочим, если такой день настанет, я намерен бодро выступить не обвиняемым, а обвинителем – и суровым.
Миррочка беспокоится, не больны ли из‐за нее Ваши дети, ибо, оказывается, она чувствовала себя больной уже тогда, когда была у Вас.
Елена шлет привет. Я приветствую Вас и Марселя.
К. Бальмонт.
1923. 21 февраля. Париж.
Милая Люси, в минуту темную, отыскивая хоть несколько крупинок света среди старых давнишних писем, нашел свой очерк о Толстом и очерк Кречетова обо мне[623]. Мне хочется, чтобы Вы их приобщили к Вашему архиву, и прочли в свободную минуту.
К. Бальмонт.
1923. 22 февраля. Вечер.
О Страшном Суде я, хоть и шутя, говорил серьезно, о том настоящем Страшном Суде, который придет и на котором, быть может, по-Карамазовски, я не приму обвинений, а воистину буду обвинять Верховного Обвинителя.
На последнее Ваше письмо я тотчас же писал Вам коротенькое письмо. Написать своевременное подробное письмо помешала болезнь Мирры (не только то, что мы совсем сбились с ног, отыскивая доктора, но и боязнь через письмо принести к Вам в дом заразу).
Никого, кроме Вас, у меня нет. И именно эти последние три дня я с напряженной ласковостью в душе думал о Вас и сердце порывалось к Вам.
Спешу на заседание деловое. Завтра напишу еще.
Приветы мои и наши – Вам и Марселю.
Ваш всегда
К. Бальмонт.
1923. 23 февраля. Вечер.
Милая Люси, Вы никак не сможете угадать, что я сейчас делаю. Я читаю лучезарные страницы невозвратимого и неизменимого.
«…Бамонт, дорогой, Вы знали много, много женщин, но Вы не знаете женщины, Бамонт». – Вы узнаете?
«…Ах, я всегда счастлива, Бамонт. Я живу. Жизнь – счастье».
«…в вечном порыве к счастью я невольно и сильно поверну жернов…»[626]
Люси, Вы, верно, забыли, что ровно 21 год тому назад, сравнивая мои карточки и определяя мое лицо[627], Вы дали такую блистательную формулу, которой лучше Вы не сможете дать теперь, хотя бы пишете блестяще. Я сейчас прямо вздрогнул от восторга.
Ах, в амбарах прошлого, в его рудниках, у нас много золотого зерна и драгоценных камней.
Елена просит передать, что часики – Миррочкины, и что она очень соскучилась о Вас. Если бы Вы приехали завтра вечером – или когда Вам возможно!
До свиданья. Не сердитесь на меня. Ваш «младший брат»[628] не виноват перед Вами.
К. Бальмонт.
P. S. «Les Coursiers des Orages» и «Camée»[629] – как будто из тех дней.
1923.26.II. Париж.
Люси, я послал L. Laloy 4 сонета о Китае и «В моем саду»[630]. Посылаю R. Rolland «Заговор о Конях» и «Из подземелья»[631]. Прилагаемые 4 пожалуйста пошлите Орлиаку[632], – и может быть Вы захотели бы прибавить к ним одну из Ваших художественных формул?
У меня остаются «Древней», «Толедо», и «Ирландская девушка»[633]. Мне пришло в голову: Yeats перевел с Ирландского Английской прозой народную песню; я, восхитившись ей, передал ее Русским стихом. Могу ли я печатать ее по-Французски (вне лекции, где она на месте, как иллюстрация), или я могу подвергнуться упреку в плагиате?[634]
Сейчас ночь, а в душе моей три ночи. Одна вошла в другую, прикрылась третьей. Это очень темно.
К. Бальмонт.
1923. 9 марта. Париж.
Милая Люси, мы уже сто лет не смотрели друг другу в глаза. Когда свидимся?
На вечере Спира[635], – (о чем весьма сожалеем), быть никак не могли: У Елены был флюс, еще длящийся, а у меня вечер открытия Камерного Театра[636]. В среду и я был простужен. Вчера, по случаю отъезда Гребенщикова в Прованс, – (где он будет копать землю и сажать картофель), – у него был вечер[637]. Видел там Жалю, с ним весь вечер проговорил, и он сообщил мне, что Вы были больны. В эту субботу или, если нельзя будет, через субботу Жалю будет у меня.
Кстати, «Васенька» идет в одной из ближайших книг «Revue européenne»[638]. Книга «Воздушный Путь» вышла, и я на днях получу экземпляры[639].
На днях я писал столь умилительно, сколько умел, Romain Rolland, и Robert de Traz, и Edmond Jaloux. Судя по последнему, вижу, что хорошие чувства, выраженные и плохим французским эпистолярным стилем, достигают сердец[640].
Жаждем видеть Вас в субботу. Если это немыслимо, приедем к Вам в воскресенье часа в 3 дня. Если и это для Вас немыслимо, со вздохом будем думать о будущей неделе.
Елена и все приветствуют.
К. Бальмонт.
1923. 16 mars
Voilà la lettre de R. de Traz que je ne vous ai pas immédiatement envoyée ne voulant pas troubler Lucie et ne pouvant pas, pendant plusieurs jours, maîtriser ma colère. Si Lucie peut lire ma réponse et si elle l’approuve, je la prie de corriger mon style épistolaire, – s’il le faut, – et j’enverrai cette lettre.
Pauvre chère malade! Mais les souffrances doivent être cruelles!
J’espère que l’amélioration de la santé ne va pas tarder.
Myrrha vient dans ma chambre et dit: –
«J’embrasse bien fort Lud, – si elle me permet cette audace, – je lui envoie mes meilleurs vœux et j’espère la voir bientôt rétablie».
Votre C. Balmont.
<1923. 16 марта. Дорогой друг, прилагаю письмо Р. де Траза, которое я не сразу вам отправил, не желая беспокоить Люси и будучи не в состоянии, в течение нескольких дней, унять свой гнев[642]. Если Люси можeт прочитать мой ответ и одобряет его, я прошу ее исправить мой эпистолярный стиль, – при необходимости, – перед тем как я отправлю это письмо. А если нет,……? Бедная наша больная! Как она должно быть страдает! Надеюсь, она не замедлит пойти на поправку. Мирра зашла ко мне в комнату и сказала: «Я крепко целую Люд[643], – если она мне позволит подобные вольности, – я шлю ей свои наилучшие пожелания и надеюсь, что она вскоре выздоровеет». Ваш К. Бальмонт>
1923. 26 марта. Париж.
Милая Люси, как Ваше здоровье? Поправляетесь ли Вы? Дошли ли до Вас мой «Воздушный Путь»[644] и очерк о Блоке[645]?
Письмо мерзкому де Трасу я отправил тогда же, как Марсель мне его вернул. В тот же день я получил письмо от Р. Аркоса[646], которое прилагаю. Я ему немедленно отправил «Rivale d’Is» и «Annonciation»[647], а де Трасу послал дополнительное сведение, что я этими двумя вещами распорядился, остальные же он может напечатать, если желает, или пусть вернет мне, чем доставит мне удовольствие. Ответа еще не получил ни от того, ни от другого.
Вчера был у Ренэ Гилля и читал там, опять, «Тоску Степей»[648] по-Русски и «Les Scythes» в Вашем переводе.
Дни проходят трудно и бесцветно[649].
Мы все соскучились о Вас. Поправляйтесь.
Привет Марселю.
К. Бальмонт.
1923. 27 марта. Париж.
Дорогая Люси, вчера, отправив Вам письмо, я получил ответ от Ренэ Аркоса. Посылаю его Вам.
Я, верно, увижу его на днях – или пойду к нему, или приглашу на субботу. Я думаю, когда Вы поправитесь, Вы не откажетесь написать для «Europe» несколько строк обо мне, как предисловие к этим четырем поэмам[650]?
Если Вы сами еще не можете писать, быть может, Марсель напишет мне два слова, как Вы поправляетесь.
И где Вы? Еще в больнице или уже у себя?
Болезнь – наихудшая беда, но выздоровление – самое завидное и сладостное состояние.
Привет Вам от всех моих[651].
К. Бальмонт.
1923. 22 июня. Париж.
Дорогая Люси, я только что получил посланные Вами два экземпляра «Europe» с тремя Вашими прекрасными переводами моих стихов. Спасибо. Но почему Аркос напечатал лишь три, когда он хотел добавлений и благодарил за них? Я уже не помню, что ему было еще послано. Кажется, «Rivale d’Is».
Когда я увижу Вас по-настоящему, и какая Сиамская или Русская кошка пробежала между нами? Последний раз, когда я был у Вас с Еленой, нам не показалось, что Вы обрадовались нашему приезду[652]. Конечно, быть может, это лишь фантазии, и Вы просто были заняты или Вам нездоровилось.
Если Вам будет приятно с нами свидеться, напишите, когда в начале ближайшей недели мы могли бы к Вам приехать. Но прошу, назначьте день и час, ибо общее указание: «Когда хотите, – позвоните», – производит впечатление замораживающее, и Елена все время больна, ей трудно ждать телефонной очереди, а я умру, не научившись говорить по-телефону. Это уж фатум. Телефон, автомобиль и аэроплан мне кажутся тремя наваждениями Дьявола[653]. Лучше давайте говорить о стихах.
Как хорошо, что эти три «поэмы» появились вместе. Мне так хотелось бы, чтобы Вы довершили Ваш давний замысел: Собрать целую книгу стихов Бальмонта в Вашем переводе. Кстати, когда я последний раз был у Comtesse de Béhague, меня спрашивал Henri de Regnier о Вашей дальнейшей работе над этим. Я думаю, не послать ли ему № «Nervie» с Вашими переводами[654]?
Привет Марселю.
К. Бальмонт.
Париж. 1923. 3 июля.
Дорогая Люси, вот как будто Судьба решила перемениться ко мне, то есть желает явить свой добрый лик, который у нее иногда бывает. Был у меня только что, верно Вам известный, поэт Пьер Жан Жув, автор книги «Tragiques» и заведующий в издательстве Стока «поэтической серией», в которую он пригласил меня[655]. Я обменялся с ним лишь общими вежливыми фразами, изъяснил ему, что Вы уже давно меня переводите и как прозаика и, главное, как поэта, что у Вас, конечно, легко может быть собранной в целое книжечка в 64 страницы, которую он хочет иметь, и что, вообще, ему необходимо говорить, прежде всего, с Вами, – что я предоставляю Вам и ему выработать в беседе с Вами характер этого сборника. Конечно же, если Вы захотите его составить, Вам виднее, что более пригодится. Я, кстати, чтобы указать ему на поэтизирование моих стихов, чего он в точности ищет, а не только передачи их дословной, указал ему на «Annonciation»[656], которую он при мне прочел и восхитился. Когда мы свидимся, я хотел бы лишь, – в виде желательного, подлежащего Вашему утверждению или отрицанию, – указать на 3–4 мои вещи, которые мне очень хотелось бы видеть переведенными Вами.
Жув хотел тотчас же списаться с Вами.
Сегодня я наконец получил авторские экземпляры моего романа и при свидании подарю Вам, с надписью[657], которая покажет Вам, что я бываю поверхностен и сух лишь в надписях на переводных своих книгах, которые, в конце концов, вовсе не мои, кроме разве Эдгара По и Кальдерона[658].
Мои таинственности очень просты. Бьюсь как рыба об лед, и, в конце концов, разъединенный даже с холодной, но моей, стихией, замерзну около проруби.
Привет Марселю. Приветы.
Всегда Ваш
К. Бальмонт.
Париж. 1923. 4 августа.
2, rue Belloni, XV.
Милая Люси, как Вы живете в деревне[659]? Поправляетесь ли после трудной, путаной зимы? Как Марсель? Снятся ли ему локомотивы или иные, менее шумные, менее грузные сны?
Посылаю Вам «Глубинный», который Вы хотели иметь, а также последнее свое стихотворение, «Последний Остров», которое мне лично очень любо[660].
Вчера художник Лебедев[661], работающий у Стока и только что сделавший для него портрет Ницше, передал мне от Флориана Фельса[662] приглашение пожаловать к нему и договориться о маленькой книге прозы, в 120 страничек.
Вы поймете, что душа моя восстонала все о том же, – что у меня нет в руках Вашего перевода моей «Белой невесты» и «Воздушного пути»[663]. Эти два рассказа, кажется, составили бы как раз нужную книжечку, – у Стока 33 буквы, 25 строк, 120 страниц. Я бы мог завтра же с ним договориться.
Что Вы скажете об этом? Завтра, нет, в понедельник, я схожу к Фельсу и расспрошу все подробности, т. е. точный объем, срок и оплата автора и переводчика. Немедленно же после свидания напишу Вам дополнительно.
Мы все здесь и отъезда не предвидится. Единственное утешение, что Солнце капризно отдыхает и не хочет немилосердно жечь.
Приветы от моих. И мой привет Вам.
К. Бальмонт.
Париж. 1923. 7 августа.
Дорогая Люси, я был сегодня в издательстве Стока, на улице Вье Коломбье, и виделся с Фельсом. Не знаю, знаете ли Вы его. Это очень простой и, как мне показалось, благорасположенный и понимающий человек. Он предлагает дать ему четыре рассказа и предлагает за это нам обоим, мне и переводчику, тысячу франков. Мне кажется, что это хорошо. Текст перевода он просит доставить к октябрю и обещается выпустить книжечку в 120 страниц в декабре. Он еще не знает «Visions Solaires» и я сейчас их ему посылаю. Я предложил ему напечатать «Белую невесту», «Васеньку» и «Ливерпуль», а если этого будет недостаточно, то еще «Воздушный Путь»[664]. Впрочем, я ему предоставил полную свободу выбора, лишь подчеркнув, что настаиваю на «Белой Невесте». Предварительное или попутное напечатание того или иного рассказа в журнале или газете, – сказал он, – ему ни мало не мешает. Он стал предлагать мне в качестве переводчика Монго[665], но я сказал, что меня уже переводит Людмила Савицкая и назвал «Солнечные Видения». Услышав Ваше имя, он издал одобрительное «А!» и сказал: «Это очень хорошая переводчица, она у нас работает». Вот все пока результаты свидания. Остальное в воле Вашей, принцесса. Молю Вас перевести недостающее и означить, какую цифру вознаграждения Вы считаете справедливой. Треть? Половину? Как решите, так и будет.
Кстати, Фельс спросил Ваш адрес и я ему дал его. Я оставил ему Русский текст книги рассказов. Он об этом просил. Он хочет через кого-то, знающего Русский язык, прочесть ее.
Когда я уходил, Фельс подчеркнул, что мы договорились и что он очень рад этому. Я спросил его: «А, быть может, госпожа Савицкая захотела бы иметь письменный договор?» – «Он у Вас непременно будет», – ответил он весьма любезно.
Буду с нетерпением ждать Вашего ответа и надеяться, что ничто Вам не помешает сделать то, чего я так давно уже хочу.
Мои шлют приветы Вам и Марселю.
К. Бальмонт.
Париж. 1923. 14 августа.
Дорогая Люси, отвечаю, прежде всего, на Ваши вопросы. Я виделся с Жалю незадолго до его отъезда, с месяц тому назад. Он писал мне перед этим, что он все время обо мне хлопочет. В чем эти хлопоты, при свидании не выяснилось и единственное напутствие, которое он при прощании произнес растроганным голосом, было: «Не падайте духом. Нужно работать». Так как я все время работаю и, несмотря на нищету, не падаю духом, эти слова показались мне образцово-глупыми, чего я, конечно, не выразил ему. Ни с кем сейчас не вижусь, ибо не с кем. Заходил однажды к Рошу, услышал обильные комплименты и это все.
«Веси» – «деревни, села». «Батый» – известный Татарский завоеватель, громивший нас. Словарь Рейфа дает для Французского «Batou». Кстати, в посылаемых стихах слово «сыть» имеет оттенок не столько «сытости», сколько «сладости, медвяности».
Прилагаю письмо де Траса, напоминаю, что в пребывание здесь он своими двумя визитами ко мне и сказанными почтительными словами о Вас и обо мне, по-моему, искупил свою вину. Молю Вас не отказаться перевести посылаемые стихи, а также «Глубинный» присоединить к ним и еще что-нибудь, по Вашему выбору, о России и послать непосредственно или через меня. Мне очень хотелось бы также послать ему «Где мой дом?»[666] Но боюсь, что Вы возопите на мои притязания. Получили ли Вы мое второе письмо о Фельсе?
Привет Вам и Марселю. Добрых дней.
К. Бальмонт.
Париж. 1923. 18 августа.
Милая Люси, как мне жаль, что Вы все хвораете и что у Вас не ладится. Как хотел бы я, вместо того, чтобы писать Вам свои полудружеские-полукорыстные письма, быть с Вами, ухаживать за Вами, делать все только для Вас. Хотите ли Вы, чтобы я или Елена, вернее Елена, мы привезли к Вам Миррочку? Ей была бы великая радость погостить у Вас и побыть на свежем воздухе, а Вам одиночество показалось бы с этой веселой стрекозой, искренно Вас любящей, гораздо сноснее. Напишите.
Отвечаю на отдельные места Вашего сегодняшнего письма. Словарь Рейфа, дающий «Бату» для «Батыя» по-Французски, увенчан Петербургской Академией. Значит, сие достоверно. Я Вас не буду ни с чем торопить, но пока у меня есть хоть слабая надежда, что жизнь позволит Вам быть моей переводчицей, я никого другого не хочу, во всяком случае, для вещей, нами обоими уже намеченных давно. Когда сможете, тогда и ладно, и да помогают Вам в дальнейшем Боги, а не люди. Вы спрашиваете о порядке Ваших работ надо мной. Когда силы Вам позволят, прошу в первую очередь послать мне, частию уже переведенные Вами, мои последние стихи о России, которые мне хочется послать де Трасу и дать ему этим возможность искупить его погрешность перед Вами и предо мной. Я хотел также послать ему «Где мой дом?» Но если Вам трудно перевести это, я могу перевести сам и дать какому-нибудь Французу исправить ошибки. После стихов о России хорошо бы, к октябрю или в октябре, доставить Фельсу четыре рассказа, о которых я писал. Ничего общего между Фельсом и Жувом нет, хоть они оба работают у Стока. Они заведуют разными отделами и в соприкосновении не находятся. Жув просил книжечку стихов в 64 страницы к февралю или марту 1924-го года. Значит и в смысле сроков враждебной встречи обстоятельств нет никакой. Молчание Жува меня удивляет. Верно, его нет в Париже. Я на днях справлюсь. Хотите ли, чтобы я зашел в редакцию «Европы» и «Европейского Обозрения»?
Читали ли Вы роман Шатобриана «Ля-Бриэр»[667]? Это изумительная вещь. Он мне послал его и написал очаровательное письмо, восхищается нашим детищем, «Солнечными Видениями». Он читал их еще зимой, по наущению Ролляна[668], и пришел в восторг.
Милый друг, до свиданья. Мои шлют приветы.
К. Бальмонт.
Париж. 1923.VIII.26.
Дорогая Люси, спасибо большое за присылку перевода стихов. Это было тотчас же отослано в Женеву.
Если Вас не обременит, я очень прошу Вас не отказаться перевести «Где мой дом?». Для первой посылки прозы де Трасу этого очерка будет довольно. А писать о трагедии России иначе мне пока не хочется, да верно и не захочется никогда. Скорей, я просто напишу нечто о Русской психологии, но это не так сразу.
«Где мой дом?» я считаю (и не только я) лучшим моим рассказом. Он мог бы войти и в книжку, которую Вы готовите для Стока, – как вступительный.
Когда я буду говорить с Фельсом (имея рукопись переводов), конечно, исполню Ваше желание относительно вознаграждения.
В словаре Рейфа слова «бочаг» нет. Оно провинциальное. Это – овальный небольшой прудок (природный). Даль дает как определения: «глубокая лужа, колдобина, ямина, омут». Вернее и выразительнее всего здесь «ямина».
Мне очень нравится «la grande vérité des peuples».
Прошу передать наш привет Marcelle Gerar[669]. Это самая милая француженка, какую мне приходилось встречать. В ее глазах бывает огонь, говорящий не об узких улицах города, а о приволье степей.
Все мы приветствуем Вас.
К. Бальмонт.
P. S. Мне из последнего присыла больше всего нравятся «Russie» и «Le Gouffre Clair», особенно «Russie»[670].
Париж. 1923. 8 сентября.
Милая Люси, не прогневайтесь на меня, но я немного Вас ослушался: Ваша рукопись настолько разборчива, что я прочел без труда все, переписал в трех экземплярах, и один послал Роберу де Трасу, тщательно сверив его, вместе с Еленою, с Вашей рукописью. Я написал ему, что этот рассказ – пока, единственный для меня возможный ответ на поставленный им вопрос. Написал также Ваш адрес и сообщил, что Вы будете ждать корректуры Ваших переводов.
Мне нравится все в переводе этого рассказа, к которому я очень неравнодушен. Только мне кажется, что слово «manteau» не очень подходит к кафтану крестьянки. Также слова Али: …«какая я в семейном быту» переданы слабо. По-Русски серьезность ее слов и неправильная их литературность невообразимо забавны и трогательны. Также в названиях улиц, кончающихся по-французски на звук «ски», мне больше нравится ставить i, а не игрэк. Так, кажется, уже и принято теперь по отношению к фамилиям, как Достоевский. На Ваше правописание Вашей фамилии, как усвоенное уже Вами, конечно, не может быть никакого посягновения. Если Вы не хотите согласиться со мною, в корректуре Вы исправите по-своему все эти Поварскiя и Николаевскiя.
Рукопись Вашу верну Вам завтра. Сейчас нет у меня большого конверта. Посылаю Вам два стихотворения, «Моя твердыня» и «Остережение»[672]. Мне очень хотелось бы послать перевод «Остережения» Шатобриану, ибо оно родилось из одной его строки. Если бы Вы перевели, я был бы счастлив. А что Вы скажете о «Моей твердыне»? Мне кажется, что это одно из лучших моих последних[673].
Помня Ваши слова обо мне, которыми Вы начинаете Ваше прекрасное предисловие к «Солнечным видениям», я с горечью думаю, что меня упорно замалчивает эмигрантская Русская пресса, тем самым и Французская, и что никто, кроме Вас, не мог бы сказать обо мне веских и настоящих слов. Будут ли они когда-нибудь произнесены Вами? Мой друг!
Как Вы? Как здоровье? Как Ваши работы для себя? Как Марсель? Дети?
Мои все Вам шлют приветы.
Ваш К. Бальмонт.
P. S. Когда я получаю Ваш новый перевод из меня, мне кажется, что из мертвого я становлюсь живым, и я целый день напеваю.
Париж. 1923. 14 сентября.
Дорогая Люси, я очень жалею, что поступил против Вашего желания[675]. Мне казалось, что Вы хотели получить переписанную рукопись лишь из‐за того, что Вы сомневались, разберу ли я везде Ваш почерк, который оказался совершенно четким. Впредь обещаю Вам повиновенье безусловное. Не далек ли или не близок ли тот день, когда смогу доказать свою покорность, а именно – переписывая по-французски «Белую невесту»?
Переписав «Васеньку» в Вашем переводе, пришлю Вам для просмотра. «Ливерпуль» надеюсь выудить у Аркоса на ближайшей неделе. Написал ему о свидании.
Какая гадость, что в августовском номере «Европейского обозрения» «Васенька» не появился, несмотря на формальное и повторное обещание Жалю. Мне кажется, все редакторы, вообще, лгуны, без различия национальности.
Статью Монго не видел и очень хотел бы получить ее на два-три дня[676].
Экземпляр копии «Где мой дом?» высылаю Вам через несколько дней вместе с «Васенькой».
Последние Ваши переводы стихов о России все посланы де Трасу. Я жду от него ответа не нынче-завтра.
Как перевести «в домашнем быту» не представляю. Быть может в устах маленькой девочки это звучало бы: «Вы не знаете, какая я, как ‘менажэр’»?
Я в волне стихов. Написал две небольшие поэмы в терцинах. Сегодняшнюю, «Чета»[677], посылаю Вам. Остальное пошлю, как перепишу. Вчера я написал венок сонетов «Золотой Обруч»[678]. Если Вы не охладели к моим стихам, я буду посылать Вам все, что считаю удавшимся, безотносительно к тому, захотите ли Вы их переводить?
Один Чех предложил мне перевести на Чешский язык «Солнечные видения», пленившись ими по Вашему переводу[679]. Не откажитесь послать мне, – когда сможете это сделать без особых хлопот, – оставшиеся у Вас страницы Русского текста. Также несколько полинезийских сказок.
Долго ли Вы думаете еще пробыть в деревне? Мы, кажется, так никуда и не съездим. Впрочем, в Париже стало уже сносно жить. Разумею физический воздух, не иной.
Привет от моих. Желаю Вам поправиться и окрепнуть.
К. Бальмонт.
Париж. 1923.IX.28.
Дорогая Люси, я вчера, наконец, отправил Вам рукопись Вашего перевода 3-х моих рассказов. Я не мог сделать этого раньше, – у меня было много хлопот, и нездоровилось. Как сможете прочесть эту рукопись, прошу вернуть ее мне и известить меня, когда могу рассчитывать на получение перевода «Белой Невесты». Флоран Фельс должен вернуться в Париж через 3 дня, и очень было бы хорошо, если бы, вручив ему всю рукопись, мы смогли безотложно заключить с ним договор и тем обеспечить своевременный выпуск книги.
Я очень просил бы Вас не отказаться написать к этой книге 3–4 страницы предисловия.
Когда Вы рассчитываете вернуться в Clamart?
Рене Аркос обещался поместить «Ливерпуль» в ноябрьской книге «Europe» (быть может) или в декабрьской (достоверно). Эдмону Жалю о «Васеньке» я напишу, но думаю, что это бесполезно. Если человек солгал 4 раза, ему нетрудно солгать в 5-й раз.
Шлю приветы и буду ждать от Вас возможно скорой вести.
К. Бальмонт.
P. S. До Вашего приезда, верно, Вам будет трудно послать мне ненужные Вам страницы Русских текстов «Солнечных Видений»? Будьте добры мне сообщить!
Париж. 1923. 5 октября.
Милая Люси. Вы напрасно придаете значение какой-то заметке в «Нувель Литтэрэр». Когда я говорил с Фельсом, я сообщил ему, что, вероятно, назову эту книжечку «Воздушный Путь». Говоря, при свидании, с Лефевром[680], я механически повторил ему это заглавие, спрошенный им, не готовится ли какая моя книга к печати. Переменить заглавие можно легко и скоро, – гораздо менее скоро, к сожалению, можно вручить рукопись издателю.
Я боюсь, что из‐за промедления в этом книга не успеет выйти в этом году. Фельс, обещая выпустить ее в декабре, подчеркивал, что ему нужно иметь рукопись в самом начале октября.
Кстати. Я забыл Вам сообщить в последнем письме. Нельзя слово «Хокку» переводить словом «Хай-кай». Это две разные вещи. Хокку – просто обозначение троестрочия. Хай-кай – трестрочное произведение комической поэзии.
Когда свидимся? Когда увижу Белую Невесту?
К. Бальмонт.
Париж. 1923. 8 октября.
Дорогая Люси, с приездом. Я вчера хотел писать Вам еще в деревню. Я только что получил от де Траса письмо такое: «Cher Maître, pourriez-vous m’envoyer sans tarder une quinzaine de lignes sur votre œuvre, afin de présenter à nos lecteurs „Où est ma maison?“ qui paraîtra dans notre numéro de novembre. Les dates principales de votre vie, des noms d’œuvres, et une caractéristique générale. Merci d’avance…»[681] И прочее.
Дабы не обременять Вас, я сделал то, что мне труднее всего и написал о себе сам. Как скучно это занятие, доложу Вам! И не знаю, то ли я написал, что надо. Будьте добры просмотреть, исправить мой Французский язык, прибавить или вычеркнуть, что найдете нужным, и верните мне, пожалуйста[682].
Когда и где свидимся? Хотелось бы поскорее. Приветы.
К. Бальмонт.
P. S. «Sa marche triomphale»[683] плохо. Как сказать?
Париж. 1923. 10 октября.
Милая Люси, большое Вам за Вашу заметку спасибо (она уже уехала, с указанием о посылке Вам корректуры) и не двойное, а четверное спасибо за перевод «Белой Невесты». Я его прочел внимательно два раза. Мне не понравились лишь 3–4 слова, которые я отметил. Рукопись очень четкая и мне кажется, что, кроме двух-трех страниц, вряд ли ее нужно переписывать.
Да. Я хотел сказать. Если, при разговоре с Фельсом у Вас выяснится, что материала слишком много (хотя я этого не думаю) я настаиваю, прежде всего, на «Где мой дом?» и на «Белой Невесте». Общее название – по 1-му рассказу, «Où est ma maison?»
Рукопись «Белой Невесты» я отослал Вам заказной бандеролью.
Мои дамы шлют Вам привет.
К. Бальмонт.
Париж. 1923. 17 октября.
Дорогая Люси, я передавал Вам слова Фельса, которые он мне сказал, и которые имели определенный смысл. Во время разговора с ним, я повторно проверил смысл того, что он говорил, и он успокоительно подтвердил мне, что наш разговор совершенно серьезный и что перерешения быть не может. Итак, если он Вам сказал что-то совершенно другое, это должно отнести или к его забывчивости, или к той лживости, которая составляет, кажется, всемирную черту издателей разных национальностей.
Вчера я сделал попытку увидеть Фельса и спросить его, чтó это значит. Его не было. Когда я пытался выяснить, когда же я могу с ним говорить, ибо у меня к нему дело, сверху сошел некий юноша, весьма приветливого образца, и сообщил, что его можно видеть через неделю. Я сказал, что я не могу и не хочу ждать неделю, ибо Фельс сказал г-же Савицкой, – которая, в силу переданных ей мною слов Фельса, сделала работу, – слова, не совпадающие со словами, которые в свое время он сказал мне, и что проблематический полугодовой срок, взамен обещанного декабря, есть вещь совершенно неинтересная. Юноша сказал, что я застану Фельса в пятницу, между четырьмя и пятью, и с самыми учтивыми приветствиями просил приехать в пятницу, говоря, что я его застану. В пятницу я у него буду и постараюсь вежливо, но твердо настоять на декабре.
Если бы Вы могли дать мне копию Вашего перевода «Белой невесты», я съездил бы к Рашильд[684] в «Меркюр де Франс» и думаю, что там предварительно напечатали бы эту вещь. Или Вы захотели бы сделать эту попытку сами?
Я надеюсь, что при спокойствии и твердости мы добьемся от Фельса того, что он должен сделать, если он может и хочет быть человеком своего слова.
Мои все шлют Вам и Марселю сердечные приветы.
К. Бальмонт.
Париж. 1923.X.19.
Дорогая Люси, мне Фельс говорил о 3-х месяцах, он Вам сказал о 6-и, и нам обоим написал о годе. Я полагаю, что дело ясно. Я называю это безответственною ложью. Только это я и мог бы сегодня ему сказать. Но, боясь повредить Вам (ведь Вы работаете у Стока?[685]), я не поехал сегодня, чтобы доставить себе бешеную радость изругать его вдребезги. Но я тотчас свиделся с его приятелем, художником Лебедевым, через которого произошло мое знакомство с Фельсом[686]. Лебедев, собиравшийся на днях писать мой портрет для нашей книги у Стока, совершенно изумлен этой историей и говорит, что этого так оставлять нельзя. Он советует, прежде всего, подействовать на Фельса через моего приятеля, и давнишнего хорошего приятеля Фельса, Ромова[687], печатника, работающего для Стока. Завтра утром Елена к нему съездит. Не обратиться ли также, как к моральному судье, к Э. Жалю?
Считаю необходимым, – в порядке дружеского осведомления, – сказать, что Куприн, пока у Стока печаталась его книга[688], не знал, сколько экземпляров ее печатается. Он сообщил Фельсу, что хочет иметь документ. Тот обещал. Потом вызвал Монго[689], дал ему 1.000 франков, с правом дать Куприну ту долю, какую заблагорассудит назначить Монго, никакого договора не дал, и напечатал 11.000 экз. Я узнал об этом на днях. Как называется это на теперешнем Французском языке, не знаю. По-русски это всегда называлось мошенничеством.
Предпринимать какой-нибудь шаг без Вашего совета я не буду, хотя именно из‐за Вас я не хочу этого дела оставлять так. Мне довольно, что я простил Рошу. Вторично прощать тождественную подлость трудно.
Чтó до «Белой Невесты», я мог бы переписать на своей машине две хорошие копии.
Буду ждать от Вас отклика.
К. Бальмонт.
Париж. 1923.Х.25.
Дорогая Люси, я получил Ваш Высочайший указ и, конечно, чтобы сделать Вам удовольствие, беру на себя, хоть и малые, но несколько смутительные тяготы председательства на вечере Вас и Гребенщикова в «Хамелеоне»[691]. Но так как я никогда в жизни нигде не председательствовал, давайте сделаемте у Вас или у нас генеральную репетицию моей части, дабы не произошло никакого конфуза. Говорить я буду, конечно не то, что в «Majestic» (там я лишь прочту стихи)[692].
Ваш К. Бальмонт.
P. S. Мерсеро пишу сейчас.
Париж. 1923.XI.2.
Дорогая Люси, вчера у меня был Жалю, – и Елена, а также и я, мы рассказали ему о Фельсе и его непочтенной игре в 3, 6 и 12. Жалю сказал, что Фельс часто бывает «inconsistant»[693], но что это бывает нередко не по его вине, а по вине и по капризу дающего деньги на издание Стока, весьма боящегося убытков, Monsieur, коего фамилия ускользает из моей памяти, – что-то вроде Бульерона[694]. Вы верно догадаетесь, о ком речь. Я подчеркнул, что поступок Фельса со мною – «laid»[695], ибо он поставил меня в ложное положение перед Вами, – опираясь на обещание Фельса, я торопил Вас с срочной работой, когда Вы были больны и были заняты своим собственным делом. Жалю сказал мне, чтобы я не предпринимал никаких шагов, что он увидит сам Фельса, возьмет у него для прочтения рукопись, выяснит, кто виноват в задержке печатания, и соответственно с этим окажет свое влияние. Вид он имел чистосердечный. Я увижу его опять в ближайший четверг.
А когда мы увидимся с Вами для «репетиции» вечера в «Хамелеоне»? У меня разобраны все вечера, кроме 7-го, 9-го и 10-го.
Буду ждать указания, когда увидим Вас у нас или когда приехать мне к Вам[696].
К. Бальмонт.
Париж. 1923. 23 ноября.
Дорогая Люси,
Ответьте мне, пожалуйста, на два вопроса.
1. Послал ли Вам Робер де Трас экземпляр журнала с рассказом «Где мой дом?» или, послав мне два экземпляра, он этим, косвенно, меня побудил доставить Вам один, что я, конечно, охотно сделаю, если это так.
2. Уплатил ли он Вам что-нибудь за перевод этого рассказа или нет? В этом последнем случае я должен Вам вручить некие монеты. Я получил от него чек на 106 (сто шесть) франков (французских).
На Ваши вопросы отвечаю, наконец, прося простить, что не сделал этого ранее.
1. Какие у меня есть стихи, родственные «Благовестию»? – В той же книге «Зарево зорь»[697], откуда оно взято, есть «Он вращающий колесо». В «Горящих зданиях» целый отдел называется «Индийские Травы». В «Литургии Красоты» указываю на «Три Страны». Если в «Благовестии» Вашему знакомому особенно дорога мысль о перевоплощении и личном бессмертии в перевоплощениях наших, – как именно эта мне дороже всего, – таких стихотворений у меня много в любой почти книге, пожалуй, всего более в «Литургии Красоты», в «Ясени», и в «Белом Зодчем». На отдельные поэмы «Белого Зодчего» я уже указывал Вам весною. Более всего ценю «Камень Четырех Граней» и «Строитель».
2. Как Вагнер, Толстой, и некоторые еще, я скромно полагаю, что каждый большой художник есть самозамкнутый мир, сам себя исчерпывающий, и учеников или последователей в искусстве быть не может. То, что лично сделал в Русской поэзии я, остается моим и лишь во мне. Поэты, которые что-либо из меня взяли, как Блок, Белый, Северянин, некоторые нынешние, тем самым кажутся мне нелюбопытными и производными. И, взяв из меня, они лишь извратили у себя свою напевность, желая отличиться в оригинальности. У Блока – цыганщина, у Белого – сумасшествие, у Северянина – вульгарная пошлость. Из нынешнего поколения наиболее самостоятельными являются Ахматова и Марина Цветаева, обе от меня совершенно независимые. Я их ценю обеих очень. Но Цветаева гораздо сильнее, хотя Ахматову и прославляют больше мулы поэзии, то есть петербургские бессильные стихотворцы. Из самых последних поэтов мне кажутся самыми сильными Кусиков и Есенин. Кусиков при силе изящнее и симфоничнее. Есенин часто умышленно хулиганит. Маяковский – преждевременно устаревшая блудница поэзии. Продавшись большевикам и разменявшись на стихотворные плакаты гнусно-агитаторского характера, он утратил свою силу и сохранил лишь нахальство, которое похоже на бульварные лица и кафешантанные жесты. Совершенно пакостный богохульник Мариенгоф любопытен лишь как психиатрический тип. Есть какие-то еще московские светильники мира, но память моя не удержала их имена[698]. Вообще, кроме Кусикова, они все мне кажутся явлением такого свойства, что, если бы не уважение к Вашему женскому сану, я должен был бы использовать сейчас значительную долю бранного лексикона, который, к сожалению, в нашем мужском уме так же богат, как хорошие словари.
Что Вы и как Вы?
Когда свидимся?
К. Бальмонт.
Париж. 1923. 6 декабря.
Дорогая Люси, простите, что я до сих пор не ответил Вам о интересующем Вас. Мое новое «Письмо из Парижа»[699], где я говорю о Станиславском и Гребенщикове и подробно излагаю, сколько умею, интересную Вашу речь о Гребенщикове[700], успело уже появиться в «Сегодня», – Рижская газета, – и я рассчитывал показать Вам этот № в истекшую субботу, но Вы не приехали, и я должен был этот единственный экземпляр отдать наиболее заинтересованному, т. е. нашему Сибиряку. Искал для Вас экземпляра на Бульварах, но не нашел. Думаю, что завтра или послезавтра получу заказанные мною №№ из Риги.
В воскресенье в 9 с половиной часов вечера у меня будет Робер де Трас. Пожалуйста, сообщите, чтó ему в точности сказать от Вас. А, может быть, Вы и Марсель соберетесь к нам в этот вечер, то есть в ближайшее воскресенье? Мы были бы так рады. Если можно, не гневайтесь на Швейцарца. Из всех редакторов, с которыми я имел несчастие разговаривать за истекший год, он один со мной учтив, внимателен и даже отменно точен. Мне жаль, что он странно неточен с Вами. И правда, быть может, я тут что-нибудь невольно попортил. Но у него наилучшие намерения. Я в этом убедился. А все эти Фельсы, Аркосы и другие, не знаю, как с Вами, а со мной бесчестные свиньи, и, если я не совершаю по отношению к ним никакого весьма решительного хода, это потому лишь, что мое терпение более огромно, чем я сам полагаю. Да и как я один, да еще чужеземец, затеял бы битву с тучей саранчи?
Давно у Вас, Люси, некое мое стихотворение «Остережение»: «Человек и огонь возвращаются в те же места…»[701] Оно внушено строкою А. де Шатобриана и мне давно хочется подарить ему его по-французски. Не уделите ли мне минутку? Он, летом еще, написал мне прелестное письмо, и скоро будет его вечер[702].
Не забывайте. Поклоны Вам от Кати, расспрашивающей о Вас во вчерашнем письме. Ждем?
К. Бальмонт.
Париж. 1924. 24 января.
Дорогая Люси,
Вы бываете прежестокой женщиной. В письме Вашем к Елене, Вы, отвечая на поставленные вопросы, нимало на них не ответили. Я говорил совсем не о Жуве, и не о фальшивых предприятиях управителей Стока. Ко мне обратился совсем честный и достаточно интересный юноша, секретарь «Жизни Народов», Георгий Шклявер, прилагаю его письмо[703]. Журнал этот совсем не из разряда «куда-нибудь» и «куда попало». Он пользуется вниманием не только в Париже, но и имеет читателей во всех пяти частях Земного Шара. Если Вы соизволите перевести что-нибудь серьезное из моих поэм, журнал охотно напечатает Ваши переводы. Если Вы не можете или не хотите сейчас переводить, я возьму у Аркоса «Соперника Иса»[704] и отдам Шкляверу, да? Ибо Аркос и его журнал[705] достаточно странно себя ведут. Вот. Перед святками я встретил Аркоса на улице, я был с Еленой. Я, шутя, сказал ему: «Почему Вы так мало точны? Хочу Вас позвать в трибунал». Он ласково вопрошает: «В чем дело?» Я говорю: «Ведь Вы же обещали напечатать „Ливерпуль“, если не в ноябре, то в декабре». Он раскрывает глаза шире и говорит: «Вы у меня взяли рукопись, и я все ждал, когда Вы ее вернете. Вы обещали вернуть через три дня. Я подумал, что Вы раздумали ее у нас печатать». Тут настала моя очередь раскрыть глаза пошире. В октябре я брал у него рукопись, чтоб переписать для себя, и через три дня, согласно уговору, отнес в редакцию и отдал одному из секретарей с поручением передать Аркосу. «Единственно, что возможно», – сказал он, то есть Аркос, – «это, что рукопись попала в руки моему товарищу по редакции, и он отослал ее в Брюссель». По справке так и оказалось. Милые нравы. После этого я был у Аркоса на званом вечере и спрашивал. Он сказал, что рукопись к нему приехала, но что, так как «они» уже напечатали Горького и Блока, нужно сделать передышку с Русскими. Я так устал от подобных глупостей и низостей, что хотел тотчас же сказать Аркосу: «Ваши слова и неучтивы и неумны. Отдайте мне назад мои рукописи». Но сей тупоумец и не подозревал своей невежливости. Я, однако, сказал, что долго ждать с «Ливерпулем» не намерен и что надеюсь на более или менее скорое выполнение обещания. Относительно поэмы дал понять, что или он должен печатать ее без промедления, или вернуть мне. Пока я ее не получил.
«Белую невесту», о которой Елена писала Вам, Люси, я хотел переписать, если она не переписана, и отдать ее Сильвэну Леви[706], который давно уже предложил мне давать ему рукописи, а он будет их помещать в разных журналах. Полагаю, что слова Сильвена Леви более серьезны и действительны, чем подобные же слова Жалю.
Скорблю о «Гордой Сине», если она пропала. Это очень хорошая сказка и другого экземпляра у меня нет, как нет и другого экземпляра «Неофилологических Записок»[707].
«Европейского Обозрения» с «Васенькой» мне редакция не соблаговолила послать. Сегодня я увидел в одной витрине этот номер, искусился и купил. Ваш перевод «Васеньки» очень-очень хорош. Мне также очень понравился Ваш небольшой, но содержательный очерк о Шелли, Фонтэнасе и Бальмонте[708]. Спасибо за Ваши слова обо мне. Я думаю, что Вы в области художественной критики будете работать по-настоящему и что у Вас для этого есть все, что надо.
Мне хочется еще рассказать Вам о своем вчерашнем свидании с Куприными[709]. Вот что мне сказала Куприна: Librairie-Édition A. & G. Mornay, 37, Bd du Montparnasse, tél. Fleurus 34–90, прослышав от издательства Стока, что у Русских можно дешево и без контракта покупать книги, обратился к Куприной и условился с нею, что он возьмет у Куприна книгу рассказов в размере боссаровского томика, даст аванс в 1.500 франков, а затем, напечатав некоторое число экземпляров, будет платить по 75-и сантимов с каждого проданного экземпляра в пользу автора и переводчика. Куприна аванс получила, но, получив, потребовала при вручении рукописи контракта. Морнэ контракт написал и дал, но с Куприной у него по сему случаю охлаждение. Куприна разрешила мне это Вам рассказать, но просит при беседе, если она возникнет, на нее не ссылаться. Она говорит, что если бы Вы пожелали завести разговор с Морнэ, он охотно бы взял мой томик. Пока он взял лишь у Куприна и Шмелева, но, конечно, весьма быстро найдутся желающие заполнить его портфели рукописями[710]. Не знаю, захотите ли Вы делать в этом направлении какие-либо шаги, но на всякий случай сообщаю Вам. Сам говорить с Морнэ я не сумел бы.
Когда увидим Вас, наконец?
Завтра в кафе Вольтер, в Обществе Древней Еврейской Культуры, в 9 часов вечера мне устраивают торжественное выступление. Я читаю, по-Русски, «Вечно-Бодрствующие. – Встречи с Евреями». Очерк этот сейчас печатается, или уже напечатан, в Лондоне по-Английски, будет издан брошюрой по-Русски, и мне хотелось бы, – я уже и обещал, – напечатать его по-Французски в «Меноре». Быть может, Вы захотели бы его перевести[711]. В нем 7 страниц. Если приедете завтра в кафе Вольтер, я был бы счастлив.
Привет Марселю от меня и моих.
К. Бальмонт.
Париж. 1924. 20 февраля.
Дорогая Люси,
Посылаю Вам письмо Г. Шклявера. Мне ему нечего послать из небольших стихотворений. Разве четыре вещицы, посвященные Китаю? Они валяются зря у Луи Лялюа уже целый год и, конечно, никогда не появятся в «Комедиа»[712]. Но у меня не имеется оттисков их. А на мои повторные письма он не отвечает, и более писать ему я не считаю возможным. Подумайте о том, не сможете ли Вы уделить минутку моим стихам и не присоедините ли 3–4 вещи к поэме. Это было бы вовсе хорошо. А Шклявер не обманет.
Посылаю Вам «Семисвечник Рифмы»[713], написанный на днях. Мне кажется, что поэма эта близка к «Благовестию». Если Вы найдете это, может быть, когда-нибудь захотите перевести.
Я написал довольно большую статью о Спире и отослал в Ригу[714]. Если она Вас интересует, я могу послать Вам копию. Я увлекся теми его стихами, в которых чувствуется его Восточная кровь.
Большая просьба у меня к Вам. 24-го марта я устраиваю «Вечер Бальмонта» в театре Реймона Дункана[715]. Зала уже нанята. Будет музыка, будет пение, будет чтение моих стихов по-Русски, по-Французски и по-Английски. Но, конечно же, чтение стихов моих по-Французски я представляю себе лишь в Вашем исполнении и только в Вашем. Если бы Вы согласились выступить в этот вечер, я был бы поистине осчастливлен этим.
Хочется – когда будет теплее – еще раз съездить с Марселем в мастерскую паровозов[716]. Мне грезится некоторая поэма, но я видел недостаточно. Поклонитесь ему, пожалуйста.
Елена и все мои шлют Вам привет.
«Белая Невеста» сегодня отправляется к Сильвэну Леви.
Всего лучшего.
К. Бальмонт.
Париж. 1924.II.26.
Дорогая Люси, в моем вечере участвуют, кроме меня, Н. Орлов (рояль), Лея Любошитц (скрипка), М. Тобук-Черкасс (пение), М. Жэрар (пение, – окончательный ответ, ввиду других выступлений, получу послезавтра), чета Сахаровых (пляска, – тоже окончательный ответ в четверг), и Р. Дункан (декламация)[717]. Не думаю, чтобы кто-нибудь из сих мог быть для Вас препятствием. Во всяком случае, не откажитесь дать «да» или «нет» не позже четверга (надо печатать программу). Если «да» (на что надеюсь), мне очень хотелось бы, чтобы Вы прочли «Rivale d’Is». Эта вещь даст цельное представление обо мне, а пять-шесть маленьких вещей, притом уже читанных неоднократно, являют меньшую ценность. Однако же, следуйте своей воле.
Касательно стихов для Шклявера поступлю, как Вы пишете, и напишу ему о корректурах.
Посылаю Вам мою статью о Спире. Верно, через неделю она будет напечатана в «Сегодня». Любопытно знать Ваше впечатление и его[718].
До свидания.
К. Бальмонт.
1924. 11 март. Париж.
Дорогая Люси,
Я до сих пор еще не поблагодарил Вас за Ваше, дорогое для меня, согласие участвовать в моем вечере 24-го марта.
Конечно, Вы будете читать то, что лично Вам захочется. Но очень хорошо было бы, если бы у Вас нашлось также что-нибудь новенькое, в смысле еще не читанного.
Кстати, передал ли Вам Сахаров 5 билетов? Если бы Вы пожелали и смогли предложить кому-нибудь несколько билетов (без обременения себя), это было бы очень хорошо[719]. Послали бы, хотя боюсь беспокоить. Посылаю Вам письмо Леви. Какой очаровательный он! Это лучший в Париже читатель «Белой Невесты», облеченной во Французский наряд.
В «Mercure de France» я был уже давно на вторнике M-me Rachilde. Много говорил с Валлетом[720]. «Лики Женщины» обещали напечатать.
Сегодня был в «Le Monde Nouveau», требовал вернуть мне стихи, секретарь пришел в волнение, сказал, что будет говорить с редактором и что их легко скоро напечатать. Должен написать мне дня через 2–3.
Собираюсь подобный, не образцово-любезный, а иронический, визит сделать к Аркосу.
Как Вы? Приветы.
К. Бальмонт.
P. S. Орлов и Любошиц, кажется, будут играть «Крейцерову Сонату»[721].
Париж. 1924. 20 марта.
Дорогая Люси.
Очень жаль, что ни я, ни Елена не сможем сегодня попасть на Ваш интересный вечер[722]. Сбились с ног.
Вам, верно, Сахаров уже передал, что мы Вас поставили в программе в 1-м отделении на 3-ем месте – до Вас я открываю вечер маленьким стихотворением, а затем Лея Любошиц играет на скрипке. Спасибо и за предложение выступить во 2-м отделении.
Ваш выбор из Гольштейн-Гиля и Шюзевиля очень мне нравится[723]. И выбор Ваш из меня в Вашей передаче мне очень нравится тоже, но боюсь, что этого всего будет много. Мне бы хотелось услышать Rivale d’Is непременно, и 2–3 маленькие стихотворения, которые Вам продиктует вдохновение минуты.
За «Васеньку» мне на днях прислали 50 франков. Цифра не американская и даже не русская. Это нам обоим или мне одному? Я посылаю Вам письмо из «Нового мира».
Шлем приветствия Марселю и всего лучшего Вам.
До скорой встречи.
К. Бальмонт.
Шатэлейон. 1924. 24 апреля.
Милая Люси,
И мне и Елене очень жаль, что мы так и не смогли к Вам приехать в Клямар проститься и еще раз поблагодарить Вас за такое светлое и приветливое участие в моем вечере. Последние дни мы были от хлопот прямо в некоем безумии, и если бы не добрая дружба Сахарова, который в последние два-три дня помог уложиться и перевязал все багажи, верно, мы бы еще и сейчас бессильно барахтались среди тысячи предметов нужной и ненужной обстановки.
Здесь блаженство, тишина, уединение, и прямо передо мною через окно Океан. Храмина наша довольно плоховата, но сухая и светлая, а соседство с Океаном – богатство, вряд ли с чем сравнимое.
Посылаю Вам приглашение из «Люкса». Это, верно, какой-то глянцевитый вздор. Но по-моему нужно там быть[724]. Я написал редактору, что весьма сочувствую его приглашению, готов дать ему рассказ и несколько стихотворений, но что моя переводчица – M-me Л. Савицкая живет там-то, и что я прошу его непосредственно написать Вам письмо. Надеюсь, так?
Получили ли Вы пачку писем? Я послал их не без суеверного страха и печали: такие дары часто опасны[725].
Приветы Марселю.
К. Бальмонт.
Chalet Charlot, Châtelaillon, Charente-Inférieure
Шатэлейон. 1924.IV.28.
Дорогая Люси, Вы должны получить от Анны Николаевны, дня через два, мой очерк «Покидая Париж». Если Вы найдете его подходящим для «Figaro», буду весьма счастлив.
Спасибо за Ваш перевод романа Джойса[727]. Буду читать его вслух Елене и Миррочке.
Надпись – «за» – конечно, дружеская ирония надо мной?[728]
Только что перечитывал Ваш отличный очерк «C. Balmont et la Poésie Russe» перед тем, как дать прочесть его одной даме из Dordogne[729]. О, я вздыхал, читая его!
К. Бальмонт.
Шатэлейон. 1924. 4 мая.
Дорогая Люси,
Мы были совсем растерзаны последние недели в Париже, потому было невозможно побывать у Вас. Мы все очень жалеем, что не видали еще раз Вас и милого Вашего Марселя, самого ласкового и приветливого из всех Французов.
Письма Ваши, запечатанные, были переданы мною Сахарову. Я их отдаю Вам – как нашел. На одном конверте я усмотрел мою карандашную Английскую надпись, – очевидно, какой-то и с кем-то когда-то разговор. Прошу извинения у Вас, что когда-то воспользовался так конвертом. Очевидно, письмо было в кармане во время «блуждания».
Посылаю Вам письмо Шклявера. Я радуюсь очень. Послал ему «Нео-Филологические Записки»[730]. Очень прошу Вас, пошлите ему Ваши статьи и заметки обо мне. Они очень хороши. Мне хочется, чтобы он Вас цитировал.
Посылаю Вам также № «Дней» со статьей моей о Тютчеве, и № «Сегодня» со статьей о Спире[731].
Мы у самого Моря. Дела неважны и скудость изрядная. Но не теряю надежд и мы веселые, довольно.
Но мне очень грустно, Люси, что мы далеко друг от друга. Я Вас очень люблю.
К. Бальмонт.
Шатэлейон. 1924. 13 мая.
Моя милая Люси, Ваше последнее письмо, написанное совсем прежней Люси, «маленькой, которая больше большой»[732], унесло меня в то наше общее, лучезарное, весеннее прошлое, когда любовь овеяла нас своими крыльями Жар-Птицы и когда Вы явились для меня воплощением мудрого чувства, которое для всего находит яркое единственно-верное слово, – желанным воплощением огнеплещущего мига. Слава Вам, что Вы были такой и что золотая тень от этих дней медлит на Вас через десятки лет – неотзывчивой, несправедливо-невнимательной жизни.
Чьи это строки, не мои ли полудетские, или кого-нибудь другого?
В те проникновенные дни, в Короче, Вы не были еще человеком, но уже были богом.
Ни Вы не знаете, ни я сам не сознаю, сколько божески-золотого света Вы пролили тогда в мою душу. Это в те дни возникло во мне бессмертное восклицание: «Будем как Солнце!»
Сердце мое Вас помнит.
Ваш Бальмонт.
Шатэлейон. 1924. 22 мая.
Милая Люси, простите, что не сразу Вам отвечаю, но за эти последние дни в моей душе прошло несколько событий столь жестокого свойства, что все во мне сейчас – как на ниве после града.
Быть может, Вы уже знаете от Сахарова, что сын Мирры Лохвицкой, Измаил Жибер, молодой поэт, к которому мы все относились как к родному, застрелился[734].
Нечто тяжелое случилось с одним предельно-близким мне существом, о котором я Вам никогда не рассказывал. Тяжело не иметь возможности подойти близко к человеку, которого любишь и которому тяжело[735].
Мне хочется еще сказать Вам, что для меня мучительно-невыносима вздорность моей дочери. Но для чего я все это говорю? Как будто у Вас самой мало того, что Вам тягостно.
Письмо от Шклявера, подобное посланному Вам, я получил. Не ведаю, чтó ему отвечать. Если Вы послали в Люкс злополучную поэму мою о Париже, спасибо.
Радостью истинной для меня было напечатание «Ликов Женщины» в Меркурии, и я об этом писал Дюмюру[736], сообщив ему также, что, если он попросит Вас прислать для Меркурия несколько моих стихотворений, я буду весьма счастлив этим. Он не писал Вам?
Радость была также увидеть Вашу прекрасную заметку и мой очерк об Андрэ Спире в Идеалистических Тетрадях[737]. Но увидеть, что этот № начинается идиотской и преступно-лживой статьей какого-то глупца о кровавом Ленине было для меня изумленьем и горем[738]. Я хотел тотчас же написать письмо в Русские газеты и снять с себя возможное обвинение в большевизме. Решил, что не стоит. Дюжардэн, конечно же, лишь Дон-Кихот и способен принимать барана за Сарацина[739]. Пусть. Я ему напишу дружески и книг его попрошу. Но думаю, что, написав статью о нем, я предпочел бы ее увидать где-нибудь в Реальных Тетрадях, а не в Идеальных.
Напишите мне доброе слово, Люси. И да светит Вам Солнце.
К. Бальмонт.
<Приписка на полях.> Посылал ли я Вам свой очерк «Русский Язык»[740]?
P. S. Жалю и со мной был столько раз неправдив, что я совсем не хотел бы обращаться к нему с чем бы то ни было. Но и нет надобности. Анри де Ренье относится ко мне джентльмэнски[741], и он, по меньшей мере, в Фигаро столь же влиятелен. Можно очерк послать ему.
Шатэлейон. 1924.V.28.
Милая Люси, благодарю Вас за дружескую ласку Вашего письма. Чувствую Ваше доброе сердце – и вот злые чары не властны меня мучить.
Письмо из «Lux» меня радует очень. Дай Бог, чтобы это было правдой.
Шлю Вам мою поэму о нашем «Первовладыке»[743]. И еще стих[744].
Дня через два смогу написать Вам подробное письмо и пошлю «Закон Океана» (2–3 страницы прозы)[745].
Милый мой, добрый друг, целую Ваши руки.
Марселю, Спиру и Фонтэнасу привет.
К. Бальмонт.
Шатэлейон. 1924. 1 июня.
Милая Люси, посылаю Вам очерк о Пушкине и написанного вчера «Огнепламенного»[746]. Поэму «Пушкин» Вы, верно, уже получили? Мне бы очень хотелось, чтобы Вы как-нибудь отметили в «Фигаро» или иной Французской газете день рождения Пушкина, 26‐е мая, по-Европейски – 7-е июня. Свершится ли сие?[747]
Я еще не кончил роман Джойса. Как только прочту до конца, напишу Вам о своем впечатлении. Но мне европеизм восприятий становится все более и более чужд. Кажется, кроме России и так называемых экзотиков, я ничего сейчас не в состоянии чувствовать.
Над чем Вы сейчас работаете?
Приветы мои и от моих.
К. Бальмонт.
Châtelaillon. 1924. 10 июня.
Дорогая Люси, куда Вы пропали? Очень заняты? В отъезде? Больны? Чем-нибудь недовольны?
Дошли ли до Вас мои слова о Пушкине? Писал ли Вам что-нибудь председатель Союза Писателей и Ученых, Н. В. Чайковский[749]?
Мы в солнечных днях и в морской пустынности. Но уже человеки начали сползаться и скоро наша счастливая Робинзонада кончится.
К. Бальмонт.
Шатэлейон. 1924. 18 июня.
Милая Люси, я получил Ваше большое письмо с описанием Ваших бедствий, мужественно перенесенных во имя Пушкина, Бальмонта и Л. Савицкой. Ура! я восхищен, воистину, Вами, и спасибо Марселю, и да будут прокляты, проклятием и треклятием, сребробородые гагá[750] и всяческое Русское свинство, испокон веков бывшее таким же, как в данном случае. Милая, я посылал Вам стихи и прозу о Пушине – по душевному побуждению, без всяких предположений о применительности. Потом, мне пришло в голову то, о чем я Вас попросил. Своевременно, и Гольдштейну[751], и Чайковскому я писал о необходимости пригласить Вас на Пушкинский праздник в Сорбонну, куда я был приглашен[752]. Вам я не писал об этом, поджидая, что они исполнят мою просьбу, и будучи уверен в их джентльменстве, ибо оба они относятся ко мне исключительно хорошо. И вот подите ж, как изящно все вышло! Моя поэма о Пушкине вовсе не была прочитана, имя мое утаили, и с Вами обошлись не как писатели и деятели, а как гужá[753] на большой дороге. И все ведь без злого умысла. Разве Русские могут что-нибудь устроить? Пугачевщину они умеют устроить, и по-обезьяньи передразнивать наихудшие мгновенья Французской Революции, не воспроизведя, хотя бы ученически, то немногое хорошее, чтó в ней было.
Вы вспомнили о Ваших «помешательствах». Знаете, я Вам нашел великое оправдание, то есть сему словоупотреблению. В Российской Грамматике Михайла Ломоносова, 1755‐й год, на странице 2-й, в §-е 2-м, читаем: «…кроме слова нашего, можно бы мысли изображать было чрез разные движения очей, лица и протчих частей тела, как то пантомины на театрах представляют; однако таким образом без света было бы говорить не возможно, и другие упражнения человеческие, особливо дела рук наших, великим были б помешательством такому разговору…» Итак, в погрешности Вашей – древнее слово наше.
Послал Вам № «Последних Новостей» с упоминанием Вашего имени. Получили?
Письмо к Ольге[754] прилагаю. Марселя приветствую. Ваши ручки умные лобзаю семикратно и нежно.
К. Бальмонт.
P. S. Елена очень кланяется Вам и Ольге.
Шатэлейон. 1924. 22 июня.
Дорогая Люси, прошу Вас, заступитесь за меня, если можете и хотите. Восхотите! Прилагаю наглейшее письмо Аркоса, этого образцового дезертира и лгуна. Вы помните, в конце прошлого года он формально обещался мне, что если не сможет напечатать «Ливерпуль» в ноябре, то напечатает в декабре. Потом рукопись куда-то пропала, – оказалась, по небрежности конторы журнала, в Брюсселе, была оттуда вызволена, и Аркос, когда я у него был на вечере, обещал мне напечатать рассказ в одном из весенних номеров. После напрасных ожиданий я написал ему отсюда сухую и четкую открытку, указал, что мне надоело ждать, и вопрошал, когда же он, наконец, напечатает рассказ, ибо все указанные им сроки – уже в области прошлого. Он мне отвечает такою наглостию[755].
Я сам не могу ему больше писать, ибо первое мое слово будет: «Вы лжец». Конечно, хлестнуть такого проходимца я сумел бы очень больно и удовольствие от того испытал бы. Но какой смысл? Минутное удовольствие. И не в том дело. Нужно добиться от него, чтобы он напечатал рассказ раньше зимы. Если он полагает, что должен «представлять» Русских писателей, и что, напечатав три мои небольшие стихотворения, он меня представил Французским читателям, ведь это же – или опять ложь, или жалкая глупость. Также глупо не понимать разницы между Бальмонтом и Смельновым, то есть Шмелевым[756]. Да если бы даже он на гения какого ссылался, не все ли мне равно? Он дал мне дважды слово и должен его сдержать.
Быть может, просто отнять у него «Ливерпуль» и отдать куда-нибудь в другое место? Поступите, как сами решите.
Жаль мне, что я не видал Ольгу. Какая она? В письме ко мне – та же.
Посылаю Вам своего «Жаворонка»[757]. Мне кажется, я давно не писал такой удачной вещи. Как Вам кажется?
В мексиканском «Эксцельсиоре» до небес превознесли «Солнечные Видения». Мне Рош послал номер.
Я каждый день пишу по стихотворению, по два, и даже иногда по пяти.
Привет Марселю. Чтó Вы? Елена кланяется.
К. Бальмонт.
P. S. Прилагаю мой стих «Шошана Авивит»[758]. Если бы Вы захотели его перевести, «Менора» с восторгом бы напечатала[759].
Шатэлейон. 1924.VI.25.
Милая Люси, меня радуют Ваши письма. Очень сожалительно мне, что не увижу Ольгу, о которой и Вы и Нюша[760] пишете мне согласно-восхищенно, и которая всегда мне была дорога. Моя amitié amoureuse[761] с нею была краткой, но ее пленительный образ, кристальной чистоты и старинного очарования, – точно из Пушкинских дней[762], – глубоко запал в мое сердце. Шошана Авивит московская знаменитость. Габима – Еврейский театр в Москве. Чтó значит это слово, я забыл[763]. О «Авиве»[764] см. Второзаконие, гл. XVI.
Я видел весеннюю Авивит лишь раз и это было сказочно прекрасно. Вся красота Древне-Еврейского языка звучала через нее тимпанами, бубнами, гулом колокола и грозой. Она читала Бялика[765].
Шлю Вам «Удел» и «В голубых долинах»[766]. Сим вторым, кажется, вправе я гордиться.
Целую Ваши руки. Ольге мой коленопреклоненный привет грустящего трубадура.
Сердцем Ваш
К. Бальмонт.
Шатэлейон. 1924.VI.27.
Люси, я вчера позабыл написать Вам о Б. К. Зайцеве[768]. Я не считаю его первоклассным, но это хороший писатель, у него свой язык, тонкая живопись и тонкие настроения. Мне нравится его «Заинька», где он изображает свою жену Веру[769], достаточно нашумевшую в Москве (она много интереснее его, – была, да и есть). Нравится «Арбат», где проходит тень Бальмонта и тень Белого[770]. И что-то еще. Но уж не вспомню.
К. Бальмонт.
Шатэлейон. 1924.VI.29.
Милая Люси, вот, в полном лике, Поэма Грозы, как она мне наяву приснилась.
Il me tarde[771] услышать Ваши слова и чувства.
Мне кажется, что я ничего лучше не писал.
Если Вы не искуситесь перевести ее для печати целиком, прошу, переведите хотя отрывки и прочтите Марселю, Фонтэнасу и Спиру, – трем Французам, у которых сердце – прямое, и чистое, как капля росы на цветке.
Целую Ваши руки. Если Ольга еще с Вами – вся жажда моего сердца, бессильного досягнуть.
К. Бальмонт.
Шатэлейон. 1924. 7 июля.
Милая Люси, посылаю Вам второе мое обращение к Шошане Авивит, образ которой меня сладко мучает и волнует[772]. Если Вы переведете и его и первое, и пошлете в Менору, буду счастлив.
Познакомились ли Вы с ней или некогда было[773]? Я почему-то думал, что Вам захочется ее узнать. Быть может, мне это показалось оттого, что самому сейчас хотелось бы быть с ней. Так произвольно в своих логических выводах человеческое сердце.
Чтó Вы? И в чем Вы?
Не собираетесь ли в деревню? Вот бы по дороге заехать к нам! Ведь Вам с Марселем легко повсюду пронестись в его ковре-самолете[774].
К. Бальмонт.
Шатэлейон. 1924.VII.27.
Дорогая Люси, где Вы? В столице Клямарской или деревне Лестиусской? Или все работаете? И над чем? У меня и Елены была безумная мысль, что Вы как-то заглянете в наше сапфировое царство океанских волн, не устающих мне петь, мне, не устающему превращать синеву Моря и Неба во множество «сироток-стишонков» (гениальное слово Пушкина, в которого я повышенно влюблен)[776]. В Пушкина-то я давно влюблен. Но не только в него, и собираюсь прислать Вам десятка два стихотворений, посвященных Шошане Авивит! Мне хочется, чтобы Вы их прочли. Очень нравится мне Ваш очерк о Надсоне (его в 18 лет очень любил)[777]. Слова обо мне в конце очерка пронзили меня восторгом и признательностью. Целую умную, ласковую руку Вашу и желаю Вам счастья.
Шатэлейон. 1924. 29 августа.
Милая Люси, где Вы и чтó Вы? Я соскучился о Вас, и так давно не было от Вас писем. Здоровы ли Вы?
Мы все здесь и пробудем до половины октября. А чтó потом, не знаем. В Париж приедем только на две недели, чтобы одеться немного, обносились в лоск. И вновь уедем к Морю или оставим Анну Николаевну и Мирру в Париже, а я с Еленой поедем в Прагу, либо на выступления в Литве, и Латвии, и Эстонии. Желалось бы все же остаться во Франции, где-нибудь около Биаррица или в таком роде. Только не в Париже. Тупоумие Русских и безучастное равнодушие Французов мне опостылели слишком и превратились в то, что называется дурной бесконечностью. Здесь же, у волн, я не чувствую ни Русских, ни Французов. Только Море и Небо и свою душу. Она поет.
Люси, в июне я имел с Люи Дюмюром переписку[778], и он сказал мне, что Меркурий напечатает охотно что-нибудь из Ваших переводов меня, – стихов, – предупреждал лишь, что за стихи не платят. Я ответил, что пошлю, как только будет что-нибудь у меня, нигде еще и по-Русски не напечатанное и достойное меня и Меркурия. Вот, «Созвенные» мне кажутся такими[779]. Если и Вам они нравятся, позвольте посвятить поэму Вам и переведите для Меркурия! Да? Если одной вещи мало, я пришлю еще.
Привет Вам и Марселю.
К. Бальмонт.
Шатэлейон. 1924.Х.26.
Милая Люси, я давно Вам не писал. Но много было причин молчания. Вот краткий перечень их.
1. Сломалась моя машина Hammond. В поправке.
2. Надо было писать множество деловых писем, чтоб не погибнуть от голода, – а при сем и очерки для газет писались.
3. Огорчался очень-очень, что Люси не переводит «Созвенные».
4. Писал стихи, поэмы, и написал новый венок сонетов, «Основа» (скрижаль моя и credo)[780].
5. Искал виллу на зиму и нашел. Зовется Aiglon и будем в ней, здесь, до весны.
6. Провожал Анну Николаевну, уехавшую в Париж.
7. Грустил, терялся в размышлениях, пока не домыслил, что Океан, тишина безлюдья и Поэзия самодостаточное царство.
Письмо Ваше о «Мое – Ей»[781] мне доставило восторг. Вы так хорошо всегда говорите о моих стихах, что мне жаль, почему не каждое такое Ваше слово печатается.
Получил я два экземпляра «Monde Nouveau» с моими стихами и 4 экземпляра «Europe» с «Ливерпулем»[782]. Не поделиться ли с Вами или Вы сами с сих джэнтльменов стребуете? Может, ни те, ни эти не прислали никаких.
Очень я рад «Ливерпулю». Ваш перевод прекрасен.
В душе светло. Quand même[783].
Как получу машину, пришлю много стихов.
Окончил новую книгу, «Пронзенное Облако»[784].
Мой милый друг, до свидания. Отзовитесь.
Елена и Мирра кланяются Вам и Марселю.
К. Бальмонт.
Шатэлейон. 1924.XI.18.
Дорогая Люси, несправедливость с книгой «Где мой дом?», правда, большая, но совсем не та, как Вы говорите и думаете. Приблизительно год тому назад, когда эта книга вышла, Вы были первым человеком, которому я подарил ее. Я приезжал к Вам с Еленой в Clamart (она тоже четко помнит это), Вы в тот день были не в духе, собирались ехать в Париж, и мы пробыли тогда у Вас совсем немного. Посмотрите, не таится ли бедная книжка где-нибудь у Вас на полках, куда она естественно могла попасть в минуту, поглощенную заботами[785].
Посылаю Вам одну из последних моих вещей. Хотел бы найти что-нибудь радостное, чтоб Вам передалась радость. Но – ничего. Мы замерзаем и дела всех Русских вообще очень плохи. Печататься негде. Денег до ужасности мало. Тем, кто в Париже, еще трудней.
Я не унываю. Много читаю. И пишу тоже. Был бы безмерно рад, если бы, вопреки всем трудностям Вашей жизни, Вы перевели «Созвенные» и еще что-нибудь по своему выбору. Кстати, дошел ли до вас № «Последних Новостей» с моей «Прихотью Природы»[786]? Вам не кажется, что это годилось бы для «Figaro»?
Милая, не забывайте меня. Когда Вы ласковы со мной в письмах, мне кажется, что мы оба – прежние и что наша внутренняя правда сильнее целой вселенной.
Ваш Бальмонт.
P. S. Привет Марсэлю, Спиру и Фонтэнасу.
P. S. Если у Вас не отыщется экземпляр «Где мой дом?», – (Елена клятвенно подтверждает точность нашего двойного, то есть одного в двух памятях воспоминания), – я смогу послать Вам другой экземпляр.
Шатэлейон. 1924. 1 декабря.
Милая Люси, Вы, конечно, сразили меня и Елену документами, но менее, нежели Вы можете думать. Я мог ошибиться относительно даты и порядка подарка. Лишь в этом. Господь Бог знает, что я среди трех-четырех первых экземпляров «Где мой дом?», которые были мною снабжены надписью, надписал экземпляр Вам. Как, впрочем, я делаю с каждой своей новой книгой. Если я не передал ее Вам лично, значит, я послал с почтой. Она могла не дойти. Но я бы очень дивился насчет такой возможности. Я всегда, посылая бандероль, пишу на конверте свой адрес. Еще недавно, за выездом друзей, я получил обратно экземпляры своих книг – из Монако и из Норвегии. Почему бы мне не вернули из Клямар ту же или подобную книгу? Может, Вы поищете все-таки у себя. Ведь прислуга в Ваше отсутствие могла положить книгу на полки. Я физически не мог не подарить Вам новую книгу. Особенно такую, где – рассказ, Вами переведенный. Во всяком случае, на днях пошлю Вам другой экземпляр.
Между прочим, книга вышла в 1923‐м году, хотя помечена 1924‐м. Сие делается запросто. Кажется, и с «Солнечными Видениями» было то же. И так же было с целым десятком моих других книг.
Посылаю Вам для Иерусалимского университета «Мое – Ей»[787].
Я пишу, и еще пишу, новые поэмы. Но уж более не посылаю их Вам. Мне кажется, что Вы так захвачены делами и впечатлениями, что не чувствую своего определенного уголка в Ваших часах. Прочту новое, когда приеду в Париж. По видимости, это будет недалеко, ибо, если Океан всегда хорош, Мирра делает абсолютно все, чтобы сделать мою жизнь и жизнь Елены бестолковой пыткой, а люди здешние столь звероподобны, что быть среди них прямо страшновато.
Мой милый друг, откликнитесь, когда будет минутка.
К. Бальмонт.
Шатэлейон. 1924.XII.19.
Милая Люси, спасибо за письмо и оттиск чудесно Вами переведенной моей поэмы о Париже[788]. Должен ли я его вернуть Вам – или могу послать Кате?
Безбожно мной срезанная строка гласит: ластовицы сладкоглаголивые, две маслины и два…
Могу ли я напечатать по-русски «Созвенное»?
Пишу Вам подробней на днях, а сейчас шлю «Дружбу с удавом»[789]. «L’ Eclair» ждет от меня рассказа[790]. Вот бы…
Привет Вам и еще раз спасибо.
К. Бальмонт.
Шатэлейон. 1924.XII.23.
Дорогая Люси, конечно, я буду рад видеть мои вещи по-Французски и в том случае, если ничего за них не буду получать. Вообще, кроме «Visions Solaires» и «Images de la Femme», я получил за все, что появилось по-Французски, такие гроши, что не стоит и говорить об этом. За «Quelques poèmes» – целая книга – я, например, не получил ни одного су[792]. Ну и пусть. Хорошо и просто печататься. Мне жаль только, что Вы начинаете со Словацкого[793]. Но это – дело Вашего настроения и указывать я ничего не могу. Рассказ Ваш в «Меноре» я читал[794]. Мне кажется, он не написан, а дан лишь очерк темы. Не можете ли Вы спросить Сильвэна Леви, удалось ли ему куда-нибудь приспособить «Белую невесту», как он надеялся и обещал?
Пишу подобие святочных рассказов.
Приветы. Ваш К. Бальмонт.
Grand Hôtel de Paris, Nantes.
25. IV.1925.
Милая Люси, я так и не увидал Вас по-настоящему за все свое, достаточно злополучное, пребывание в Париже. Почему злополучное? Это как-нибудь потом расскажу. Сейчас пишу по поручению Кати. Прилагаю письмо ее старшей сестры Александры Алексеевны Андреевой. Она – бывшая ученица академика Александра Веселовского, которого Итальянцы, как лучшего знатока Эпохи Возрождения, звали il nostro Wesselowsky[796]. Начала Андреева диссертацией о Боккачьо. Позднее, в конце 19-го века, она первая печатала очерки о Ибсене, Буржэ, Лоти[797]. Я думаю, что это самая образованная из Русских женщин сейчас. Это она научила меня Итальянскому языку (и терпению также), и это она воспитала Катю (которую отдала мне лишь с бою, – о, время! о, судьбы!)[798]. Она очаровательное существо лет 70-и (пожалуй, больше) с совершенно юною душой. Из всех ограбленных большевиками (отнято большое состояние), она смелей, чем кто-либо, переносит нужду и жизнь в конуре.
Катя пишет: «Милый, займись, не откладывая, этим делом. Как ты с Люси? Я думаю, если Вы дружите, ей легко помочь тебе в этом деле: приискания издателя[799]. У Jaloux есть издательство? Или туда эта книга не идет? Вам там виднее. Но, главное, издатель здесь говорит, что надо спешить и, сговорившись об условиях платы, печатать объявления о ней. Я тебе книгу вышлю немедля. Попроси Люси сделать мне эту услугу, нам всем в этом году очень тяжко живется…»
Книга Кузминской – сплошное очарование. Я ее читаю сейчас и вышлю Вам через два дня[800].
Жалю, конечно, шарлатан. Может быть, у Вас есть какие-нибудь иные возможности? В крайнем случае, я могу обратиться к Шатобриану[801]. Но только что начавшуюся дружбу запечатлевать просьбой очень тяжело. Напишите, что Вы думаете об этом.
Я и Елена, мы были в гостях у Шатобриана в Piriac-sur-Mer. Но там хижина необитаема. Сбежали и наняли виллу в С.-Жиле. Анна Николаевна в Париже. Миррочка в Провансе.
Двойной привет Вам и Марселю.
Ваш, К. Бальмонт.
Мой адрес: St.-Gilles-sur-Vie, Vendée, C. Balmont.
St.-Gilles-sur-Vie, Vendée.
1925.IV.29.
Милая Люси, спасибо Вам за то, что так сердечно откликнулись на письмо Кати и ее сестры. Я написал немедленно им обеим и они сами ответят Вам на все поставленные Вами вопросы. Пока же сообщу, что Кузминской книгу я сегодня послал Вам. Из предисловия заключаю, что она жива. Если это так, 3.000 было бы приемлемо, но 5.000 франков, конечно бы, лучше и вовсе хорошо. 30 рублей = 300 франков. Лист в 40.000 букв приблизительно то же, что в «Visions Solaires» (число букв строки, помноженное на число строк страницы и на 16 потом). Сколько знаю, Александра Алексеевна Андреева знает Французский очень хорошо, изрядно его знает и Катя[802]. Им помогает, кажется, некий Француз. Шатобриан, с которым у меня большая дружба, конечно, согласится написать предисловие, если это нужно. Быть может, согласились бы и Вы написать 3–4 страницы. И я написал бы страницу-другую. Три préface’а[803] – сколь приманок и для издателя и для публики! Как Вы считаете?
Еще раз Вам спасибо.
Буду с нетерпением ждать Ваших переводов из меня. Горе, я уж забыл, что у меня есть «ma» traductrice[804]!
Не думаете ли Вы, что можно бы опять завести разговор с Рошем о напечатании моих рассказов и моих стихов в Ваших отличных переводах? И почему Сильвэн Леви не заставит никого напечатать «Fiancée Blanche»? И нельзя ли узнать, когда же «Revue Bleue» напечатает «L’ Amour et la Mort dans la Poésie»[805]?
Вот, я опять жужжу около Вас, как корыстный шмель.
Я воскрес от Океана. Через час по приезде сюда написал два стихотворения.
Руки Ваши целую. Приветы Марселю.
К. Бальмонт.
St.-Gilles-sur-Vie, Vendée.
1925. 3 мая.
Милая Люси, я невольно вздрогнул, читая вторую половину Вашего письма. Мне жаль, что Ваша мама не дождалась возврата в Россию, который придет. И просто жаль ее, она мне не чужая, ведь она Ваша мать, а Вы так близки, близки мне, как будто мы еще там, в Короче.
То, что с Вами сделали Ваша сестра и Ваш брат, безымянно по низости[806]. Не скрою, я хотел бы их встретить, чтоб ей сказать последние бранные слова, а ему швырнуть какой-нибудь предмет в лицо.
Будьте спокойны и тверды. У Вас есть другие брат и сестра, которые сейчас сердцем с Вами. О Шатобриане. Молю Вас, напишите ему сами, – я не сумею, я только напутаю. Ваше письмо найдет его раскрытое сердце и полноту доброй воли. Он любит меня очень и восхищен «Visions Solaires» и качеством перевода. В Нанте я уже говорил с ним и о Вас, и о Кузминской, и о работе Кати и Александры Алексеевны. Он в восторге от Наташи Ростовой[807] и сказал, что готов хлопотать у издателя своего, но сейчас он между Грассэ и другим издателем (может быть, это – его тайна) и совсем на днях должно выясниться, кого он изберет. Вскоре он должен поехать в Париж, а сейчас он в Нанте: 28, rue Rosière.
Он обещал и мои книги пристроить. Но пока мне так хотелось бы помочь Кате и ее сестре. Если можно, помогите мне в этом деле. Я сам – повторяю – наверно напутаю. Шатобриану я буду писать завтра и сообщу, что Вы хлопочете об этой книге и чтоб, если Вы ему напишете, он всячески поколдовал.
К. Бальмонт.
St.-Gilles-sur-Vie, Vendée.
1925. 4 мая.
Люси, пишу в дополнение к вчерашнему. Получил очень ласковое письмо от Шатобриана. Он сообщает мне, между прочим, что вскоре поедет в Quimper на свободу к некоей villageoise, et travailler un peu sur place au livre qui m’occupe en ce moment[809]. Он думает быть там от 7-го до 18-го. От 20-го до 25-го будет в Париже. Я пишу ему сегодня же вечером, упомяну о Вашем письме. Как было бы хорошо, если бы Вы теперь же обменялись с ним письмами, а между 20 и 25 свиделись в Париже или в Клямаре. Ласковые приветы Вам.
Ваш К. Бальмонт.
1925. 19 мая.
Милая Люси, не знаю, дома ли Вы или в путях.
Дня три тому Шатобриан писал мне, что, верно, Вы уже видели Грассэ, что он ему и Вам писал[810]. Сегодня он вновь мне пишет и говорит: «Ne manquez pas d’envoyer le plus vite possible à Madame Ludmila Savitzky les adresses de vos correspondants de Moscou»[811]. Итак, немедленно сообщаю (хотя, кажется, уже сообщал), что адрес Кати, – Екатерине Алексеевне Бальмонт и Александре Алексеевне Андреевой: Москва, Арбат, Б. Николопесковский п., д. 13, кв. 2.
Неужели что-нибудь действительно en marche[812]?
Шатобриан будет у меня здесь 22-го.
Через 2–3 дня пишу Вам подробно, шлю новые стихи и только что напечатанный очерк о Скрябине[813]. Если бы он Вас соблазнил для Вашей мастерской передачи. (О.!.)
К. Бальмонт.
St.-Gilles. 1925. 4 июня. Ночь.
Люси, милая Люси, как мне больно, когда – снова – Судьба Вас ударит своим стальным острием – как будто так и нужно. И как остро во мне, когда это случается, и я узнаю, просыпается моя всегдашняя нежность к Вам. Как будто обидели моего любимого ребенка. Как будто обидели самого меня.
И я вспоминаю Вас прежнюю – ту – давнишнюю. Как будто Вы не та уже! Тот милый, давнишний лебеденок, напрасно раскрывавший свои юные, красивые крылья к Солнцу и ко всему миру. Да разве он стал другой? Гордый и застенчивый, страстный и обидчивый, так легко обижаемый и такой сильный, однако и глубоко уверенный в себе. Лебеденок, лебеденок, он жив и я его люблю.
Я не верю, чтобы Ольга[814] не поняла быстро, что Вас терять не должно и что Вас потерять нельзя.
Из Москвы мне пишут благодарности за Вас. «Спасибо за Lucy», – слово Александры Алексеевны Андреевой прозвучало в моей душе так нежно.
«Шато» задержался в Нанте и, судя по вчерашнему его письму, уехал в Париж лишь 2-го. В его «листе»[815] отмечен визит к Вам. Он очень увлечен мыслью написать предисловие к книге Кузминской, перечитывает «дневник» Толстого[816] и переживает вновь завлеченность этим суровым ликом, «под морщинистым лбом которого бьется крыло ангела».
Я боюсь что-нибудь высказывать о цифре за этот труд. Все дело, мне кажется, в том, жива ли Кузминская и нужно ли ей платить. Если «да», 3.000 фр. маловато, если «нет», – Александра Алексеевна не представляет, за какие деньги мы здесь работаем, – если «нет», 3.000 совсем довольно. Так и думаю, вернее, думал, написать в Москву. Но, пожалуй, мне в это не путаться? Напишу лишь, завтра же, Шато, чтоб он похлопотал о maximum’e. Весь этот вопрос – очень трудный. «Где тонко, там и рвется», гласит Русская пословица.
Спасибо Вам большое, большое, Люси, за то, что Вы хлопочете об этом, за то, что Вы добрая, чистая и прекрасная среди чудовищных горилл, которые смеют себя звать людьми.
К. Бальмонт.
St.-Gilles-sur-Vie. Vendée.
1925. 10 июня.
Милая Люси, большое счастье Вы доставили мне сегодня Вашим рассказом о свидании с Шатобрианом. Напишу Вам подробно, но, чтоб ответить тотчас же, пишу эти два слова. Давно Вы не писали мне такого радостного и просветленного письма. Я рад за него, рад за Вас, и очень рад за себя. Давайте, образуемте союз трехлепесткового клевера, луговой душистой кашки, цветка с запахом свежим и нежным и крепким, – запах Земли. Если не бесстыдно обременять Вас просьбой сейчас, молю, пошлите мне на несколько недель томики Лефкадио Хирна о Японии[818]. Привет. Ваш К. Б.
С.-Жиль. 1925. 1 июля.
Дорогая Люси, большое спасибо Вам за посылку «La Nervie» с Вашим переводом «Слов о Женщине»[820]. Очень это приятно. Мало-помалу у нас наберется целая книга очерков. Все эти дни я в больших хлопотах, о которых напишу подробно. Неприятности с водой, нас обманули хозяева, едем в Sables-d’Olonne говорить с avoué[821]. Шато писал, что весьма смущен, что Вы просите его représenter[822] переводчиц, а он не умеет. Я ему дал некие указания. Спасибо, что хлопочете о Кате. Очень-очень нежные приветы Вам. Где Ваши девочки? Как здоровье? Поклон Марселю.
Ваш К. Бальмонт.
С.-Жиль. 1925. 23 августа.
Дорогая Люси,
Куда же Вы исчезли? Давно от Вас нет вести. Надеюсь, что молниеносные грозы, пронесшиеся за последние дни по всей зеленой Франции, не унесли Вас в голубую Запредельность и мы еще свидимся с Вами здесь или в Париже, или в Кламаре, или хотя в строках письма.
Посылаю Вам стих о России, почему-то вызвавший нечто вроде негодования в кроткой Анне Николаевне[823]. Надеюсь, что Ваше впечатление будет иное, в особенности в виду усиленных разговоров о замене большевизма прежним царизмом. Вот уж, поистине, оба хуже, как говорят дети.
Впрочем, прилагаю еще стих «Уходящее». Тут, куда больше, я.
Как Ваше здоровье? Привет Марселю.
Вам от всех нежные приветы.
К. Бальмонт.
P. S. Мне очень нужен адрес «Rythme et Synthèse»[824]. Не сообщите ли?
С.-Жиль. 1925. 10 сентября.
Дорогая Люси,
Я посылаю Вам письмо Лесбаца[825]. Пожалуйста, прочтя, верните его мне. Я тотчас же, по получении его от Шатобриана, ответил Шато, что, конечно, я очень рад этому предложению и принимаю его, но прошу сообщить размеры сборника, а также, чтó лучше дать – такие очерки, как «Лики Женщины», «К Молодым Поэтам», и прочее, или же рассказы, как «Васенька», «Ливерпуль», и прочее. Он пишет мне, что, конечно, рассказы и просит их собрать, не говоря, однако, о размерах сборника. Сообщает лишь, что написал Лесбацу. Или Лесба. На днях я, верно, получу и прямое, непосредственное предложение. Мне непременно хочется включить в сборник и «Белую Невесту». Но все Вами переведенные рассказы у меня есть, кроме нее. Я ведь в свое время отдал «мой» экземпляр Сильвэну Леви, он хотел где-нибудь поместить его. Как теперь с этим быть? Я напишу Леви, но имеет ли смысл отнимать у него рукопись? Ведь он все-таки, может быть, ее куда-нибудь пристроит?
Мне очень хочется, чтоб к этому сборнику Вы написали предисловие. Может быть, и Шато напишет несколько слов. Это было бы так хорошо. Он обещается на днях, наконец, приехать ко мне. Будьте добренькой и отзовитесь отзывчивым Вашим сердцем тотчас. Я так рад этому предложению, что еще не решаюсь верить, что это не очередная выдумка Французов, развеивающаяся лишь дымом. Но, кажется, это серьезно.
Чтó Вы? Чтó Марсель? И где Вы?
К. Бальмонт.
С.-Жиль. 1925. 19 сентября.
Дорогая Люси,
За последнее время я Вам мало писал, ибо я был занят делом важным и хитрым. А именно: в 3–4 недели я овладел Чешским языком, прочел ряд книг великого чешского поэта Ярослава Врхлицкого и перевел десятка три изумительных его стихов[826]. Пошлю Вам на днях некоторые. Знаю, что Вы придете в восторг, – и в удивление, быть может. Он такой мой родной брат, что как будто это пела одна и та же Славянская душа.
Посылаю Вам письмо Рожэ Лесба и мой ответ ему, в копии[827]. Уповаю, что в отношении к Вам я не совершил преступления, которое называется превышением власти. Лесба – юноша, только что кончивший университет, житель Нанта и один из верных Шатобриана. Человек он, как знаю от Шато, интересный и достоверный. Я, однако, не вполне уверен, что мы получим обещанные 2.000 франков. Если получим, давайте братски разделим их, а если не получим, я думаю, ни Вы, ни я, мы плакаться на это не будем. Лишь бы они напечатали нашу книгу.
Одобряете ли Вы, как я разместил стихи? Мне кажется, получается цельное впечатление. Хотелось бы мне, чтобы Вы добавили вещей пять чисто Русских из «Мое – Ей» и из прежних, что любо Вам.
О биографизировании Вашего очерка обо мне весьма Вас прошу[828]. И хочу думать, что рекламный листок предприятия с бритвой и поддельными жемчугами только рассмешит Вас, а не отпугнет.
Написал Вам в Клямар, а не Лестиу, ибо не был уверен, что Вас что-нибудь не задержало в Клямаре, и знал, что из Клямара, во всяком случае, Вам мое письмо будет переслано, а если б в Лестиу никого не было, письмо, верно бы, там полежало довольно.
Какое-то мое письмо к Вам, верно, не дошло. Я отвечал на Ваши вопросы. Отвечаю опять. Миррочка влюблена в своего мичмана, с которым в разлуке, но, кажется, сама не слишком верит в свою любовь, во всяком случае, уже видит, что он умственно, и в разном, гораздо слабее ее. Пишет хорошие стихи, веселится и хохочет с своей, гостящей у нас, подругой из Харбина, юной художницей. Елена в хлопотах, но здорова. Отдыхает только по ночам, между 12-ю и 3-мя часами. Они очень приветствуют Вас. Шатобриан все едет – не едет ко мне. Он решил весь перевод Кузминской самолично офранцузить. Кстати, если Вам книга эта сейчас не нужна, нельзя ли ее получить на время для перечтения (слово неуклюжее). Из Ритма и Сэнтэза я ни ответа, ни привета не получил на свою просьбу послать мне 5 экземпляров №-a с «К молодым поэтам»[829]. Если б Вы заставили их послать сие, был бы очень признателен.
Поклонитесь Марселю и Вашим большим девицам. Жаль, что не могу с ними побегать в горелки. Нежный привет Вам от меня.
К. Бальмонт.
С.-Жиль. 1925. 28 сентября.
Дорогая Люси, что ж Вы молчите? Вы получили мое письмо с письмом Лесба и копией моего ответа?
Прилагаю только что полученное письмо Лесба. Жаль, что стихи сейчас не пойдут[830]. И он так и не сообщает, какого размера сборники.
Буду уповать, что это выяснится на днях, и что Вы не откажетесь перевести что-нибудь дополнительно (если в том будет нужда).
Как Вы? Отзовитесь! У меня рука болит, – посему кончаю.
К. Бальмонт.
P. S. Жаль, если Вы не вступитесь за Бальмонта и Русскую поэзию против безграмотного лакея Мережковских, Жана Шюзвиля (Mercure de France, 1 сентября)[831]. Там ряд грубых передержек и ошибок. И все это – подлое наущение Зинки Гиппиус и этого убогого скопца, Мережковского, весьма алчного «богоискателя».
С.-Жиль. 1925. 6 ноября.
Привет Вам и Марселю.
Ваш К. Бальмонт.
Париж. 1925. 24 декабря. 10 часов утра.
Дорогая Люси, я с большою болью прочел письмо Александры Алексеевны Андреевой, которое, для краткости и точности беседы, прилагаю, хотя оно, по-видимому, предназначалось лишь мне[836]. В своем простосердечии, Александра Алексеевна, конечно, ошибается, предполагая, что я могу на Вас влиять. Это мне не даровано. Ваши желания или нежелания возникают свободно. Но мне хочется лишь попросить Вас пересмотреть Ваше решение. Может быть, как-нибудь возможно не наносить удар человеку, находящемуся в таких условиях, как Александра Алексеевна. Если возможно, это будет для меня истинным счастьем. Если нет… слово «нет» само себя исчерпывает.
На днях я послал Вам «Пророков»[837]. Не знаю, дошли ли. На почте невероятный беспорядок.
Приветствую Вас и Марселя со Святками и с Новым Годом. Елена кланяется. Хрестоматии доставлю Вам на днях, как и Грамматику.
К. Бальмонт.
Париж. 1926. 11 января. 2½ часа дня.
Люси, миленькая, ежели можно, окажите услугу – Толстому, мне и La Ligne de Coeur, ждущей от меня с нетерпением моего слова о Толстом. Если б я начал его писать по-Французски, я бы его довольно сносно и написал. Но переводить себя это то же, что себя скальпировать. Неможно!
Если переведете «Орлиные Крылья» и пошлете Lanoë, – земной Вам поклон[838]. Если не можете, пожалуйста, верните – как pneu[839].
К. Бальмонт.
Париж. 1926. 12 января. Вечер.
Дорогая Люси, спасибо Вам за перевод «Пророков»[841]. Есть 5–7 слов, которые хотел бы видеть замененными (обман – illusion, это – не то, и crier – не взывать, говоря о Серафимах). Но это мелочи. Не мог я принять лишь одной фразы, нашей Безвременномечтанной. Смысл, избранный Вами, увы, неприемлем уже по одному тому, что он не правоверный: ведь Творец в довременности задумал совершенный Рай, а вовсе не труд земного бытия, который возник лишь как кара за ослушание.
Я позволил себе вычеркнуть эту фразу. Без нее отрывок, по-Французски, даже выигрывает.
День провел смутно и потому отправлю рукопись в «Менору» лишь завтра утром.
Пожалуйста (если будете переводить), исправьте в «Орлиных крыльях» двукратную описку (страницы 2-я и 3-я): вместо Алупки поставьте Гаспру.
Как Вам показался мой очерк?
Вчера я прочел поганую статью Эренбурга[842]. Она начинается смердяковской позой и ложью: перелом эпохи – и в писаниях тамошних, и в писаниях тутошних, и перелом эпохи отнюдь не в уничтожении крупного землевладения (которое вовсе не уничтожено, а лишь эксплоатируется коммунистами) и в национализации сейфов (ограбленных для злодейств Коминтерна на всем Земном Шаре и для личного разврата и обжорства Зиновьева, Каменева, Троцкой <sic>, и многих иных бандитов[843]), – а в пробуждении массового сознания в крестьянах, которые вот уже целый год систематически истребляют коммунистов в деревнях, – и в рыцарском стоицизме огромного количества Русских людей, которые, забыв свою Славянскую нерешительность, разметались по всему миру и несут свой свет людям в условиях крайней нужды, но и кристальной непримиримости с насилием, с кровавыми гяурами звероликого чекизма.
Этот маленький содержанец советских опричников, кроме всего, лживо умолчал о наилучшем писателе нынешней Москвы, Леониде Леонове, чья повесть «Петушихинский пролом», как изображение свершившегося перелома, неизмеримо выше всех Пильняков и Бабелей[844]. Но он не большевик, – et voilà le hic[845].
И никак не должно замалчивать весьма талантливого поэта, Александра Кусикова[846].
Вообще, весь очерк – воплощенное свинство, и – I wonder what you can do with this humbug[847].
Завтра Русский Новый Год. Шлю приветы. И хочу, чтоб летом в этом году мы съездили с Вами в Корочу.
К. Бальмонт.
Париж. 1926.I.23.
Милая Люси, я до сих пор не поблагодарил Вас за отличные переводы, за Вашу верную службу «моим Пророкам», покушающимся завистливо на Вашу правую руку. В «Орлиных крыльях» оспариваю 3–4 слова. Копию Вам привезу, – как позовете нас.
Посылаю письмо Шато (блуждавшее и опоздавшее). Поздней он пишет, что 25–26-го будет здесь.
Спешу с жалкими предприятиями, обещающими какие-то просветы.
Лобзаю почтительно Вашу нежную длань. Привет Марселю.
К. Бальмонт.
P. S. Lanoë, конечно, в восторге от нашего Орло-Льва. Пойдет в 4 №-е. Получили ли Вы до-небесные хвалы Вам и мне в Paris-Critique от 15-го января?[848]
Париж. 1926. 23 февраля.
Дорогая Люси, три лика маленьких Вандейцев[850] по-моему олицетворяют ни более, ни менее, как Александру Алексеевну, меня и Шато, прибегающих к Вашей магической силе литературно-алхимического делания. Письмо Ваше, скорбное, благодарственно я прочел и содержание его в Москву сообщил. От Александры Алексеевны только что получил 2-ю часть Кузминской[851]. Читаю ее и через 3 дня доставлю Вам. Шато мелькнул и запал в какие-то кусты, как заяц. Я же помираю от городской неурядицы и мечтаю о побеге в Soulac-Sur-Mer. Как Вы и Ваши? Приветы.
Париж. 1926. 18 апреля.
Милая Люси, Вы верно догадались, что, если я так упорно молчу, что-нибудь случилось. Несмотря на дикие препятствия (нескончаемые споры Елены с Миррой, Мирры с Еленой, и исчезновения Мирры), я кончил свою работу над Врхлицким и вчера отослал ее в Прагу. А когда отсылал, не знал, не рухнусь ли на почте без сознания[852]. Как раз в этот час я узнал, что Мирра, после 3-х суток отсутствия, вернулась, чтобы сообщить Анне Николаевне, а через нее Елене, что она обвенчалась с некоторым – как бы сказать? – Нулëм Нулëвичем Ничтожествым, от которого, как Елене казалось, она ее крепко уберегла, и который, сколько разумею, вынудил у нее этот бессмысленный поступок угрозами убить себя[853].
Спасибо за ласковые письма, за монеты, за № «Меноры» с отличным Вашим переводом моих «Пророков». Был бы очень рад получить еще несколько экземпляров этого №-а для рассылки друзьям.
Милая, когда можно Вас увидеть в ближайшие 3–4 дня?[854] Хотелось бы, и не знаю, не сбегу ли неожиданно куда-нибудь. Неуютно моей душе.
Привет Марселю.
К. Бальмонт.
P. S. Я был у Шато. Он хотел скоро быть у Вас и сказал мне, что он отстоял у Грассе Кузминскую через Брэна[855].
Париж. 1926.VI.29.
Мой добрый друг, Люси, у меня ничего нет в сердце, кроме боли, и потому я молчу.
Не знаю, в деревне Вы или в Клямаре. Пишу для верности в Клямар.
Шлю два стиха[856]. «Крылья» я Вам читал в золотой, счастливый день у Вас.
Пошлю Вам завтра еще что-то. Я все-таки работаю. Мысль моя не побеждена злыми играми Рока.
Моя милая Люси, я целую Ваши руки.
К. Бальмонт.
P. S. Мне нравится, когда Матерь Божью изображают с семью копьями в сердце.
Париж. 1926.VII.1.
Дорогая Люси, я Вам писал два дня тому назад в Клямар. Пишу и в Нери[858], но, не зная, сколько вы пробудете в Нери, не ведаю, куда вернее писать. Я ведь умру провинциалом. Однако же бесчестная Парижская почта (моего quartier[859]) так безобразна (у меня пропадали и заказные письма!), что моя боязнь оправдана. Мне хочется послать Вам нечто, что, быть может, Вы захотите перевести. И нечто сказать. Ваш перевод «Юности»[860] великолепен, кроме последней строки, которую я, как Вы, не очень люблю. – Мы все здесь. Но я пишу стихи и прозу, воинственен и бодр, даже весьма.
Ваш К. Бальмонт.
P. S. Мне нужно также сообщить Вам нечто о Société d’Études Atlantéennes, только что основанном[861].
Дорогая Люси, я Вам писал два дня тому назад.
Capbreton. 1927. 7 февраля. Вечер.
Дорогая Люси, вчера ночью писал Вам и Кате о Вас, а сегодня утром получил обрадовавшую меня открытку от Вас с очаровательным письмом юноши, влюбившегося в наше детище, «Visions Solaires» (ах, зачем у нас лишь одно – и лишь такое!), и по сему влюбленно обвенчавшего нас по Цветочному Православию. Ваша открытка сегодня уехала в Москву к Кате. Не могу ли послать ей и трогательное послание юноши, от которого и я, и Елена, мы в восторге?
Ваш Бальмонт.
Капбретон.
Привет и пожелания здоровья и солнечных мыслей.
Capbreton, Landes, Little Cottage.
1927. 3 сентября.
Люси, где Вы и живы ли Вы? Я писал Вам – безответно. Здоровы ли Вы или не очень? Когда соберетесь написать мне, сообщите мне, прошу, послали ли Вы, в свой час, перевод «Белой Невесты» Шато? А также: Могли ли бы Вы доперевести 2–3 рассказа, чтобы Шато мог передать книгу моих рассказов своему издателю, желающему их издать?
Привет Вам и Марселю.
Ваш К. Бальмонт.
Капбретон. 1927. 23 сентября.
Милая Люси,
Ваше письмо из Клямара, только что полученное мною, меня взволновало многоразно. Воспоминания – от увиденной Вами Сиэны, которой, кстати, я не видел, хоть не однажды был в Италии, до Корочи, да, Люси, до Сабынина и до Корочи, – воспоминания.
Отвечаю Вам на все Ваши вопросы. Я получил Вашу открытку из Рима. Спасибо. Хотел написать Вам хорошее письмо к Вашему приезду в Клямар, но я, увы, среди путаницы из‐за гостившей здесь лишь месяц Миррочки и ее неразумного отъезда опять в Париж[866], был довольно растерзан, а в то же время кончал – и кончил полный перевод поэмы Яна Каспровича «Книга Смиренных» (свыше 2.000 стихов)[867]. Был утомлен и еще не отдохну никак. С книгой моих рассказов в Вашем переводе дело обстоит так. Шато еще весной говорил о ней с Грассэ и его антипатическим фактотумом, имя коего не помню, и оба они весьма хотят издать эту книгу. Так говорил Заратустра, то бишь мой друг Шато. В начале апреля, когда я уезжал в Польшу, все это было уже улажено и, по доставлении рукописи, кажется, можно было бы получить даже что-то. Но подлый Лесба[868] – не юноша Лесба, как Вы его называете, а, простите, прохвост Лесба – все задерживал возвращение моих рассказов, и я грозился Шато, что прибегну к судебному пути, а он успокаивал меня и говорил, что вытребует их. Месяц тому назад я получил от него обычное, проникновенно-дружеское письмо, где, между прочим, была фраза: «Мой бедный друг, Лесба еще не вернул Ваши рассказы, но я вытребую, и пр., и пр.» Меня этот «бедный друг» привел в белое бешенство, я хотел написать Шато: «Не я бедный, а бедная и убогая наша дружба, если Вы, у себя дома, знаменитый и состоятельный, не умеете заступиться за своего друга Бальмонта». Конечно, я этого не написал, но в обычном, тоже проникновенном, письме сказал ему, что я прошу его тотчас вытребовать у Лесба то, что принадлежит мне, и что, если он этого не сделает, я напишу Лесба такое письмо, которого он не забудет до конца своих дней. Но что я надеюсь, что я буду пощажен, и мне не придется этого письма писать. С той поры Шато – как воды в рот набрал. Очевидно, рассказы мои все еще у Лесба или у того другого негодяя, которому он их дал для какой-то надобности без спроса. Итак? Молю Вас, Люси, устройте прибытие моих рассказов к Шато, и переговорите с ним письменно или устно. Все будет зависеть от Вас теперь. Знаю, что придется доперевести один-два рассказа, – я хотел бы перевода первого рассказа, «Воздушный путь»[869]. Кроме того, я посылал Вам рассказы «Мужик Петр» и «Дружба с удавом». Да за двумя-тремя рассказами дело за мною не станет, лишь бы у Вас была доброта и желание перевести и добиться порядка в доставлении Шато того, что Вы уже сделали. Где Шато, я не знаю. Последнее письмо я ему писал в Пириак. Сейчас напишу и в Пириак, и в Версаль, сообщая главное о нашем сейчашном разговоре. Будьте миленькой, похлопочите. Тут будет и радость, и правда, и гордость, и даже деньги, для меня и для Вас. И это должно сделать.
Я на днях, перелистывая любимое 4-х томное сочинение Даля, «Словарь Живого Великорусского Языка», скользил по любимой своей букве Л и вдруг вижу, что есть глагол Люсить. Эге, думаю, сообщу Люси. Как бы не так! Люсить по-пензенски значит: Хитрить в деле, лукавить, обманывать, пятиться, отрекаясь от слова, трусить. Ой-ой! К счастью, есть также слово Люсо, чтó значит по-вологодски: Ладно, изрядно, гоже, живет.
Моя милая Люси, Вы не люсите со мной никогда, а Шато, бессознательно, нередко люсит, сам того, кажется, не зная, ибо он ведь большой младенец, Вы знаете это, как и я. Но да скажу я, в порядке приветственного Вам слова и тоста: Где Люси, там все будет люсо!
За веточку мирты от Китса и за листик фиалки от Шелли[870] целую Ваши милые-милые руки и торопливые ноги, которые, надеюсь, в добром здравии[871]. И привет Вам от Елены и от Анны Николаевны. А от меня ласковому Марселю.
Шлю Вам «Золото Заката». Мой месяц. Сентябрь. Грусть, золото мечты, звонные грезы, пронзенное сердце, и любовь, любовь.
К. Бальмонт.
Капбретон. 1927. 24 сентября.
Милая Люси, едва я отправил Вам вчерашнее письмо, как сейчас, утром, получил весть от Шато. Прочтя, пожалуйста, верните письмо Шато мне, а письмо Sieur’a[873] Лесба – Шато, если Вы ему будете писать в Пириак, на что я уповаю.
До скорых новых строк. При мысли, что, может быть, через Вас появится моя книга у Грассэ, я чувствую живительность надежды. Но знаете, Люси? Среди тысяч женщин, которых я любил, или хотя бы целовал, губами или глазами, по фатальной странности, не было ни одной, носившей имя Надежда!
Ваш Бальмонт.
Лес. 1927. 22 октября.
Милая Люси, посылаю Вам, для осведомления, постальку[874] Шато. Я ему ответил: «Друг милый, Шато, нет, я не хочу хранить письмо Лесба, который несколько раз мне солгал. И какую ценность может для меня иметь „документ“, подписанный рукой персонажа, который запросто лжет и благодаря которому наш с Вами разговор об издании моих рассказов полгода (апрель – октябрь) – на том же месте? Кажется, я могу иметь добрые надежды, что смогу осуществить путешествие на Луну, прежде чем увижу мой скромный томик в витринах Грассэ».
И затем – дружеские нежности.
Видите, Вы правы, и Ваш папа очень умный и зоркий человек.
Шлю Вам мой стих к Врхлицкому[875]. Вместе с несколькими моими переводами, он появится в Праге, в Чешском альманахе имени Врхлицкого.
Я в работе: a + b + c + d + … ± ∞.
Змеиный бич Вечности.
Лес. 1927. 31 октября.
Дорогая Люси,
Пожалуйста, сообщите мне адрес Кердика, я хочу поблагодарить его за прекрасную книжечку о Фонтэнасе[877] (где, кстати, témoignages[878] он начал мной, а кончил Вами, чтó мне понравилось – как обручение). Я в восторге от этой книжки и хочу о ней написать для «Последних Новостей». Помогите мне, а именно. Пришлите мне Русский текст моего сонета к Фонтэнасу (у меня его нет), и нельзя ли прислать мне «Glaïeuls» и еще что-нибудь Фонтенаса (верну честно), – у меня ни одной здесь его книги нет, а я хочу вставить в статью что-нибудь из Фонтенаса[879]. Как Вы? И что же Шато? И переведете ли Вы рассказ «Воздушный путь»? (Гм!)
Ваш К. Бальмонт.
P. S. Посылал ли я Вам «повесть в письмах» – «Тетя Саша»[880]?
Лес. 1927. 11 ноября.
Дорогая Люси,
Я уж поджидал от Вас словечка, и видите, конверт у меня был приготовлен, чтобы ответить в минуту получения Ваших строк.
Шлю Вам «Тетю Сашу», хотел бы видеть ее по-Французски, а уж по-Итальянски она существует и на днях возникнет (или уже – ) по Английски, по-Норвежски, и по-Голландски. Хоть так почтили тетю Сашу и ее любимицу (мою любимицу), и Вами, Люси, любимую, Катю[882]. Это – письма Кати, мной лишь приведенные в порядок и умноженные разве что 30-ю или 40-а строчками (Вы их, верно, узнаете).
Рад и счастлив, что Вы переведете «Воздушный путь»: мое «Гм!» относится к дурной бесконечности всех этих разговоров о переводе и напечатании в Париже томика моих рассказов.
За Вас радуюсь, что Вы в Париже, то есть в тепле, в меньшей работе и в сравнительной безопасности от камбриолëров[883], будь то Bandits Polonais[884] или же тати крови неопределимой[885]. Привет Вам и Марселю. Пишу вдогонку еще – Вам и Кердыку также. Ваш Бальмонт.
Адрес Мирры: – 30, Bd. de Ménilmontant, XXe6.
Лес. 1927. 30 ноября.
Дорогая Люси, меня тревожит Ваше молчание. Здоровы ли Вы и все ли у Вас all right[887]? Дошла ли до Вас, наконец, посланная мною «Тетя Саша»? 19-го ноября минул год ее смерти. В Москве была красивая, торжественная панихида. Только что получил письмо от Кати, которая перебивается уроками и переводами. Вы много читаете по-Французски. Если набредете на что-нибудь в стиле Южно-Американского Кальдерона (авантюрное и жуткое), прошу, пошлите ей. Она меня просила, но я вовсе не читаю более по-Французски (нет книг).
На днях закрепил опять на год свой коттедж. Живем ничего себе[888]. Шато молчит[889]. Привет Марселю и Вам.
Ваш К. Бальмонт.
P. S. Увы, милый Фонтэнас все еще не прислал мне мой сонет к нему и «Glaïeuls», – задерживает мою статью!
Лес. 1927.XI.30.
Люси, я только что отправил Вам открытку, как мне пришло в голову, что, быть может, Вам захочется перевести мой очерк о Пшибышевском[891]. Напечатать его, если у Вас ничего нет на примете, можно было бы, я думаю, в Comoedia (Пшибышевский написал много драм) или в L’ Avenir (где Бюрэ ждет от меня чего-нибудь)[892].
Пшибышевский умер от разрыва сердца, на 60‐м году, в Иновроцлаве, в Познанском крае, 23-го ноября.
Капбретон. 1927. 4 декабря.
Дорогая Люси, спасибо Вам за письмо от 2-го декабря. Видя Ваш почерк на конверте, я всегда радуюсь, что в комнате – родной человек. Ах, как мне недостает постоянного веяния такой радости!
Ну, мой милый Фонтэнас похож на меня: Когда я знаю, что что-нибудь из рукописей или книг скоро мне понадобится, я прячу это от несуществующих похитителей так хитроумно, что, когда приходит минута, я отыскиваю вещь с отчаяньем полдня, а то и два дня. Попытаюсь перевести себя с Вашего перевода меня. Это что-то вроде сказки Андерсена[893].
А пока шлю Вам «Упор». Когда я читал вслух Кердика о Фонтэнасе Елене, Анне Николаевне и некоторой Цецилии, подкинутой к нам ее мужем, Польским химиком и скрипачом, Яном Кроллем[894], я чувствовал такую свежую радость, что, пойдя в свою комнату, написал этот сонет. Может, Вы бы его перевели для двух крестных отцов этого «Упора», – и для меня, конечно.
Ликую, что моя «Размëтанность» появится по-Французски. Конечно, «Mercure» или «Europe» гораздо лучше, нежели газета. Перевести хорошо это слово трудно. В нем есть оттенки «rupture», «fracture», «éparpillement», «renversement»[895]. Понятие «предопределительный угол» отлично объяснил бы Вам Марсель, если б, – увы, – он знал по-Русски. Я ввожу в рассуждение понятие тригонометрическое. Смысл: Как свойства угла предопределяют ряд линейных следствий, так… и т. д.
Приветы ласковые. Прилагаю мое о Чехах[896].
К. Бальмонт.
1927. 7 декабря. Лес.
Люси, наши письма – как Вы однажды мило выразились – перекрестились[897]. Я уже писал Вам, лишь забыл сказать, что я не знаю, откуда именно взял Пшибышевский цитату из Блаженного Августина. Писать по-Французски Польские имена – дело весьма мудреное[898]. Я бы писал так, чтобы Французы могли, звуковым образом, прочесть их правильно, а в скобках, из вежливости, означал бы Польское правописание. Итак: Pchybychévski (Przybyszewski), Krassinski (Krasinski), Kasprovitch (Kasprowicz), Slowatzki (Slowacki), etc.
Шлю Вам только что мной (дерзновенно) по-Французски написанный очерк о Руставели[899]. Если у Вас найдется 20 минут, а мой текст сколько-нибудь мыслим, прошу, исправьте и верните мне, – я перепишу и пошлю в «Mercure» или куда?
Привет Вам.
К. Бальмонт.
P. S. Мой очерк о Руставели должен 10го произнести какой-то Французский писатель на Грузинском вечере, который устраивает Шалва Беридзе (мой приятель)[900]. Оный писатель (приглашенный Беридзе) исправит для чтения вслух свой экземпляр сам. Я же прошу Вас о бóльшем: я хочу напечатать это[901].
Лес. 1927. 19 декабря.
Прилагаю свое слово к Роллану. Посылаю также, при первой возможности, несколько №№-ов газеты Эмиля Бюрэ «L’ Avenir»[907].
Приветы Вам и Марселю от меня, Елены и Анны Николаевны.
К. Бальмонт.
P. S. То, что Шато не отвечает мне на 3 дружеские письма, на мой взгляд (между нами, не для передачи ему, ибо я его все-таки люблю), поступок безымянный. Есть предел для всего.
Лес. 1927. 25 декабря. Ночь.
Милая Люси, я как раз эти 2–3 дня несколько раз напряженно вспоминал именно то наше свидание, которое Вы вспоминаете. Наши души иногда – в разлучности – встречаются так близко, что и самый поцелуй – не ближе.
Вы написали мне чудесное письмо. Как Елка в детстве.
Целую Ваши милые руки. Отвечу быстро. Спешу.
К. Бальмонт.
Лес. 1928. 10 января.
Милая Люси, шлю Вам свой «Месяцеслов»[909]. На днях пошлю ряд новых стихов и подробно напишу. Много пришлось «на праздниках» поработать. Более, чем в будни.
Катя писала и шлет Вам нежность и признательность за ласковую Вашу память.
Вам, верно, в Париже зябко. А ко мне утром в комнату залетела пчела.
К. Бальмонт.
Лес. 1928. 12 января. Ночь.
Дорогая Люси, со Святочной суматохой у меня была такая путаница и спешка, что я не помню, посылал ли я Вам «Светлую Страну», только что появившуюся в Варшавской «За Свободу»[910]. Если да, верните мне рукопись. Если нет, верно, доставлю Вам удовольствие, – а Вы мне, написав о впечатлении.
Ваше последнее письмо было таким высоким и прекрасным, что я все еще не могу выбрать минуту, чтобы написать Вам в уровень.
Но Вы знаете: Ваш ласковый образ всегда жив в моем сердце и в моем воображении. Мне хочется сказать Вам слова такой нежности, что, быть может, я не должен их говорить.
К. Бальмонт.
Лес. 1928. 15 января.
Дорогая Люси, шлю Вам вырезку из L’ Avenir, I, 12[911]. Там будут еще письма З. Н. Гиппиус, А. Ремизова, и нескольких Французских писателей, откликнувшихся[912].
Не знаете ли Вы, что с Шато? Не ответить на 4 письма (до появления этого №-а Avenir, где, впрочем для него ничего обидного нет) – более, чем странно. Если он не болен (умственно) и не уехал в Полинезию, то дружба – дружбой, а это – низость.
Привет от Елены и Анны Николаевны, и меня.
К. Бальмонт.
Лес. 1928. 28 января. Вечер.
Дорогая Люси, я заработался так, что и несколько строк письма – на время, конечно – стало для меня трудностью. Итак, не сетуйте, что пишу мало – и не покидайте меня своими, дорогими для меня, письмами. Вы – редкостный цветок. Всю жизнь люблю Вас. И потерять не хочу.
То, что Вы пишете о свинцовой тяжести в людях, их грубом отяжелении, – Боже, как я это понимаю. И как Вы – поэт, женщина, и Люси – должны усложненно задыхаться. Мы внизу задыхаемся – от людского духа, а на высоте – от разреженного воздуха вершин.
Часто пишет мне Катя. Когда могу, я посылаю ей десять долларов, и она так детски этому радуется, точно это – целое богатство, и – святой ребенок – каждый раз видит в этом какое-то особое проявление благородства. Она, между прочим, спрашивает меня, нельзя ли, в связи с парижским празднованием столетнего юбилея Толстого, обратиться к Полю Бойе[913] (он заведует празднеством: 2, rue de Lille, Prof. Paul Boyer) прочесть и напечатать что-нибудь из записок Кузминской[914], упоминая как переводчиц Александру Алексеевну Андрееву и Екатерину Алексеевну Бальмонт. Просит спросить об этом Вас. Вот я спрашиваю (с растерзанным сердцем, Вы меня понимаете).
В последнем письме (от 9-го января) она пишет: «Напиши мне о Люси. Когда ты видел ее в последний раз? Какая она внешне? Счастлива ли в новом устроении семейном?» – Вот, милая Люси, не знаю, как ответить мне на последний вопрос. Eso es muy dificil[915].
Целую Вашу тень, Люси, она сейчас проходит в моей душе.
К. Бальмонт.
P. S. Последние недели, вопреки занятости, я ухитрился, довольно причудливо, овладеть Сербским-Хорватским языком. Вот Вам три первые первинки моих гимназических успехов[916]. (Ах, в гимназии я начал 1-м учеником, но уже в 3-ем классе был последним, и позднее – дальше посредственности не шел.) И шлю, бандеролью, святочный мой миг. Вашего имени там нет (и по причине), но Вы сделали мне лучше всех подарок: Ваше письмо вернуло мне всю мою жажду Вас[917], Люси!
Лес. 1928. 7 февраля.
Дорогая Люси, шлю Вам «Предвестников весны»[918].
Письмо Шато (посланное мною Вам для осведомления), пожалуйста, прочтя, верните.
Я писал Кате о Вас.
Как Вы? Очень заняты?
Роман Benda[919], о котором Вы писали мне, хотел бы прочесть. Не можете ли Вы также послать мне (на время) что-нибудь Английское о Стивенсоне[920]?
Лес. 1928. 17 февраля.
Дорогая Люси, посылаю Вам только что полученное письмо от Кати к Вам и только что мною написанное «Злополучие отшельника»[921]. Радуюсь, что Вам нравятся мои «Предвестники весны». Их как раз напечатали в «Сегодня». Меня, напротив, огорчило то, что Вы говорите о Шато. Сквозь эти слова малую в Вас ощущаю волю (может быть, ошибаюсь) к вручению ему в марте достаточного количества переведенных моих рассказов. Если он их получит, у него отступления не будет, и он крепко обещался книгу устроить. Я ему не прощу, если он обманет. Все будет теперь зависеть от Вас.
Хорватский текст «Смирения» Ловрича высылаю Вам завтра[922]. Сегодня пишу ему (он живет в Праге) и порадую его, сообщив Ваши слова. И Катя тоже как раз восхищается им.
Привет сердца Вам.
К. Бальмонт.
Лес. 1928. 18 февраля.
Дорогая Люси,
Посылаю Хорватский текст «Смирения». Вместе с Чешским[923]. Если какое слово не поймете, спросите, отвечу.
Шлю также мое предисловие к драме Божо Ловрича «Сын», которая была издана лишь по-Чешски в Праге, и лишь теперь, после нескольких лет, Хорваты, наконец, ее печатают[924]. Изумительная драма.
Вообще, этот Божо – Божий цветок[925].
К. Бальмонт.
Лес. 1928. 28 февраля.
Дорогая Люси,
Я запросил Шмелева и он должен Вам ответить, в каком именно №-е «Возрождения» появилась его заметка о Барбюсе[926].
Майдан – торг, базар, разбазариванье, а также место, где собираются мошенники для игры в орлянку, в кости, в карты, и для других художеств.
Побратим – названный брат. Серб или Хорват, выбирая какого-нибудь друга побратимом, соединяются с ним дружбой на жизнь и смерть; они делают, каждый, надрез на руке и, взаимно выпивая несколько капель крови, освящают это братство, для них действительно непреломное. Кстати, посылаю Вам мой перевод моего «Горячего Побратима»[927], когда-то просмотренный и, частию, переделанный Шато. Буду рад, если где напечатаете (конечно, не в воровской компании коммунистов). Слово «Elu» для «Побратима» внушил мне Шато. Если что надо изменить – carte blanche[928].
И, кстати, что за образцовую напечатал он скуку о Голландии? Откуда сие? Прочитать трудно. Засыпаешь.
Литературный язык Хорватов (Croates) и Сербов – одинаков, но первые пользуются Латинским письмом, вторые несколько измененным Русским.
Грана – ветвь. Вир – водоворот. Сунце – Солнце. Сунца – Солнца (родительный единственного числа или именительный множественного).
«Apaisement»[929] мне очень нравится тут. Помните Верлэна:
Чувствительность Верлэна очень Славянская. Как и лицом, он Скиф.
У меня есть стих Ловрича ко мне: «Поэту Тишины». Пошлю текст и перевод завтра же. И есть «Побег Толстого», но лишь по-Французски[931]. Жду Сербского (т. е. Хорватского, – они обижаются за смешение), и, получив, пошлю оба текста.
Завтра же приложу отрывок из «Сына».
Ваш К. Бальмонт.
P. S. Я очень люблю, когда имена «Constantin Balmont» и «Ludmila Savitzky» появляются в печати и являются вместе.
Лес. 1928. 2 марта.
Я Вас «заблудил» одним словом. В рассеянности. Грана – Grana – Ветка – Hrana – Храна – Пища. Когда я перепевал «Смирение» Ловрича, мне эти «алименты» очень не понравились, и я – из поэтической прихоти – ухватился за ветку. Я считаю, что поэт, передавая иноземную поэзию стихом, может дозволять себе многие вольности. Вы, конечно, увидели, что в 3-х– 4-х местах я ввел свое. Ловрич в восторге от моего перепева, а о «предисловии» говорит, что еще никто так не понял его, как я. Tant mieux[933]. Обещанное шлю вослед.
Приветы. Ваш К. Бальмонт.
Лес. 1928. 2 марта. Ночь.
Дорогая Люси,
Вот я перевел стих Ловрича «Поэту Тишины». Посылаю. Прилагаю также начало 1-го действия его драмы «Сын». У меня начерно переведен почти весь 1-й акт. Но пришлось отослать ему рукопись, ибо она сейчас печатается. Когда выйдет, я ее, к лету, переведу всю, – эту удивительнейшую драму, равной которой я уже давно не читал.
Если Вы заинтересовались Сербским языком, могу указать Вам: Petrovitch. Grammaire Serbe. Paris. 4, rue de la Sorbonne, Didier. – Vékovitch. Dictionnaire Serbe-Français (Avec prononciation figurée). Paris. Rodstein, 17, rue Cujas. Грамматика превосходная и в ней также есть хрестоматия и краткая история Сербии. Словарь небольшой, но очень добросовестный.
Я перевожу Литовцев, Поляков, Чехов[934], – и голова моя собирается улететь на небо, ибо на земле никто не видит, что эта бедная птица так много летает.
К. Бальмонт.
Лес. 1928. 18 марта.
Дорогая Люси, в №-е «Europe» от 15-го марта напечатано письмо от мещанина Пешкова (alias Горький) к Роллану[935]. Я был бы Вам признателен за посылку этого №-а (на несколько дней), – имею нечто ответить на эту выходку шулерского порядка[936].
В №-е «Avenir» от 16-го марта напечатано мое 2-е письмо к Роллану[937]. Если Вы его еще не читали, могу послать (дня через 3–4).
Шлю Вам «От Солнца»[938]. Не помню, посылал ли я Вам «Литовские Народные Песни»[939]?
Не гневайтесь на меня за Бенда. Но его говорение я не-на-ви-жу[940].
К. Бальмонт.
Лес. 1928. 23 марта.
Дорогая Люси,
Мне очень жаль, что я огорчил Вас, но это невольно. Вы меня вполне поймете, когда у меня будет минута написать подробно. Бенда задается хорошей целью, но у него нет достаточной подготовки. Задаваясь большой целью, нельзя же оставаться самодовольным провинциалом города Парижа, давно потерявшего право считаться столицей мысли. А Французы все продолжают, нанизав 5–6 второстепенной ценности Французских имен, полагать, что они построяют рассуждение. Необходимо обладать литературами всей Земли, не так ли, чтоб говорить о том, что всех касается. Современные Французы непростительны. Хлебные закрома мировой житницы переполнены, а они все еще чирикают приблизительности.
К. Бальмонт.
Капбретон. 1928. 1 мая.
Дорогая Люси,
Кажется, надолго Судьба моя так меня устроила на земле, что, пребывая в относительном благополучии, я последнюю неделю каждого месяца ем не вполне досыта и не всегда располагаю марками для писем. Сим объясняется, что, в ответ на Ваше ласковое письмо от 23-го апреля только сейчас поздравляю Вас и Марселя с новосельем и желаю Вам старого и нового счастья в новом гнезде, а также, чтоб старая Frau Sorge[942] забыла к Вам дорогу.
Шлю Вам своего «Музыканта настроения»[943]. Сообщите, прошу, посылал ли я Вам свои «Литовские Народные Песни»? Я очень увлечен Литовским языком.
Вы спрашиваете меня, что есть «дремá»? Дремá и дрëма – начало засыпанья. Столь красиво народ наш назвал липкий розовый цветик, Lychnis flos cuculi и Lychnis viscaria: la lychnide, passe-fleur. Я клал дрему под подушку, чтоб мне приснилась та, кого я полюблю.
Жучок-точильщик, тикающий в стенах, как часы, древоед, Anobium pertinax. По-Русски он зовется еще часовщиком. Французского его имени не знаю.
Привет Вам светлый.
Ваш К. Бальмонт.
Бускá. 1928.XII.11.
О, нет, Люси, я гораздо более дорожу возможностью увидеть скоро во Французском журнале мой рассказ в Вашем переводе. Пожалуйста, напечатайте «Voie aérienne»[944]. А Литовские мои очерки по-Французски я сейчас посылаю Милошу (это он, о ком Вы упоминаете), у него много знакомств и он напечатает их в N. R. F. или где хочет[945].
Шлю Вам письмо Лебега[946]. Прочтя, – прошу, – верните. Я послал Вам № «Эха Литвы»[947]. Пожалуйста, напишите мне Ваши мысли и впечатления по-Французски (а впрочем, если хотите, по-Русски) и позвольте мне послать Ваши слова моему другу Людасу Гире[948]. Он будет счастлив напечатать в оригинале и в Литовском переводе. Да?[949] Вы знаете, я Польшу очень люблю, но захват Вильны – лишь грабеж[950]. Однако, я не предрешаю Вашего ответа, и Ваше мнение – Ваше.
Привет Вам.
К. Бальмонт.
Капбретон. 1931. 29 <без указания месяца>
Люси милая,
Сегодня ко мне прилетела первая ласточка, уселась на телеграфную проволоку против моих расцветших барвинков (pervenches) и, глазками птичьими смотря в мои влюбчивые глаза, щебетала. Но эта первая ласточка была уже второй. Первою ласточкой было Ваше милое вчерашнее письмо. И, – по-царски, – на стих тотчас стих.
Письмом Вашим вчера я весь день был очарован. А в 12‐м часу ночи вздумал переводить с Чешского прекрасный псалом Антонина Сóвы, «Утренняя молитва Адама и Евы, старцев»[952]. Глянь, уж полночь, Елена кличет ужинать, работа остановилась на строчке:
Не перестал быть раем рай для того, кто сильный…
Заснул я поздно, часа в 4. А проснулся в 8-м. И несколько уж лет не писал терцин. Но вот Вам терцины.
Над потоком
Принятые сокращения
Бальмонт – Бунину – Письма К. Д. Бальмонта И. А. Бунину / Публ. и примеч. Р. Дэвиса и Ж. Шерона // С двух берегов. Русская литература ХХ века в России и за рубежом / Под ред. Р. Дэвиса, В. Келдыша. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 22–81.
Бальмонт – Брюсову – Переписка с К. Д. Бальмонтом 1894–1918 / Публ. А. Нинова, Р. Щербакова // Литературное наследство. Т. 98.1. Валерий Брюсов и его корреспонденты / Под ред. Н. Трифонова. М.: Наука, 1991. С. 30–239.
Бальмонт – Гире – Письма Константина Бальмонта Людасу Гире 1928–1931 / Публ. П. Лавринца // Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике. Т. 5. Рига: Даугава, 1999. С. 107–164.
Бальмонт – Ловричу – K. D. Bal’monts Briefe an Božo Lovrić / Marija Salzmann-Čelan // Wiener Slavistisches Jahrbuch. 1979. № 25. P. 89–106.
Бальмонт – Ляцкому – «Вы знаете, что во имя Врхлицкого я изучил чешский язык…» Письма К. Д. Бальмонта Е. А. Ляцкому 1920–1929 / Публ. Э. Олоновой // Славяноведение. 1997. № 4. С. 77–103.
Бальмонт – Шаховской – «Мы встретимся в солнечном луче». Письма Константина Бальмонта к Дагмар Шаховской 1920–1926 / Публ. и примеч. Р. Бëрда, Ф. Черкасовой. М.: Русский путь, 2014.
Бальмонт – Шмелеву – Константин Бальмонт – Ивану Шмелеву. Письма и стихотворения 1926–1936 / Публ. и примеч. К. Азадовского, Г. Бонгард-Левин. М.: Собрание, 2005.
Библиография – Библиография К. Д. Бальмонта. Т. 1. Произведения поэта на русском языке, изданные в России, СССР и Российской Федерации (1885–2005 гг.) / Сост. С. Тяпкова, А. Романова, О. Епишевой. Иваново: Ивановский государственный университет, 2006.
Записные книжки – Блокноты с ежедневными записями Л. И. Савицкой, хранящиеся в собрании ее наследников (Lestiou, France). Все записи велись по-французски и здесь цитируются в нашем переводе.
Ранний период – Ливак Л. Ранний период русской эмиграции по материалам собрания Софии и Эжена Пети // A Century’s Perspective: Essays on Russian Literature in Honor of Olga Raevsky Hughes and Robert P. Hughes / Eds L. Fleishman, H. McLean. Stanford: Stanford Slavic Studies, 2006. С. 416–451.
BAR– Bakhmeteff Archive (Rare Book and Manuscript Library, Columbia University, New York).
BDIC– Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (Nanterre).
L’ Émigration russe – Livak L. L’ Émigration russe et les élites culturelles françaises, 1920–1925: les débuts d’une collaboration // Cahiers du monde russe. 2007. № 1. P. 23–43.
Images de ma vie – Рукописный текст ранней редакции воспоминаний Л. И. Савицкой, датированный 1918 годом: Savitzky L. Images de ma vie. I. 1881–1889. Картон SVZ17, Fonds Ludmila Savitzky, IMEC.
IMEC–Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine (Abbaye d’Ardenne, Saint-Germain la Blanche-Herbe).
Russian Émigrés – Livak L. Russian Émigrés in the Intellectual and Literary Life of Interwar France: A Bibliographical Essay. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2010.
Savitzky – Spire – Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. Correspondance 1910–1957 / M.-B. Spire. Paris: Les Belles Lettres, 2010.
Souvenirs – Машинописный текст воспоминаний Л. И. Савицкой. Три тетради под общим названием «Souvenirs», датированные 1955 годом. Картон SVZ17, Fonds Ludmila Savitzky, IMEC.
Иллюстрации
Иван (Ян) Клементьевич Савицкий, отец Людмилы
Анна Петровна Савицкая (в девичестве Алферова), мать Людмилы
А.П. Савицкая с сыном Владимиром и дочерьми Иоанной (Ясей) и Людмилой в Швейцарии. Людмила сидит за матерью (1898)
Л. Савицкая в начале 1900-х гг. На стене портреты Льва Толстого и Фридриха Ницше
Л. Савицкая в начале 1900-х гг.
Обложка стихотворного сборника К. Бальмонта «Будем как солнце» (1903)
Посвящение, открывающее сборник «Будем как солнце»
Портрет Л. Савицкой работы неизвестного художника (1909)
Оборотная сторона того же портрета
Стихотворный сборник К. Бальмонта «Только Любовь» (1908) с дарственной надписью автора
Л. Савицкая в конце 1900-х гг.
Стихотворный сборник К. Бальмонта «Птицы в воздухе» (1908) с дарственной надписью автора
Л. Савицкая с дочерью Марианной (1910)
Л. Савицкая в швейцарском санатории (1913)
Л. Савицкая в гостях у Андре и Габриэль Спиров (1920)
Л. Савицкая с дочерьми (1912)
Л. Савицкая в своем рабочем кабинете (1910-е гг.)
Л. Савицкая с семьей своего второго мужа Жюля Рэ (второй слева)
Л. Савицкая с дочерью Марианной (1914)
Л. Савицкая в Версале (1917)
Экземпляр французского издания «Портрета художника в молодости», который Л. Савицкая подарила старшей дочери Марианне
Групповая фотография Джона Родкера, Джеймса Джойса и Сильвии Бич (Париж, 1922), хранящаяся в бумагах Л. Савицкой
Копия портрета Джона Родкера работы Уиндeма Льюиса (1923), хранящаяся в бумагах Л. Савицкой
Л. Савицкая в середине 1920-х гг.
Портрет К. Бальмонта с дарственной надписью Людмиле Савицкой (1926)
Портреты К. Бальмонта и Л. Савицкой, выполненные Александром Сахаровым для статьи Андре Спира о вечере Бальмонта в «Хамелеоне» (Париж, 1923)
Экземпляр книги К. Бальмонта «Visions Solaires» с дарственной надписью автора Л. Савицкой
Л. Савицкая и Джон Родкер (в свитере). Вторая половина 1920-х гг.
Л. Савицкая со дочерью Марианной на террасе летнего дома в Летью (ок. 1930 г.). Экземпляр фотографии хранится в рукописи французского перевода романа Бориса Зайцева «Анна» (IMEC)
Людмила Савицкая в 1930-е гг.
Людмила Савицкая в 1940-е гг.
Марья Петровна Алферова, бабушка Л. Савицкой
Фотопортрет Л. Савицкой (1901)
Фотопортреты К. Бальмонта, которые поэт подарил Л. Савицкой зимой 1902 г.
Л. Савицкая (на первом плане, с лоханью в руках) в пансионе Бриянмон около Лозанны (1898)
Усадьба Алферовых в Лазаревке (1900-е годы). На верхней ступеньке сидит бабушка Людмилы, М.П. Алферова. Справа от нее: К.П. Китаева («тетя Катя») и младшая сестра Людмилы Иоанна (Яся). У колонны стоит А.П. Савицкая, мать Людмилы
Рисунок Л. Савицкой в письме К. Бальмонту
Л. Савицкая во Франции, середина 1900-х гг.
Л. Савицкая. Начало 1920-х гг.
Экземпляр сборника К. Бальмонта «Сонеты солнца, меда и луны» с дарственной надписью автора
Летний дом Л. Савицкой и М. Блока в деревне Летью (Lestiou) под Орлеаном
Экземпляр «Visions Solaires» с дарственной надписью: «Моей красивой и солнечной Марианне от матери, которая помнит о ней во всех своих работах. Людмила Савицкая» (франц.)
Экземпляр романа К. Бальмонта «Под новым серпом» с дарственной надписью автора
Дочери Л. Савицкой – Марианна и Николь. Август 1923 г.
М. Блок (за рулем) и Л. Савицкая (на переднем сиденье) в семейном автомобиле. 1920-е гг.
Экземпляры сборника К. Бальмонта «Мое-Ей» с дарственными надписями автора Л. Савицкой и студентам Еврейского университета в Иерусалиме
Экземпляр книги К. Бальмонта «Где мой дом?» с дарственной надписью автора Л. Савицкой
Юбилейная открытка к сорокалетию литературной деятельности К. Бальмонта (1925)
Черновики французского перевода воспоминаний Т. Кузминской, заново сделанного Л. Савицкой
Экземпляр журнала «Перезвоны» со стихотворениями К. Бальмонта и дарственной надписью автора
Л. Савицкая (справа) и Жюльен Банда (второй слева) в гостях у Андре и Габриэль Спиров (1919)
Черновик перевода Л. Савицкой стихотворения К. Бальмонта «От солнца»
Л. Савицкая в своем летнем доме. 1930-e гг.
Сокращенная версия настоящей статьи публиковалась в сборнике: Транснациональное в русской культуре / Под ред. Г. Обатнина, Б. Хеллмана, Т. Хуттунена. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
См. сборник: Creating Life: The Aesthetic Utopia of Russian Modernism / Eds I. Paperno, J. Grossman. Stanford: Stanford University Press, 1994.
Тименчик Р. Вид с горы Скопус // Тименчик Р. Что вдруг: статьи о русской литературе прошлого века. М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2008. С. 17.
Рейтблат А. «…что блестит»? (Заметки социолога) // Новое литературное обозрение. 2002. № 53. С. 241–251.
Livak L. In Search of Russian Modernism. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2018.
Писатели символистского круга: новые материалы / Под ред. В. Быстрова, Н. Грякаловой, А. Лаврова. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003; Лекманов О. Необязательное о графоманах / Лекманов О. Русская поэзия в 1913 году. М.: Восточная книга, 2014. С. 7–26; Обатнин Г. К изучению малых поэтов модернизма // Scando-Slavica. 2016. Т. 62: 1. С. 100–133; Соболев А. Летейская библиотека: очерки и материалы по истории русской литературы ХХ века. В 2 т. М.: Трутень, 2013.
Тименчик Р. Что вдруг. С. 35. (См. также: Тименчик Р. Подземные классики: Иннокентий Анненский. Николай Гумилев. М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2017. С. 538–648; Тименчик Р. История культа Гумилева. М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2018.)
См., например: Neginsky R. Zinaida Vengerova: In Search of Beauty. A Literary Ambassador between East and West. Frankfurt: Peter Lang, 2004; Павлова М. Этот пресловутый плевок в лицо: из истории журнала «Северный вестник» // New Studies in Modern Russian Literature and Culture: Essays in Honor of Stanley J. Rabinowitz / Eds C. Cipiela, L. Fleishman. Stanford, 2014. P. 117–138 (Stanford Slavic Studies 45: 1); Rabinowitz S.1) A Room of His Own: The Life and Work of Akim Volynskii // The Russian Review. 1991. Vol. 50: 3. P. 289–309; 2) No Room of Her Own: The Early Life and Career of Liubov Gurevich // The Russian Review. 1998. Vol. 57: 2. P. 236–252.
Huyssen A. Geographies of Modernism in a Globalizing World // Geographies of Modernism: Literatures, Cultures, Spaces / Eds A. Thacker, P. Brooker. London: Routledge, 2005. P. 16. В настоящей вступительной статье все франко– и англоязычные материалы приводятся в нашем переводе без отдельных указаний на языки оригиналов.
Приселков Н. И. К. Савицкий // Русская Ривьера. 1913. № 102. 8 мая. С. 4; И. К. Савицкий // Уральская жизнь. 1913. № 108. 16 мая. С. 3; Иллюстрированное приложение к газете «Уральская жизнь». 1913. № 23. 15 июня. С. 4. В бумагах Людмилы Савицкой хранится вырезка из тифлисской газеты, выходные данные которой не сохранились. Обсуждая отставку И. К. Савицкого, анонимный автор статьи – чье заглавие, «Ушедший судья», комически обыгрывалось в семье Савицких («прижизненный некролог») – намекает на политическую подоплеку ухода судьи с государственной службы (SVZ12. Fonds Ludmila Savitzky. Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine. Далее – IMEC. Первая аббревиатура обозначает название фонда Савицкой, цифра – номер картона).
Savitzky L. Souvenirs. Cahier I (1955; машинопись). P. 3–6 (SVZ17. Fonds Ludmila Savitzky. IMEC).
Savitzky L. 1) Images de ma vie. I. 1881–1889. P. 29–32, 59–63 (1918; рукопись, SVZ17. Fonds Ludmila Savitzky, IMEC); 2) Souvenirs. Cahier I. P. 45–46; 3) Souvenirs. Cahier II. P. 3–5 (1955; машинопись).
Savitzky L. Souvenirs. Cahier I. P. 43–44.
Мандельштам О. Шум времени // Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. М.: Художественная литература, 1990. Т. 2. С. 16.
Стихотворения, датированные «1899, Лозанна», находятся в одной тетради с русскими стихами и стихотворными переводами на французский за 1902 г. (Lud. Souvenirs d’enfance et de jeunesse; SVZ17. Fonds Ludmila Savitzky, IMEC).
Savitzky L. Souvenirs. Cahier I. P. 47.
Ibidem. Cahier II. P. 4–5.
Ibidem. P. 12–16.
Ibidem. P. 19.
См.: Брюсов В. Дневники 1891–1910 / Под ред. И. Брюсовой; примеч. Н. Ашукина. M.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1927. С. 103.
Savitzky L. Souvenirs. Cahier I. P. 41.
Жена поэта так вспоминала его любовные похождения: «Я вмешивалась в его романы только в тех случаях, когда боялась, что увлечение Бальмонта может быть для нее трагическим. ‹…› После пылкой любви и близости с женщиной Бальмонт как-то легко и незаметно для себя переходил к дружбе с ней, и иногда очень нежной, если его соединяли с ней общие интересы, любовь к искусству, к поэзии. Ему это казалось совершенно естественным» (Андреева-Бальмонт Е. Воспоминания / Под ред. А. Панина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1997. С. 342).
См.: Л. Савицкая – К. Бальмонту (4.II.1902; 8.II.1902; 8.III.1902; 29.III.1902; 12.IV.1902; 15.IV.1902) в настоящем издании. Здесь и далее их переписка приводится по нашему изданию (см. исходные архивные данные цитируемых писем в примечаниях к ним).
См.: Богомолов Н. «Мы – два грозой зажженные ствола» // Анти-мир русской культуры: Язык. Фольклор. Литература / Сост. Н. Богомолова. М.: Ладомир, 1996. С. 308–312.
Подробнее о поведенческих стратегиях и месте женщин в модернистской культуре см.: Эконен К. Творец, субъект, женщина: стратегии женского письма в русском символизме. М.: Новое литературное обозрение, 2011; Matich O. Erotic Utopia: The Decadent Imagination in Russia’s Fin-De-Siècle. Madison: The University of Wisconsin Press, 2005; Павлова М., Рабиновиц С. Русские Modernen – Зинаида Гиппиус и Николай Минский // Русская литература. 2010. № 2. С. 100–128.
Ходасевич В. Конец Ренаты <1928> // Ходасевич В. Собрание сочинений: В 4 т. / Под ред. И. Андреевой, С. Бочарова, И. Бочаровой, Н. Богомолова. М.: Согласие, 1997. Т. 4. С. 11.
Ibidem. С. 12.
Брюсов В. Вехи. I. Страсть // Весы. 1904. № 8. С. 22–25.
Людмила писала 8 февраля: «Ваше письмо вернуло мне аппетит ‹…› Эти дни мне ужасно нездоровилось, и я с утра до вечера валялась полуодетая, ни с кем не разговаривая. Это даже подало повод няне высказать следующие глубокомысленные наблюдения: „И как это человек может похудеть в два дня! – вон у нас Людмила-то Ивановна как измучились! И чего это Вы все тоскуете? Неужто в женатого влюбились? Полно Вам! Ведь женатый он, – а Вас еще сколько женихов ждет хороших!“»
«Семицветник» открывается посвящением с цитатой из стихотворения Бальмонта «Нежнее всего» (1899): «Люси Савицкой. Нежнее, чем польская панна, / И, значит, нежнее всего». В цикл вошли: «Лесной ручей поет, не зная почему…»; «Смотри, как звезды в вышине…»; «Нет, ты не поняла, что в бездне пустоты…»; «Люси, моя весна! Люси, моя любовь!»; «Кто полюбив – не сразу полюбил?»; «Когда сейчас передо мною…»; «Зачем ты хочешь слов? Ужели ты не видишь…». См. полный текст цикла в приложении к письмам Людмилы Савицкой в настоящем издании.
Переписка с К. Д. Бальмонтом 1894–1918 / Под ред. А. Нинова; коммент. А. Нинова и Р. Щербакова // Валерий Брюсов и его корреспонденты. Литературное наследство. 1991. Т. 98. Кн. 1. С. 120–121.
Письма К. Д. Бальмонта к К. К. Случевскому / Публ. О. Коростелева и Ж. Шерона // Русская литература. 1998. № 1. С. 93.
См. Бальмонт – Савицкой (23.II.1923) в настоящем издании.
Ходасевич В. Конец Ренаты. С. 7–8.
Переписка З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковского, Д. В. Философова с В. Я. Брюсовым (1901–1903 гг.) / Публ. М. Толмачевa, Т. Воронцовой // Российский литературоведческий журнал. 1994. № 5–6. С. 290–291.
Цитата из стихотворения К. Бальмонта «Я – изысканность русской медлительной речи» (1901), впоследствии вошедшего в поэтический сборник «Будем как солнце».
Мандельштам О. Шум времени. С. 16–17.
Газетные вырезки без выходных данных (SVZ17. Souvenirs. Fonds Ludmila Savitzky, IMEC).
Жуковский В. Полное собрание сочинений: В 12 т. СПб.: Изд-во А. Ф. Маркса, 1902. T. 9. С. 73–74.
РГБ. Ф. 386. Карт. 101. Ед. хр. 30 (искренняя признательность А. Л. Соболеву за помощь при работе с материалами из архивного фонда Брюсова). См.: Бальмонт – Брюсову (10.III.1902); Переписка с К. Д. Бальмонтом. С. 124. 15 марта 1902 г. Брюсов записал в дневнике: «Бальмонту дозволено было уехать за границу и проехать через Москву, о чем он меня известил через Люси Савицкую ‹…› Был в честь его вечер у Бахмана, где читалась новая книга Бальмонта, пока рукопись, „Будем как солнце“» (Брюсов В. Дневники. С. 119). Людмила вспоминала, что впервые виделась с Брюсовым в Москве весной 1902 г. по пути из Корочи в Петербург, где должна была получить паспорт для поездки в Париж (Savitzky L. Souvenirs. Cahier II. P. 20). Однако прямых доказательств их московской встречи мы не обнаружили. Весной 1903-го она виделась с Брюсовым в Париже (Брюсов В. Дневники. С. 132). До тех пор их знакомство, видимо, оставалось эпистолярным.
Бальмонт – Брюсову (10.V.1902); Переписка с К. Д. Бальмонтом. С. 129.
Green N. L’ Émigration comme émancipation: les femmes juives d’Europe de l’Est à Paris, 1881–1914 // Pluriel-Débat. 1981. № 27. P. 51–59.
Гуревич Л. История «Северного вестника» // Венгеров С. Русская литература ХХ века. М.: Мир, 1914. Т. 1. С. 238–242; Rabinowitz S. No Room of Her Own. P. 236–252; Rosenthal Ch. Zinaida Vengerova: Modernism and Women’s Liberation // Irish Slavonic Studies. 1987. № 8. 97–106.
Гуревич Л. История «Северного вестника». С. 241.
Ходасевич В. О новых стихах // Ходасевич В. Собрание сочинений: В 4 т. / Под ред. И. Андреевой, С. Бочарова, Н. Богомолова. М.: Согласие, 1996. Т. 1. С. 459–460.
Savitzky L. Souvenirs. Cahier II. P. 24.
Ibidem. P. 22.
Ibidem. P. 21–23.
Savitzky L. Souvenirs. Cahier II. P. 19.
Ibidem. P. 26–29.
«Это обновление! И это наверняка». Вячеслав Иванов – Лидии Зиновьевой-Аннибал (16/29.IV.1903); Иванов В., Зиновьева-Аннибал Л. Переписка 1894–1903 / Ред. и коммент. Д. Солодкой, Н. Богомолова, М. Вахтеля; вступ. ст. М. Вахтеля и Н. Богомолова. М.: Новое литературное обозрение, 2009. Т. 2. С. 492–493.
Вячеслав Иванов – Марии Замятниной (6.V.1903). Иванов В., Зиновьева-Аннибал Л. Переписка. Т. 2. С. 514.
Дневниковая запись цитируется по дополненной и исправленной версии: Иванов В., Зиновьева-Аннибал Л. Переписка. Т. 2. С. 496 (примеч. 34).
См. описание выступления Брюсова в письме Л. Зиновьевой-Аннибал к Марии Замятниной (7.V.1903): «Мне оказалось очень важно и интересно попасть в тот понедельник в собрание. Были бешеные нападки реалистов на „новое искусство“. Вячеслав после реферата Брюсова и дебатов читал несколько стихов, и ему хорошо хлопали, несмотря на возбуждение страстей» (Иванов В., Зиновьева-Аннибал Л. Переписка. Т. 2. С. 514).
Брюсов В. Дневники 1891–1910. С. 132.
Savitzky L. Souvenirs. Cahier II. P. 30–32.
Ibidem. Cahier III. P. 22.
Ibidem. Cahier II. P. 13.
Ibidem. Cahier II. P. 34–39, 56.
Документы, относящиеся к первому бракоразводному процессу Людмилы (март 1910), хранятся в частном собрании ее наследников.
Savitzky L. Souvenirs. Cahier II. P. 51.
А. Савицкая – Л. Савицкой (5.VI.1907; Lettres de ma mère 1907–1908; SVZ12. Fonds Ludmila Savitzky. IMEC).
Soir de mai // Théâtre & littérature. 1908. № 5. 15 mai. P. 332; Motif gothique // Théâtre & littérature. 1908. № 7. 15 juin. P. 496.
Savitzky L. Souvenirs. Cahier II. P. 13. Подобной манерой одеваться и причесываться Людмила запомнилась знавшим ее до войны. Пьер Абраам так oписал их первую встречу: «<В кабинете> мне навстречу встает высокий беловолосый силует. Свет, бьющий в глаза, позволяет лишь любоваться великолепием выточенной и легкой осанки. Мгновенье спустя я замечаю под копной волос, нависающих в свободном стиле эпохи, взгляд пары зеленых глаз, округлые скулы, смело изображенные губы, гибкую шею ‹…›» (Abraham P. Images de Ludmila Savitzky // Les Lettres françaises. 1958. № 704. 9 janvier. P. 3).
Венгерова З. Автобиографическая справка // Венгеров С. Русская литература ХХ века. Т. 1. С. 136–137; Polonsky R. English Literature and the Russian Aesthetic Renaissance. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 25–27, 120–135.
Savitzky L. Souvenirs. Cahier II. P. 39–40, 47–48.
Gide A. Journal 1887–1925 / Réd. É. Marty. Paris: Gallimard-La Pléiade, 1996. P. 490–491.
Так, в библиотеке Л. Савицкой, рядом с «Книгой отражений» (1906) Иннокентия Анненского и альманахами «Северных цветов», хранится сборник статей «Луг зеленый» (1910) с дарственной надписью автора: «Глубокоуважаемому Константину Дмитриевичу Бальмонту от любящего Андрея Белого». Судя по всему, Бальмонт, презирая Белого как «литературного проститута» (см. его письмо к Брюсову от 30.VIII/12.IX.1907; Переписка с К. Д. Бальмонтом. С. 188), избавился от этой и иных ненужных ему книг, использовав как повод желание Людмилы оставаться в курсе литературной жизни русского модернизма.
Имеется в виду второй муж Людмилы, Жюль Рэ, о котором речь пойдет ниже.
Недатированное письмо (судя по содержанию – 21.I.1912; Lud. Souvenirs d’enfance et de jeunesse).
Афиша лекции, «Les poètes d’aujourd’hui», хранится в SVZ17, в составе: Lud. Souvenirs d’enfance et de jeunesse.
Среди прочего в библиотеке Л. Савицкой хранятся номера парижского журнала «Освобождение» (1902–1905), основанного П. Б. Струве в эмиграции. Судя по карандашным пометам, сделанным рукой Людмилы, здесь анонимно публиковался ее отец, И. К. Савицкий.
Chautemps-Tiry D. L’ Expérience de «La Clairière» à la Chartreuse de Neuville 1908–1912 // Apollinaire G., Havet M. Correspondance 1913–1917 / Réd. D. Chautemps-Tiry. Montpellier: Université Paul-Valéry, 2000. P. 103–104.
Savitzky L. Souvenirs. Cahier II. P. 59–63; Cahier III. P. 1–6, 23.
Traduction de la pièce «Le Bazar»; SVZ30. Fonds Ludmila Savitzky, IMEC.
Lucie Alfé. Le Jouet russe // Art et industrie. 1910. Fasc. 3. P. [9].
Брюсов – Бальмонту (16/29.XII.1906); Переписка с К. Д. Бальмонтом. С. 181.
Эренбург И. Заметки о русской поэзии // Гелиос. 1913. № 1. Ноябрь. С. 14.
Ходасевич В. О новых стихах. С. 460.
Эренбург намеревался преподнести Бальмонту июньский номер ежемесячника «Вечера» (1914. № 2) со своим автографом: «Экз. № 1. Константину Бальмонту от И. Эренбурга в день нашей встречи на Больших бульварах в Париже с надеждой на его благосклонность к авторам сего сборника 30/VII». Подписал поэтический сборник и Михаил Зенкевич: «Константину Дмитриевичу. Присоединяюсь к Эренбургу в его мольбе о благосклонности мэтра поэзии к молодежи М. З.» Позже Эренбург написал на сборнике следующее объяснение: «Мы хотели подарить этот экземпляр Бальмонту, но мировая война помешала этой простой затее. И. Эренбург». См. описание книжного собрания М. В. Сеславинского; Хроника заседаний клуба «Библиофильский улей». С. 120. (http://nsb-bibliophile.ru/d/576331/d/khbu_37.pdf <дата последнего просмотра 30.V.2018>).
Об этом Людмила сообщала 27 сентября 1916 г. А. В. Гольштейн, узнав, что та готовит вместе с Рене Гилем книгу французских переводов лирики Бальмонта (Alexandra Gol’shtein Papers, картон 8, папка «Gol’shtein Correspondence – S (2)», Bakhmeteff Archive, Columbia University, New York).
Lettres de Constantin Balmont à Ludmila Savitzky 1913–25; SVZ1 Fonds Ludmila Savitzky. IMEC.
Имеется в виду вторая жена поэта, Е. А. Андреева-Бальмонт, с которой он поддерживал теплые отношения, живя в Париже со своей гражданской женой Е. К. Цветковской.
Речь идет о втором муже Людмилы Савицкой Жюле Рэ.
См. его запись o летнем путешествии в Париж в 1908 г. (Брюсов В. Дневники 1891–1910. С. 140–141).
Savitzky L. Souvenirs. Cahier III. P. 7–12, 14, 18, 23.
См.: Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. Correspondance 1910–1957 / Réd. Marie-Brunette Spire. Paris: Les Belles Lettres, 2010.
Savitzky L. Souvenirs. Cahier III. P. 9.
Ibidem. Cahier II. P. 56. О месте евреев в русской и транснациональной модернистских культурах см.: Freedman J. The Temple of Culture: Assimilation and Anti-Semitism in Literary Anglo-America. Oxford: Oxford University Press, 2000; Livak L. The Jewish Persona in the European Imagination: A Case of Russian Literature. Stanford: Stanford University Press, 2010.
А. Савицкая – Л. Савицкой (14.X.1909); Lettres de ma mère; SVZ12. Fonds Ludmila Savitzky. IMEC.
Savitzky L. Images de ma vie. P. 123–125.
А. Савицкая – Л. Савицкой (31.III.1913); Lettres de ma mère; SVZ12. Fonds Ludmila Savitzky. IMEC.
А. Савицкая – Л. Савицкой (4/17–6/19.XI.1913); Там же.
«Menorah», «La Revue Juive», «Palestine», «Nouvelle Revue Juive», «Les Cahiers Juifs», «La Revue Juive de Genève».
L. Savitzky – A. Spire (26.II.1923); Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. P. 393.
Savitzky L. Souvenirs. Cahier III. P. 23.
Ludmila J.-Rais. Nos filles, dyptique, L’ Orchestre, L’enterrement // La Phalange. 1912. № 75. P. 198–203; Les quatre princesses et le cœur fermé // Vers et prose. 1913. T. 34. P. 112–129.
Severini G. La Closerie des Lilas // Théories des cafés. Anthologie / Textes réunis par G.-G. Lemaire. Paris: IMEC / Éditions Éric Koehler, 1997. P. 47, 49–50.
Ludmila J. Rais. Les quatre princesses et le cœur fermé. Précédé de quelques poèmes. Paris: E. Figuière et Cie, 1914.
Savitzky L. Souvenirs. Cahier III. P. 23–24.
Les Livres // L’ Attaque. 1914. 18 mars. P. 3; Béliard O. Les Livres // Les Hommes du jour. 1914. № 338. 11 juillet. P. 9; Lièvre P. Bibliographie // Les Marges. 1914. № 48. 15 avril. P. 403; Maurière G. Chronique des lettres // L’ Événement. 1914. № 17341. 22 juin. P. 2; Davray H.-D. Chronique des livres // Le Rappel. 1914. № 16110. 24 mars. P. 4; Les Chroniques // Le Divan. 1914. № 46. Mars. P. 115; Aeschimann P. Poésies // Le Courrier européen. 1914. № 15. 25 avril. P. 210; Bayard J.-E. Le Livre du jour // Les Nouvelles. 1914. № 1764. 9 mars. P. 3.
Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. P. 70.
О Марселе Блоке, впоследствии видном деятеле французского Сопротивления, см.: Abraham P. Mon frère, mécanicien // Les trois frères. Paris: Les Éditeurs français réunis, 1971. P. 74–98.
Savitzky – Spire (30.VII.1916; 10.VIII.1916); Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. P. 85–91.
Отсылки к Толстому мы находим в ee письмах к Марселю Блоку (12.V.1917) и Андре Спиру (10.VIII.1916; 15.VIII.1916); Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. P. 91–92, 133, примеч. 86.
Bloch J.-R., Spire A. Correspondance 1912–1947 / Réd. M.-B. Spire. Paris: Éditions Claire Paulhan, 2011. P. 280, 284.
Savitzky L. Enfants; SVZ16, Journaux (1917–1957), Fonds Ludmila Savitzky, IMEC.
См. ее письма к Андре Спиру (10.XII.1916, 19.V.1917); Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. P. 116–117, 134–135. Из этих стихотворений было опубликовано лишь одно: La grande guerre frappe. Et il faut que je chante! // Le Cri des Flandres. 1915. № 305. 21 février. P. 1.
Рукопись романа, написанного между 1920 и 1925 гг., хранится в бумагах Л. Савицкой под тремя разными названиями: «L’ Armure occidentale», «Où le soleil se lève», «Nec spe nec metu».
См. запись за 10 июня 1923: «Разбирала свои стихотворения, чтобы составить из них книгу» (пер. с фр.). 1 января 1926: «Перечитывала, правила, переиначивала роман „Où le soleil se lève“» (пер. с фр.). Записные книжки хранятся в частном собрании наследников Л. Савицкой.
Lud. La Clairière aux enfants. Paris: E. Figuière et Cie, 1920.
La Clairière aux enfants, par Lud // L’ Idée libre. 1921. № 12. Janvier. P. 300; Charasson H. La Vie littéraire // Le Rappel. 1920. № 18088. 19 juin. P. 2; Hagani B. Livres et brochures // Le Peuple juif. 1920. № 44. 29 octobre. P. 12; Rachilde. Les Romans // Le Mercure de France. 1920. № 528. 15 juin. P. 758.
Bibliothèque Nationale de France. Département des manuscrits (далее – BNF). Fonds Jean-Richard Bloch. T. VIII.
Здесь и далее цитируемые письма Людмилы Савицкой к Марселю Блоку хранятся в частном собрании ее наследников.
Savitzky L. À l’Amitié nouvelle // Les Feuilles libres. 1919. № 2. 1 décembre. P. 50–51; Maturité // The Anglo-French Review. 1920. № 3. April. P. 274; Pensée au lit de mort de Georges Périn, 19 février 1922 // Le Thyrse. 1923. 1 décembre. P. 3–4; Journée devant la Loire // La Revue européenne. 1923. № 7. 1 décembre. P. 14–15.
Savitzky L. La Poursuite de l’Organdi // Le Mercure de France. 1922. № 571. 1 avril. P. 61–70; Aube // Menorah. 1924. № 22. 15 décembre. P. 325–326.
Spire M.-B. André Spire and the Imagists // Florida English. 2008. № 6. P. 112–122.
Spire – Savitzky (11.VII.1919); Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. P. 204–207.
Harold Monro (13.XII.1919), ксерокопия письма хранится в собрании наследников Л. Савицкой.
Savitzky L. Esquisses anglaises. H. D. // Les Feuilles libres. 1920. № 7. Mai. P. 249–253; Richard Aldington. Poète imagiste // The Anglo-French Review. 1920. № 6. June. P. 569–576; Esquisses anglaises. Ezra Pound // Les Feuilles libres. 1920. № 10. Juillet. P. 391–395.
H. D. [Hilda Doolittle]. Petits poèmes // Les Feuilles libres. 1920. № 7. Mai. P. 253–255; Ezra Pound. Albatre. – Ortus. – Tempéraments. – La Mansarde. – Causa // Les Feuilles libres. 1920. № 10. Juillet. P. 396–397.
Childs P. Modernism. London: Routledge, 2008. P. 23–24; Clark S. Sentimental Modernism. Bloomington: Indiana University Press, 1991. P. 1–2; Эконен К. Творец, субъект, женщина. С. 6–7, 16, 55, 61; The Female Imagination and the Modernist Aesthetic / Eds S. Gilbert, S. Gubar. New York: Gordon and Breach, 1986; Holmgren B. Stepping Out / Going Under: Women in Russia’s Twentieth-Century Salons // Russia. Women. Culture / Eds H. Goscilo, B. Holmgren. Bloomington: Indiana University Press, 1996. P. 229–233.
Штейнберг А. Друзья моих ранних лет (1911–1928) / Под ред. Ж. Нива. Париж: Синтаксис, 1991. С. 41; Materer T. Make It Sell! Ezra Pound Advertizes Modernism // Marketing Modernisms / Eds K. Dettmar, S. Watt. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1996. P. 20; Moody A. D. Ezra Pound: Poet. Oxford: Oxford University Press, 2007. Vol. 1. The Young Genius, 1885–1920. P. 317–318. К мнениям Паунда и Блока стоит прибавить дневниковую запись Михаила Кузмина (13.IX.1914): «Если бы мог быть хороший журнал! Чистых, порядочных людей, без бабья и жидов!» (Кузмин М. Дневник 1908–1915 / Под ред. Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2005. С. 478).
SVZ6. Pound, Ezra et Dorothy. Fonds Ludmila Savitzky. IMEC.
Письмо без даты (начало 1920); SVZ32. L. S. sur la poésie anglaise, Fonds Ludmila Savitzky. IMEC.
Из письма Паунда к отцу (август 1917, без даты); Moody A. D. Ezra Pound. P. 329.
Savitzky L. Dedalus en France // Joyce J. Dedalus. Portrait de l’artiste jeune par lui-même / Tr. Ludmila Savitzky. Paris: Gallimard, 1943. P. 7.
Savitzky L. Dedalus en France. P. 14.
James Joyce – Harriet Weaver (12.VII.1920); Letters of James Joyce / Eds R. Ellmann, S. Gilbert. London: Faber and Faber, 1957. Vol. 1. P. 142.
Savitzky L. Dedalus en France. P. 8.
Savitzky L. Dedalus en France. P. 13.
Ludmila Bloch-Savitzky (9.VII.1920); The James Joyce Collection. The Poetry Collection. University at Buffalo (SUNY). XVI: Other Correspondents.
Savitzky L. Dedalus en France. P. 12.
Savitzky – Spire (4.VII.1920); Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. P. 237; Spire A. La Rencontre avec Joyce // Sylvia Beach (1887–1962). Paris: Mercure de France, 1963. P. 42–43.
Beach S. Shakespeare and Company. London: Faber and Faber, 1959. Chapter 5. Ulysses in Paris. P. 47.
Ellmann R. James Joyce. Oxford: Oxford University Press, 1982. P. 488–489.
Fitch N. Sylvia Beach and the Lost Generation. New York: Norton, 1983. P. 61–63; Murat L. Passage de l’Odéon: Sylvia Beach, Andrienne Monnier et la vie littéraire à Paris dans l’entre-deux-guerres. Paris: Fayard, 2003. P. 34.
Savitzky L. Dedalus en France. P. 12.
Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. P. 619.
Savitzky L. Dedalus en France. P. 12–13.
Spire A. La Rencontre avec Joyce. P. 44.
Подробнее см.: Livak L. A Thankless Occupation: James Joyce and His Translator Ludmila Savitzky // Joyce Studies Annual. 2013. P. 33–61. Здесь же опубликованы письма Джойса, хранящиеся в: John Rodker Papers. Series V. Ludmila Savitzky Personal Papers 1920–1955. Box 44. Folder 5. Harry Ransom Humanities Research Center, University of Texas at Austin (далее – Ransom). Электронная версия: (дата последнего просмотра 30.V.2018). Со времени публикации нами обнаружены дополнительные письма Джойса к Савицкой, которые сейчас готовятся к печати.
Savitzky L. Dedalus en France. P. 10.
Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. P. 265.
Savitzky – Spire (15.IV.1921); Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. P. 271.
Savitzky L. John Rodker (1955); John Rodker Papers. Series IV. Box 42. Folder 3 (Ransom).
Роман Родкера в ее переводе печатался по частям (Rodker J. Montagnes russes // Les Écrits nouveaux. 1922. T. III–IX), а затем вышел отдельной книгой: Rodker J. Montagnes russes / Tr. Ludmila Savitzky, intr. Edmond Jaloux. Paris: Stock, 1923.
Подробнее о Родкере см.: Livak L. Exporting Soviet Literature: An Episode // Venok: Studia Slavica Stefano Garzonio Sexagenario Oblata / Ed. G. Carpi [et al.]. Stanford, 2012. Vol. 2. P. 246–265 (Stanford Slavic Studies 41); Patterson I. The Translation of Soviet Literature: John Rodker and PresLit // Russia in Britain, 1880–1940 / Eds R. Beasley, Ph. Bullock. Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 188–208.
Savitzky – Spire (21.I.1957); Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. P. 696.
Williams D. Fighting on Different Fronts: Isaac Rosenberg and John Rodker // Whitechapel at War: Isaac Rosenberg and His Circle / Eds S. MacDougall, R. Dickson. London: The London Jewish Museum of Art, 2008. P. 97–98.
Dorothy Pound – John Rodker (28.VIII.1946; 29.VIII.1946); SVZ6. Pound, Ezra et Dorothy. Fonds Ludmila Savitzky. IMEC.
Savitzky L. Dedalus en France. P. 11; Spire A. La Rencontre avec Joyce. P. 44.
John Rodker Papers. Series V. Ludmila Savitzky Personal Papers 1920–1955. Box 44. Folder 13 (Ransom).
Joyce J. Dedalus, portrait de l’artiste jeune par lui-même. Paris: La Sirène, 1924.
См.: Livak L. A Thankless Occupation. P. 42–43.
Hertz H. «Dedalus» // Europe. 1924. № X. P. 246–249.
Savitzky L. Dedalus en France. P. 13.
См. недатированное письмо Спира (<IV.1924>; Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. P. 472) и отзывы других литераторов в письмах к Людмиле: Georges Duhamel (1.VI.1924), Jacques Calmy (29.IV.1924), Charles Vildrac (10.V.1924) и пр.: John Rodker Papers. Series V. Box 44. Folder 14 (Ransom).
Savitzky – Spire (20.IV.1922; 20.VI.1922); Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. P. 318, 329.
Она сначала публиковала его по частям под псевдонимом Lud в детском журнале «L’ Âge heureux» (XII.1924–VI.1925), а затем отдельной книгой: Lud. Jean-Pierre. Paris: Librairie Gédalge, 1929. См. критические отзывы: Collection Aurore // Revue des lectures. 1930. № 5. 15 mai. P. 575; Jean Pierre, par Lud // Mon chez moi. 1930. № 75. Février. P. 43; Clarétie G. Les nouveaux livres // L’ Ami du peuple. 1930. № 676. 9 mars. P. 8; Hertz H. Les Livres // Menorah. 1930. № 4. 15 février. P. 56.
Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. P. 427.
Цитируемые здесь и далее письма Людмилы Савицкой к Джону Родкеру хранятся в частном собрании ее наследников.
Savitzky – Spire (30.I.1923); Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. P. 378.
L. Savitzky – J.-R. Bloch (27.IV.1926; 30.IV.1926; 8.V.1926); Fonds Jean-Richard Bloch. T. VIII (BNF). Письма частично цитируются в: Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. P. 378–380 (примеч. 316).
Savitzky – Spire (9.V.1922; 30.I.1923); Savitzky L., Spire L. Une amitié tenace. P. 322, 378–379.
А. П. Савицкая умерла во Франции в 1925 г. Ее письма к дочери периода Гражданской войны и эмиграции хранятся в: SVZ12. Famille et amis: lettres en russe. Fonds Ludmila Savitzky. IMEC.
SVZ 30. Divers traductions et documents sur la littérature russe. Fonds Ludmila Savitzky. IMEC.
Рукописи переводов хранятся там же.
SVZ29. Notes éparses. Fonds Ludmila Savitzky. IMEC.
SVZ 12. Famille et amis: lettres en russe. Fonds Ludmila Savitzky. IMEC. Людмила прочитала доклад о Гребенщикове в модернистском кабаре «Хамелеон» (9 ноября 1923). Однако переводить его не взялась, видимо, из эстетических соображений, так как художественный «консерватизм» Гребенщикова, по его же выражению в процитированном письме, не мог импонировать ее вкусам. Машинопись доклада («Georges Grebenshchikov») хранится в: SVZ30. Littérature russe, traductions et documents. Fonds Ludmila Savitzky. IMEC.
Savitzky – Spire (26.II.1923); Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. P. 394. Ее переводы из А. Ахматовой, Н. Гумилева, С. Есенина, В. Каменского, А. Мариенгофа, В. Маяковского и М. Цветаевой приводились также в обзоре современной русской литературы, написанном старым приятелем Л. Савицкой, критиком Николаем Брянчаниновым: Brian-Chaninov N. Les «jeunes» moscovites // La nouvelle revue. 1923. 15 mai. P. 97–112.
Eе стихотворный цикл «Journée devant la Loire» вышел в одном номере «La Revue européenne» (1923. № 7. 1 septembre. P. 14–15) со стихами Тристана Тцара, Андре Бретона, Луи Арагона и Филиппа Супо. Годом позже там же появились программные тексты Бретона «Растворимая рыба» («Poisson soluble») и «Парижский крестьянин» Арагона («Le Paysan de Paris»). Людмила выступила в этом номере «La Revue européenne» (1924. № 18. 1 juillet. P. 102–104) в качестве литературного критика.
Об эстетической и философской неактуальности Бальмонта для русских модернистов-парижан см.: Струве Г. Русская литература в изгнании. Париж: YMCA-Press, 1984. С. 132; Терапиано Ю. Встречи. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. С. 18–21.
О месте «Хамелеона» в русской и транснациональной модернистской культуре см.: Ливак Л. «Героические времена молодой зарубежной поэзии»: Литературный авангард русского Парижа (1920–1926) // Ливак Л., Устинов А. Литературный авангард русского Парижа: История. Хроника. Антология. Документы. М.: ОГИ, 2014. С. 38–41. См. также современные оценки: La Nervie. 1926. № 7–8, numéro spécial: Le Caméléon.
Savitzky – Spire (2.IV.1923; 4.IV.1923; 5.IV.1923); Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. P. 417, 421.
Spire – Savitzky (31.III.1923; 4.IV.1923; 18.IV.1923); Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. P. 414, 420, 427–428. К. Бальмонт – Д. Шаховской (15.IV.1923); «Мы встретимся в солнечном луче». Письма Константина Бальмонта к Дагмар Шаховской 1920–1926 / Сост. Р. Бëрда, Ф. Черкасовой. М.: Русский путь, 2014. С. 311.
«Constantin Balmont» (машинопись доклада с правкой и дополнениями от руки); SVZ29. Fonds Ludmila Savitzky. IMEC. См. критические отзывы о вечере Бальмонта в «Хамелеоне»: Bureau N. Conférence sur Constantin Balmont, par Mme Ludmila Savitzky (22 janvier 1923) // Rythme et synthèse. 1923. № 35. Mars. P. 120; Spire A. La Poésie russe à Montparnasse // Menorah. 1923. 13 mars. P. 290–293.
Savitzky – Spire (2.I.1922); Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. P. 308.
Книга выйдет через полтора года: Balmont C. Visions solaires. Mexique, Egypte, Inde, Japon, Océanie. Paris: Bossard, 1923. См. библиографию критических отзывов на это издание, а также о сотрудничестве писателей-эмигрантов с издательством «Bossard»: Livak L. Russian Émigrés in the Intellectual and Literary Life of Interwar France: A Bibliographical Essay. Montreal: McGill-Queens University Press, 2010. P. 14–15, 73.
Savitzky L. Constantin Balmont et la poésie russe // Le Monde nouveau. 1922. № 11. 1 juin. P. 188–197; Constantin Balmont // La Revue de Genève. 1923. № 41. Novembre. P. 654; Préface // Balmont C. Visions solaires. P. i – vi.
См.: Livak L. Russian Émigrés in the Intellectual and Literary Life of Interwar France. P. 73–74. Со времени издания данной работы архивные материалы Л. Савицкой позволили нам существенно пополнить франкоязычную библиографию Бальмонта. См.: Livak L. Russian Émigrés in the Intellectual and Literary Life of Interwar France: Addenda et Corrigenda // Across Borders: 20th Century Russian Literature and Russian-Jewish Cultural Contacts. Essays in Honor of Vladimir Khazan / Eds L. Fleishman, F. Poljakov. New York: Peter Lang, 2018. P. 164–165 (Stanford Slavic Studies 48).
О работе французской секции см.: Ливак Л. Ранний период русской эмиграции по материалам собрания Софии и Эжена Пети // A Century’s Perspective: Essays on Russian Literature in Honor of Olga Raevsky Hughes and Robert P. Hughes / Eds L. Fleishman, H. McLean. Stanford: Stanford Slavic Studies, 2006. P. 430–440; L’ Émigration russe et les élites culturelles françaises, 1920–1925: les débuts d’une collaboration // Cahiers du monde russe. 2007. Vol. 48. № 1. P. 23–43. См. также полушутливый отчет Бальмонта (письмо к Савицкой от 22.XII.1922 в настоящем издании) о приеме, организованном французской секцией, чтобы помочь ряду эмигрантских писателей войти в парижские литературные и издательские круги.
Людмила низко оценила переводы, сделанные Александрой Гольштейн и Рене Гилем для книги: Balmont C. Quelques poèmes / Tr. Alexandra de Holstein et René Ghil. Paris: Crès, 1916. См.: Savitzky – Spire (4.XII.1916); Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. P. 115–116.
Savitzky – Spire (20.IV.1922; 20.VI.1922); Savitzky L., Spire L. Une amitié tenace. P. 317–318, 329.
Редакция требовала изменений в письмах от 30 и 31 мая 1922; SVZ1. Correspondance éditoriale. Fonds Ludmila Savitzky. IMEC.
Бальмонт – Савицкой (10.VI.1922; 12.VI.1922; 11.VI.1922; 13.VI.1922; 20.VI.1922).
Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. P. 384.
Переведенный Людмилой роман был опубликован: Rodker J. Adolphe 1920 // La Revue européenne. 1927. № 10. P. 289–324; № 11. P. 406–445; № 12. P. 504–521. Она также перевела роман Родкера «Dartmoor» (Paris: Le Sagittaire – S. Kra, 1926).
Savitzky – Spire (28.II.1928); Savitzky L., Spire L. Une amitié tenace. P. 314.
См.: Livak L. Russian Émigrés in the Intellectual and Literary Life of Interwar France. P. 12–19.
Н. Гончарова – Л. Савицкой (4.III.1922; 27.III.1922); SVZ1. Correspondance éditoriale. Fonds Ludmila Savitzky. IMEC. В архиве Савицкой (SVZ29) хранится машинопись перевода «Фейных сказок» из тридцати стихотворений. На заглавном листе: Constantin Balmont. Contes de Fée. Poèmes, traduit du russe par Ludmila Savitzky. Illustrations de Natalia Gontcharova. От руки приписано: «Préface de Paul Fort?» Там же письмо (12.IV.1922) с окончательным отказом издательства G. Crès & Cie принять рукопись к печати. Судя по всему, до художественного оформления книги дело не дошло.
Savitzky – Spire (11.IV.1923); Savitzky L., Spire A. Une amitié tenace. P. 425.
См.: Livak L. Russian Émigrés in the Intellectual and Literary Life of Interwar France. P. 19–30.
Речь идет о некрологе: Guilbeaux H. Vladimir Ilitch Lénine, in memoriam // Les Cahiers idéalistes. 1924. № 10. Mai. P. 35–38. В примечании к статье Гильбо анонсировал свою книгу о Ленине (P. 38). В том же номере появился очерк Бальмонта «André Spire», в переводе и с предисловием Савицкой (P. 42–45).
Édouard Dujardin – писатель, критик, основатель и редактор журнала «Les Cahiers idéalistes», старый знакомый Людмилы.
SVZ12. Famille et amis: lettres en russe. Documents à identifier. Fonds Ludmila Savitzky. IMEC.
В бумагах Савицкой хранится рукопись («Le Parrain») неопубликованного перевода рассказа Б. Зайцева «Крестный» (1926); SVZ30. Littérature russe. Traductions et documents. Fonds Ludmila Savitzky. IMEC.
Запись от 18 марта 1934 (пер. с фр.); Savitzky L. Journal. Cahier IV: 1933–40. P. 3–4. Цит. по машинописи дневников, хранящихся в частном собрании наследников Л. Савицкой.
Подробнее о Франко-русской студии см.: Le Studio franco-russe, 1929–1931 / Réd. Leonid Livak, Gervaise Tassis. Toronto: Toronto Slavic Library, 2005.
Zaïtzev B. Anna / Tr. L. Savitzky. Paris: Éditions Saint-Michel, 1931. Под эгидой этой программы Людмила также перевела рассказы Зайцева «La Mort» и «Ma soirée», из которых лишь первый был опубликован (La Revue française. 1931. № 38. 20 septembre. P. 902–904). Рукописи переводов хранятся в: SVZ30. Zaitzev. Traduction de La Mort. Fonds Ludmila Savitzky. IMEC.
Зайцев – Савицкой (26.IV.1930; 10.IX.1930; 27.II.1931; 19.V.1931); SVZ11. Zaitzev, Boris. Fonds Ludmila Savitzky. IMEC. Письмо Зайцева от 15.IX.1930 сохранилось в черновой рукописи перевода «Анны»: SVZ30. Traduction de Boris Zaitzev par Ludmila Savitzky. Fonds Ludmila Savitzky. IMEC.
Ходасевич В. Конец Ренаты. С. 7–8.
Запись в дневнике (17.VIII.1919); Havet M. Journal, 1918–1919 / Réd. D. Tiry, P. Plateau. Paris: Édition Claire Paulhan, 2003. P. 175.
См.: Livak L. The Place of Suicide in the French Avant-Garde of the Inter-War Period // The Romanic Review. 2000. Vol. 91. № 3. P. 245–262; Boris Poplavskii’s Art of Life and Death // Comparative Literature Studies. 2001. Vol. 38. № 2. P. 118–141.
Savitzky L. Souvenirs. Cahier III. P. 14–15.
Запись без даты (VIII.1919); Havet M. Journal, 1918–1919. P. 175.
Savitzky L. Aucune étreinte // Havet M. Journal, 1918–1919. P. 249.
Дневниковая запись (31.VII.1929); Havet M. Journal 1929 / Réd. P. Plateau, R. Aeschimann, C. Paulhan, D. Tiry. Paris: Éditions Claire Paulhan, 2012. P. 176–178.
Savitzky L. Souvenirs. Cahier III. P. 17.
Ibidem. P. 15–17.
Запись от 18 марта 1934; Savitzky L. Journal. P. 1.
Savitzky L. Souvenirs. Cahier I. P. 2.
Les Traductions françaises de romans étrangers // Tous les livres. 1930. № 33. 15 juin. P. 857–867.
Ferrall C. Modernist Writing and Reactionary Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2001; Stern L. Western Intellectuals and the Soviet Union, 1920–1940. London: Routledge, 2007.
В 1953 г. Людмила получила национальную премию за переводческий труд: Ludmila Savitzky: Prix Denyse-Clairouin // Combat. 1953. № 2694. 2 mars. P. 3; Couronnes et lauriers // Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1953. № 1331. 5 mars. P. 4; Le Prix Denyse Clairouin à Mme Ludmila Savitzky // La Croix. 1953. № 21316. 8–9 mars. P. 4; Ludmila Savitzky reçoit le prix «Denyse Clairouin» // Le Figaro. 1953. № 2637. 2 mars. P. 4. О ее вкладе в область французского литературного перевода см. также некрологи: Ludmila Savitzky // Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1958. № 1583. 2 janvier. P. 6; Ludmila Savitzky est morte // Le Figaro littéraire. 1958. № 611. 4 janvier. P. 3; Ludmila Savitzky restituait la langue commune à tous les hommes // Carrefour. 1958. № 698. 29 janvier. P. 9; Abraham P. Images de Ludmila Savitzky // Les Lettres françaises. 1958. № 704. 9 janvier. P. 3.
Например, см.: Joyce J. Stephen le héros. Fragment de la première partie de «Dedalus». Paris: Gallimard, 1948; Woolf V. La Traversée des apparences. Paris: Les Cahiers gris, 1948; Compton-Burnett I. Plus de femmes que d’hommes. Paris: Seuil, 1950.
Ilf I., Petrov E. Amérique sans étages / Tr. L. Savitzky. Paris: Éditions du Pavois, 1946; Leonov L. La Prise de Velikochoumsk / Tr. L. Savitzky. Paris: La Bibliothèque française, 1946.
См., например: Moody A. D. Ezra Pound. P. 397.
Так, комментаторы переписки Бальмонта с Брюсовым полностью положились на пестрящие (видимо, намеренно) фактическими ошибками воспоминания второй жены поэта Е. A. Андреевой-Бальмонт о Людмиле Савицкой. См.: Переписка с К. Д. Бальмонтом. С. 121 (примеч. 6 к письму от 15.II.1902).
Судя по содержанию следующих писем, можно предположить, что Бальмонт прислал Савицкой имевшиеся у него сборники собственных стихов и переводов из иностранных поэтов: «Под северным небом. Элегии, стансы, сонеты» (СПб.: Тип. М. Сталюлевича, 1894); «Тишина. Лирические поэмы» (СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1898); «Горящие здания. Лирика современной души» (М.: Типо-лито тов-ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1900); «Собрание сочинений Эдгара По» (М.: Скорпион, 1901).
Возможно, имеется в виду цикл «Гимн Огню», который впоследствии вошел в поэтический сборник Бальмонта «Будем как солнце. Книга символов» (М.: Скорпион, 1903); или же одно из стихотворений этого цикла («Огонь очистительный…», «Бесшумный в мерцаньи церковной свечи…», «Ты меняешься вечно…», «Не устану тебя восхвалять…», «Вездесущий Огонь…», «Я помню, Огонь…», «Я знаю, Огонь…»).
Жоржик – двоюродный брат Людмилы, сын младшей сестры Анны Петровны Савицкой (в девичестве Алферовой; ум. 1925) – Катерины Петровны Китаевой и Николая Егоровича Китаева, бывшего преподавателя и директора Уральского горного училища в Екатеринбурге. Семья Китаевых провела часть зимы 1901/02 г. в корочанском доме, который сняла А. П. Савицкая после того, как ее мать (бабушка Людмилы), Марья Петровна Алферова, покинула семейное имение в деревне Лазаревке, расположенной недалеко от Корочи, из‐за ссоры с сыном, Дмитрием Петровичем Алферовым, отстранившим мать от управления имением (Souvenirs. Cahier I. P. 40).
Тринадцатилетняя двоюродная сестра Людмилы, дочь Катерины Петровны Китаевой.
Тетя Людмилы, Анна Евдокимовна Алферова, вдова Павла Петровича Алферова, одного из пяти братьев А. П. Савицкой, покончившего с собой в начале 1890‐х. После смерти мужа Анна Евдокимовна переехала с сыном в Корочу, так как в лазаревском имении Алферовых ее купеческое происхождение служило предметом насмешек (Souvenirs. Cahier I. P. 36–37).
Двоюродный брат Людмилы, сын Анны Евдокимовны Алферовой.
Подробнее об отце Людмилы, юристе и общественном деятеле Иване Клементьевиче Савицком (ум. 1913), см. вступительную статью в настоящем издании. Людмила владела итальянским, который изучала во время пребывания с матерью и сестрой в Швейцарии в 1897–1900 гг. Поэтому отец прислал ей в подарок оригинал романа «Пламя» (1900) итальянского поэта, прозаика, драматурга и политического деятеля Габриеле д’Аннунцио.
Рене Пийо (René Pillot, р. 1878), французский театральный актер и жених Людмилы, с которым она познакомилась летом 1901 г. в Париже. Подробнее об истории их взаимоотношений см. вступительную статью в настоящем издании.
Мое письмо исполнено счастьем, потому что оно идет к Вам / Неся мои воспоминания (исп.). Двустишие из третьей части поэмы «Поезд-экспресс» (1872) испанского поэта Рамона де Кампоамора (1817–1901).
Имеется в виду ловелас Эрмиль Туллио, герой романа Габриеле д’Аннунцио «Невинный» (1892; благодарю А. Л. Соболева за подсказку), чье имя Людмила использует в качестве нарицательного, намекая на любовную историю, которой Бальмонт с ней поделился. Неясно, о какой из любовниц поэта здесь идет речь. Описывая Зинаиде Гиппиус свое свидание с Бальмонтом в марте 1902 г., когда тот был проездом в Москве по пути из Сабынино в Париж, Валерий Брюсов среди прочего заметил: «За полтора суток прошло передо мной по меньшей мере с десяток драм (конечно, любовных). Но, Боже мой, с какой поразительной точностью повторялись не раз мной виденные жесты, не раз слышанные слова, и слезы, и рыдания. „Тесный круг подлунных впечатлений“! Он ликовал, рассказывал мне длинные серии все того же – о соблазненных, обманутых и купленных женщинах» (Переписка З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковского, Д. В. Философова с В. Я. Брюсовым (1901–1903 гг.) / Публ. М. Толмачева и Т. Воронцова // Российский литературоведческий журнал. 1994. № 5–6. С. 290–291).
«Рapier fin» – здесь: специальный сорт бумаги, предназначенный для переписки (фр.).
Имеется в виду К. П. Китаева (см. примеч. 3 в настоящем письме).
Терпение окупается сторицей (фр.).
О конфликте Людмилы с А. П. Савицкой, считавшей Рене Пийо неподходящим женихом для старшей дочери, см. вступительную статью в настоящем издании.
Личность не установлена. Подробнее о Федоре Емельяновиче Соколове см. письмо 10.
Цитата из сонета Бальмонта «Проклятие глупости» («Горящие здания». С. 89):
Поэт, наверное, читал это стихотворение в присутствии Людмилы, так как любил таким образом бросать вызов окружающим. См. запись от 15 января 1901 г., выпущенную в первой редакции дневника Валерия Брюсова: «В Москву приезжал Бальмонт. В первую встречу мы едва не „поссорились“ совсем. Я пришел к ним в „Эрмитаж“. С ним были: С<ергей> А<лександрович Поляков>, Юргис <Казимирович Балтрушайтис>, <Модест Александрович> Дурнов. Он был пьян. Сначала поцеловались. Но скоро он начал скучать, говорить, что ему скучно, потом дерзости, наконец, оскорбления. Прочел нам свои стихи – Но мерзок сердцу облик идиота… – явно обращая к нам» (цит. по: Богомолов Н. Вокруг «серебряного века». Статьи и материалы. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 236).
«Лелли» – перевод стихотворения «Eulalie» американского поэта Эдгара Аллана По (1809–1849), вошел в состав первого тома «Собрания сочинений Эдгара По в переводе с английского К. Д. Бальмонта. Поэмы, сказки» (М.: Скорпион, 1901), который поэт, судя по дарственной надписи, отправил своей корреспондентке из Сабынино 3 февраля 1902 г. (экземпляр хранится в библиотеке Л. Савицкой). Здесь и дальше, называясь Лелли, Людмила обыгрывает текст перевода, строки из которого она цитирует в письме:
Цитата из пьесы французского поэта и драматурга Эдмона Ростана «Принцесса Греза» (1895) в переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник.
«Ночи изгнания» (фр.). Людмила расценивала свое пребывание в семейном корочанском кругу как изгнание из Парижа, где она в общей сложности провела около восьми месяцев, успев, однако, обзавестись там женихом и решив подвизаться на парижских театральных подмостках.
Развратное (фр.).
Дневной свет – режет мне глаза / Я ненавижу шум, смеющиеся голоса / И моя любовь – сладострастная / Ждет ночи – молчаливой… / И т. д. (фр.)
Ночи изгнания. II
Личность не установлена.
Стихотворения, написанные Бальмонтом под впечатлением связи с Людмилой, вошли в состав его поэтического сборника «Будем как солнце» (цикл «Семицветник»; см. приложение в настоящем издании).
У-у! Какое скандальное поведение! (англ.)
Первая строка сонета «Я не из тех», отдел «Возле дыма и огня» («Горящие здания». С. 108).
Первая строка стихотворения «К дальнему», отдел «Возле дыма и огня» («Горящие здания». С. 112).
Первая строка сонета «Путь правды», отдел «Прогалины» («Горящие здания». С. 154). Вторая половина строки графически выделена Людмилой, заменившей также запятую восклицательным знаком, чтобы подчеркнуть свое отношение к словам поэта.
Стихотворение «Морской разбойник» («Есть серая птица морская с позорным названьем – глупыш…») входит в отдел «Отсветы зарева» («Горящие здания». С. 11).
Стихотворение «Я устал от нежных снов…» открывает отдел «Отсветы зарева» («Горящие здания». С. 7). Начиная со второго издания, печатается под названием «Кинжальные слова». В недавней биографии поэта первая строка стихотворения несколько раз цитируется в искаженном виде (слов вместо снов): Куприяновский П., Молчанова Н. Поэт Константин Бальмонт. Биография. Творчество. Судьба. Иваново: Изд-во «Иваново», 2001. С. 94, 108.
Цитата из второго стихотворения в отделе «Отсветы зарева» – «Полночь и свет знают свой час…» («Горящие здания». С. 8).
Заключительная строка стихотворения «О, женщина, дитя, привыкшее играть…» («Под северным небом». С. 62).
Имеется в виду стихотворение из отдела «Отсветы зарева», сборник «Горящие здания» (С. 17):
Цитата из стихотворения «Нет и не будет», отдел «В дымке нежно-золотой» («Тишина». С. 58). Людмила подчеркнула фразу «кроме тебя ничего» и заменила троеточие восклицательным знаком, чтобы показать свое отношение к словам поэта.
«До последнего дня» («Быть может, когда ты уйдешь от меня…») следует сразу за «Нет и не будет» в сборнике «Тишина» (С. 59). Переписывая в письме это стихотворение, Людмила заменила точки на восклицательные знаки в первом и третьем куплетах, чтобы подчеркнуть места, кажущиеся ей наиболее важными.
Савицкая цитирует одно из своих французских стихотворений (рукопись не сохранилась): «Подруга, видишь ли ты нарисованную на песке / Кружевную тень листвы? / Предмет моей любви еще неуловимей…»
Старший брат Людмилы, юрист Владимир Иванович Савицкий (1875 – после 1955).
Речь идет о вознице Бальмонта, «веселом, хитром мужике-украинце, быстро смекнувшем, как можно попользоваться простотой этого барина. Он за хорошее вознаграждение ездил каждые два дня для нас в Белгород за почтой и исполнял там наши поручения» (Андреева-Бальмонт Е. Воспоминания / Под ред. А. Паниной. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996. С. 357).
Кто знает (итал.).
Последние строки стихотворения Людмилы, приведенного выше в переводе (примеч. 13).
Речь идет о третьем стихотворении из цикла «Семицветник», посвященного Людмиле («Будем как солнце». С. 130). См. в приложении к настоящему изданию полный текст «Нет, ты не поняла, что в бездне пустоты…».
Меня это страстно занимает (фр.).
Дмитрий Спиридонович Здобнов (р. 1850) владел сетью фотоателье в Санкт-Петербурге, и его имя фигурировало на тыльной стороне фотопортретов Бальмонта. Экземпляры фотографий, о которых идет речь в письме, сохранились в архиве Савицкой. См. вторую вкладку с иллюстрациями.
В анфас, лицом к смотрящему (фр.).
Вова – старший брат Людмилы (см. примеч. 12 к письму 4); Володя – ее двоюродный брат, сын Сергея Петровича Алферова, отставного профессора Харьковского университета, чья сабынинская усадьба располагалась по соседству с имением князя Дмитрия Александровича Волконского (1861–1909), где гостила семья Бальмонтов.
Екатерина Алексеевна Андреева-Бальмонт (1867–1950), вторая жена поэта, жившая вместе с мужем и дочерью Ниной (р. 25.XII.1900 ст. ст./7.I.1901) в сабынинской усадьбе своей сестры Марии, бывшей замужем за князем Д. А. Волконским. В своих мемуарах Е. А. Андреева-Бальмонт оставит пестрящий ошибками и недоговоренностями отзыв о Людмиле (Андреева-Бальмонт Е. Воспоминания. С. 357–359).
Знаете, мне кажется, мы станем не только друзьями, но чем-то бóльшим! (фр.)
Мы станем тем, чем станем, без ярлыков! – Да, потому что Жан мой друг, а вот Вы совсем другое дело (фр.).
Правда? (Ты положила в ту минуту обе руки на грудь…) (фр.)
Мне кажется! – Я надеюсь! (фр.)
То было чрезвычайно скандальным поведением (англ.).
У тех же, что последовали за ней / Та же улыбка и тот же взгляд… (фр.) Источник и автор не установлены. Судя по инициалам, имеется в виду лозаннский знакомый Людмилы по имени Жан, которому она посвятила приведенное ниже стихотворение «Ответ Жану» (см. примеч. 5). Цитата, видимо, взята из стихотворения, которое Жан П. посвятил Людмиле во время ее кратковременного пребывания в Лозанне в августе 1901 г., по пути из Парижа в Россию.
Рассказ «Крымский вечер» («Полупрозрачная мгла вечернего воздуха…») вошел в первое издание сборника: Бальмонт К. В безбрежности. М.: Т-во скоропечатни A. A. Левенсон, 1895 (отдел «Любовь и тени любви». С. 116–118). Автор исключил его из сборника после второго издания 1896 г. (Библиография. № 85. С. 28–29).
И набросок улыбки, блуждающей на губах / Бросает мне вызов никогда ни во что не верить, / кроме нее (фр.). Источник не установлен. Возможно, строки взяты из стихотворения Людмилы (рукопись не сохранилась).
Строка из стихотворения Бальмонта «Молитва» («Господи Боже, склони свои взоры…»), вошедшего в сборник «Под северным небом» (С. 8). В строке обыгрываются двадцать третий и двадцать четвертый стихи 113-го псалма.
Изменчивый и искренний как море (фр.). Цитата из стихотворения, которое Людмила написала в Лозанне 21 августа 1901 г., накануне отъезда в Россию. В бумагах Валерия Брюсова хранится автограф этого стихотворения, посланный ему Савицкой весной 1902 г. в целях заочного знакомства (РГБ. Ф. 386. Карт. 101. Ед. хр. 30). Текст стихотворения приводится здесь с нашим подстрочным переводом:
Réponse à Jean
Ответ Жану
Имеется в виду дядя Людмилы, Сергей Петрович Алферов (см. примеч. 5 к письму 5), практически ослепший ко времени написания этого письма.
В папке с письмами Савицкой к Бальмонту хранятся, на отдельном листе, несколько ее французских стихотворений, датированных 28 января 1902 г.:
Les Plantes des Forêts
Fleurs du Couchant
Имеется в виду Е. А. Андреева-Бальмонт (см. примеч. 6 к письму 5).
Видный деятель французского анархического движения, Альберт Либертад (1875–1908), с которым А. П. Савицкая могла познакомиться во время своего пребывания в Париже, где она вращалась в кругах политических радикалов (см. вступительную статью к настоящему изданию).
«Родину» (1893), пьесу немецкого прозаика и драматурга Германа Зудермана (1857–1928), Людмила могла читать матери в переводе Бальмонта (Зудерман Г. Собрание драматических сочинений, перевод и редакция К. Бальмонта. М.: Изд-во Скирмунта, 1902–1903. 2 т.).
Вероятно, А. П. Савицкая привезла дочери в подарок от Бальмонта один или несколько томов его переводов из английского поэта Перси Биши Шелли (Сочинения Шелли. СПб.: Книжное дело, 1893–1899. 7 т.). Живя в Сабынино, Бальмонт работал над новым изданием полного собрания сочинений Шелли.
Цитата из стихотворения Бальмонта «Колыбельная песня» («Липы душистой цветы распускаются…»), вошедшего в сборник «Под северным небом» (С. 44).
Имеется в виду стихотворение «Ветер» («Я жить не могу настоящим…») из сборника «В безбрежности» (отдел «За пределы». С. 36).
Речь идет о стихотворении «Волна» («Набегает, уходит и снова, светясь, возвращается…»), отдел «Ангелы опальные», из сборника «Горящие здания» (С. 40).
Стихотворение «Аккорды» открывает одноименный отдел в сборнике «Тишина» (С. 83–84):
Речь идет о двух стихотворениях из сборника «Под северным небом»: «Горный король. Скандинавская песня» (С. 31–32) и «Два голоса» («Скользят стрижи в лазури неба чистой…». С. 65); а также о стихотворении «Тишина» («Чуть бледнеют янтари…») из отдела «Мгновения правды» в сборнике «Тишина» (С. 69). См. ниже полный текст «Тишины» (примеч. 7).
См. примеч. 2 к письму 1.
Цитата из стихотворения Бальмонта «Я устал от нежных снов…» («Горящие здания». С. 7):
Перевод стихотворения «Тишина» (см. примеч. 4 к этому письму):
Перевод стихотворения «Я устал от нежных снов…» (см. примеч. 6).
Перевод стихотворения «Опричники», отдел «Отсветы зарева», сборник «Горящие здания» (С. 21):
Цитата из несохранившегося стихотворения Людмилы: «О, верни мне мою очарованную страну / Страну лавра и роз, / Я устала бродить в прозе / Дай мне лавра и роз / Из царства Истины!» (фр.)
Свояк поэта, князь Д. А. Волконский (см. примеч. 5 к письму 5).
Повесть «Пан» (1894) Кнута Гамсуна была переведена другом Бальмонта, основателем модернистского издательства «Скорпион» Сергеем Александровичем Поляковым (1874–1943), впоследствии фигурировавшим, подобно Людмиле, в посвящении к сборнику «Будем как солнце». См.: Гамсун К. Пан. Из записок лейтенанта Томаса Глана / Пер. С. А. Полякова, предисл. К. Д. Бальмонта. М.: Скорпион, 1901.
Людмила сошлась с художницей Ольгой Лемпицкой (р. 1881; в замужестве Рожафи) в Лозанне, где Ольга жила с матерью (см. примеч. 5 к письму 20) и старшей сестрой до переезда во Францию. В Париже она изучала живопись в студии Коларосси, где познакомилась со своим будущим мужем, венгерским художником Дежо Рожафи (Dezső <Didier> Rózsaffy, 1877–1937). Людмила представила подругу Бальмонту, который не преминул увлечься новой знакомой. Ольга ждала Людмилу на вокзале, когда та вернулась в Париж весной 1902 г. Их дружба длилась несколько десятилетий, несмотря на переезд Ольги в Венгрию в 1910 г. (Souvenirs. Cahiers II. P. 20, 28).
Везет же тебе, ты познакомилась с Бальмонтом. Не понимаю, как тебе удается постоянно общаться с интересными людьми, даже живя в дыре, если позволишь так неуважительно отозваться о Короче (фр.).
В чем мне действительно повезло (фр.).
Придавать выражение лицу (фр.).
Перевод стихотворения «Аккорды» (см. примеч. 3 к письму 7).
Смотри! (фр.)
Когда ты мне рассказала о поэте по имени Бальмонт, я понял, что он тебя полюбит и с нетерпением ждал письма…
Вчера я получил три твоих письма, спасибо, моя обожаемая Люси, – твоя биография ужасно похожа на мою жизнь. Спасибо за то письмо – я понял – и люблю тебя! Я благословляю Бальмонта. Ты отнюдь не демон, ты просто верна себе, и я люблю тебя за все это и за то, что ты такая. Бальмонт открыл тебе истину, которая мне давно уже известна и которую я устал тебе повторять: ты не имеешь права разлучать нас. Это само по себе было бы преступно. Не нужно жалости. Бальмонт, как бы я хотел тебя обнять за такие слова! Он такой же, как мы!
Моя Люси, моя Люля, послушай, мне больше нравится называть тебя Люля, чем Люси, скажи, ты ведь не против, моя дорогая мама. Я тебя люблю, демон, я тебя люблю всеми силами – я тебя люблю – и я тоже демон, подобно тебе, и я люблю, не меньше тебя, того демона, который живет во мне. Возвращайся побыстрее, Люля, возвращайся побыстрее. Клянусь, что из меня просто выйдет неудачник, если ты продлишь эту ненужную и гротескную пытку. Я тебя люблю, моя Люси, нет, мы не сошли с ума. Мы были бы полоумными, если бы пробовали противиться той единственной и верной истине, той природе, которая создала нас друг для друга. Вернись, я тебя люблю. Пойми, что если я испытываю ужас перед всеми женщинами, кроме тебя, то лишь потому, что я все эти годы ждал твоего появления. Я не женщины искал, а тебя. Именно тебя я ждал, тебя я знал. Все, тебя любившие, повторяли, что ни одна женщина еще не давала им столько, как ты! Я же тебе никогда этого не скажу, я по-иному мыслю. Дело в том, что женщины никогда ничего мне не давали, и я им никогда ничего не давал. Ты есть ты, я тебя люблю, вот и все. Я тебе отдам все, и ты мне все отдашь, и я тебя хочу так же, как ты меня хочешь, понимаешь?
Понимаешь теперь, как я страдаю? Но, видишь ли, для мужчины это совсем не то же самое – и уж тем более для мужчины, озабоченного практической борьбой! В общем, тебе пора вернуться. Боль ожидания уже сказывается на мне физически. С некоторых пор у меня что-то вроде неясного чувства, какая-то боль, кажется, будто слабеет спина, это некая усталость с практически постоянной головной болью. Не причиняя мне страданий, это ощущение постоянно сопровождает меня, и я ясно чувствую, что это происходит из‐за нашей затянувшейся разлуки. Виной всему борьба с собой, свертывание в клубок – и я так четко знаю, что если бы ты была здесь, все это прошло бы. Я в себе чувствую такую внутреннюю силу и гибкость, и тем не менее я мало-помалу прихожу в изнурение. О, Люси, ты не должна унижать меня несправедливой жалостью. Нельзя, ради того, чтобы не ранить непонимающих, приносить в жертву тех, кто понимает и черпает жизнь в твоих словах, в твоем взгляде. Я вложил в тебя все свои силы, и ты не можешь меня оставить. Бальмонт прав. Впрочем, мне кажется, что ты можешь вернуться сейчас, мы повременим, конечно, но, по крайней мере, мы будем ждать вместе!
Речь идет об иске, учиненном бабушкой Людмилы своему сыну Дмитрию Петровичу Алферову, управлявшему родовым именьем в Лазаревке и оскорбившему мать тем, что отстранил ее от дел. Подав на сына в суд, Марья Петровна Алферова провела зиму 1901/02 г. в доме, который снимала в Короче ее дочь и мать Людмилы, Анна Петровна Савицкая. Увозя Людмилу из Западной Европы, подальше от французского жениха, Анна Петровна мотивировала возвращение в Россию необходимостью уладить семейные дрязги (Souvenirs. Cahier I. P. 40).
Речь идет о биографии Шелли, написанной ирландским поэтом и критиком Эдвардом Дауденом: Dowden E. The Life of Percy Bysshe Shelley. London: Kegan Paul & Co, 1886. Бальмонт частично перевел труд Даудена («Очерк жизни Шелли») и опубликовал в третьем томе своего переработанного издания: Шелли П. Полное собрание сочинений. СПб.: Знание, 1907.
Малыш Люси (фр.).
Малышу грустно, малышу хочется плакать, потому что его маменька никогда его не целует! (фр.)
Священник (англ.).
Старший сын хозяйки лозаннского пансиона Бриянмон (Brillantmont), где Людмила жила и училась в 1897–1900 гг. и провела некоторое время летом 1901 г. по пути из Парижа в Россию. Далее упоминаются члены семьи Ойби (Heubi): Марта (Marthe Neuschnvander) – незамужняя сестра хозяйки, преподававшая в пансионе музыку и рисование; Лили и Жанна – дочери хозяйки, также преподававшие в пансионе (Souvenirs. Cahier I. P. 46).
Ну, ну! Дело становится серьезным! (фр.)
Здесь: фройляйн – немецкая форма обращения к незамужней женщине.
Люси!!! А что же скажет тот другой? Если бы он знал!!! ‹…› Тот другой узнает об этом послезавтра, милая, потому что я ему обо всем пишу. Однако уверяю тебя, что даже будучи свидетелем моего поступка, который тебе представляется столь ужасным, он отреагировал бы лишь улыбкой одобрения! (фр.)
Конечно, что ему до того, если он Вам доверяет! Но вот подумали ли Вы, Люси, о молодом человеке, о Франсисе? Как прикажете ему понимать Ваше с ним обхождение? Сердце так легко воспламеняется в двадцать пять лет! – Не беспокойтесь, дорогая Жанна, Франсис достаточно меня знает, чтобы не ошибиться в моих намерениях. И, кроме того, скажите на милость, долго Вы еще будете читать мне проповеди? (фр.)
Приходит в голову, приходит на ум (фр.).
Цитата из одноименного стихотворения Бальмонта, впервые опубликованного в журнале «Мир искусства» (1901. Т. 5. С. 205) и вошедшего затем в сборник «Будем как солнце» (отдел «Змеиный глаз». С. 66):
Возможно, имеются в виду первые два стихотворения, открывающие сборник «Будем как солнце», который Бальмонт в это время готовил к печати: «Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце…» и «Будем как Солнце! Забудем о том…» (отдел «Четверогласие стихий». С. 1–2).
Видный деятель русской модернистской культуры, поэт, прозаик и литературный критик Зинаида Николаевна Гиппиус (1869–1945) регулярно печаталась в широко распространявшемся «Журнале для всех», чей редактор и издатель Виктор Сергеевич Миролюбов (1860–1939) был ее соратником по организации религиозно-философских собраний в Петербурге (1901–1903). Бальмонта, который посоветовал Людмиле почитать стихи Гиппиус, связывали с ней и с Миролюбовым приятельские и профессиональные отношения (см.: Бальмонт К. Письма к В. С. Миролюбову 1894–1907 / Публ. А. Муратова // Литературный архив. Т. 5. М.: АН СССР, 1960. С. 142–171).
Поэт Мирра Лохвицкая (Мария Александровна Лохвицкая, в замужестве Жибер, 1969–1905) была, подобно Зинаиде Гиппиус, знаковой фигурой раннего русского модернизма. Во второй половине 1890‐х Бальмонт вел с Лохвицкой интенсивный поэтический диалог, прочитанный современниками как свидетельство любовных отношений. Подобно Людмиле, Лохвицкая упоминается в посвящении к сборнику «Будем как солнце». Их литературный роман и возможная любовная связь отразились в решении Бальмонта назвать Миррой свою младшую дочь. Сын Лохвицкой, Измаил Жибер, покончит жизнь самоубийством из‐за неразделенной любви к Мирре Бальмонт (см. К. Бальмонт – Л. Савицкой, примеч. 1 к письму 99).
Стихотворение Зинаиды Гиппиус «Христу» (1901) впоследствии вошло в первый поэтический сборник автора: Гиппиус З. Собрание стихов 1889–1903 г. М.: Скорпион, 1904. С. 79–80.
Перевод стихотворения Бальмонта «К Бодлеру», отдел «Антифоны», сборник «Горящие здания» (С. 141):
«La Revue Blanche» (Льеж – Париж, 1889–1903), ведущий модернистский журнал, чья белая обложка (отсюда и название) была придумана по контрасту с другим центральным органом раннего французского модернизма, журналом «Le Mercure de France», выходившим под фиолетовой обложкой. В «La Revue Blanche» сотрудничали среди прочих Гийом Аполлинер, Альфред Жарри, Андре Жид, Гюстав Кан и Марсель Пруст. Лично зная Кана и его приемную дочь Люсьен, Людмила, видимо, рассчитывала на их помощь при отсылке переводов в редакцию «La Revue Blanche» (см. примеч. 3 к письму 18).
Дядя Людмилы, Сергей Петрович Алферов (см. примеч. 5 к письму 5; примеч. 6 к письму 6).
Поэт, прозаик и литературный критик Людмила Николаевна Вилькина (Виленкина, 1873–1920), жена поэта Николая Максимовича Минского (Виленкина). Бальмонт ценил поэтический дар Вилькиной (см. его письмо к ней из Сабынино от 24 января 1902: «Мы не чужие друг другу…» Письма К. Д. Бальмонта к Л. Н. Вилькиной / Публ. П. Куприяновского и М. Павловой // Лица. Биографический альманах. 2004. № 10. С. 273).
Людмила росла в Тифлисе, куда ее отца перевели по службе в 1889 г. (см. вступительную статью в настоящем издании). См. также примеч. 7 к письму 14.
Тетя Людмилы, Катерина Петровна Китаева (см. примеч. 3 к письму 1).
Подробнее о семейном конфликте, послужившем поводом для приезда А. П. Савицкой со старшей дочерью Людмилой из‐за границы осенью 1901 г., см. примеч. 3 к письму 10.
Принимая во внимание (фр.).
Здесь: предвзятость (фр.).
О, как мне жаль болезненных лиц, растаскивающих свое несчастье по углам рта! Изможденные, покоренные лица, погасшие и закатившиеся звезды, которые уже никогда не взойдут и не засветятся, никогда не узнают чистого эфира реальности, никогда не поймут, что Любовь – цена беспрепятственного подъема к Красоте, что только живущие за пределами времени могут любить друг друга бесконечно. Мой друг! что нам вещественная смерть, если души наши причастны вечной Любви (фр.).
О, наша совместная жизнь, жизнь чистая и напряженная. У меня сжимаются кулаки, и я чувствую свою силу. С тобой я неуязвим – я целеустремлен! Я готов к любым неприятностям, к любым злоключениям. Они проскользнут мимо нас, потому что мы любим друг друга. Я уверен в победе, потому что те, кто понимает и кто вместе, всегда побеждают. Мне хочется ржать, подобно лошадям! (фр.)
Перевод стихотворения Людмилы Вилькиной «Мой сад», впоследствии вошедшего в ее одноименный сборник (Мой сад. Сонеты и рассказы. М.: Гриф, 1906):
Сумасшедшая, трижды сумасшедшая, смеющая мне говорить, что мы с тобой не одно! Ты играешь мною, это опасно – ведь я тебя люблю (фр.).
См. примеч. 3 к письму 10. Людмила так вспоминала сцену примирения Алферовых: «Наконец, в один прекрасный день, блудный и кающийся сын явился, в мундире предводителя дворянства, пал на колени, целовал руки, клялся перед иконами и был прощен» (<пер. с фр.> Souvenirs. Cahier I. P. 40).
Людмила отправила поэту и главному организатору раннемодернистской культурной общности в Москве, Валерию Брюсову, письмо следующего содержания: «Короча. 7 марта 1902. Дон просил сообщить Вам, что он выезжает 14го и будет у Вас вечером 15го. Он выедет скорым, т. е. будет в Москве в 6 часов вечера. Ему хочется увидеть не только ближайших друзей, но и всех, кто его хочет видеть. Если вопреки ожиданиям (что математически невозможно) он изменит день отъезда, он Вам телеграфирует. Люси С.» (РГБ. Ф. 386. Карт. 101. Ед. хр. 30). Несколько конспиративный тон письма объясняется тем, что Бальмонт, высланный из столиц и университетских городов за политическую неблагонадежность, жил в Сабынино под наблюдением полиции (Андреева-Бальмонт Е. Воспоминания. С. 357). 15 марта 1902 г. Брюсов записал в дневнике: «Бальмонт в Москве. Бальмонту дозволено было уехать за границу и проехать через Москву, о чем он меня известил через Люси Савицкую» (Брюсов В. Дневники 1891–1910 / Под ред. И. Брюсовой, Н. Ашукина. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1927. С. 119). Бальмонт пользовался в дружеской переписке прозвищем Дон, восходящим к его стихотворному циклу «Дон Жуан» (1897; «Тишина». С. 138–143; см.: Бальмонт – Брюсову. 12.III.1902. С. 125). Прозвище обрело полную форму в рецензии Брюсова на «Будем как солнце»: «„Блуждая по несчетным городам, / Одним я услажден всегда – любовью“, признается Бальмонт. „Как тот севильский Дон-Жуан“, он переходит в любви от одной души к другой, чтобы видеть новые миры и их тайны, чтобы вновь и вновь переживать всю силу ее порывов» (Брюсов В. Далекие и близкие. Статьи и заметки о русских поэтах от Тютчева до наших дней. М.: Скорпион, 1912. С. 76).
Дневной свет режет мне глаза (фр.). Цитата из «развратного» стихотворения Людмилы, которое она постеснялась полностью привести в письме к Бальмонту (см. примеч. 4 к письму 3).
Твое поведение в этой истории безукоризненно и правильно, поскольку ты повела себя по совести; я это понял и разделяю то чувство, которым ты руководствовалась. Я также понимаю чувство, которое двигало Бальмонтом. Он по праву испытал это чувство, ведь я тоже тебя люблю! Ставя себя на его место, я понимаю. Но… (соображение сугубо частное, которого ты вполне можешь и не принять) по-моему, находясь в присутствии девушки, зная, что эта девушка является женщиной исключительных качеств и что она невеста другого, я бы испытал к этому другому большое уважение. Следовательно, я бы почел эту девушку святой (и пр.) – иначе я бы выказал неуважение к этой девушке и к ее выбору возлюбленного, поправ ее решения своим мнением, что ее избранник неспособен осчастливить ее – вот дилемма. Теперь послушай, моя дорогая, любимая больше всего на свете: если Бальмонт открыл тебе глаза на некоторые вещи, то он был прав и не прав, так как, влекомый исключительно своим желанием, он выказал меньше уважения к вещам, которые тебе неизвестны. Он грубо поторопил некоторые чистые ощущения, некоторые чувства девушки, он стал причиной твоего, возможно острого, кризиса, вот почему я говорю, что он не любил тебя ради тебя. Вспомни наш первый поцелуй – я бы ни за что не осмелился тебя поцеловать, если бы не знал, что ты этого хочешь не меньше меня – иначе я бы вечно раскаивался. Похоже, что дважды женатые мужчины менее щепетильны, менее опытны и менее почтительны (фр.).
Что же касается «физической стороны» дела, я ее так объясняю: мне случалось иногда, в экстазе перед красотой цветка, прикладываться губами к его лепесткам. Я знала, что цветок не ответит на мой поцелуй, что он в нем не нуждается, что он принадлежит другому миру – и, тем не менее, я его целовала, бесцеремонно комкая шелк лепестков. И комкала ли я его на самом деле? Не знаю. Вот. Не так ли? (фр.)
Ты бы не сказал, что для него я не свята (фр.).
Панно – здесь: живописная створка (фр.).
Поэт, драматург и переводчик Константин Случевский ценился русскими модернистами как предтеча «нового искусства» (см.: Волынский А. Современная русская поэзия // Северные цветы на 1902 год. М.: Скорпион, 1902. С. 234). Бальмонт был частым гостем в литературном салоне Случевского. Последний прислал Бальмонту в Сабынино свой новый сборник «Песни из уголка» (СПб.: Изд-во А. Ф. Маркса, 1902; см.: Письма К. Д. Бальмонта к К. К. Случевскому / Публ. О. Коростелева и Ж. Шерона // Русская литература. 1998. № 1. С. 93). Бальмонт, вероятно, одолжил книгу Людмиле.
В предыдущем варианте перевода стихотворения «К Бодлеру» (см. письмо 12) строка «Познавший таинства мистических ядов» была передана так: «Tu compris des poisons les usages mystiques».
Адвокат, журналист и критик искусства Тадеуш Натансон (Thadée Natanson, 1868–1951), был одним из основателей и редакторов журнала «La Revue blanche», в который Людмила отослала свои переводы из Бальмонта (см. письмо 13).
Перевод строки «И нежный, как вздох, Ботичелли, нежней, чем весною свирель» из стихотворения «Аккорды» (см. письмо 8).
В раннем варианте перевода «К Бодлеру» (см. письмо 12), строка «В одну симфонию трикратная мечта» была переведена так: «Des trois beautés en un céleste accord étreintes».
Речь идет о московском круге общения Бальмонта.
Нетти – Анна Александровна Полякова (1873–1957) – сестра Сергея Полякова (см. примеч. 12 к письму 7), за которой Бальмонт, по словам Брюсова, «очень ухаживал» (цит. по: Переписка с С. А. Поляковым (1899–1921) / Публ. Н. В. Котрелева // Валерий Брюсов и его корреспонденты. Литературное наследство. Т. 98.2. М.: Наука, 1994. С. 22, примеч. 7).
Дагни Кристенсен (1876–1962), норвежская переводчица и любовница Бальмонта, сотрудница издательства Сергея Полякова «Скорпион» (см.: Григорьева Л. Неизданная переписка К. Гамсуна и С. Полякова 1902–1907 гг. // Кунсткамера. Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии РАН; –5–88431–162–6/ <дата последнего просмотра 30.V.2018>). Подобно Мирре Лохвицкой и Людмиле Савицкой, Дагни Кристенсен упоминается в посвящении к сборнику «Будем как солнце». Осенью 1902 г. Кристенсен навестила Бальмонта в Париже, откуда он писал Виктору Миролюбову (10 октября): «Помните ли Вы одну ночь, когда мы бродили с Вами по улицам, и я рассказывал Вам о той норвежской девушке, которая приезжала ко мне в Петербург? С тех пор прошло два года, и она сейчас со мною здесь. Несколько недель мы были в сказке, теперь мечта кончается нежно и легко, как тает облако, чтобы возникнуть снова – где? – оно не знает» (Бальмонт К. Письма к В. С. Миролюбову. С. 154. См. также: Бальмонт – Брюсову. 9.X.1902. С. 140).
Сергей Аполлонович Скирмунт (1863–1932), меценат и владелец книжного магазина-издательства «Труд», в котором Бальмонт сотрудничал в качестве переводчика и редактора.
Младшая сестра Людмилы, Иоанна (Яся, р. 1887), осталась в швейцарском пансионе, когда А. П. Савицкая увезла старшую дочь в Россию осенью 1901 г.
«La Revue Blanche» очень сожалеет, что не в состоянии опубликовать перевод, к тому же отличный, стихотворений г. Константина Бальмонта (фр.).
Что это значит? (фр.) Людмила дает фонетическую транскрипцию разговорного произношения первой части вопросa: «Kêkça…» вместо «Que-ce que ça…».
Люсьен Кан (1880–1953), приемная дочь поэта Гюстава Кана, с которым Людмила подружилась в Париже в 1901 г. (Souvenirs. Cahier II. P. 4–5). См. примеч. 1 к письму 13.
Шарль Малато (1857–1938), франко-итальянский анархист, публицист, писатель, редактор парижской газеты «L’ Aurore», в которой состоялся литературный дебют Людмилы, опубликовавшей здесь в 1901 г. свои переводы стихотворной сатиры на обер-прокурора Святейшего синода К. П. Победоносцева и «Песни о буревестнике» Максима Горького (Souvenirs. Cahier II. P. 4–5).
Елисейские Поля, Латинский квартал (фр.).
Перевод стихотворения Бальмонта «Быть может, предок мой был честным палачом…» (отдел «Отсветы зарева», сборник «Горящие здания», с. 15–16; начиная со второго издания стихотворение печатается под заглавием «Красный цвет»):
Перевод стихотворения Бальмонта «Волна» (отдел «Ангелы опальные», сборник «Горящие здания», с. 40; см. упоминание этого стихотворения в письме 7):
В бумагах Л. Савицкой сохранился предыдущий вариант перевода «Волны»:
Слова в последнем стихе подчеркнуты переводчицей.
Полтора суток, проведенные Бальмонтом в Москве, состояли из непрекращающейся попойки, похода в публичный дом и серии скандалов. См. опубликованные купюры из дневника Брюсова (Богомолов Н. Вокруг «серебряного века». С. 236–238) и его же письма к Гиппиус за март 1902 г. (Переписка З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковского, Д. В. Философова с В. Я. Брюсовым. С. 290–291).
Цитаты из диалога Брунгильды и Зигфрида в третьем акте оперы «Зигфрид» (1876) Рихарда Вагнера (1813–1883). Людмила цитирует итальянское либретто оперы: «Здравствуй, солнце! Здравствуй, свет! О, здравствуй, здравствуй, радостный день! И ты здравствуй, краса мирозданья!»
Слава богам (там же).
О Зигфрид, дивный герой, носитель жизни и света! Лишь твой взор меня мог узреть, мой сон прервать мог лишь ты! Здравствуй, свет! Слава богам! (там же).
22 марта (3 апреля) Бальмонт послал Брюсову первую открытку из Парижа: «Снова смерть прошла мимо меня и даже не коснулась своей тенью. Поезд, на котором я уехал, сошел с рельсов, но из этого ничего не воспоследовало, кроме ужасов и воплей, в которых я не участвовал. Я пленен Парижем. Вечно-прекрасный город. Но еще гляжу на него почти мертвыми глазами. Все еще сердцем там, откуда уехал, и, говоря словами Шелли, я застыл, как тот, чье тело не может быть там, где его душа» (Бальмонт – Брюсову. С. 125).
См. примеч. 1 к письму 13 и примеч. 3 к письму 18.
Вероятно, цитата из несохранившeгося стихотворения Людмилы: Я дошла бы до самой звезды, / Даже если бы пришлось нести мою мечту / Всю жизнь без остановки! (фр.)
Юный герой, звездный подросток. Фразы из итальянского либретто «Зигфрида» (см. примеч. 2 к письму 19), с которыми Брунгильда обращается к герою в третьем акте оперы.
Мать Ольги Лемпицкой (см. примеч. 13 к письму 7) Вера Сергеевна (1850–1918), в девичестве Гончарова, приходилась племянницей жене А. С. Пушкина (ее отец, С. Н. Гончаров, был младшим братом Н. Н. Гончаровой). Движимая революционным энтузиазмом, Вера Гончарова вышла замуж за незнакомого ей народника, Исаака Яковлевича Павловского (1853–1924), осужденного во время «процесса 193‐х» (1877–1878). Она помогла Павловскому освободиться из тюрьмы и бежала с ним за границу. Вера Гончарова послужила прототипом героини незаконченной повести Софьи Ковалевской «Нигилистка» (1892). В 1883 г., после развода с Павловским, от которого у нее было двое детей, Надежда (р. 1880) и Ольга (р. 1881), В. С. Гончарова вернулась в Россию и вышла замуж за Александра Францевича Лемпицкого, увезшего семью в Лозанну, откуда, в начале 1900‐х и уже без мужа, Вера Сергеевна с дочерьми переехала в Париж.
Цитата из стихотворения Людмилы (см. примеч. 13 к письму 4).
См. примеч. 5 и 6 к письму 1.
Из воспоминаний Людмилы Савицкой: «Мой брат вернулся в Россию в возрасте 25 лет, чтобы начать карьеру адвоката. Местом жительства он выбрал Одессу, самый европейский из русских городов, чья роскошь соблазняла его ‹…› Отец, считавший, что карьеру следует начинать скромно и трудолюбиво, не одобрил подобного выбора и прекратил поддерживать его. Мать, на собственные средства, помогла ему обустроиться профессионально ‹…› Я плохо знаю последующую жизнь брата. Знаю, что, столкнувшись с трудностями и обязанностями своей специальности, он забросил адвокатуру, занялся журнализмом, выбился в люди, приобрел в С.-Петербурге репутацию новатора, человека современного и с универсальным умом, и стал администратором Русско-английской торговой палаты» (<пер. с фр.> Images de ma vie. P. 101). Владимиру Савицкому принадлежит очерк «Война и искусство» (Новости и биржевая газета. 1905. № 155. 21 июня. С. 2), где речь идет о Русско-японской войне в произведениях Бальмонта и других современных поэтов.
Имеется в виду Катерина Петровна Китаева (см. примеч. 3 к письму 1).
По пути в Париж Бальмонт поделился с Брюсовым желанием расстаться с женой, Е. А. Андреевой-Бальмонт, сопровождавшей его из Сабынино до Москвы. Этот эпизод выпущен в первой опубликованной версии дневника Брюсова (15 марта 1902): «Я встречал Бальмонта на вокзале ‹…› На извозчике он сказал мне: „Вы знаете, что мы решили было совершенно разъехаться, только эта поездка (то есть в Москву) показала нам, что мы, может быть, можем еще жить вместе“». Примирение с женой не помешало Бальмонту провести ночь перед отъездом за границу в публичном доме. «На вокзале встретила К. А. – „Где вы его напоили?“ – спросила она меня не совсем приветливо. В вагоне Бальмонт опять начал рыдать, теперь перед женой» (цит. по: Богомолов Н. Вокруг «серебряного века». С. 237–38).
Не понимаю (итал.).
Да исполнится воля Твоя, о Господи (фр.).
Прожив в Париже три недели, Бальмонт собрался в Оксфорд, чтобы поработать с рукописями Шелли в Бодлеянской библиотеке, так как он в это время готовил новое издание своих переводов английского поэта (Полное собрание сочинений. 3 т. СПб.: Знание, 1903–1907). Он так сообщал о своем намерении парижской знакомой, Софье Балаховской-Пети: «17 avril 1902. Paris. Hôtel Sydney, 50, rue des Mathurins. Не могу ли я придти к Вам, София Григорьевна, эту субботу, в 5 часов или в 8½, как Вам удобнее. Уезжаю в Англию. Хотел бы еще раз Вас увидеть. Можно? Ваш К. Бальмонт» (BDIC, Fonds Eugène et Sophia Petit, F delta rés 571 <1> <6>). Поэт выехал в Оксфорд 9 (22) апреля и оставался там до конца июня, когда предпринял с приехавшей в Западную Европу женой трехнедельное путешествие по Бельгии, Голландии, Германии и Дании. Он вернулся в Оксфорд 10 (23) июля, расставшись с уехавшей в Россию Е. А. Бальмонт. В начале сентября он перебрался из Оксфорда в Париж (Куприяновский П., Молчанова Н. Поэт Константин Бальмонт. С. 124–129; Бальмонт – Брюсову. С. 126–140), выписав туда же Дагни Кристенсен (см. примеч. 12 к письму 16), так как без женского внимания жить не привык.
Открытка: Москва. Николаевский вокзал.
Людмила сопровождала свою тринадцатилетнюю кузину, Наташу Китаеву (см. примеч. 4 к письму 1) из Корочи в Петербург, где та должна была поступить в гимназию.
Москва. 12 (25) апреля. Пятница (фр.).
Дочь К. Д. Бальмонта и Е. А. Андреевой-Бальмонт, будущий литератор и переводчик Нина Константиновна Бруни-Бальмонт (1900–1989).
Мария Алексеевна Волконская, сестра Е. А. Андреевой-Бальмонт и жена князя Д. А. Волконского (см. примеч. 5 и 6 к письму 5).
Людмила так вспоминала о своих тете с дядей, Катерине Петровне и Николае Егоровиче Китаевых: «Катя, одаренная умом практическим и совершенно лишенная интереса к литературе и искусству, кокетка в юности и „домовитая“ в замужестве, ревнивая и слезливая, курица-наседка, невозможно балующая своих детей, и, тем не менее, добрая и отзывчивая, – принадлежала к довольно распространенному типу женщин ‹…› Моя тетя вышла замуж за некоего г. Китаева, директора Уральского горного училища в Екатеринбурге, человека значительно старше ее по возрасту, очень некрасивого, ограниченного, но доброго и нежного, которому она оставалась преданной до конца жизни» (<пер. с фр.> Images de ma vie. P. 114–115, 118).
Имеется в виду возвращение Бальмонта из Оксфорда в Париж (см. примеч. 1 к письму 24).
Свояченица (фр.).
Перевод стихотворения «Я действительности нашей не вижу…» (1896) из сборника: Брюсов В. Me eum esse. Новая книга стихов. М.: Т-во тип. А. И. Мамонтова, 1897 (отдел «Заветы», с. 13):
Перевод стихотворения «И когда меня ты убьешь…» (1897) из сборника: Брюсов В. Tertia vigilia. Книга новых стихов 1897–1900. М.: Скорпион, 1900 (отдел «Повторения. К Книге Раздумий», с. 154; впоследствии стихотворение печаталось под названием «Близкой»):
Перевод стихотворения «О, плачьте, о плачьте…» (1896; сборник «Me eum esse», отдел «В борьбе. Прошлое», с. 61):
Стихотворение Брюсова «Юному поэту» («Юноша бледный со взором горящим…», 1896) вошло в сборник «Me eum esse» (отдел «Заветы», с. 11). Стихотворение «Памяти Е. И. Павловской» («Мы встретились с нею в пустыне…», 1897) вошло в сборник «Tertia vigilia» (отдел «Книжка для детей», с. 123). Переводы сохранились в автографах, посланных Людмилой Брюсову весной 1902 г. (РГБ. Ф. 386. Карт. 101. Ед. хр. 30). Приводим их ниже в сопровождении оригиналов:
Au jeune Poète
Юному поэту
Памяти Е. И. Павловской
Перевод стихотворения «К скифам» («Если б вовремя к вам я прибыл…», отдел «Любимцы веков», сборник «Tertia vigilia», с. 9–10) не сохранился. Автографы перевода «Братьям соблазненным» (1899; отдел «Повторения. К Книге Раздумий», сборник «Tertia vigilia», с. 166–167) сохранились среди писем Савицкой к Бальмонту, а также в бумагах Брюсова (РГБ. Ф. 386. Карт. 101. Ед. хр. 30). В поздней редакции стихотворение «Братьям соблазненным» отличается от нижеприведенного первого опубликованного варианта, послужившего моделью для переводчицы:
Aux Frères Séduits
Братьям соблазненным
Стихотворением «Братьям соблазненным» заканчивается цикл из шести переводов («Au jeune Poète», «Je ne vois pas le reel de la vie…», «Un matin dans le desert…», «Je serai mort. Toi qui me tues…», «Sanglottez – jusqu’au jour…», «Aux Frères Séduits»), датированных 22–23 апреля 1902 г. и отправленных Людмилой Брюсову одним письмом, начало которого не сохранилось. Письмо заканчивается следующим образом: «Я долго сидела одна в комнате. И вдруг я увидела, что в этой комнате есть другой человек, который не замечает меня. Я невольно окликнула его. Хотела ли я узнать, кто он? Хотела ли я дать знать ему о себе? Не знаю. Это вышло невольно и бесцельно. Lucy» (РГБ. Ф. 386. Карт. 101. Ед. хр. 30).
Перевод стихотворения Бальмонта «Я мечтою ловил уходящие тени…» (1894), открывающего сборник «В безбрежности» (С. 1):
Перевод стихотворения «Как волны морские» (1897), вошедшего в сборник «Тишина» (отдел «Ветер с моря», с. 46):
Первые строки стихотворения Мирры Лохвицкой «Вечер в горах», вошедшего в третий том ее «Стихотворений» (СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1900).
Здесь: сентиментальная, манерная поэзия (фр.).
Первые строки из стихотворения Брюсова «Как царство белого снега…», вошедшего в сборник «Me eum esse» (отдел «Заветы», с. 12).
Речь идет об актере и режиссере Андре Антуане (1858–1943), чья парижская труппа, основавшись в 1897 г. в театрaльном помещении Menus-Plaisirs, переименовала его в Театр Антуан. Людмила увлекалась постановками этого театра в 1901 г. и могла знать Антуана по одной из театральных проб, на которые ходила, надеясь подвизаться на парижских подмостках. На театральной пробе она познакомилась и со своим будущим женихом Рене Пийо (Souvenirs. Cahier II. P. 5, 12–13).
Золушка (от фр. Cendrillon).
Первый поэтический сборник З. Н. Гиппиус вышел двумя годами позже (Собрание стихов. 1889–1903 г. М.: Скорпион, 1904).
В бумагах В. Я. Брюсова сохранилось письмо от Людмилы Савицкой следующего содержания:
<Приписка сверху.> Не послано Бальмонту (начало)
Сижу и смотрю на свой высокий тонкий каблук. Наступить бы им на грудь Вашего Брюсова! У-ух, Бамонт!
Когда я смотрю на белую гладкую поверхность только что выпавшего снега, я не могу оставаться равнодушной, я с радостью твердо ступаю на эту сверкающую белизну, глубоко выдавливая на ней свои – мои, мои– следы, и упиваюсь ее скрипучим стоном!
Когда я вижу вольную, гордую, несвязанную душу – моя рука невольно притягивается, чтобы схватить ее за узду. «Постой, не зазнавайся! Вот – я!»
Не удивляйтесь, если на днях я окажусь в Москве, чтобы посмотреть, таков ли он, как в стихах. <Далее приводится полный текст стихотворного обращения к Брюсову – «А! Ты горд? Твоя душа свободная» – из письма 28.>
10 мая 1902 г. Бальмонт писал Брюсову из Оксфорда: «Кстати: благодарите меня за новую „поклонницу“. Если увидите Люси – она для Вас хочет ехать в Москву, – будьте с ней как со мной. Быть может, Вы не сразу увидите, она единственна, как Дагни, как Зина М<ережковская>, как Вы, как я» (Бальмонт – Брюсову. С. 129). В своих воспоминаниях, написанных полвека спустя, Савицкая утверждает, что впервые виделась с Брюсовым в Москве, по пути из Корочи в Петербург (Souvenirs. Cahier II. P. 20). Однако прямых доказательств их московской встречи обнаружить не удалось. Весной 1903 г. Людмила встречалась с Брюсовым в Париже (Брюсов В. Дневники 1891–1910. С. 132). До тех пор их знакомство, вероятно, оставалось эпистолярным.
Свершилось. Я директор театра Гревэн. Замечательный зал. Собираю труппу. А тебя все нет. Моим партнером стала Клер Марс, свояченица Болье, а ты ждешь паспорта в Санкт-Петербурге! Очаровательно!! О, друг мой, друг мой, возвращайся. Неужели ты не понимаешь? Тебе следует вернуться. Нужно, чтобы Марс тебя узнала… Узнав тебя, она перестанет страдать. А страдает она, я думаю, оттого, что влюблена в меня. Возвращайся, наконец. Или, может, ты думаешь, что мои письма пустая болтовня? Разве ты не знаешь, что я чуть с ума не сошел? Марс необходимо тебя увидеть. Тогда она поймет, почему ты меня любишь, почему я тебя люблю, и ее пытка кончится. Я все это прочувствовал. Я хотел познакомить ее с Жаном. Да так и сделал, но, вопреки ожиданию, я заметил, что после этого она еще больше привязалась ко мне. Возможно, я заблуждаюсь, чего и желаю всей душой. Но, думаю, увы, что я не ошибся и понял правильно. К тому же, я ее очень люблю, она искренна, она чиста, она сильна, она неспособна принести свой идеал в жертву узкому чувству привязанности, она молода и самостоятельно прокладывает свой жизненный путь вне законов, вне семьи. Не следует ее мучить, не так ли? Теперь ты понимаешь – тебе пора вернуться.
Ах, возвращайся! Я в полной растерянности. Возвращайся, ты мне нужна.
Успокойтесь, успокойтесь, друг мой, не мучайтесь так из‐за меня! Мадмуазель Клер Марс любит Вас? Тем лучше для нее. Любовь всегда красива, благородна и величественна. Ответьте ей взаимностью по мере сил. Любите ее как меня, больше, чем меня – разве я против? И не думайте, что это причинит мне страданье. Повторяю Вам в сотый раз: если Вы больше меня не любите, я пойму, что Вы не тот, кого я люблю; тот, кого я люблю, никого любить не может, кроме меня; тот, кого я люблю, навсегда останется во мне, если он не существует вне меня. Скажу Вам больше – мне случается сомневаться в Вас, и эти сомнения приходят тогда, когда Вы сомневаетесь во мне. К примеру, Вы говорите, не без лицемерия: «Она искренна, она чиста, она сильна, она неспособна принести свой идеал в жертву», и т. д. Уф! Какой едва скрытый упрек! Вам не хватает смелости сказать мне прямо, что я слаба и малодушна? Вы считаете, что эту мысль лучше держать под сурдинкой? И – простите за нескромный вопрос – Вы меня любите с такими мыслями? Или же Вы ждете моего приезда, чтобы выбрать между мной и мадмуазель Марс? В таком случае, какой у нее изъян? Она недостаточно красива? Думаю, все-таки, что она красивее меня, поскольку я вовсе не красива в обычном смысле слова. Только помешанные типа Бальмонта находят меня красивой.
Послушайте, друг мой, – пусть это «Вы» не удивляет Вас, оно представляется мне естественным и безобидным. Не ищите желания Вас ранить в том, что я только что сказала. Но знайте, что это искреннее выражение моей мысли. Главное, не приписывайте мне жалкого чувства ревности. Я сейчас слишком холодна, слишком бесстрастна, слишком влюблена в самое себя, чтобы испытывать ревность. Я пойму Вас, сохраняя полное спокойствие, я не перестану испытывать к Вам чувства чистой дружбы, доверия и уважения, и Вы будете – и ты будешь всегда, всегда моим милым Малышом, и ты всегда сможешь обратиться к своей маме в минуты страдания и усталости.
Так что же, я сумасшедшая или я остыла к Вам? Мне кажется, что так было бы даже лучше. Оставаясь твоим другом – я навсегда останусь твоей мамой, твоей младшей сестрой Терезой… Став твоей женой – не превратилась ли бы я в источник твоих мучений? Ты ведь знаешь, я слишком экстравагантна, слишком независима! Да вот, к примеру: я тебя люблю, не так ли. И, тем не менее, я люблю Брюсова и люблю Бальмонта. Представим себе, что я твоя жена. Я говорю тебе – я еду в Москву. Ты вправе думать, что у тебя есть основания для протеста? А вот и нет! Я хочу быть так же свободна с тобой, как вдали от тебя. Я хочу иметь возможность поехать в Москву и дать себя целовать этому мужчине – если его поцелуи откроют мне глубину его души. Я хочу быть свободной… Но смогу ли я с легкостью предоставить тебе твою свободу? А если мне больно будет так поступить? Мое страдание сделает нас обоих несчастными. Вот такая моя любовь. Хочешь ли ты ее? Подумай хорошенько, прошу тебя. Понимаешь ли ты меня и считаешь ли ты, что я подхожу тебе в жены? Мы любим друг друга, – но способны ли мы на совместную жизнь? Ну что ж, увидим, не так ли, когда я буду в Париже?
О, мой Малыш, я вся таю от нежности при одной мысли, что ты одинок и нуждаешься в маме. Знаешь, зачем я еду в Париж? Чтобы понять, насколько я забыла французский и как мне побыстрее поступить в театр. Я хочу встретиться с Антуаном. Послезавтра я получу телеграмму от отца, ответ насчет паспорта. Я не стану жить в пансионе, который ты мне рекомендуешь. Я хочу, чтобы мы были полностью независимы друг от друга. Уф! По-моему, я сказала тебе все, что лежало у меня на душе. Напиши мне подробнее о зале Гревэн. А как же Эвьян? Я была бы почти рада, если бы ты туда не поехал, так как это опять поставило бы меня в ложное положение, продолжив историю между тобой и моими родителями.
Не тяни с ответом, милый Малыш, мой маленький, я тебя люблю. Клер – это красиво. Я обожаю это имя с самых первых книг, прочитанных в детстве. Я хотела бы ее поцеловать за такое имя. Если ты ее любишь, я буду мамой вам обоим. Я будто во сне.
Полвека спустя Людмила так вспоминала этот период своей жизни: «В Париж я возвращалась совсем не в том экзальтированном состоянии, которое можно вообразить после выдержанного мною испытания. В своем предпоследнем письме Рене взывал ко мне все более отчаянно. А последнее содержало, чуть ли не в виде угрозы, признание в растущем увлечении одной девушкой, вперемежку с оговорками, что пока между ними „ничего не было“. Одно это должно было отбить у меня охоту ехать к нему или, по крайней мере, поколебать меня в подобном намерении. Но жребий был брошен, я уже не могла отказаться от завоеванной свободы. Будь что будет, но она у меня теперь была и я собиралась ею воспользоваться, пусть даже в одиночку. В любом случае, я не хотела ограничивать свободу Рене в наших с ним отношениях» (<пер. с фр.> Souvenirs. Cahiers II. P. 20).
Смотри-ка! А ведь неплохо получается! (фр.)
Подстрочный перевод стихотворения Людмилы Савицкой:
Письмо Людмилы Савицкой к Е. А. Андреевой-Бальмонт (IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ1, папка «Lettres de Ludmila Savitzky à Constantin Balmont»):
Знаете, отчего я Вам не писала? Мне было так противно называть Вас Екатериной Алексеевной! Вчера получила письмо от Бамонта и после того, что узнала из него о Вас, могу называть Вас Катей. Правда? Милая, я так счастлива, что Вы меня любите! Это делает меня лучше, выше, чище!
В настоящий момент, я должна рассказать Вам свою душу. Но – ах, эти ничего не выражающие слова! Вот как лучше, слушайте:
I. Предисловие
Я давно начала чувствовать – смутно, очень смутно, но все яснее и яснее, что René слабее меня. И, к моему ужасу, это чувство растет и растет, и я все отдаляюсь и отдаляюсь от René. Иногда это наполняет мою душу невыразимым, захватывающим счастьем, иногда повергает меня в какую-то ледяную бездну одиночества и отчаянья. Мне нужно увидеть его. Отец задерживает меня с заграничным паспортом. Телеграфировала, что паспорт мне нужен, как можно скорее. А пока занимаюсь переводами. Брюсов приводит меня в какое-то яростное волнение:
II. Мои русские стихи
<Далее следуют два стихотворения к Валерию Брюсову: «А! Ты горд? Твоя душа свободная…» и «Ах, за силу, силу гордую…». См. полные тексты в письме 28.>
Чтобы отдохнуть, я пишу Бамонту. Мне так хорошо с ним. Вот:
<Далее следуют пять стихотворений, полные тексты которых приводятся в письмах 28 и 29: «Тихо-тихо дремлет Лелли…», с комментарием в скобках: «Колыбельная песня мне самой. Из письма к Бамонту»; «То, что я хочу – всегда, всегда сбывается…»; «На языке воздушных слов…»; «Oh laisse, laisse-moi ne point t’aimer!..»; «Опять одна, опять вольна…»>
Катя, Вы мне напишeте? Пожалуйста! Напишите о Ниньчике. Я часто думаю о ее мордочке и о ее маленьких пальчиках. Передайте мой привет Марии Алексеевне, и Марии Федоровне и детишкам. Наташа шлет поклон им всем. Она уже выдержала экзамены и ходит теперь в Литейную гимназию. Бедная Наташка, она уже совсем изнервничалась в Петербурге. Жоржик презабавный, со своей безобразной мордочкой. Вчера он заявил, что «встретил на гъязной чëйной лестнице собак». А как их зовут? – «А я не знаю, чья их фамилия!»
Бывает у Вас Вовочка? Я знаю, что он стесняется с Волконскими, но Вас очень любит. Он такой славный и бедный, правда? Катя, я часто, часто думаю о Вас. Не могу понять, зачем шел дождь, когда мы были вместе. Что у Вас теперь? Солнце? Сады расцвели? А здесь, Боже, как холодно, сыро, какое все чужое.
Я целый день пишу. Бываю время от времени в театре. Уф! Ну уж и Савина! Какая кухарка! Яворская возмутительно искусственна, и потом этот ужасный голос!
Завтра получу от папы ответ насчет паспорта. Если он еще затянет дело – ну право же поеду в Москву посмотреть на Брюсова!
Здесь меня что-то давит. Мне кажется, что если бы вдруг проглянуло солнце – для меня все стало бы ясным. Мама неизвестно когда освободится. Бабушка поправляется медленно и не предпринимает никаких решений, или, вернее, ежедневные решения ее слишком разнообразны и неустойчивы.
Катя, знаете, ли Вы, чтó Вы для меня теперь? Вы и Бамонт? Я не знаю, как это называется, но это что-то очень большое, незаменимое. Поцелуйте меня, как тогда, в столовой, у Волконских. Я хочу быть всегда Вашей маленькой
Перевод «Не мучь меня, когда, во тьме рожденный…» из третьего тома «Стихотворений» Мирры Лохвицкой:
Стихотворение Бальмонта «В аду» из сборника «Горящие здания» (отдел «Совесть», с. 76). Переписывая текст, Людмила подчеркнула места, имеющие для нее особое значение.
Подстрочный перевод стихотворения Людмилы Савицкой:
До востребования, Париж (фр.).
Господин Бальмонт, спасибо за письмо. У нас постоянная работа, но, к сожалению, нас заставляют ставить низкокачественные комедии?? Дирекция музея (театральный зал Гревэн существовал при одноименном Парижском музее восковых фигур. – Л. Л.) поставила это условием того, чтобы лишь в октябре дать нам, наконец, играть серьезные вещи… Мы не падаем духом. Ваш. Рене Пийо (фр.).
Имеется в виду Вера Сергеевна Лемпицкая (см. примеч. 5 к письму 20), мать близкой подруги Людмилы – Ольги Лемпицкой (см. примеч. 13 к письму 7). Вскоре после переезда семьи Лемпицких из Лозанны в Париж второй муж Веры Сергеевны обанкротился. Людмила застала ее с дочерьми в тяжелом материальном положении. Вера Сергеевна перебивалась литературными заработками, в основном переводами, и скромной помощью первого мужа (отца ее дочерей), подвизавшегося в Париже на журналистском поприще. В 1911 г., вскоре после отъезда Ольги с мужем в Будапешт, Лемпицкая вернулась в Россию вместе со старшей дочерью Надеждой, которую нужда заставила подрабатывать натурщицей в парижских художественных академиях (Souvenirs. Cahiers I. P. 50; Cahier II. P. 28).
В середине лета 1902 г. Е. А. Андреева-Бальмонт, оставив дочь Нину в России, приехала повидаться с мужем. 23 июля, после трехнедельного путешествия с женой по Западной Европе, Бальмонт вернулся в Оксфорд, а Екатерина Алексеевна уехала в Россию.
Бальмонты уехали из Брюсселя в Нюрнберг 17 или 18 июля (Бальмонт – Брюсову. 17.VII.1902. С. 133).
Кризис (фр.).
Имеется в виду французский поэт-модернист Альбер Самен (1858–1900). Далее речь пойдет о его лирической поэме в двух частях, «Клеопатра» (1891), положенной на музыку Альфредом Кульманом.
Утесы (фр.).
Европейский квартал, вокзал Сэн-Лазар (фр.).
Имеется в виду третий муж Людмилы, Марсель Блок (1881–1951), главный инженер железнодорожной линии Париж – Орлеан, старший брат писателей Жан-Ришара Блока и Пьера Абраама, в будущем видный деятель Сопротивления. Подробнее см.: Abraham P. Mon frère, mécanicien // Les trois frères. Paris: Les Éditeurs français réunis, 1971. P. 74–98. Некрологи: M. Marcel Bloch est mort // Ce Soir. 1951. 29–30 octobre. P. 3; Notre camarade Marcel Bloch est mort // L’ Humanité. 1951. 29 octobre. P. 2.
Бальмонт эмигрировал из Советской России в июне 1920 г. С августа того же года по июль 1921-го он жил в Париже, а затем переехал в Бретань, где поселился до октября 1922 г., приезжая в Париж по делам. Так, он провел в Париже последние десять дней 1921 г., чтобы «хлопотать об издании книг» и, в частности, «устроить здесь свои литературные дела» в издательстве Bossard, с которым он подписал контракт на «книгу об Океании, Мексике, Индии и Египте» в переводе Савицкой (Бальмонт – Шаховской. 12 и 30.XII.1921. С. 75; Savitzky – Spire. 2.I.1922. P. 308). Людмила регулярно встречалась с Бальмонтами и подолгу беседовала с поэтом во время его пребывания в Париже (Записные книжки. 24, 26 и 28.XII.1921). Из ее записей следует, что работа над боссаровским сборником началась в последнюю неделю декабря 1921 г. (28 декабря она встречалась с заведующим русской серией издательства «Боссар», Дени Рошем, вероятно, для подписания контракта).
В эмиграции Бальмонт переиздал стихотворный сборник «Сонеты солнца, меда и луны», впервые опубликованный в Москве в 1917 г.: Бальмонт К. Сонеты солнца, меда и луны. Песня миров. Берлин: Изд-во С. Эфрон, 1921. В библиотеке Л. Савицкой хранится экземпляр книги с дарственной надписью автора: «Всегда дорогой мне Люси, светлой и певучей. К. Бальмонт. 1921. Декабрь. Париж. 1922. 1 января. Бретань». Ниже приписка рукой Бальмонта: «Последний огляд гармонии, в России той, которая погибла, сонеты, написанные, почти все, в лето и осень 1916-го года, в имении Ладыжине».
Бальмонт К. Край Озириса. Египетские очерки. М.: Тип. т-ва И. Н. Кушнерев, 1914. Из этого сборника Бальмонт намеревался включить в «Visions Solaires» следующие очерки: «Преддверье в Египет», «Нил», «Солнечное Единобожие», «Бог Воскресения», «Зверопоклонство», «Звери-Водители», «Солнцепоклонничество».
Людмила отклонила предложенное название. См. продолжение поиска названия в письмах 7 и 12.
Из не собранного в отдельные книги Бальмонт хотел включить в боссаровский том следующие тексты: «Легкие призраки» (источник не установлен); «Дыхание Ганга» (см. примеч. 3 к письму 9); «Страна-поэма: две недели в Японии» (Биржевые ведомости. 1916. № 15613. 12 июня. С. 2); «Фейное творчество: о японской поэзии» (Биржевые ведомости. 1916. № 15627. 19 июня. С. 2); «Играния раковины (Из японских впечатлений)» (Биржевые ведомости. 1916. № 15683. 17 июля. С. 2); «Япония: белая хризантема» (Утро России. 1916. № 359. 25 декабря. С. 3–4, 6); под «Японскими песнями», видимо, имелся в виду цикл из семи стихотворений «Япония» (Утро России. 1917. № 50. 19 февраля. С. 2); «Океания» (источник не установлен); «Из южных далей» (Русское слово. 1912. № 175. 29 июля. С. 4); «Острова счастливых» (Русское слово. 1913. № 115. 19 мая. С. 4); «Островитяне» (Современное слово. 1913. № 2098. 10 ноября. С. 2); «О Маори» (Северные записки. 1913. № 11. Ноябрь. С. 3–6). Окончательный состав боссаровского тома несколько отличался от плана, предложенного Бальмонтом в настоящем письме:
В библиотеке Л. Савицкой хранится экземпляр книги: Бальмонт К. Змеиные цветы. М.: Скорпион, 1910. Отсюда автор намеревался включить в боссаровский сборник очерки: «Страна красных цветов», «Путевые письма», «Цветистый узор», «Преображение жертвы», «Пересвет помыслов».
Андре Фонтенас (1865–1948) – поэт, прозаик, критик, пионер французского модернизма, с которым Людмила подружилась в литературном салоне Андре Спира. В качестве постоянного сотрудника журнала «Le Mercure de France», чьим поэтическим отделом он заведовал, и располагая обширными издательскими связями, Фонтенас помогал Савицкой печататься во французской периодике. Его жена, Маргарита Фонтенас (1898–1978), тоже писала стихи, но была больше известна как художница.
Речь идет о докладе, который Бальмонт читал по-французски 24 декабря 1921 г. в парижском театре Vieux Colombier по случаю столетию со дня рождения Ф. М. Достоевского (см. письма 4–5 и примечания). Русская версия доклада появилась в печати несколько дней спустя: Бальмонт K. О Достоевском // Последние новости. 1921. № 521. 27 декабря. С. 2 (доклад вошел в сборник: Бальмонт К. Где мой дом? Очерки (1920–1923). Прага: Пламя, 1924. С. 54–61). Людмила присутствовала на докладе, а затем провела вечер с Бальмонтами в Café Lutétia и в ресторане Trianons (Записные книжки. 24.XII.1921).
Елена Константиновна Цветковская (1880–1943) – третья (гражданская) жена Бальмонта, с которой поэт познакомился в Париже в ноябре 1902 г. Знакомство Елены с Людмилой относилось к тому же периоду: так, в апреле 1903 г., обе присутствовали на парижской лекции Валерия Брюсова, закончившейся скандалом, и на последовавшем обсуждении в кафе (см. дополненную и исправленную версию дневниковой записи Брюсова: Иванов В., Зиновьева-Аннибал Л. Переписка 1894–1903 / Под ред. Д. Солодкой, Н. Богомолова, М. Вахтеля. М.: Новое литературное обозрение, 2009. Т. 2. С. 496, примеч. 34).
После деловой встречи и обеда с Джоном Родкером и Эзрой Паундом в Париже 12 января, Людмила отправилась в St. Brévin к Бальмонтам, где застала лишь Елену Цветковскую и Мирру (Записные книжки. 12 и 14–15.I.1922). Бальмонт уехал в Ниццу 10 января под предлогом публичного чтения стихов перед местной эмигрантской аудиторией. Он провел там полторы недели, возобновив, после двухлетнего перерыва, любовную связь с Дагмар Шаховской (Бальмонт – Шаховской. 7, 19 и 21.I.1922. С. 77–78). Елена Цветковская писала Людмиле Савицкой (27.I.1922): «Милая Люси ‹…› После Вашего волшебного налета – подарка новогоднего, – мне было очень худо, и до сих пор. А Бальмонт все не приезжал и не приезжал ‹…› Он вернулся лишь в воскресенье, 22-го ‹…› Выступление в Ницце было плачевное – 30 человек слушателей и минус 400 fr. Русская публика вражественна Б. – одни говорят, что это он сделал революцию, другие, что он несметный богач, третьи – еврей (!!!), четвертые забронированы в бриллианты и никакого им дела нет до кого бы то ни было. И еще, и еще не счесть низостей. Только с Б. об этом не говорите. Зато его возили друзья на автомобиле по всем горным красотам и не выпускали из своего лабиринта. Сейчас он понемногу приходит в себя и снова пишет свой роман» (IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ1, папка «Lettres de Constantin Balmont à Ludmila Savitzky. 1922»).
Пользуясь ростом интереса к революционной России, издательский дом Éditions Bossard, с которым Бальмонт заключил контракт на книгу путевых очерков, основал серию «Collection des textes intégraux de la littérature russe», под общей редакцией переводчика и литературного критика Анри Монго (1888–1941). В начале 1920‐х гг. в этой серии вышли по-французски книги ряда писателей-эмигрантов. Подробнее см.: Russian Émigrés. P. 13–15.
Жан Жироду (1882–1944), прозаик, критик, драматург и дипломат, был членом Французской секции при парижском Комитете помощи русским писателям и ученым. В задачи секции входила материальная, моральная и профессиональная поддержка российских изгнанников во Франции (см. полный список членов комитета: BDIC, Fonds Comité de secours aux écrivains et aux savants russes en France, F delta rés 832 <10>, <11>). О работе Французской секции см.: Ранний период. С. 430–440; L’ Émigration russe. P. 23–43. В данном случае речь идет о субсидии на русско-французскую издательскую программу, которую Жироду пытался получить в Министерстве иностранных дел (см. письма 3 и 5).
Из письма Е. Цветковской к Л. Савицкой (27.I.1922): «Планы наши все, из‐за молчания Жироду и компании, повисли в безвоздушном распутьи. Если это предприятие рухнет – мы в ловушке! Это очень угнетает душу. Но к счастью Б. в плену своего романа и не отчаивается на грустную превосходящую действительность. До сих пор выпутывались и снова выпутаемся верно» (там же, см. примеч. 1).
Здесь: Как мне не везет! (фр.)
Французская секция Комитета помощи русским писателям и ученым пыталась получить в Министерстве иностранных дел субсидию на создание франко-русского издательства, которое предоставило бы возможность эмигрантам зарабатывать на жизнь литературными переводами с французского на русский в надежде на сбыт этой книжной продукции в Советской России (см.: Ранний период. С. 433–34; L’ Émigration russe. P. 33–38). Жироду, занимавший в министерстве должность секретаря по международным культурным связям, обещал добиться субсидии в расчете на покровительство генерального секретаря министерства Филиппа Бертело (1866–1934), который благоволил к целому ряду писателей-дипломатов (Полю Клоделю, Полю Морану и пр.). Однако в конце 1921 г. Бертело пришлось уйти с занимаемой должности из‐за финансового скандала. О проекте франко-русского издательства Бальмонт писал 6 августа 1922 г.: «Мне сообщили, что французское правительство ассигновало какую-то сумму на трудовую поддержку Русским Писателям, или вернее Русским пишущим» (Бальмонт – Бунину. С. 52–53).
Мирра Константиновна Бальмонт (1907–1970), дочь Константина Бальмонта и Елены Цветковской, названная в честь Мирры Лохвицкой (см.: Л. Савицкая – К. Бальмонту, примеч. 2 к письму 11).
Людмила низко расценивала переводы Бальмонта, выполненные хозяйкой парижского литературно-артистического салона Александрой Васильевной Гольштейн (1850–1937) и поэтом Рене Гилем (1862–1925). См. ее отзыв (Savitzky – Spire. 4.XII.1916. P. 115–116) о книге: Balmont C. Quelques poèmes / Trad. Alexandra de Holstein, René Ghil. Paris: Crès, 1916. До войны Гиль сотрудничал в журналах «Весы», «Золотое Руно» и «Аполлон», и поддерживал дружеские отношения с русскими модернистами, включая и Бальмонта с Савицкой, ценившими его как теоретика «нового искусства» и ученика Стефана Малларме (о начале знакомства Бальмонта с Гилем см. его Переписку с М. А. Волошиным / Публ. К. Азадовского, А. Лаврова // Литературное наследство. 1994. Т. 98.2. С. 339; см. также: Бальмонт К. Человек Судеб. Ренэ Гиль // Последние новости. 1925. № 1728. 10 декабря). Салон Гольштейн был местом встреч русских и французских модернистов (см. Adamantova V. Lettres inédites de René Ghil à Alexandra de Holstein // Revue des études slaves. 1991. № 4. P. 801–836; Переписка Вяч. Иванова с А. В. Гольштейн / Публ. М. Вахтеля, О. Кузнецовой // Studia Slavica Hungaricae. 1996. № 41. P. 335–376). Ситуация осложнялась тем, что, поручив перевод Савицкой, которую с Гольштейн связывали теплые отношения (Записные книжки. 25.XII.1922, 23.IV.1923; см. также письма Л. Савицкой в: Alexandra Gol’shtein Papers, картон 8, папка «Gol’shtein Correspondence – S (2)», BAR), Бальмонт лишал Гольштейн нужного ей литературного заработка (Savitzky – Spire. 19.V.1918. P. 165–166), в то время как Гольштейн с Гилем были готовы продолжать переводить поэта (см.: Balmont C. Les noirs corbeaux // Rythme et synthèse. 1921. № 19. Juin. P. 193–194; Enchaînement // Rythme et synthèse. 1923. № 34. Février. P. 73–75), а Гиль пропагандировал его творчество во Франции (Ghil R. Constantin Balmont // Rythme et synthèse. 1921. № 19. Juin. P. 195–200).
Из письма Е. Цветковской к Л. Савицкой (2.III.1922): «Люси, я Вам завидую, что Вы переводите Бальмонта. И не хмурьтесь на грядущий „роман“, это слово лишь обманка, это то, что в музыкальной литературе зовется „концерт“. Музыкальная легенда. И совершенная. И кристально единственно. Вы будете в радовании» (IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ1, папка «Lettres à identifier»).
Открытка: Environs de Nice. – La Cascade de Gairant (Вблизи Ниццы. Водопад Геран <фр.>).
В приложении два письмa. В первом (9.I.1922) театральный режиссер Жак Копо (1879–1949), член Французской секции Комитета помощи русским писателям и ученым (BDIC, Fonds Comité de secours aux écrivains et aux savants russes en France, F delta rés 832 <10>, <11>), обещает посодействовать публикации французского доклада Бальмонта o Достоевском (см. примеч. 9 к письму 1) и передать его Жаку Ривьеру (1886–1925), редактору журнала «La Nouvelle Revue Française». Второе письмо (28.I.1922) – ответ Ривьера Бальмонту, содержащий вежливый отказ под предлогом запоздалого получения текста, который пришел в редакцию, когда специальный номер журнала, посвященный Достоевскому, уже был набран. Из эмигрантских авторов в этом номере выступил Лев Шестов со статьей: Dostoïevsky et la lutte contre les évidences / tr. Boris de Schlœzer // La Nouvelle Revue Française. 1922. № 101. 1 Février. P. 134–158.
Французская секция Комитета помощи русским писателям и ученым организовала 24 декабря 1921 г. в театре Vieux Colombier, чьим основателем и главным режиссером был Жак Копо, благотворительный вечер в честь столетия со дня рождения Ф. М. Достоевского (см.: L’ Émigration russe. P. 32). На вечере среди прочих выступали Бальмонт, Мережковский и Андре Жид, имевший большое влияние в редакции «La Nouvelle Revue Française». В отличие от доклада Бальмонта речь Жида вышла в специальном номере журнала, посвященном Достоевскому. Савицкая, лично знавшая Жида, могла посоветовать поэту обратиться к французскому коллеге с просьбой оказать давление на редакцию журнала. У Бальмонта, однако, была и другая причина писать Жиду – в связи с упоминавшимся выше издательским проектом Комитета (см. примеч. 2 к письму 3), сошедшим на нет лишь к середине 1922 г. из‐за отсутствия субсидий (см.: Ранний период. С. 433–36; L’ Émigration russe. P. 32–36). Под эгидой этой издательской инициативы Бальмонт взялся перевести несколько книг Андре Жида.
Прозаик, критик, редактор и служащий Министерства иностранных дел, Поль Моран (1888–1976) был одним из тех, кто поддержал издательскую инициативу Французской секции Комитета помощи русским писателям и ученым.
Искусствовед и коллекционер Владимир Николаевич Аргутинский-Долгоруков (1874–1941) был знаком с писателями-дипломатами Жаном Жироду и Полем Мораном в силу своей довоенной службы в качестве секретаря российского посольства в Париже. В доме Аргутинского регулярно собирались французские писатели, включая и членов Французской секции при Комитете помощи русским писателям и ученым. См. письмо 53 Бальмонта к Савицкой, а также: Бальмонт – Шаховской. 30 и 31.X.1922. С. 123–24.
Д. С. Мережковский был одним из инициаторов франко-русского издательского проекта под эгидой Комитета помощи русским писателям и ученым.
Имеется в виду боссаровский сборник путевых очерков, который Бальмонт поначалу предложил назвать «Le lointain bleu», то есть «Голубая даль» (см. письмо 1).
Об отношении Бальмонта к Франции свидетельствует его открытка, адресованная Александре Гольштейн и хранящаяся в частном собрании наследников Людмилы Савицкой:
Харбин, «Modene», № 6. 1916. IV.8–21. Утро. Страстная Пятница.
Милая и дорогая Александра Васильевна, шлю Вам и Владимиру Августовичу <Гольштейну> сердечный привет с Дальнего Востока, солнечный привет дней Воскресения, отсвет имен Озириса, Таммуза, Адониса, Аттиса, Христа. Я пишу Вам накануне отъезда во Владивосток, откуда, заехав в Хабаровск, еду в цветущий Ниппон, ненадолго, – поспею к нашим весенним полевым и луговым цветам, в деревню, на берега Оки. Прилагаю газетные пустячки, все же Вам, верно, будет любопытно просмотреть их. Я совершил большой путь и не жалею, это нужно было сделать. Я проеду и еще раз Россию из конца в конец. Внутренно и внешне это необходимо. Я многое узнал, чего не узнал бы никогда без этих путей. Уже давно я, телеграммой, просил Макса <Волошина> передать M-me <Марии> Цетлин, что стихи для «Book of Russia» посланы. Увы, благодаря путанице, о которой говорить долго, этого не было сделано. Извиняюсь, хоть мало виновен. Если сборник запоздал, или выйдет 2-м изданием, был бы счастлив увидеть в нем «Коней». Если нет, может, Вы их поместите в какой-либо Парижской газете. Всего лучшего Вам. Верю в победу. Ваш К. Бальмонт.
P. S. По окончании Войны вернусь жить в Париж. Без Франции уже не могу существовать. Привет Гилю и всем друзьям.
Доклад остался не опубликованным во французской печати.
См. примеч. 1 к письму 12 и примеч. 2 к письму 37.
С Андре Спиром (1868–1966), поэтом, литературным критиком, активистом сионистского движения, Людмилу связывала многолетняя дружба. Она регулярно прибегала к помощи Спира в вопросах литературной тактики, в особенности когда речь шла о поиске подходящих журналов и издательств. Спир был среди тех, к кому Савицкая обратилась за помощью, когда встал вопрос ввода Бальмонта во французские литературные и издательские круги (см.: Savitzky – Spire. P. 312, 339–340, 378, 389 и пр.).
С Анной Петровной Савицкой, эмигрировавшей из Советской России и жившей во Франции с 1922 г., Бальмонт познакомился зимой 1902 г. во время корочанского романа с ее дочерью. Во второй половине 1900‐х А. П. Савицкая подолгу жила в Париже, где могла общаться с Бальмонтом благодаря его продолжавшейся дружбе с Людмилой. Подробнее о А. П. Савицкой см. письма Л. Савицкой К. Бальмонту, а также вступление к настоящему изданию.
Цветная открытка с фотографическим изображением самоанки в национальном уборе и с неприкрытой грудью сохранилась в библиотеке Л. Савицкой, использовавшей ее как закладку к сборнику Бальмонта «Змеиные цветы» (1910). На открытке следующее послание: «30.I.1922. St-Brévin-les-Pins. Милая Лю, спасибо за возврат юбченки и за монеты, которые получила сегодня. Мы все Вам писали дня три назад, ждем откликов. Мне очень худо, и трудно писать, и потому нежно целую и смолкаю. Марселю приветы. Как нравится Самоанка? Ваша Елена».
Имеются в виду дочери Людмилы Савицкой от второго брака с Жюлем Рэ (1872–1943) – Марианна (в замужестве Chautemps, затем Rodker; 1909–1984), впоследствии франко-британский редактор и издатель, и Николь (в замужестве Vedrès; 1911–1966), в будущем тележурналист, прозаик и киносценарист. В 1916 г., в результате бракоразводного процесса, Людмила лишилась права на воспитание детей, оставшихся жить в семье ее бывшего мужа и посещавших ее лишь в положенные судом дни. Эта личная драма прошла красной нитью через литературное творчество Савицкой и ее общение с друзьями в 1920‐е гг. Подробнее см. вступление к настоящему изданию.
Дени Рош (1868–1951), переводчик и литературный критик, один из редакторов русской серии издательства «Боссар». В межвоенный период Рош много переводил с русского на французский, включая книги писателей-эмигрантов Д. Мережковского, В. Набокова и И. Шмелева (см. его библиографию в: Russian Émigrés).
С художницей Натальей Гончаровой Людмила встречалась несколько раз в связи с проектом издания по-французски книги Бальмонта «Фейные сказки. Детские песенки» (М.: Гриф, 1905). Гончарова согласилась проиллюстрировать книгу. Как следует из ее писем к Савицкой от 4 марта и 27 мая 1922 (IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ1, папка «Correspondance éditoriale»), художница и переводчица встречались и обсуждали среди прочего живо интересовавшую обеих тему детских иллюстрированных изданий. Людмила к тому времени была автором романа для детей (La Clairière aux enfants. Paris: E. Figuière et Cie, 1920) и готовилась писать второй роман для детской аудитории (Jean-Pierre <журнальная публикация в 1924–1925 гг.>; отдельной книгой – Paris: Librairie Gédalge, 1929). В архиве Савицкой (IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ29) хранится машинопись частичного французского перевода «Фейных сказок» (30 стихотворений). На заглавном листе указано: Constantin Balmont, Contes de Fée. Poèmes, traduit du russe par Ludmila Savitzky. Illustrations de Natalia Gontcharova. От руки приписано: «Préface de Paul Fort?» Книга осталась неизданной. В папке с машинописью хранится письмо (12.IV.1922) из издательского дома G. Crès & Cie, содержащее отказ принять книгу к печати. Та же участь постигла проект в Les Éditions de la Sirène (отказ от 8.III.1922; IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ1, папка «Correspondance éditoriale»).
Имеется в виду Пьер-Симон де Лаплас (1749–1827), математик и физик, автор классического и много раз переиздававшегося в XIX в. свода научных знаний по астрономии «Небесная механика».
Голубая дымка (фр.).
Солнечные видения (фр.).
Книга вышла под следующим названием: Balmont C. Visions solaires. Mexique – Égypte – Inde – Japon – Océanie / Traduit du russe avec une préface par Ludmila Savitzky. Seule traduction autorisée et approuvée par l’auteur, ornée d’un portrait. Paris: Éditions Bossard, 1923. В библиотеке Л. Савицкой хранится экземпляр тома с дарственной надписью автора: «Солнечной, нежно-цветистой Люси Савицкой. В старину говорили: „Твоя – от твоих“. / Нет меня без тебя. Вот короткий мой стих. 1922.XII.1. Париж».
Жан Варио (1881–1962), французский драматург, журналист, редактор, переводчик.
Очерк «Белый сон», вошедший в сборник Бальмонта «Где мой дом?» (С. 9–17), был опубликован по-французски в переводе Надежды Щупак (см. примеч. 5 к письму 15): Balmont C. Le Rêve blanc // La Famine. Organe du Comité russe de secours aux affamés en Russie (Genève, 1922).
Бальмонт болезненно переживал потерю статуса литературного корифея, о которой ему напоминал выборочный подход редакции парижских «Современных записок» к рукописям, которые он туда посылал («Редакция „Современных записок“ относится ко мне с непостижимым для меня невниманием»: К. Д. Бальмонт / Публ. Б. Хеллмана // «Современные записки» (Париж, 1920–1940). Из архива редакции / Под ред. О. Коростелева, М. Шрубы. Т. 2. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 154–163). Один из редакторов так описал отношениe главного общественно-политического и литературного органа эмиграции к Бальмонту: «Ну что можно было сказать в свое оправдание, не растравляя раны автора? Нельзя же было сослаться на то, что политическая статья малоизвестного редактора представлялась руководителям журнала более нужной, чем статья знаменитого в прошлом, а теперь только перепевавшего себя поэта. Бальмонт не только не согласился бы с этим, он просто этого не понял бы» (Вишняк М. «Современные записки». Воспоминания редактора. Bloomington: Indiana University, Slavic and East European Series, 1957. С. 126). Сам поэт так описывал очередную размолвку с редакцией журнала: «Фондаминский написал мне довольно дрянное письмо о том, что „Современные записки“ могут лишь мало печатать мои стихи. Я написал в ответ колючее письмо и указал, что для меня не новость вить веревки из песку и что это all right, если в Москве большевики обрекли меня на непечатание и голодание, а в Париже к тому же присуждают враги большевиков» (Бальмонт – Шаховской. 22.X.1922. С. 115–116).
Бальмонта связывали с композитором и дирижером Сергеем Александровичем Кусевицким (1874–1951) не только общая страсть к музыке и давнее знакомство, но и опыт эмиграции: их семьи покинули Советскую Россию в одном вагоне. Об их связях в Париже см.: Юзефович В. Сергей Кусевицкий. Годы в Париже. Между Россией и Америкой. СПб.; М.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. С. 208–214. Поэт впервые произнес «Слово о музыке» 9 апреля 1917 г. на «Первом утре музыки и поэзии для народа» (опубл. М.: Концертная библиотека Кусевицких / Нотный магазин Российского музыкального издательства, 1917).
Открытка: Nice – Le Port (Порт в Ницце <фр.>).
Имеется в виду многократно переиздававшаяся книга «Птицы» (Figuier L. Les Oiseauх. Paris: Hachette, 1876) врача и популяризатора научных знаний Луи Фигье (1819–1894).
Речь идет о поэме «Дыханье Ганга», которая вошла в «Visions Solaires» («L’ Haleine du Gange». P. 197–203). Оригинал опубликован в пражском журнале «Воля России» (1924. № 1–2. С. 47–52).
Из письма Е. Цветковской к Л. Савицкой (2.III.1922): «Очень понравился мне Ваш перевод „Слова о музыке“. На Французском языке оно приобрело новую металличность формулы. И самые сочетания слов, и слова, мне показалось, Вы нашли такие близкие по существу и вместе такие изысканные и сильные. К сожалению, не удалось прочесть самой, ибо Б. прочел нам вслух, еще нежась в постели за утренним кофе, и тотчас отправил Кусевицкому» (IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ1, папка «Lettres à identifier»). Двуязычное берлинское издание под эгидой Кусевицкого не состоялось. Французский перевод «Слова о музыке» остался неопубликованным. В «Слове о музыке» Бальмонт цитирует свою поэзию, включая и упоминающееся здесь стихотворение «Чернобыль» («Шел наймит в степи широкой…», 1907). Впоследствии Людмила перевела ряд стихотворений Бальмонта для исполнения под музыку Сергея Прокофьева, состоявшегося 13 мая 1923 г. (Записные книжки. 20 апреля и 13 мая 1923).
Бальмонт К. Ясень. Видение древа. М.: Изд-во К. Ф. Некрасова, 1916. Экземпляра этой книги нет в библиотеке Л. Савицкой.
Речь идет о начале конфликта Людмилы с Дени Рошем, отвечавшим за выпуск книги Бальмонта в издательстве «Боссар» (см. примеч. 13 к письму 5; а также письма 25–26 и 28). Рош требовал от переводчицы стилистических изменений во французском тексте, с которыми та не соглашалась. 28 февраля 1922 г. она писала Андре Спиру: «Я устала от работы и от попыток услужить другим, которые не приносят ничего, кроме неприятностей: перевод Джойса принят (по контракту) издательством Сирена, но возможно он так никогда там и не выйдет ‹…› Перевод Бальмонта связан с большими трудностями и вынуждает меня заново ощутить наглость издателей» (<пер. с фр.> Savitzky – Spire. P. 314).
Мать Людмилы эмигрировала во Францию вместе с сыном, В. И. Савицким (см. Л. Савицкая – К. Бальмонту, примеч. 12 к письму 4) и его женой «Аничкой», которую Анна Петровна Савицкая, по мнению Людмилы, любила больше своей старшей дочери (Images de ma vie. P. 91, 102; Souvenirs. Cahier I. P. 15).
См. примеч. 5–6 к письму 7.
В 1922 г. Сильвен Леви (1863–1935), французский востоковед и санскритолог, деятель сионистского движения, кавалер ордена Почетного легиона с 1911 г., был произведен в ранг офицера того же ордена в знак признания его научных заслуг. Савицкая была знакома с Леви благодаря их общему другу Андре Спиру. Бальмонт знал Леви со времен своей первой эмиграции. Он консультировался с Леви при работе над переводом поэмы Ашвагхоши «Жизнь Будды» (см.: Бонгард-Левин Г. История бальмонтовского перевода / Ашвагхоша. Жизнь Будды. Калидаса. Драмы. М.: Художественная литература, 1990). Перевод вышел отдельной книгой с предисловием Леви (Асвагоша. Жизнь Будды. М.: М. и С. Сабашниковы, 1913). В библиотеке Л. Савицкой хранится экземпляр книги с дарственным посланием: «Лучшему жаворонку Солнца, существом своим являющему радость солнечного света, Люси Савицкой, с нежной преданностью, К. Бальмонт. 1922.XII.6. Париж». В 1920‐е гг. Бальмонт поддерживал дружеские отношения с Леви (Бальмонт – Шаховской. 24.VIII.1923. С. 383–384).
Как следует из письма Шарля Леска (2.III.1922), редактора «Revue de l’Amérique Latine», Савицкая пристроила здесь свой перевод мексиканского очерка Бальмонта при содействии Андрэ Фонтенаса (IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ1, папка «Correspondance éditoriale»). См. полную библиографическую справку в примеч. 2 к письму 37.
Старшая дочь Людмилы (см. примеч. 12 к письму 5).
Вторая жена поэта, Екатерина Алексеевна Андреева-Бальмонт (см. Л. Савицкая – К. Бальмонту, примеч. 6 к письму 5), познакомилась с Людмилой в 1902 г. Оставаясь замужем за поэтом, Е. А. Андреева-Бальмонт не последовала в эмиграцию за ним и его гражданской женой Е. К. Цветковской. Бальмонт состоял в переписке с Андреевой и их дочерью Ниной и старался, по мере своих ограниченных возможностей, облегчать их материальную нужду в Советской России.
Имеется в виду драматический развод Людмилы с ее вторым мужем Жюлем Рэ (см. примеч. 12 к письму 5; подробнее см. вступительную статью в настоящем издании).
О «Дыхании Ганга» см. примеч. 3 к письму 9. Стихотворения «Сарасвати» и «Пение» были опубликованы в 1916 г. в сборнике «Ясень. Видение древа» (см. примеч. 2 к письму 10).
Старшей дочери Людмилы, Марианне, удалили аппендицит. Имея право общаться с детьми лишь в установленные судом дни, мать не могла проведать больного ребенка и делилась своими переживаниями в письмах к друзьям (см.: Savitzky – Spire. 28.II.1922. P. 314).
Речь идет о предстоящей публикации статьи Савицкой о творчестве Бальмонта в июньском номере журнала «Le Monde nouveau» (см. примеч. 1 к письму 27).
Имеется в виду отказ Les Éditions de la Sirène (8.III.1922), где годом ранее Савицкая подписала контракт на издание перевода джойсовского «Портрета художника в юности», опубликовать французскую версию сборника Бальмонта «Фейные сказки» (см. примеч. 1 к письму 6). При жизни автора «Фейные сказки» переиздавались лишь однажды – во втором издании его «Полного собрания стихов» (М.: Скорпион, 1911. Т. 6).
См. письма 1 (примеч. 8), 4 (примеч. 2), 5 (примеч. 1).
См. примеч. 6 к письму 7.
Стихотворение «Три страны» («Строить здания, быть в гареме, выходить на львов…»), отдел «Праздник сердца», сборник: Бальмонт К. Литургия красоты. Стихийные гимны. М.: Гриф, 1905. В библиотеке Л. Савицкой хранится экземпляр книги с дарственной надписью автора: «Люси, которой изменить нельзя. К. Бальмонт. 1908. 13 июня. Париж».
Колосс, гигант (фр.).
Людмила виделась с Бальмонтами несколько раз во время их пребывания в Париже: 27 и 29 марта, 5 и 20 апреля 1922 г. (Записные книжки).
Германия (от фр. Allemagne).
Имеется в виду Зинаида Гиппиус (см.: Л. Савицкая – К. Бальмонту, примеч. 1 к письму 11), которая вместе с Мережковским и Буниным (1870–1953) участвовала в издательском проекте под эгидой Французской секции при Комитете помощи русским писателям и ученым (см. примеч. 3 к письму 2, примеч. 2 к письму 3, примеч. 1–4 к письму 5).
Речь идет о вышеупомянутом франко-русском издательском проекте. Бальмонт писал о Жане Жироду: «Это тот самый романист и в то же время чиновник Министерства Иностранных Дел, который хлопочет о нас (Бальмонт, Бунин, Мережковские) и однажды уже устроил наши переводы. Может быть устроит что-нибудь и еще ‹…› Между прочим, он выразил уверенность, что любой Французский журнал, например Revue de Paris, напечатает с удовольствием мой роман, если не целиком, то хотя в извлечении. Не знаю, так ли это, но, во всяком случае, предприму соответственные шаги» (Бальмонт – Шаховской. 31.X.1922. С. 124). Обещанные деньги за переводы были выплачены с задержкой (см. письмо Бальмонта, 12.III.1923, Андреева-Бальмонт Е. Воспоминания. С. 525; Бальмонт – Шаховской. 2.XII.1923. С. 407); а еще через год, стараниями Жироду, Бальмонт получил через Министерство иностранных дел единовременную субсидию в размере 3000 франков (Бальмонт – Шаховской. 1.IV.1924. С. 445).
В письме от 20 марта 1922 г. Бальмонт упомянул об окончании перевода «Пасторальной симфонии» Жида (Бальмонт – Шаховской. С. 101). На самом деле роман перевела жившая в семье Бальмонтов А. Н. Иванова (см. примеч. 6 к настоящему письму), а поэт его отредактировал. В письме к Андреевой-Бальмонт (17.II.1922) он сообщал: «Нюшенька занимается хозяйством и переводит Андре Жида. Очень милая и просветленная» (Андреева-Бальмонт Е. Воспоминания. С. 520). То же произошло и с остальными заказанными Бальмонту переводами из Жида. 4 февраля 1923 г. он писал: «Делаю скучную работу: редактирую русский перевод драмы A. Gide, „Le roi Candaule“»; то же находим в письме от 10 июля 1923 г.: «Нюшенька окончила перевод André Gide, „Le voyage d’Urien“, я его вторично сверяю с текстом и перерабатываю» (Бальмонт – Шаховской. С. 241, 360).
Анна Николаевна Иванова («Нюша», 1877–1939), художница, переводчица, племянница Андреевой-Бальмонт, бывшая любовница Бальмонта, жившая в его семье до революции и эмигрировавшая вместе с поэтом, Еленой Цветковской и их дочерью Миррой. Сам Бальмонт представлял Иванову новым знакомым как «старинную мою другиню, делающую художественные работы» (12.I.1937; Бальмонт К. Письма Ф. И. Шуравину (1928–1937) / Публ. П. Лавринца // Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике. 2002. № 7. С. 178). Подробнее об Анне Ивановой см.: Андреева-Бальмонт Е. Воспоминания. С. 348, 385. В библиотеке Л. Савицкой сохранился экземпляр шестого тома «Полного собрания стихов» Бальмонта (СПб.: Скорпион, 1911), принадлежавший А. Н. Ивановой, как следует из надписи на обложке. Людмила, вероятно, одолжила и не вернула этот том с «Фейными сказками», которые переводила для несостоявшегося французского издания (см. примеч. 1 к письму 6).
См. примеч. 13 к письму 5.
Вот так тип (фр.).
См. примеч. 1 к письму 11.
Александр Иванович Куприн был одним из писателей-эмигрантов, печатавшихся в русской серии издательства «Боссар» (см.: Russian Émigrés. P. 186–191), где работал редактором переводчик Дени Рош. Куприна, однако, переводил главный редактор серии – Анри Монго (о нем см. примеч. 2 к письму 2).
Неясно, о каком именно переводе из Бальмонта, сделанном индологом Надеждой Осеевной Штейнберг-Щупак (1886–1941), идет речь. Людмила и впоследствии критически относилась к переводам Щупак, жившей во Франции с 1907 г. К примеру, она полностью переработала переведенную Щупак статью Бальмонта «Лики Женщины», с которой поэт выступил в Сорбонне 12 и 19 декабря 1922 г. (см.: Бальмонт – Шаховской. 22 и 26.XI, 9 и 26.XII.1922. С. 149, 156, 172, 191). Бальмонт считал Щупак «самоотверженной труженицей пера, которая, как ни трудно мое положение, находится в положении еще более трудном, и гораздо более затруднительном ‹…› сейчас имеющей заработок по тридцати – сорока франков в месяц, несмотря на то, что она вполне владеет языками – Русским, Французским, Немецким, Английским, Польским и Санскритом. Прилежание ее, добросовестность, умелость и художественная восприимчивость очень большие. Я знаю ее уже два года, и знаю, что за это время не однажды она делала разные работы бескорыстно» (Бальмонт – Бунину. 6.VIII.1922. С. 53). Жена видного меньшевика и деятеля Бунда Самуила Щупака, подруга Софии Дубновой-Эрлих, дочери известного еврейского историка С. М. Дубнова, ученица хорошо знакомого Бальмонту востоковеда Сильвена Леви (см. примеч. 4 к письму 11), Надежда Щупак преподавала санскрит в Сорбонне и состояла в приятельских отношениях с Андреем Белым. Щупак не только переводила Бальмонта, но и прикладывала усилия к рекламе творчества Бальмонта во франкоязычной среде (см.: Lesbats R. Constantin Balmont // Nantes le soir. 1925. № 26. 28 mars. P. 6–8). Подробнее о ней см.: Каганович Б. Надежда Осеевна Щупак. Жизнь и судьба // Диаспора: новые материалы. Т. VII. 2005. С. 571–593.
Черновой вариант «Солнечных видений» был завершен 7 апреля 1922 г. (Записные книжки).
Подразумевается любовная связь Бальмонта с Дагмар Шаховской, жившей тогда в Париже (см.: Бальмонт – Шаховской. 20.IV.1922. С. 102).
20 апреля Бальмонт навестил Людмилу в ее доме, расположенном в парижском пригороде Кламаре. Mальчик, которого он упоминает, – сын Марселя Блока от первого брака, гостивший у отца (Savitzky – Spire. 20.IV.1922. P. 317).
Младшая дочь Людмилы (см. примеч. 12 к письму 5).
Среди опубликованных французских переводов Савицкой нет стихотворений Юлиуша Словацкого (1809–1849). Бальмонт перевел целый ряд его произведений, включая: Три драмы Юлия Словацкого. Балладина – Лилля Венеда – Гелион-Эолион (М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1911).
Открытка с изображением пляжных кабинок для переодевания и текстом: St.-Brévin-les-Pins – Que renferment ces cabines? De jolies baigneuses, mais vous ne les verrez pas! (Что скрывают эти кабинки? Симпатичных купальщиц, но вы их не увидите! <фр.>)
Бальмонт К. Фейное творчество: О японской поэзии // Биржевые ведомости (утренний выпуск). 1916. № 15627. 19 июня. С. 2.
20 апреля 1922 г. Людмила писала Андре Спиру: «Боюсь, к тому же, что я „подхватила“ серьезный вирус умственной усталости из‐за круглосуточной работы, начавшейся в январе (перевод Бальмонта). Головные боли и непреодолимая тяга ко сну. И, сверх того, физическое отвращение к любому чтению и письму. Похоже на умственное несварение желудка» (<пер. с фр.> Savitzky – Spire. P. 317).
Бальмонт К. С берегов Сены: Поль Фор // Утро России. 1914. № 34. 11 февраля. С. 2. Людмила хорошо знала поэта-модерниста, редактора и театрального режиссера Поля Фора (1872–1960) по парижской литературной жизни довоенных лет, когда она сотрудничала в журнале «Vers et Prose», основанном Фором. В ее библиотеке сохранилось несколько книг Фора с дарственными надписями. Бальмонт тоже дружил с Фором до войны. 11 января 1923 г. он так описал вечер в модернистском литературно-художественном кабаре «Хамелеон» на Монпарнасе: «Там было столпотворение Вавилонское, битком набитая комната, рукопожатия с разными Французскими поэтами и литераторами. Бесполезности – но все же для чего-то нужные. По окончании лекции давнишний мой „ami jusqu’à la mort“ <друг до гроба>, несколько остепенившийся „prince des poètes français“ <принц французских поэтов>, Paul Fort, уцепился за меня (мы не видались чуть не десять лет) и утащил меня в свою Closerie des Lilas. Отказаться было нельзя» (Бальмонт – Шаховской. С. 211–212). Бальмонт просил Фора написать предисловие к так и не состоявшемуся изданию французского перевода «Фейных сказок» (см. примеч. 1 к письму 6).
К письму приложены, в свертке из почтовой бумаги, «Лепестки мексиканского пламецвета» (надпись рукой Бальмонта).
Пьеса «Там внутри» (1894) франкоязычного бельгийского драматурга и писателя Мориса Метерлинка (1862–1949), одного из центральных авторов раннего периода транснациональной модернистской культуры, внутри которой сложились мировоззрение и эстетические вкусы Бальмонта и Савицкой.
Здесь: неопределенно, туманно, семантически размыто (фр.).
9 мая 1922 г. Людмила сообщила Андре Спиру: «Я полностью закончила перевод книги путевых записок (Бальмонта), которую я сдаю Боссару на этой неделе» (Savitzky – Spire. P. 322). Она сдала в издательство окончательный вариант рукописи 12 мая (Записные книжки).
Удобочитаемо, четко (от фр. lisible).
Наглая (от фр. insolent).
Речь идет о стихотворных переводах Савицкой (Balmont C. L’ Harmonie des mots. – Blanche fleur. – Ombre // La Connaissance. Revue de lettres et d’idées. 1922. № 24. Avril. P. 1139–1140) и о новом поэтическом сборнике Андре Фонтенаса (Fontainas A. Récifs au soleil: poèmes. Amiens: Malfère, 1922).
Серж Мюра (Serge Murat), автор незаконченного и утерянного французского перевода романа Бальмонта «Под новым серпом». Никаких биобиблиографических сведений о Мюра и его отношениях с Александрой Гольштейн (см. примеч. 4 к письму 3) обнаружить не удалось. 26 ноября 1922 г. Бальмонт писал: «Сегодня мне надо было, умывшись, тотчас отправиться к M-me Holstein, у которой завтракает по воскресеньям Murat, и подтолкнуть его к скорости. В среду он пришлет мне несколько глав и вскоре – окончание 1-й части» (Бальмонт – Шаховской. С. 155).
Открытка: St.-Brévin-les-Pins. – Grande Rue du Bourg (Главная улица городка <фр.>).
Здесь: Какие времена настали! (лат.) Ко времени написания письма Рейнская область Германии была оккупирована армиями Франции, Бельгии, Великобритании и США в соответствии с условиями Версальского мирного договора.
Стилистическая революция, начатая пионерами французского модернизма Полем Верленом и Стефаном Малларме, была так же важна для поколения поэтов, к которому принадлежали Бальмонт и Рене Гиль (см. примеч. 4 к письму 3), как роль предтечи модернизма Шарля Бодлера в расширении тематического спектра «нового искусства». Стилистические эксперименты модернистов представляли существенное препятствие для перевода не только из‐за трудности передачи языковой ломки, но и потому, что иноязычный читатель мог принять иконоклазм автора за лингвистическую некомпетентность переводчика. Подобным недоразумением объяснялся одновременный конфликт Людмилы с издательством «Боссар» (см. письма из издательства от 30 и 31 мая 1922 г., IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ1, папка «Correspondance éditoriale») и с редакторами издательства «Сирена», которые хотели «причесать» ее перевод джойсовского «Портрета художника в юности». См.: Livak L. «A Thankless Occupation»: James Joyce and his Translator Ludmila Savitzky // Joyce Studies Annual. 2013. P. 42–43.
От фр. ouvrage – работа, творение.
Éveillé – бодрствующий, бодрый, смышленый.
Речь идет о второй из четырех телеграмм, посланных Людмиле в разгар конфликта с издательством «Боссар» (IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ1, папка «Lettres de Constantin Balmont à Ludmila Savitzky. 1913–25»). 10 июня: «Silence inquiète comment santé. Balmont» (Молчание беспокоит как здоровье. Бальмонт). 12 июня: «Supplie gardant nos trois pas rompre avec Bossart salut. Balmont» (Умоляю ради нас троих не рвать с Боссаром привет. Бальмонт). 19 июня: «Oura Luci slava jeanschinam. Elena». 19 июня: «Félicitations heureux de votre victoire vive votre énergie» (Поздравляю счастлив Вашей победой да здравствует Ваша энергия).
От фр. fameuses – здесь: печально известные, пресловутые.
Balmont C. Sonnets. I. Edgar Poe. II. Shelley. III. Aurorale. IV. Elle // Le Monde nouveau. 1922. № 11. 1 juin. P. 198–199; Savitzky L. Constantin Balmont et la poésie russe // Ibid. P. 188–197.
Вне пространства и времени (англ.).
Семантическое обыгрывание фамилии Дени Роша, буквально означающей по-французски «камень, скала, утес».
Вы просто хам (фр.).
Отец Людмилы (см.: Л. Савицкая – К. Бальмонту, примеч. 7 к письму 1; а также вступительную статью в настоящем издании) был выходцем из польско-литовского дворянского рода. Бальмонт любил подчеркивать этот «экзотический» элемент родословной Людмилы. Так, в сборнике «Будем как солнце» цикл «Семицветник» открывается посвящением с цитатой из стихотворения Бальмонта «Нежнее всего» (1899): «Люси Савицкой. Нежнее, чем польская панна / И, значит, нежнее всего». Представляя ее Людасу Гире (см. примеч. 5 к письму 164), Бальмонт назвал Людмилу «дочерью русской и русского-поляка-литовца» (Бальмонт – Гире. 10.XII.1928. С. 131).
Временно (фр.).
В письме из издательства (20.V.1922), которое Бальмонт переслал Савицкой, поэту предлагалось «вернуться к ранней версии названия: Sensations de voyage, с подзаголовком Visions solaires: Indes, Japon, Mexique, и т. д. Если мы привнесем это изменение, желательное по нескольким причинам, объяснять которые здесь не место, <читатели книги> интересующиеся путешествиями и географией пополнят ряды покупателей литературы как таковой» (<пер. с фр.> IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ1, папка «Correspondance éditoriale»).
Бьёрнстьерне Бьëрнсон (1832–1910), норвежский поэт, романист и драматург, пользовавшийся популярностью в России рубежа веков на волне возросшего в то время интереса к скандинавской литературе и театру. В 1892–1894 гг. Бальмонт переводил прозу Бьëрнсона и писал о нем критические статьи (Библиография. С. 20–21, 26). Пьеса Бьëрнсона «География и любовь» написана в 1885 г.
Если Вы настаиваете (фр.).
Феноменальный труд (фр.). Отказом от гонорара за перевод в пользу нуждающегося автора Людмила подчеркивала свое отвращение к литературному профессионализму (см. вступительную статью в настоящем издании). В отличие от Бальмонта Джойс не принял подобной жертвы, настаивая на том, что переводчице положена половина всего гонорара за французский вариант «Портрета художника в юности». См. его письмо (30.XII.1921): Livak L. «A Thankless Occupation». P. 52. В обнаруженной нами недавно записке Джойса к своей переводчице (август 1921, частное собрание наследников Л. Савицкой) ирландский писатель не согласен с ее намерением взять за перевод символическую сумму, чтобы таким образом увеличить авторский гонорар.
Людмила Савицкая и Марсель Блок купили в 1922 г. летний дом в деревне Летью (Lestiou) неподалеку от Орлеана, на берегу Луары. По соседству находилась дача близких друзей Людмилы – поэта Андре Спира и его жены Габриель. В этом деревенском доме, до сих пор принадлежащем наследникам Л. Савицкой, сохранились ее библиотека и архив, часть которого была передана в IMEC.
Парафраз пушкинской формулы из стихотворения «Демон» (1823) – «В те дни, когда мне были новы / Все впечатленья бытия» (Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1949. Т. 2. Кн. 1. С. 299. Далее ссылки на тексты Пушкина по этому изданию с указанием тома и страницы).
Речь идет о героях автобиографического романа Бальмонта «Под новым серпом».
Один из сонетов («Заревая», сборник «Сонеты Солнца, Меда и Луны», с. 142), опубликованных в переводе Савицкой в июньском номере журнала «Le monde nouveau» (см. примеч. 1 к письму 27).
Священник францисканского ордена Грюмель хотел бы справиться у г-на Бальмонта, не желает ли он написать статью о св. Франциске Ассизском для публикации в <католическом молодежном журнале> l’Élan des Jeunesses.
Бальмонт K. Марево. Париж: Франко-русская печать, 1922. Экземпляр книги со следующей дарственной надписью автора хранится в библиотеке Л. Савицкой: «Неизменно-светлой в этой черной пропасти измен и изменчивости Люси Савицкой К. Бальмонт. 1922.VI.30. Бретань».
Открытка: St-Brevin-l’Océan (Loire-Inférieure) – Promenade sentimentale (Сентиментальный променад <фр.>).
Ольга Михайловна, – а не Николаевна, как ошибочно пишет Бальмонт, – Веригина-Можайская (1903–1997) перевела на английский его стихи для неосуществленного музыкального замысла Сергея Прокофьева, а также для нереализованного лондонского книжного издания лирики Бальмонта (см.: Бальмонт – Шаховской. 22.Х.1922, 5.XI.1922. С. 114, 130). Поэт надеялся, что Можайская переведет на английский его роман «Под новым серпом» (см. ее письмо <15.IX.1922> в: Бëрд Р., Черкасова Ф. Любовь и изгнание / Бальмонт – Шаховской. С. 29).
Только одно стихотворение сохранилось в приложении к письму: «В Безбрежности» («Заходит Солнце, восходит Солнце, заходит Солнце… Но что сильней?..»; датировано 12 августа 1922). Это стихотворение Бальмонт включил в нереализованный сборник «Линия Лада», который готовился в американском издательстве Георгия Гребенщикова (Georgii D. Grebenshchikov Papers, картон 1, папка „Bal’mont, Konstantin Dmitrievich. Liniia lada“, BAR).
Solange Sangline, подруга Людмилы, помогавшая ей присматривать за дочерьми, когда те гостили у матери, была очередным мимолетным увлечением Бальмонта. Судя по письмам поэта, увлечение осталось чисто платоническим, отчасти благодаря нежеланию Савицкой играть роль сводни (см. письма 44, 46, 48–50).
Открытка: Mané-er-Hroëg. – Choix de Haches. – Vannes. – Société Polymathique: Musée (Коллекция топоров Полиматического музея в г. Ванны <фр.>).
Balmont C. Lettres du Mexique // Revue de l’Amérique latine. 1922. № 8. 1 août. P. 289–296.
Книга вышла 29 ноября 1922 г. (см.: Бальмонт – Шаховской. 29.XI.1922. С. 160; Бальмонт, письмо от 25.XI.1922, Андреева-Бальмонт Е. Воспоминания. С. 523).
См. примеч. 1 к письму 45, примеч. 10 к письму 54.
«Любовь, любовь. А что она такое?» Стихотворение вошло в сборник: Бальмонт К. Мое – Ей. Россия. Прага: Пламя, 1924. С. 36.
Открытка: St-Brevin-l’Océan – Sur la Plage – Le Fort du Pointeau – Effet de soleil couchant (На пляже. Форт Пуанто. Эффект заходящего солнца <фр.>).
«Из чуть-чуть» (4 сентября 1922), «Черта» (8 сентября 1922), «Крещенье светом» (9 сентября 1922). Первое и третье стихотворения вошли в авторский сборник «Мое – Ей» (С. 13, 81).
К письму приложены сонеты «Кальян» и «Речной дух», датированные 12 сентября 1922 г. и вошедшие в авторский сборник «Мое – Ей» (С. 29–30).
Открытка: St-Brevin-Les-Pins (Loire-Inférieure) – Route de St-Brevin à Mindin (Дорога из Сен-Бревена в Менден <фр.>).
Открытка: St-Brevin-Les-Pins (Loire-Inférieure) – Le soir sur la Plage (Вечер на пляже <фр.>).
В письме от 22 сентября 1922 г. Людмила жаловалась мужу на «изжогу от бальмонтовской корректуры», добавляя: «А, кроме того, он должен прочитать доклад в Сорбонне и спросил, могу ли я ему помочь. Я ответила, что помогу по мере сил. Я ведь думала, что речь идет об уже сделанном для него французском переводе. Ан нет! Он мне прислал текст доклада, читанного 36 раз в России, с просьбой перевести и организовать по моему усмотрению. Там 52 страницы убористого печатного текста, – представляешь? Веселенькое дело! Послать бы его подальше, но я ведь его „пропагандистка“ в парижском литературном мире и мне важно, чтобы его доклад был интересным. Как, однако, мне осточертело, осточертело, осточертело переводить! От одной мысли о переводе у меня болит голова» (<пер. с фр.> частное собрание наследников Л. Савицкой). Людмила, видимо, отказалась поначалу от перевода, за который взялась Надежда Щупак (см. примеч. 5 к письму 15). Однако она нашла перевод Щупак неприемлемым и полностью переработала его перед выступлением Бальмонта в Сорбонне (см. примеч. 10 к письму 54).
Имеется в виду драма «Гедда Габлер» (1891) Генрика Ибсена.
Стихотворение «Семь коней» вошло в авторский сборник «Мое – Ей» (С. 58). К письму также приложены рукописи сонетов «Преломление» и «Древний лик».
Открытка: Biarritz (Côté Basque) – Effet de vagues (Биарриц <Баскский берег> – Прибой <фр.>).
Открытка: Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Inférieure) – Bords de Loire – Le Lazaret (Здание лазарета на берегу Луары <фр.>).
Сдать в печать (фр.).
Игра на имени Solange, производном от латинских терминов solemnia и solemnis и означающем женское достоинство. Вопреки стандартной этимологии, Бальмонт видит в этом имени сочетание французского прилагательного «солнечный» (solaire) и существительного «ангел» (ange).
Речь идет о предисловии к «Солнечным видениям», над которым Людмила в это время работала (Записные книжки. 27–29 октября 1922). В опубликованной версии предисловие датировано 10 октября 1922 г.
Savitzky L. Préface // Balmont C. Visions solaires. Р. i – vi. См. также: Предисловие Л. Савицкой к французскому изданию книги К. Бальмонта «Солнечные видения» / Пер. с фр. А. Таганова, вступ. П. Куприяновского // Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания ХХ века. 1999. № 4. С. 373–380.
Имеется в виду эпизод из автобиографического романа Бальмонта «Под новым серпом».
4 ноября 1922 г. Бальмонт читал лекцию «Театр юности и красоты» перед аудиторией Русского народного университета в Париже.
Поэт сообщал Дагмар Шаховской (7.XI.1922): «Я только что вернулся из издательства Боссара, виделся с Рошем, получил 3000 франков. Последние неподписанные корректуры получу на днях. Книга уже печатается, портрет воспроизведен хорошо, предисловие Люси Савицкой – очень изящно, хвалебно и как раз для Французов. Я уверен, что книга, которая должна теперь совсем скоро выйти, сразу будет иметь большой успех» (Бальмонт – Шаховской. С. 132).
Речь идет о графине Мореншильдт, с которой поэта познакомила Дагмар Шаховская (Бальмонт – Шаховской. 2, 6, 10 и 12 ноября 1922. С. 127, 131, 134–136).
Предисловие (фр.). См. примеч. 1 к настоящему письму.
Бальмонты приезжали к Людмиле Савицкой и Марселю Блоку в Кламар 2 ноября. Работая одновременно над корректурами джойсовского «Портрета художника в юности» и бальмонтовских «Солнечных видений», а также над другими текстами, которые Бальмонт и Эзра Паунд просили ее перевести, Людмила регулярно встречалась со «своими авторами», как она их называла, осенью 1922 г. Поначалу она уделяла каждому отдельные дни (так, 1 октября она виделась с Джойсом, а с Бальмонтом 20 октября, 2 и 10 ноября), но заметная интенсификация работы в декабре привела к тому, что утро переводчица проводила с одним автором, а вечер с другим: с Джойсом и Бальмонтом 11 декабря, с Паундом и Бальмонтом 12-гo (Записные книжки).
Людмила приезжала к Бальмонтам 10 ноября 1922 г. (см. примеч. 2 к настоящему письму).
Бальмонт сообщал Дагмар Шаховской (10.XI.1922): «Сейчас у меня сидела Люси Савицкая и дает более разумные советы <чем графиня Мореншильдт>. На этой неделе попытаюсь увидеться с Жироду и попрошу его повлиять на Revue de Paris, а если там ничего не выйдет, обращусь к M-r Tautin, редактору Le Monde, который обо мне весьма высокого мнения. Но в Revue de Paris лучше платят» (Бальмонт – Шаховской. С. 134). О роли Жана Жироду в попытках эмигрантских писателей выйти на французскую аудиторию см. письма 2, 3 и 5.
По пятницам Бальмонт устраивал «журфиксы», «чтобы охранять другие дни недели, по возможности, от человеческих физиономий, весьма редко меня радующих» (Бальмонт – Шаховской. 17.XI.1922. С. 142).
Жан-Жозе Фраппа (1882–1939), писатель, драматург, журналист, бывший в это время главным редактором газеты «Comoedia».
Ежедневная газета «Comoedia» специализировалась в хронике театральной, культурной и светской жизни Парижа. 20 ноября 1922 г. поэт сообщал Дагмар Шаховской, что он отправил Елену Цветковскую «в редакцию „Comédia“ с моим письмом, со сказкой „Les Trois Amoureux“, со статьей Люси обо мне и с письмом суматошной дамы Николет, меня рекомендующей ‹…› И в „Comédia“ были любезны и обещали» (Бальмонт – Шаховской. С. 147). Газета опубликовала биографическую заметку о Бальмонте, анонсировавшую выход его книги (L. G. F. Visions solaires // Comoedia. 1922. № 3659. 23 décembre. P. 6); а двумя месяцами позже – его стихотворение (Balmont C. Sans Paroles // Comoedia. 1923. № 3709. 11 février. P. 3). Три года спустя «Comoedia» взяла у него интервью (Champel M. Nos hôtes: Constanin Balmont, poète exilé, nous parle du règne de l’Amour // Comoedia. 1926. № 5017. 24 septembre. P. 1). Газета ранила самолюбие поэта недостаточным, по его мнению, уважением к его творчеству (Бальмонт – Шаховской. 11.II.1923. С. 248).
Бальмонт познакомился с мадам Николе в салоне графини Мореншильдт (см. примеч. 5 к письму 51), где «ее гостья, M-me Nicolet, была так раскрашена, громка и болтлива, что, наобещав мне с три короба пустяков, совершенно ошеломила меня» (Бальмонт – Шаховской. 10.XI.1922. С. 134). После второй встречи Бальмонт заметил: «Она, по видимости, решила, что „Monsieur Belmont“ – не лишенный способностей начинающий поэт. Думаю, что ее покровительство – бесполезная вещь» (Ibidem. 12.XI.1922. С. 135).
16 ноября 1922 г. Бальмонт сообщал Дагмар Шаховской: «Люси Савицкая обратилась ко мне с письмом об умирающей с голоду в Алупке переводчице Французских авторов Тимофеевой. Ездил в Комитет Писателей. Просил за нее. Чайковский обещал похлопотать за нее и послать ей Ару» (Бальмонт – Шаховской. С. 140). Политический и общественный деятель Николай Васильевич Чайковский (1850–1926) возглавлял Комитет помощи русским писателям и ученым во Франции (см.: Ранний период. С. 430–434; L’ Émigration russe. P. 29–38). В начале 1920‐х гг. гуманитарная организация American Relief Association (ARA) была важным источником материальной помощи для российской интеллигенции в СССР и в эмиграции. Е. Андреева-Бальмонт писала о муже: «<Он> посылал нам каждый месяц „Ару“ (помощь Америки русским), посылки со всякой съедобой: рисом, чаем, сахаром, какао, сгущенным молоком, жирами. Это были дорогие подарки, которые Бальмонту нелегко было оплачивать из своих скудных заработков. При каждом дополнительном получении денег он посылал нам двойную посылку» (Воспоминания. С. 425).
См. примеч. 3 к письму 5.
Эдмон Жалу (1878–1949) – романист, влиятельный литературный критик, редактор (среди прочего руководивший программой иностранной литературы в парижском издательстве «Сток»), член Французской секции Комитета помощи русским писателям и ученым. Жалу содействовал писателям-эмигрантам, искавшим доступа во французскую печать (см.: Ранний период. С. 432–433; L’ Émigration russe. P. 36–37). Он высоко ценил переводы Людмилы Савицкой и настойчиво приглашал ее к сотрудничеству в журналах и издательских сериях, которые редактировал (см.: Savitzky – Spire. 9.V.1922, 20.VI.1922. P. 322, 329). Людмила попыталась заинтересовать Жалу в творчестве Бальмонта, который сообщал Шаховской 20 ноября 1922 г.: «Вчера Люси написала мне, что Edmond Jaloux хочет прочитать мой роман. Правдоподобно, что он его издаст или напечатает в каком-нибудь журнале. У меня есть теперь три надежные пути хлопотать о романе ‹…› Это самый видный сейчас в Париже романист. У Люси Савицкой с ним приятельские отношения, и, когда он спросил ее, не может ли она рекомендовать ему что-нибудь Русское, она ему расхвалила мой роман. Может, что и выйдет» (Бальмонт – Шаховской. С. 146). Бальмонт ходил с визитом к Жалу 23 ноября, а на следующий день Савицкая навестила поэта, чтобы обсудить его встречу с французским литератором (Записные книжки).
Копию этого письма Бальмонт отправил Дагмар Шаховской, объяснив свой поступок следующим образом: «Эта копия моего письма к Люси является, наконец, подробным письмом. Я его писал на машинке, потому что, во-1-х, у меня болит рука, и потому, во-2-х, что со свойственным мне лукавством – не так ли, я лукавый? – я писал Люси, а на самом деле все это так подробно писал для Тебя. Не говори „Какая гадость!“ и не сердись на меня. Мне правда хотелось подробно рассказать все это и Тебе, и Люси» (Бальмонт – Шаховской. <22.XII.1922.> С. 185–186).
Поэт и писатель Мишель Дюмениль де Грамон (1893–1953) был одним из самых активных переводчиков русских писателей-эмигрантов на французский язык. Для боссаровской серии «Collection des textes intégraux de la littérature russe» де Грамон перевел три книги Дмитрия Мережковского. Подробнее о его переводческой деятельности см. в библиографии Russian Emigres.
Робер де Траз (1884–1951), швейцарский писатель, эссеист и критик, редактор журнала «La Revue de Genève». В 1922–1923 гг. журнал де Траза распахнул двери перед писателями-эмигрантами, опубликовав, в сопровождении биографических заметок, произведения К. Бальмонта, И. Бунина, А. Куприна, Д. Мережковского, А. Ремизова и И. Шмелева. Подробнее см. в библиографии Russian Emigres.
Октав Шарпантье (р. 1872), поэт и редактор парижского литературного иллюстрированного ежемесячника «Poésie».
Аллюзия на песню третью пушкинской «Полтавы» (1829): «Тесним мы шведов рать за ратью; / Темнеет слава их знамен, / И бога браней благодатью / Наш каждый шаг запечатлен» (V: 56).
Французские переводы стихотворений «Скифы», из сборников «Горящие здания» («Мы блаженные сонмы свободно кочующих скифов…»; отдел «Отсветы зарева», с. 18) и «Мое – Ей» (С. 62), не публиковались; однако они зачитывались на вечере Бальмонта в кафе «Хамелеон» 22 января 1923 г. (см. примеч. 1 к письму 58). «Только» («Ни радости цветистого Каира…») и «Неистребимое» («Золотая разливная спелая рожь…») вошли в отдел стихотворений за 1920–1921 гг. в сборнике «Марево» (С. 39, 57), который поэт преподнес Людмиле в июне 1922-го (см. примеч. 1 к письму 31). По имеющимся у нас данным, французские переводы этих стихотворений, если они вообще были сделаны, не публиковались. Перевод стихотворения «Благовестие» («Кто думает, что, убивая…»; отдел «Потухшие вулканы», Бальмонт К. Зарево зорь. М.: Гриф, 1912) был опубликован в журнале «Europe» летом 1923 г. (см. примеч. 2 к письму 66).
См. единственную публикацию Бальмонта в швейцарском журнале, где она появилась в сопровождении критико-биографической заметки переводчицы: Balmont C. Où est ma maison // La Revue de Genève. 1923. № 41. Novembre. P. 533–543; Savitzky L. Constantin Balmont // La Revue de Genève. 1923. № 41. Novembre. P. 654. См. также примеч. 2 к письму 68.
Бальмонт имеет в виду Мережковского, которого он винил в том, что тот (вместе с Буниным) использует свои связи в парижских литературных кругах, как русских, так и французских, ради личного обогащения за счет более нуждающихся коллег-эмигрантов (Бальмонт – Шаховской. 10.XII.1922, 22.XII.1922. С. 173, 186).
Имеются в виду А. Н. Иванова (см. примеч. 6 к письму 14) и А. В. Гольштейн (см. примеч. 4 к письму 3). 27 января 1922 г. Бальмонт писал Савицкой о том, что его старая переводчица Александра Гольштейн «приревновала» Людмилу, получившую заказ на боссаровскую книгу поэта.
12 и 19 декабря Бальмонт прочитал в Сорбонне лекции, для которых Савицкая, под предлогом редакции, заново перевела его доклад «Лики женщины в поэзии и жизни», чей французский текст был первоначально подготовлен Надеждой Щупак (см. примеч. 5 к письму 15, примеч. 1 к письму 45). Людмила несколько раз встречалась с Бальмонтом для совместной работы над докладом (Записные книжки. 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15 декабря 1922). 9 декабря поэт писал Шаховской: «Весь день я опять с Люси работал над текстом моей лекции. Увы, – а Люси еще и отдельно от меня работала над ним вчера весь вечер и сегодня все утро. Щупак многие места перевела совсем не по-Французски. Мне придется переписать целые страницы. Но теперь, кажется, весь текст настолько хорош, что его можно не только прочесть, не сомневаясь, а и напечатать». В другом письме (26.XII.1922) он отмечал: «Щупак крайне огорчилась, что от ее текста, в конце концов, камня на камне не остается. А я не могу не слушаться Люси, ибо она более Француженка» (Бальмонт – Шаховской. С. 172, 191). Доклад был опубликован без указания имени переводчика: Balmont C. Images de femme dans la poésie et dans la vie // Le Mercure de France. 1924. № 622. 15 mai. P. 30–66. Публикация в журнале «Le Mercure de France» была, вероятно, организована Андре Фонтенасом по просьбе Людмилы (см. примеч. 8 к письму 1).
Письмо, поступавшее из одного парижского почтового отделения в другое по системе пневматических труб, а затем доставлявшееся адресату курьером. Весь процесс, с момента отправки, занимал не более получаса.
Речь идет о переводах, которые поэт хотел послать в «La Revue de Genève» (см. примеч. 6 к письму 54; см. также: Бальмонт – Шаховской. 29.XII.1922. С. 196). Бальмонт ошибочно датирует «Благовестие» 1914 г.
Стихотворение Александра Блока «Скифы» (1918) было опубликовано годом ранее в швейцарском журнале без указания имени переводчика: Block A. Les Scythes // La Revue de Genève. 1921. № 15. Septembre. P. 335–337.
Имеется в виду краткая биографическая заметка о Бальмонте, анонсирующая выход его книги: L. G. F. Visions solaires // Comoedia. 1922. № 3659. 23 décembre. P. 6.
Графиня Мартин-Мари-Поль де Беаг (1869–1939), знаменитая покровительница литературы и искусств, коллекционер, певица, была одним из самых активных членов Французской секции при Комитете помощи русским писателям и ученым. Она организовывала благотворительные концерты в пользу эмигрантских писателей и устраивала в своем салоне их встречи с французскими коллегами (см.: L’ Émigration russe. P. 31, 38–39).
Поэт-модернист Анри де Ренье (1864–1936) был довоенным знакомым Бальмонта и Савицкой. Несколькими неделями ранeе Бальмонт отправил ему экземпляр «Visions solaires» (Bibliothèque Nationale de France, 16-REGNIER-1094) с дарственной надписью, в котором назвал его мастером резного стиха: «Au Maître du vers ciselé, Henri de Régnier, Constantin Balmont. 1922.XII.5. Paris».
Жена поэта, Мари де Ренье (1875–1963), писавшая стихи, романы и литературную критику под псевдонимом Жерар д’Увиль, была дочерью франко-кубинского поэта Жозе Мария де Эредиа. Во французской модернистской культуре Мари де Ренье славилась не столько своим литературным даром, сколько эстетически значимым поведением, попиравшим «буржуазную» мораль серией внебрачных связей с мужчинами и женщинами. Среди ее многочисленных любовников были писатели Габриеле д’Аннунцио и Эдмон Жалу, присутствовавший на вечере, описанном в письме.
В это время Дагмар Шаховская, жившая в Сен-Назере, готовилась к родам, о ходе которых Бальмонту сообщал ее врач (28 декабря у поэта родился сын Георгий). Бальмонт тяготился своим отсутствием у постели роженицы, но ехать к ней не стремился. 26 декабря он писал ей: «Хоть я знаю, что несправедлив Твой упрек, будто у меня все только слова, а в то же время он будто и справедлив: ведь железная дорога между Парижем и С.-Назером действует, и было бы совсем просто сесть в вагон и приехать хоть на три дня. Милая, я ведь ноги протяну, если сделаю это немедленно. Если моя простуда перейдет в воспаление легкого, это будет конец. И вот – я свободен, и я скованный каторжник. Милая, мне это так горько, что я даже не могу до конца додумать эту мысль» (Бальмонт – Шаховской. С. 190–191).
10 января 1923 г. Бальмонт прочитал в Сорбонне публичную лекцию «Любовь и Смерть в Поэзии» в переводе Савицкой («L’ Amour et la Mort dans la Poésie»). Эту лекцию он охарактеризовал в письме (11.I.1923) как вечер «праздника и светлой победы» (Бальмонт – Шаховской. С. 211). Людмила, присутствовавшая на всех его лекциях в Сорбонне, встречалась с ним не только для работы над текстами докладов, но и для отработки французского произношения и дикции (Записные книжки. 9, 10, 14, 17–18 января 1923).
Истар – богиня любви и плодородия в ассиро-вавилонской мифологии – фигурирует в стихотворении Бальмонта «Строитель» из сборника «Белый зодчий. Таинство четырех светильников» (СПб.: Сирин, 1914). Бальмонт упоминал Истар в лекции о «Любви и Смерти в поэзии» (см.: Мнухин Л. Русское зарубежье. Хроника научной, культурной и общественной жизни. 1920–1940. Франция. Т. 1: 1920–1929. М.; Париж: ЭКСМО; YMCA Press, 1995. С. 86).
Имеется в виду вторая публичная лекция поэта в Сорбонне на тему «Любовь и смерть в поэзии» (из письма следует, что доклад состоялся 18‐го, а не 17 января, как указывается в справочниках на основании неверной газетной информации). 14 января Бальмонт писал: «Люси привезла мне Французский текст лекции, сделанный ей так художественно, что слова текут певучим ручьем» (Бальмонт – Шаховской. С. 216).
Речь идет об организации вечера в честь Бальмонта (см. примеч. 1 к письму 58) под эгидой «Парижского литературного клуба», которым руководил французский поэт Александр Мерсеро (1884–1945) – основатель довоенной группы «Кретейское аббатство» и артистического кабаре «Черный кот», бывший сотрудником журнала русских модернистов «Золотое руно». Людмилу связывали с Мерсеро давние дружеские и профессиональные отношения (см. вступительную статью в настоящем издании). После войны Мерсеро выбрал местом встреч своего «Клуба» подвальное помещение кафе «Хамелеон» на углу бульвара Монпарнас и улицы Первого Похода (rue Campagne Première) – в географическом эпицентре парижского литературно-художественного авангарда. Во второй половине 1923 г. «Хамелеон» переехал на другой конец той же улицы, обосновавшись на углу бульвара Распай. Александр Мерсеро был приглашен в качестве режиссера мероприятий в новом «Хамелеоне», которые он назвал вечерами «Монпарнасской богемы», в честь располагавшегося здесь прежде одноименного литературно-художественного кабаре, с которого в начале века началось покорение квартала Монпарнас людьми искусства. В начале 1920‐х гг. «Хамелеон» был модным местом для поэтических и музыкальных вечеров. Здесь, в разные дни недели, регулярно собирались как французские, так и русские авангардисты (см.: Ливак Л. Героические времена молодой зарубежной поэзии // Ливак Л., Устинов А. Литературный авангард русского Парижа. История. Хроника. Антология. Документы. М.: ОГИ, 2014. С. 39–42). Рекламируя Бальмонта во французских литературных кругах, Людмила не случайно выбрала именно «Хамелеон» для чествования поэта, заручившись поддержкой Мерсеро.
Речь идет о рецензии на «Visions Solaires», которая очень польстила автору (см.: Бальмонт – Шаховской. 12.I.1923. С. 212): Miomandre F. Constantin Balmont, poète solaire // Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1923. № 13. 13 janvier. P. 2.
Имеется в виду сопрано Марсель Жерар (1891–1970), подруга Людмилы, посвятившей ей две статьи (Savitzky L. Marcelle Gérar // Le Monde musical. 1923. № 3–4. Février. P. 52; Marcelle Gérar // Le Courrier musical et théâtral. 1925. № 2. 15 janvier. P. 49). Савицкая рекомендовала Жерар Бальмонту как исполнительницу музыкальных композиций на поэтических вечерах. Жерар выступила с композициями на слова Бальмонта на вечере поэта в «Хамелеонe» (см. примеч. 1 к письму 58). 17 апреля 1923 г. Елена Цветковская писала Людмиле о своем желании познакомить Жерар с Сергеем Прокофьевым: «Кроме того, мне очень хочется познакомить ее с вернувшимся сюда Черепниным, романсы которого на слова Бальмонта исключительно хороши. Между прочим, он написал к „Фейным сказкам“, которые в исполнении Жерар, мне кажется, совсем полонят Французов» (Fond Ludmila Savitzky, картон SVZ1, папка «Lettres à identifier»). О Марсель Жерар см. также письмо 77.
22 января 1923 г. в кафе «Хамелеон» состоялся вечер в честь Бальмонта. Председательствовал Рене Гиль, вступительное слово о творчестве поэта, включая переводы его двух стихотворений «Скифы», произнесла Людмила Савицкая (машинопись ее выступления, «Constantin Balmont», с правкой и дополнениями от руки, хранится в: IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ29, папка «Hommage à Constatin Balmont + Presse»). Переводы стихотворений Бальмонта читали также Андре Фонтенас и театральные актеры Режин Ле Кере (Régine Le Queré) и Андре Баке (André Bacqué). Певица Марсель Жерар исполнила, под аккомпанемент пианиста Вильяма Базара (William Basard), песни на слова Бальмонта. Виновник торжества читал свои произведения по-французски и по-русски. Людмила считала, что ее речь о творчестве Бальмонта «очень удалась» (Записные книжки. 22.I.1923). См. отзывы о вечере: Bureau N. Conférence sur Constantin Balmont, par Mme Ludmila Savitzky (22 janvier 1923) // Rythme et synthèse. 1923. № 35. Mars. P. 120; Spire A. La Poésie russe à Montparnasse // Menorah. 1923. 13 mars. P. 290–293. На следующий день в «Хамелеоне» состоялся вечер в честь Андре Фонтенаса, на котором выступали друзья поэта – Людмила Савицкая и Поль Фор, а Бальмонт там же сочинил сонет в честь виновника торжества (Бальмонт – Шаховской. 22 и 23.I.1923. С. 226–227). Людмила впоследствии переработала свой доклад о творчестве Фонтенаса в статью: Savitzky L. André Fontainas dans la poésie actuelle // Le Mercure de France. 1925. № 640. 15 février. P. 20–32.
Из писем Бальмонта о его чествовании в «Хамелеоне»: «Вечер был блестящий, прекрасный. Успех огромный. И я был удачный. А Люси прямо победила аудиторию» (Бальмонт – Шаховской. 22.I.1923. С. 226); «Председательствовал Ренэ Гиль, сказавший отличную речь и великолепно прочитавший „Тоску Степей“; блестящую лекцию обо мне прочла Люси, читали мои стихи артистка из „<Théâtre d’>Athène“ Mme Régina и Mr Bacqué из „<Théâtre du> Vieux Colombier“, читал Fontainas „Soyons comme le Soleil“, „L’ Harmonie des Mots“, в завершение я прочел „Est-ce que?“, „Dors“, „Annonciation“ (по-Французски) и „Тоску Степей“ (по-Русски). Переполненная зала устроила мне длительную овацию. Весь вечер носил характер исключительной сердечности, я радуюсь, что у меня есть друзья в Париже» (31.I.1923, Андреева-Бальмонт Е. Воспоминания. С. 524).
Из письма Бальмонта (23.I.1923): «Сегодня я проснулся поздно и в грезе вижу весь вчерашний вечер как что-то очень красивое. Я никогда не видал, чтобы Французы, собравшиеся в большом числе, все, все сплошь были настроены так просветленно и ласково. Это было такое чувство, что я полагал – моей семьи всего лишь 2½ человека, а оказалось 250. Не было ни одного лица, которое не было бы озарено вниманием и приветом. Это было настоящее светлое торжество» (Бальмонт – Шаховской. С. 227). По сообщению французского очевидца, большинство присутствовавших на вечере были «соотечественниками поэта» (Bureau N. Conférence sur Constantin Balmont. P. 120).
См. примеч. 4 к письму 60.
В записной книжке Л. Савицкой за 1923 г. отмечено, что в субботу 27 января был «вечер у Бальмонтов, много народу ‹…› Вернулись домой в 2 часа утра» (пер. с фр.).
Дата не проставлена. Судя по содержанию, письмо написано 3 февраля. Ср. с письмом к Дагмар Шаховской (3.II.1923): «Отослал Люси переписанный мною французский перевод „Васеньки“ и убеждаю ее в письме поторопиться с переводом „Белой Невесты“» (Бальмонт – Шаховской. С. 240).
Рассказ Бальмонта «Васенька», датированный 1908 г., но впервые опубликованный в авторском сборнике «Воздушный путь. Рассказы» (Берлин: Огоньки, 1923. С. 103–115), вышел по-французски годом позже (см. примеч. 4 к письму 67).
Третье чтение первой части романа Бальмонта «Под новым серпом» в Русском народном университете, состоявшееся 1 февраля 1923 г. (предыдущие прошли 28 и 30 января; автор закончил читать роман в течение трех последующих выступлений, состоявшихся 3, 4 и 6 февраля).
Парижская газета «Слово», издававшаяся О. Г. Зелюком в 1922–1923 гг.
Имеется в виду борец за независимость Ирландии, мэр Корка Теренс МакСуини (1879–1920), арестованный в ходе протестов, объявивший голодовку и умерший в Брикстонской тюрьме Лондона, проголодав 75 дней.
Бальмонт К. Белая невеста // Современныe записки. 1921. № 7. С. 109–129 (повесть вошла в сборник «Воздушный путь», с. 171–200). 28 января 1923 г. поэт сообщал, что «Люси пообещалась, не откладывая, перевести „Белую невесту“» (Бальмонт – Шаховской. С. 233). Французский перевод «Белой невесты» остался неопубликованным.
30 января 1923 г. Савицкая писала, что Жалу заказал ей перевод рассказа Бальмонта, пообещав найти для него подходящий журнал (Savitzky – Spire. P. 380). 27 января поэт отметил, что «Жалю снова торопит Люси с переводом повестей» (Бальмонт – Шаховской. С. 232).
Стремясь ввести Бальмонта в парижские литературные круги, Савицкая организовывала ему приглашения на собрания французских писателей – банкеты, завтраки, чествования, – где поэт мог общаться с коллегами и завязывать полезные профессиональные отношения с влиятельными критиками и редакторами. В данном случае речь идет о завтраке в клубе Cercle Littéraire International (Международный литературный кружок), описанном в письме 61.
Поэт, критик и эссеист Гюстав-Луи Тотен (Tautаin; р. 1891) был главным редактором журнала «Le Monde nouveau», в котором Савицкая ранее поместила очерк о Бальмонте с подборкой его сонетов (см. примеч. 1 к письму 27). Здесь же она публиковала свои стихотворные переводы из англо-американских модернистов.
См. письма 1 (примеч. 8), 4 (примеч. 2), 5 (примеч. 1).
См.: Balmont C. Le Cerf. – Pays du nord // Le Monde nouveau. 1924. 15 août. P. 34–35.
Перевод стихотворения «Без слов» (Бальмонт К. Дар земле. Париж: Русская земля, 1921. С. 82) был опубликован через неделю: Balmont C. Sans Paroles // Comoedia. 1923. № 3709. 11 février. P. 3. Луи Лалуа (1874–1944) – театральный и литературный критик, музыковед, либреттист, генеральный секретарь Парижского оперного театра – был одним из редакторов газеты «Comœdia». Лалуа интересовался культурной жизнью русской эмиграции: его перу принадлежит ряд статей о писателях-эмигрантах и рецензий на их книги во французском переводе (см. библиографию в Russian Émigrés). Лалуа также перевел на французский стихи Бальмонта для музыкальной композиции Сергея Рахманинова «Колокола» и для кантаты Сергея Прокофьева «Семеро их» (см.: 8.VII.1923; Сергей Прокофьев – Сергей Кусевицкий. Переписка 1910–1953 / Под ред. В. Юзефовича. М.: Дека-ВС, 2011. С. 93–94).
Речь идет о литературном ежемесячнике «Signaux de France et de Belgique», который выходил в Антверпене под редакцией поэтов Андре Сальмона (1881–1969) и Франца Элленса (1881–1972). В этом журнале годом ранее появился перевод стихотворения Марины Цветаевой: Au Tsar pour la fête de Pâques / Trad. M. Miloslavsky // Signaux de France et de Belgique. 1921. № 4. 1 août. P. 192–193. Бальмонт в этом периодическом издании не печатался.
Речь идет о завтраке 8 февраля 1923 г. в клубе Cercle Littéraire International.
Имеется в виду французский писатель, журналист и редактор Жан-Ришар Блок (1884–1947), приходившийся деверем Людмиле.
Французская писательница и литературный критик Андре Магделейн Юссон (1882–1952), печатавшаяся под псевдонимом Андре Кортис.
Писательница и политический деятель Чжэн Юйсю (1891–1959), печатавшаяся во Франции под псевдонимом Суме Ченг.
См. примеч. 5 к письму 52, примеч. 4 к письму 60.
Шведский посол во Франции Йохан Яков Альберт Эренсверд (Ehrensvärd; 1867–1940) был приглашен «Международным литературным кружком» в связи с присутствием на завтраке 8 февраля 1923 г. шведской романистки Элин Вегнер (1882–1949).
Леон Базальжет (1873–1928), поэт, прозаик, критик, переводчик, член редакционной коллегии журнала «Europe». Бальмонт сообщал о своей беседе с Базальжетом (8.II.1923): «Приятно было также поговорить с Французским переводчиком Уитмана, Базальжетом, совсем братски относящемся ко мне» (Бальмонт – Шаховской. С. 246).
Сборник «Сонеты Солнца, Меда и Луны» включал четыре стихотворения о Китае: «Лунная вода», «Китайское небо», «Ткань», «Китайская греза» (С. 107–110). Сонета «Вещун» нет среди стихотворений, опубликованных Бальмонтом ко времени написания письма. Возможно, поэт имеет в виду сонет «Шаман» или «Колдун» из «Сонетов солнца, меда и луны» (С. 125, 149).
Бальмонт путает стихотворение «Без слов», чей перевод он отослал в газету «Comoedia» (см. примеч. 4 к письму 60) со стихотворением «Безглагольность» (Бальмонт К. Только любовь. Семицветник. М.: Гриф, 1903; переизд. в эмигр.: Бальмонт К. Светлый час. Избранные стихи. Париж: J. Povolozky & Co, 1921. С. 36). В библиотеке Л. Савицкой хранится второе издание сборника «Только любовь» (1908) с дарственной надписью автора: «Люси светлянке, напев ручья, моей веснянке. Ты все – моя? К. Бальмонт. 1908. Июнь. Париж».
Стихотворение «Ирландская девушка» вошло в сборник «Дар земле» (С. 94). Под «Иди тихонько» поэт, видимо, имеет в виду стихотворение «Заклинанье воды и огня» (отдел «Руны ночи» в сборнике: Бальмонт К. Птицы в воздухе. Строки напевные. СПб.: Шиповник, 1908. С. 121; переизд. в эмигр.: сборник «Светлый час», с. 29), где фраза «Иди тихонько» повторяется дважды в каждой строфе.
Речь идет о друзьях Людмилы – Марселе Темпорале (1881–1964) с женой. Темпораль, будучи инженером по образованию, зарекомендовал себя как модернистский скульптор, художник-график, театральный декоратор, критик, кукольник и кукловод.
Переводы опубликованы не были. 13 февраля 1923 г. Бальмонт писал: «От Люси получил 14 новых стихотворений в ее переводе. Размещу их в разных журналах и газетах» (Бальмонт – Шаховской. С. 251).
Я. Зборовский – импресарио, организовавший в 1923 г. весенние парижские гастроли Московского государственного камерного театра под руководством А. Я. Таирова (см. примеч. 2 к письму 67).
Речь идет о статье поэта, посвященной Театру Таирова (Бальмонт К. Камерный театр // Последние новости. 1923. № 883. 7 марта). Переведенную Савицкой статью Зборовский включил в брошюру с программой гастролей Камерного театра в Париже (Savitzky – Spire. 26.II.1923. P. 394; Записные книжки. 23.II.1923).
Стихотворение «Мое – Ей» впоследствии вошло в одноименный авторский сборник (С. 10).
Кречетов С. Бальмонт (Из моих воспоминаний) // Утро России. 1911. № 295. 23 декабря. С. 2. Возможно, под очерком о Толстом Бальмонт имеет в виду свою статью «Толстой в Англии» (Южное обозрение. 1899. № 882. 2 августа. С. 2).
Имеется в виду Союз писателей и журналистов в Париже, созданный в 1920 г. С 1921 г. председателем Союза был П. Н. Милюков, а функции секретаря исполнял В. Ф. Зеелер. Бальмонт входил в правление Союза.
24 февраля 1923 г. Бальмонт жаловался на «убогие неудачи в делах»: «„Слово“ разорилось, и Рош ведет себя как мошенник или как бессильный оправдать свое слово хвастун, и Милюков, старая баба, и новое „Звено“ со мной невежничает, и M-me de Béhague захворала и находится в Провансе, и Аргутинский все только собирается устроить вечер у Иды Рубинштейн ‹…› и Союз Журналистов лишь говорит и говорит, и даже Люси Савицкая так занята своими делами, что переводит из меня лишь изредка и лишь безделушки» (Бальмонт – Шаховской. С. 264).
Цитаты из писем, которые Людмила писала Бальмонту во время их романтических отношений зимой – весной 1902 г. (см. письма 4 и 23 в настоящем издании).
Цитата из письма 5 (см. Л. Савицкая – К. Бальмонту в настоящем издании).
Цитата из письма 4 (см. Л. Савицкая – К. Бальмонту в настоящем издании).
Имеются в виду «Кони бурь» (Аполлон. 1910. № 9. Июль – август. С. 3; переизд. в эмигр.: «Светлый час», с. 27) и «Камея» (сборник «Тишина», с. 89), переведенные и опубликованные Людмилой среди прочих стихотворений Бальмонта весной 1923 г.: Balmont C. Les Coursiers des orages. – Camée. – J’ignore la sagesse… – Aux Humains. – Je ne suis point de ceux… – Le Blessé. – Oh oui… // La Nervie. 1923. № 5. Mai. P. 123–124.
Речь идет о переводах стихотворения «В моем саду» (1900; цикл «Трилистник», посвященный Дагни Кристенсен, из сборника «Будем как солнце», с. 96) и сонетов о Китае из сборника «Сонеты Солнца, Меда и Луны» (см. примеч. 8 к письму 61). Переводы остались неизданными.
Писатель и общественный деятель Ромен Роллан (1866–1944) был основателем литературного журнала «Europe», начавшего выходить в 1923 г. Здесь были опубликованы три стихотворения Бальмонта в переводе Савицкой: Plus ancien. – La souterraine. – Annonciation // Europe. 1923. № 5. 15 juin. P. 14–17. В это время Бальмонта с Ролланом связывали дружеские отношения, которые сойдут на нет в результате их политического конфликта во второй половине 1920‐х гг. (см. письма 149, 161). В отличие от перевода стихотворения «Из подземелья» (сборник «Ясень. Видение древа»), появившегося в журнале Роллана, «Заговор о конях» (ibidem) остался неопубликованным.
Антуан Орлиак (1880–1958), поэт, критик литературы и искусства, соредактор ежемесячника «La Nervie», в котором Людмила опубликовала ряд стихотворений и статью Бальмонта в своем переводе (см. примеч. 4 к письму 65, примеч. 2 к письму 123).
Перевод стихотворения «Древней» («Я чувствую, что я древнее, чем Христос…»; сборник «Дар земле», с. 24) был опубликован в журнале «Europe» (см. примеч. 2 к настоящему письму). «Толедо» (отдел «Четверогласие стихий», сборник «Будем как солнце», с. 52) и «Ирландская девушка» (сборник «Дар земле», с. 94) по-французски не издавались.
Имеется в виду стихотворение «Ирландская девушка» (см. примеч. 4 к этому письму), которое Бальмонт цитирует в докладе «Лики женщины в поэзии и жизни», переведенном Людмилой на французский (см. примеч. 10 к письму 54). В русской модернистской среде Уильям Батлер Йейтс (1865–1938) был одним из наименее известных и переводимых из современных западных поэтов. См.: Keys R. The Reception of the Work of W. B. Yeats in Russia and Countries of the Former USSR // The Reception of W. B. Yates in Europe / Ed. K. P. Jochum. London: Continuum, 2006. P. 136–141.
Поэтический вечер в честь Андре Спира (см. примеч. 9 к письму 5), на котором среди прочих выступали Людмила Савицкая и Андре Фонтенас, состоялся 6 марта 1923 г. в «Хамелеоне». Сам Спир не присутствовал (см.: Savitzky – Spire. 7.III.1923. P. 399–402). В библиотеке Л. Савицкой хранится первый и единственный поэтический сборник Бальмонта во французском переводе («Quelques poèmes», 1916) с каламбурной дарственной надписью автора, рифмующей Spire – respire: «À André Spire. „Avec vous, je respire et plus profondément et plus amplement…“ Constantin Balmont. Clamart. 1923. 13 juin» («Андре Спиру. „С Вами мне дышится и глубже и свободнее…“ Константин Бальмонт. Кламар. 1923. 13 июня»).
Речь идет о парижских гастролях Московского государственного камерного театра под руководством А. Я. Таирова. Бальмонт выступал на вечере, устроенном в честь труппы 4 марта 1923 г., и присутствовал на премьере, состоявшейся 6 марта (см.: Камерный театр. Чествование А. Я. Таирова // Последние новости. 1923. № 883. 7 марта).
Вечер Георгия Дмитриевичa Гребенщиковa (1883–1964) состоялся 8 марта 1923 г. Сюда были приглашены французские литераторы по случаю выхода в свет перевода первого тома романа-эпопеи Гребенщикова «Чураевы» (Grébenstchikov G. Les Tchouraïev / Tr. H. Mongault. Paris: Bossard, 1922; см. «Чураевы» на французском языке // Последние новости. 1923. № 844. 20 января). Судя по всему, именно Бальмонт, близко сошедшийся с Гребенщиковым зимой 1923 г., познакомил с ним Людмилу (см.: Бальмонт – Шаховской. 11.III.1923. С. 280). Савицкая вступила в переписку с Гребенщиковым и несколько раз виделась с ним в Париже (Записные книжки. 14 апреля, 5 ноября 1923). «Чураевы» так заинтересовали уроженку Урала сибирской тематикой (Savitzky – Spire. 7.II.1923. P. 392), что Людмила выступила с докладом о творчестве Гребенщикова в ноябре 1923 г. все в том же модернистском кабаре «Хамелеон» (машинопись доклада, «Georges Grebenshchikov», хранится в IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ30, папка «Littérature russe, traductions et documents»). См. также письмо 86.
Balmont C. Vassenka // La Revue européenne. 1924. № 11. 1 janvier. P. 1–10.
В библиотеке Л. Савицкой хранится экземпляр книги (Бальмонт К. Воздушный путь. Рассказы. Берлин: Огоньки, 1923) с дарственной надписью автора: «Люси, многоцветной, многозвучной, верной и единственной, с преклонением и любовью, К. Бальмонт. 1923. 13. Март. Париж».
5 марта 1923 г. Бальмонт письменно поблагодарил Жалу за помощь и выразил надежду, что сможет рассчитывать на его поддержку и в будущем (Bibliothèque littéraire Jacques Doucet <Paris>, папка MS6781 Constantin Balmont à Edmont Jaloux). У поэта были основания надеяться на дальнейшую помощь влиятельного критика, так как за первые три месяца 1923 г. тот дважды обратил внимание французских читателей на творчество Бальмонта, сначала в обзорной статье о современной иностранной литературе (Jaloux E. L’ Année littéraire étrangère // L’ Eclair. 1923. № 12362. 7 janvier. P. 2), а затем в рецензии на «Visions solaires» (Jaloux E. La Vie littéraire // L’ Eclair. 1923. № 12418. 4 mars. P. 2), которая и послужила поводом для благодарственного письма.
Адресатом письма был муж Людмилы Савицкой, Марсель Блок, чем и объясняется выбор французского языка для этого послания. Людмила перенесла в середине марта операцию и была не в состоянии поддерживать переписку и работать в течение месяца.
Речь идет о крушении надежд на публикацию ряда переводов в журнале де Траза «La Revue de Genève» (см. письмо 54), который принял лишь один текст Бальмонта (см. примеч. 7, ibidem).
Людмила издавала свои французские романы для детей под псевдонимом Lud.
См. примеч. 5 к письму 67.
Бальмонт К. Три встречи с Блоком // Звено. 1923. № 7. 19 марта. С. 2.
Поэт и прозаик Рене Аркос (1880–1959) был членом редакционной коллегии журнала «Europe».
Стихотворение «Annonciation» опубликовано в журнале «Europe» (см. примеч. 2 к письму 66). Стихотворение «Rivale d’Ys» вышло годом позже в журнале «Lux» (см. примеч. 1 к письму 95).
Бальмонт читал стихотворение «Тоска степей» (цикл «Цветочный сон», сборник «Зарево зорь») на своем вечере в «Хамелеоне», где Людмила также читала свои французские переводы двух его стихотворений «Скифы» (см. примеч. 1–2 к письму 58).
23 апреля 1923 г. Бальмонт писал своему старому знакомому, литературоведу Евгению Александровичу Ляцкому (1868–1942), эмигрировавшему в Чехословакию: «Да, я собираюсь в конце мая в Прагу, а посмотрев на нее и подышав там недели полторы, думаю, что и вовсе переберусь туда, буде Судьба того пожелает. Здесь жизнь злосчастная. Нищенство мне надоело – до желания прихода смерти. И Французы совсем внешне к нам относятся, а здешние Русские, за небольшим исключением, либо подлецы, либо пакостники, дрянные и ничтожные. Никакой атмосферы, никакого света, пустырь, даже не пустыня, ибо в пустыне есть оазисы, и ей самой свойственна великая красота, хотя и жуткая. А что есть пустырь, самое это слово, рифмующееся с упырь, говорит выразительно» (Бальмонт – Ляцкому. С. 82).
В журнале «Europe» были опубликованы три стихотворения Бальмонта с кратким вступительным словом Людмилы Савицкой. См. примеч. 2 к письму 66.
Елена Цветковская и Мирра Бальмонт посетили выздоравливающую Людмилу 19 апреля 1923 г., Бальмонт с Миррой 24-го, а затем Цветковская сама 26-го (Записные книжки).
Бальмонты наведывались к Савицкой 12 июня, в день, когда у нее были еще две другие встречи (Записные книжки).
Из письма Бальмонта: «Вы знаете, я вообще ненавижу машины и считаю их живыми и злыми порождениями Дьявола. В них есть та прикладная безошибочность, соединяющая в себе, в странном противоречии, долгую подстерегающую медленность и мгновенность верной хватки, что мы видим в повадках спрута» (Бальмонт – Бунину. 27.VI.1922. С. 50).
См. примеч. 4 к письму 65. Проект издания отдельной книгой лирики Бальмонта в переводе Савицкой впервые упоминается в письме 5.
Поэт, прозаик и литературный критик Пьер Жан Жув (1887–1976) заведовал серией «Poésie du temps» в парижском издательстве Stock, Delamain, Boutelleau & Cie, где программой иностранной литературы руководил благоволивший Бальмонту (стараниями Людмилы) Эдмон Жалу.
Перевод стихотворения «Благовестие», опубликованный в журнале «Europe» (см. примеч. 2 к письму 66).
В библиотеке Савицкой хранится неразрезанный экземпляр романа (Бальмонт К. Под новым серпом. Берлин: Слово, 1923) со следующей дарственной надписью: «Всегда хранимой в моем сердце, Люси Савицкой, с которой я хотел бы – наконец – обвенчаться, на свадьбе Французского и Русского языка. К. Бальмонт. Париж – Кламар. 1923. Июль. 12».
Имеются в виду переводы Бальмонта из Кальдерона (Сочинения Кальдерона. Вып. 1–3. М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1900–1912) и Эдгара По (Собрание сочинений Эдгара По: В 4 т. М.: Скорпион, 1901–1912). В библиотеке Л. Савицкой хранится ряд переводов Бальмонта, дарственные надписи на этих изданиях действительно «сухи», так как сводятся к имени переводчика, дате и месту подношения. Первый том «Собрания сочинений Эдгара По», включавший стихотворение «Лелли», сыграл особую роль в любовной истории Бальмонта и Савицкой зимой – весной 1902 г. (см. Л. Савицкая – К. Бальмонту, примеч. 4 к письму 2).
Людмила переехала в свой летний дом в деревне Летью 14 июля 1923 г., повидавшись с Бальмонтами за два дня до отъезда (Записные книжки).
В приложении к письму сохранилась лишь рукопись стихотворения «Глубинный» («Как, топя ладью, косматый…»), вошедшего в сборник «Мое – Ей» под названием «Нерушимый» (С. 64). Библиографические данные о стихотворении «Последний остров» установить не удалось.
Иван Константинович Лебедев (Jean Lébédeff, 1884–1972), гравер, живописец, иллюстратор, был ветераном русской артистической колонии и активным участником жизни русского литературно-художественного авангарда в Париже начала 1920‐х гг. Он был также одним из самых востребованных книжных иллюстраторов межвоенной Франции.
Флоран Фельс (1891–1977), критик и историк современного искусства, основатель журналов «Action» и «L’ Art vivant», работал редактором в парижском издательстве «Сток» (см. примеч. 1 к письму 72).
О повести «Белая невеста» см. примеч. 6 к письму 59. Рассказ Бальмонта «Воздушный путь. Тринадцатое марта», датированный 1908 г., был впервые опубликован в авторском сборнике «Воздушный путь» (С. 7–37). Французский перевод рассказа не издавался.
Рассказы из сборника «Воздушный путь». О переводе «Васеньки» см. примеч. 4 к письму 67. 11 апреля 1923 г. Савицкая беседовала с Бальмонтом (Записные книжки) и в тот же день начала работу над переводом «Ливерпуля» (впервые: Русская мысль. 1909. Кн. III. С. 1–11; переизд.: Бальмонт К. Воздушный путь. С. 75–94). О публикации перевода «Ливерпуля» см. примеч. 3 к письму 111.
Анри Монго (см. примеч. 2 к письму 2), служа в редакции издательства «Боссар», был одним из самых активных литературных переводчиков с русского на французский. В 1920‐е гг. он интенсивно переводил прозу эмигрантских писателей – Г. Гребенщикова, А. Куприна, Д. Мережковского, И. Шмелева и др. Более подробно см. в библиографии Russian Émigrés.
Очерк «Где мой дом?» (впервые: Последние новости. 1923. № 1008. 5 августа; переизд.: Бальмонт К. Где мой дом? С. 169–182) станет единственной публикацией поэта в швейцарском журнале «La Revue de Genève» (см. примеч. 7 к письму 54).
Речь идет об Альфонсе де Шатобриане (1877–1951), лауреате Гонкуровской премии за 1911 г., близком друге Ромена Роллана, авторе романа «La Brière» (1923), получившего приз Французской академии за лучший роман года.
О Ромене Роллане см. примеч. 2 к письму 66.
См. примеч. 1 к письму 57.
Из письма Бальмонта (24.VIII.1923): «Люси перевела мои стихи „Россия“, „Глубинный“, „В Синем Царстве“ и „Последний Остров“. Я послал их в „Женевское Обозрение“. К сожалению, я не очень доволен ее переводами. Она ослабляет и банализирует текст. Вчера у меня были два санскритолога, Сильвен Леви и наш Ольденбург. Они очень ругали стихотворные переводы Савицкой. Не везет мне в этой сфере» (Бальмонт – Шаховской. С. 383–384). Переводы остались неопубликованными.
Письмо хранится в картоне SVZ29, папка «Poèmes de Balmont traduits par L. Savitzky + poèmеs en russe».
Стихотворения «Моя твердыня» и «Остережение» вошли в авторский сборник «Мое – Ей» (С. 7, 103).
Из письма Бальмонта (2.IX.1923): «Мне захотелось также послать Тебе № „Последних новостей“ со стихами „Моя твердыня“, в пятницу написанными в минуту, когда мне можно было бы отчаяться, а я не захотел» (Бальмонт – Шаховской. С. 387).
Письмо хранится в картоне SVZ29, папка «Poèmes de Balmont traduits par L. Savitzky + poèmеs en russe».
Людмила писала мужу (10.IX.1923): «Я рассердилась на Бальмонта, от которого сегодня утром пришло письмо. Я послала ему черновик прозаического перевода, чтобы он перепечатал его на машинке и прислал мне копию для редактирования. А он мне сообщает, то просто-напросто отослал свою копию де Тразу – а мне ничего не потрудился прислать!» (<пер. с фр.> частное собрание наследников Л. Савицкой).
Имеется в виду обзорная статья о русской эмигрантской литературе, в которой Анри Монго (см. примеч. 2 к письму 2, примеч. 2 к письму 74) останавливается среди прочего и на творчестве Бальмонта: Mongault H. Les Lettres russes en exil // La Renaissance d’Occident. 1923. № 3. Septembre. P. 731–740.
Бальмонт K. Чета // Последние новости. 1923. № 1049. 23 сентября. С. 2.
Бальмонт К. Золотой обруч // Дни. 1924. № 419. 21 марта. С. 7 (сонеты 1–6); № 431. 6 апреля. С. 7 (сонеты 7–8); № 442. 20 апреля. С. 7 (сонеты 10–12); № 447. 27 апреля. С. 1 (сонеты 13–15). Сонеты вошли в авторский сборник «Мое – Ей» (С. 111).
Чешский перевод «Солнечных видений» не состоялся. Подробнее о переписке Бальмонта с чешскими литераторами, а также о чешских переводах его поэзии см.: Лаптева Л. Неизвестные письма Константина Бальмонта в архивах Чехословакии // Русская литература. 1990. № 3. С. 169–179.
Писатель, эссеист и литературный критик Фредерик Лефевр (1889–1949), входил в редакционный комитет парижского литературного еженедельника «Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques». Бальмонт встретился с Лефевром в редакции газеты 19 сентября 1923 г., чтобы предложить к публикации очерк о Японии (Бальмонт – Шаховской. 19.IX.1923. С. 397).
«Дорогой Мэтр, будьте любезны прислать мне безотлагательно строк пятнадцать о Вашем творчестве, чтобы представить нашим читателям „Где мой дом?“, который появится в нашем ноябрьском номере. Основные даты Вашей жизни, названия произведений, и общая характеристика. Заранее благодарен…» (фр.).
Судя по тому, что опубликованная биографическая заметка подписана Людмилой Савицкой, переводчица нашла текст Бальмонта неподходящим не только с точки зрения французского стиля, но и по содержанию. См.: Ludmila Savitzky, Constantin Balmont // La Revue de Genève. № 41. XI.1923. P. 654.
К письму приложена автобиографическая заметка Бальмонта:
Constantin Balmont
Constantin Balmont est le plus grand poète russe de nos jours, et son rôle dans l’histoire de la poésie russe est unique. Après les aubes splendides dont les créateurs étaient Pouchkine, Lermontov, Tutchev et Féte, la poésie russe, vers la fin du 19-me siècle, se mourait, toute exténuée. C’est alors que commença sa marche triomphale créateur du vers musical, Constantin Balmont. Son œuvre est la reconstruction complète du verbe poétique en Russie. Ayant comme base la musique de la parole, et cherchant son Coran unique dans la Nature Créatrice, Balmont a donné des révélations poétiques dans ses livres «Sous le Ciel du Nord» (1894), «Dans l’Illimité» (1895), et surtout dans «Les Édifices en Flamme» (1900) et dans «Soyons comme le Soleil» (1903). Parmi les livres de date plus récente qui indiquent des étapes dans la philosophie poétique et panthéistique de Balmont on doit indiquer «Le vert Verger» (1909), «Le blanc Constructeur», «Poèmes du Frêne» (1916), «Sonnets du Soleil, du Miel et de la Lune» (1917), enfin son roman en prose, «Sous le croissant de la Nouvelle Lune» (1923).
Constantin Balmont naquit dans le gouvernement de Vladimir, 1867. Depuis trois ans il est en France, comme un exilé. Il l’était déjà pendant la dernière période du tsarisme (1906–1912). Balmont est un grand voyageur. Deux fois il a fait le tour du monde. Son livre «Visions Solaires», dans la traduction française excellente de M-me Ludmila Savitzky, a eu, à Paris, un grand retentissement.
La meilleure caractéristique de la personnalité poétique de Balmont est faite par un autre grand poète russe, auteur du «Cor Ardens», Viatcheslav Ivanov: «A côté de la folie, à côté du gouffre, Balmont trouve un chemin, – mais ce chemin mène sur les flammes, sur des épines qui brûlent. Ici, chaque cri de la douleur se transforme dans le bénissant „Oui?“ de l’existence. Au poète il paraît qu’il brûle, et son appel unique, son ordre unique à l’humain, dit: „Brûle!“ Il ne cesse pas de chanter mille fois des litanies du Feu. Ses sensations „momentanées“ se transforment dans des éclairs qui s’enflamment chaque seconde, dans les irradiations d’un noyau fondu, dans des protubérances solaires».
Пер. с фр.: Константин Бальмонт – крупнейший из современных русских поэтов, и его роль в истории русской поэзии уникальна. К концу девятнадцатого века, после великолепных зорь, зажженных Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым и Фетом, русская поэзия умирала от изнеможения. Именно тогда началось триумфальное шествие создателя музыкального стиха Константина Бальмонта. Его творчество полностью восстановило поэтическое слово в России. Основываясь на музыке слова и ища в Созидательной Природе свой единственный Коран, Бальмонт наполнил поэтическими откровениями книги «Под северным небом» (1894), «В безбрежности» (1895) и особенно «Горящие здания» (1900) и «Будем как солнце» (1903). Из книг, опубликованных позже, следует отметить такие этапы в поэтической и пантеистической философии Бальмонта, как «Зеленый вертоград» (1909), «Белый Зодчий», «Ясень» (1916), «Сонеты Солнца, Меда и Луны» (1917) и, наконец, роман в прозе «Под новым серпом» (1923).
Константин Бальмонт родился во Владимирской губернии в 1867 г. Последние три года он провел изгнанником во Франции. Та же участь постигла его в поздний период царизма (1906–1912). Бальмонт – знаменитый странник. Он дважды совершил кругосветное путешествие. Его книга «Солнечные видения», в замечательном французском переводе г-жи Людмилы Савицкой, пользовалась большим успехом в Париже.
Лучшую характеристику поэтической личности Бальмонта дал другой большой русский поэт, автор «Cor Ardens», Вячеслав Иванов: <далее следует цитата из статьи Иванов В. К. Д. Бальмонт // Речь. 1912. № 69. 11 марта. С. 2>.
Его триумфальное шествие (фр.).
Рашильд – псевдоним писательницы Маргариты Эмери (1860–1953), знаковой фигуры раннего французского модернизма, автора скандального романа «Monsieur Vénus» (1884), заведовавшей секцией литературной прозы в журнале «Le Mercure de France», который широко распахнул двери перед писателями-эмигрантами (см. библиографию в Russian Émigrés).
В это время Людмила переводила для издательства «Сток» роман английского модерниста Джона Родкера: Rodker J. Montagnes russes / Préf. E. Jaloux. Paris: Stock, 1923.
См. примеч. 3 к письму 73.
Бальмонт был знаком с критиком литературы и искусства, редактором и издателем Сергеем Матвеевичем Ромовым (1883–1939) со времен своей первой эмиграции. В 1920‐х гг. их общение продолжалось, несмотря на резкие расхождения во взглядах на советскую власть. Оба были завсегдатаями поэтических вечеров в монпарнасском литературном кабаре «Хамелеон». Подробнее о месте Ромова в транснациональной модернистской культуре Парижа см.: Ливак Л. Героические времена молодой зарубежной поэзии. С. 28–29, 41–42, 71–76, 127–131.
Kouprine A. Le Mal de mer. Le Capitaine Rybnikov / Trad. H. Mongault. Paris: Stock, 1923.
Анри Монго перевел книгу Куприна, о которой здесь идет речь (см. предыдущее примечание).
Открытка: Jardin du Luxembourg (Artistique) – La Fontaine de Médicis (Фонтан Медичи в Люксембургском саду <фр.>).
Речь идет о франкоязычном вечере Георгия Гребенщикова в кафе «Хамелеон», которым открылся сезон «Монпарнасской богемы» под руководством Александра Мерсеро (см. примеч. 4 к письму 56). Людмила прочитала здесь доклад о творчестве Гребенщикова (см. примеч. 3 к письму 67), а Бальмонт, в качестве почетного председателя, произнес вступительное слово. В прессе вечер был анонсирован на пятницу 9 ноября, однако из следующего письма к Савицкой, из ее записных книжек, а также из переписки Бальмонта с Шаховской (9.XI.1923. С. 403) следует, что чествование Гребенщикова в «Хамелеоне» состоялось в понедельник 12-го.
Речь идет об утреннике в честь Гребенщикова, состоявшемся 30 октября 1923 г. в помещении Hôtel Majestic. Вместе с Бальмонтом здесь выступали А. Куприн, Н. Рерих и артисты Московского художественного театра (Мнухин Л. Русское зарубежье. С. 110).
Непоследовательный, противоречивый (фр.).
Имеется в виду совладелец издательского дома Stock, Delamain, Boutelleau & Cie – Жак Бутелло, писавший романы и литературную критику под псевдонимом Жак Шардонн (1884–1968).
Некрасивый (фр.).
Бальмонты приехали к Людмиле 9 ноября для репетиции речи поэта на франкоязычном вечере Георгия Гребенщикова в «Хамелеоне» 12 ноября 1923 г. (Записные книжки).
В библиотеке Л. Савицкой хранится экземпляр сборника «Зарево зорь» (см. примеч. 6 к письму 54) со следующей дарственной надписью: «Люси, мечте весны далекой, / Воздушной, вольной, светлоокой. К. Бальмонт. 1912.II.1. Пасси».
Судя по ответу Бальмонта, второй вопрос Людмилы относился к ее нереализованному проекту издать по-французски антологию русской модернистской поэзии. За исключением Андрея Белого, Александра Кусикова и Игоря Северянина, все перечисленные Бальмонтом поэты должны были войти в антологию. В бумагах Л. Савицкой (IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ30, папка «Littérature russe. Traductions et documents») сохранились рукописи стихотворных переводов из Анны Ахматовой, Александра Блока («Двенадцать»), Валерия Брюсова, Аделаиды Герцык, Зинаиды Гиппиус, Сергея Городецкого, Сергея Есенина, Вячеслава Иванова, Василия Каменского, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Анатолия Мариенгофа, Марины Цветаевой и Ильи Эренбурга. В ее библиотеке хранятся сборники стихов (Поэзия большевистских дней. Берлин: Мысль, 1921; Поэзия революционной Москвы / Под ред. И. Эренбурга. Берлин: Мысль, 1922) с пометками напротив имен авторов, которые должны были войти в антологию. Кроме вышеперечисленных авторов, Людмила намеревалась включить сюда Н. Гумилева, Р. Ивнева, Ф. Сологуба и В. Шершеневича.
Под таким общим названием поэт публиковал очерки парижской культурной жизни в рижской газете «Сегодня». См.: Бальмонт К. Письмо из Парижа // Сегодня. 1923. № 263. 25 ноября. С. 5.
Имеется в виду доклад Савицкой на вечере Георгия Гребенщикова в «Хамелеоне» (см. примеч. 2 к письму 86). В своем очерке Бальмонт также обсудил парижские гастроли труппы МХАТ, под руководством К. Станиславского, прошедшие осенью 1923 г.
См. примеч. 2 к письму 78.
Вечер Альфонса де Шатобриана (см. примеч. 1 к письму 76), на котором присутствовал Бальмонт, состоялся 14 декабря 1923 г. в «Хамелеоне» (Бальмонт – Шаховской. С. 410).
Георгий Гаврилович Шклявер (1897–1970), юрист, публицист, теоретик международного права, переводчик, пропагандист учения Николая Рериха, сотрудничал в парижском ежемесячнике «La Vie des Peuples», определявшем свою миссию как «общее обозрение французской и иностранной мысли и деятельности». Среди прочего Шклявер писал в журнале о литературной и культурной жизни русской эмиграции во Франции (см. его библиографию в: Russian Émigrés. P. 369–371).
Об издании перевода стихотворения «Соперник Иса» см. примеч. 1 к письму 95.
См. примеч. 3 к письму 69.
См. примеч. 4 к письму 11.
Имеется в виду переиздание статьи Вячеслава Иванова «О лиризме Бальмонта» (Аполлон. 1912. № 3–4. С. 36–42) в «Записках Неофилологического Общества при Петербургском университете» (1914. № 7. С. 45–54). Этот панегирик ветерану русского модернизма бросал вызов властям, так как чествование 25-летия литературной деятельности Бальмонта в Неофилологическом обществе (11 марта 1912) проходило при вынужденном отсутствии виновника торжества, пребывавшего в политической эмиграции. Библиографические данные о «Гордой Сине» найти не удалось.
Речь идет о рецензии на книгу поэтических переводов Андре Фонтенаса из Перси Биши Шелли. В статье среди прочего обсуждаются переводы из Шелли, выполненные Бальмонтом (см.: Л. Савицкая – К. Бальмонту, примеч. 11 к письму 6, примеч. 1 к письму 24) и имевшие для рецензентки особое значение, поскольку работа поэта над новым русским изданием собрания сочинений Шелли совпала с их романом зимой – весной 1902 г. Рецензия появилась в том же номере журнала, что и перевод «Васеньки»: Savitzky L. Odes, poèmes et fragments lyriques de Percy Bisshe Shelley, traduction et introduction d’André Fontainas // La Revue européenne. 1924. № 11. 1 janvier. P. 74–77.
Речь о Куприне (см. примеч. 4 к письму 15) и его жене Елизавете Морицевне Куприной (1882–1942).
Из русских эмигрантских писателей один лишь Куприн издавался у Морнэ. См.: Kouprine A. Les Lestrygons / Trad. H. Mongault. Paris: A & G. Mornay, 1924; La Fosse aux filles / Trad. H. Mongault, L. Desormonts. Paris: A & G. Mornay, 1926 (переизд. боссаровской книги 1923 г.). Книги Ивана Шмелева выходили во французском переводе в издательствах «Боссар» и «Плон» (см. библиографии Куприна и Шмелева в: Russian Émigrés. P. 186–191, 379–380).
Бальмонт К. Вечно бодрствующие. Встречи с евреями // Звено. 1924. № 54. 11 февраля. С. 3–4. Сотрудничество Бальмонта с франко-еврейским журналом «Менора» началось по инициативе Савицкой, регулярно писавшей здесь критические очерки и книжные рецензии благодаря литературному покровительству Андре Спира, участвовавшего в движении французских сионистов. Первая публикация Бальмонта в «Меноре» состоялась годом ранее: Balmont C. Médaillons juifs. – Minuit dans une fleur // Menorah. 1923. № 9–10. Janvier. P. 139–140. Доклад «Вечно бодрствующие» был переведен на французский (Бальмонт – Шаховской. 24.III.1924. С. 442), но перевод остался неопубликованным. По-английски, вопреки утверждению поэта, он тоже не выходил.
См. примеч. 1 к письму 66.
Бальмонт К. Семисвечник рифмы // Записки наблюдателя. 1924. № 1. С. 251–256.
Бальмонт К. Андрэ Спир // Сегодня. 1924. № 96. 29 апреля. С. 2.
Парижский театр американского поэта, танцора, хореографа, теоретика и критика искусства Реймона Дункана (1874–1966), брата Айседоры Дункан. Речь идет о «платном Русско-Французском вечере», который поэт задумал как «единственную надежду, что смогу уехать в апреле к Океану» (Бальмонт – Шаховской. 15.II.1924. С. 429). В бумагах Л. Савицкой сохранилась программа вечера, состоявшегося 24 марта 1924 г. в помещении Théâtre Raymond Duncan и включавшего выступления по-русски, по-французски и по-английски. В частности, Людмила читала здесь свои французские переводы из Бальмонта, а Реймон Дункан читал английские переводы лирики поэта (IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ29, папка «Hommage à Constatin Balmont + Presse»).
Муж Людмилы, Марсель Блок, служил главным инженером железнодорожной ветки Париж – Орлеан.
Кроме самого директора театра, Реймона Дункана (см. примеч. 4 к письму 91), здесь упоминаются: пианист и бывший профессор Московской консерватории Николай Андреевич Орлов (1892–1964); скрипачкa Лея Сауловна Любошиц (Luboschitz, 1885–1965); певица сопрано М. П. Тобук-Черкасс, бывшая руководительница хора графа А. Д. Шереметьева и основательницa петербургского Музыкально-исторического общества; певицa сопрано Марсель Жерар (см. примеч. 1 к письму 57); танцор, хореограф и художник Александр Семенович Сахаров (1886–1963) и его жена, танцовщица Клотильда фон Дерп (1892–1974). Сахаров написал портреты Бальмонта и Савицкой для статьи Андре Спира о вечере поэта в «Хамелеоне» 22 января 1923 г. (Записные книжки. 16–18 апреля 1923; Бальмонт – Шаховской. 15.IV.1923. С. 311), поскольку Спир считал, что фотографии слишком старят Бальмонта (Savitzky – Spire. 4.IV.1923, 18.IV.1923. P. 420, 427). Еленa Цветковская писала Людмиле (17.IV.1923): «Был у нас сегодня Сахаров, приносил Ваш лик. Нам понравилось. Это Ваше выражение. Хотя весь очерк лица и все черты крупнее, чем я вижу Ваше живое. Но художник утверждает, что Вы должны быть такая, как сделал он. Бальмонт радуется завершению Ливерпуля, и, конечно, нетерпеливится увидеть его французский наряд. Однако не насилуйте себя. Сахаров сказал, что у Вас было страшно утомленное лицо» (IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ1, папка «Lettres à identifier»).
Спиру чрезвычайно понравилась статья Бальмонта, с которой он ознакомился в переводе Савицкой еще до публикации в рижской газете «Сегодня» (Savitzky – Spire. 17.III.1924. P. 468).
Людмила распространила билеты среди знакомых французских литераторов (Savitzky – Spire. 17.III.1924. P. 469).
Альфред Валлетт (1858–1935), писатель, критик, главный редактор журнала «Le Mercure de France», супруг писательницы Рашильд (о ней см. примеч. 1 к письму 84).
О вечере поэта в Театре Дункан см.: Бальмонт – Шаховской. 25.III.1924. С. 442.
20 марта 1924 г. в помещении ресторана Brasserie Lipp состоялся вечер литературного журнала «La Phalange», на котором среди прочих выступавших постоянных сотрудников Людмила читала свои стихи (Savitzky – Spire. 17.III.1924. P. 468–469).
Имеются в виду стихотворения Бальмонта в переводе Александры Гольштейн и Рене Гиля (см. примеч. 4 к письму 3), которые Савицкая декламировала на вечере в Театре Дункан вместе с переводами из довоенной антологии русской поэзии, изданной Жаном Шюзвилем (1886–1974; Chuzeville J. Anthologie des poètes russes. Paris: G. Crès, 1914).
Парижский ежемесячник «Lux», заявивший о себе как о «всемирном обозрении», начал выходить в 1924 г. До закрытия журнала в том же году Бальмонт успел опубликовать здесь одно стихотворение: Balmont C. Rivale D’Ys // Lux. 1924. № 3. Juin. P. 383–384.
Речь идет о письмах Савицкой Бальмонту 1902 г. (см. настоящее издание). Именно благодаря тому, что Бальмонт вернул эти письма перед отъездом из Парижа, их не постигла печальная участь всего архива поэта.
Открытка: Châtelaillon. – Retour de Pêche. Attelage moderne (Возвращение с рыбалки. Современная упряжь <фр.>).
В марте вышел в свет, с двухлетней задержкой, французский перевод романа Джеймса Джойса «Портрет художника в юности» (1916), над которым Людмила работала в 1920–1921 гг. и который стал первой французской публикацией ирландского модерниста: Joyce J. Dedalus: Portrait de l’artiste jeune par lui-même. Paris: La Sirène, 1924. Подробнее об истории сотрудничества Савицкой с Джойсом см.: Livak L. «A Thankless Occupation». P. 33–61.
Подарочный экземпляр «Портрета художника в юности» утерян вместе с библиотекой и архивом Бальмонта. Позволим себе предположить, что в дарственной надписи к своему переводу романа Джойса Савицкая обыгрывает дарственную надпись в книге, хранящейся в ее библиотеке: Бальмонт К. Зовы древности. СПб.: Пантеон, 1908. Надпись сделана не рукой автора: «„Люси“ за К. Бальмонта». Подписывая свой перевод, Савицкая дарила книгу «за» Джойса. Бальмонт подарил Савицкой переиздание «Зовов древности» (Берлин: Слово, 1923) с надписью: «Люси Савицкой дружески К. Бальмонт. 1923. 13 июня. Париж».
См. примеч. 1 к письму 27.
См. примеч. 1 и 5 к письму 90.
Бальмонт К. Имени Тютчева // Дни. № 447. 1924. 27 апреля. С. 2–3. О статье Бальмонта, посвященной творчеству Спира, см. примеч. 3 к письму 91. Людмила вскоре перевела (Записные книжки. 12–13 мая 1924) и опубликовала эту статью (см. примеч. 4 к письму 99).
Бальмонт цитирует письма Савицкой времен их любовной связи (см. в настоящем издании).
Цитата из стихотворения Бальмонта «В столице», из сборника «Под северным небом» (С. 74), который он подарил Людмиле зимой 1902 г.: «Свежий запах душистого сена мне напомнил далекие дни, / Невозвратного светлого детства предо мной загорелись огни; / Предо мною воскресло то время, когда мир я безгрешно любил, / Когда не был еще человеком, но когда уже богом я был».
Бальмонт познакомился с поэтом и бывшим врангелевцем Измаилом Евгеньевичем Жибером (1900–1924) в Париже осенью 1922 г. (Бальмонт – Шаховской. 31.X.1922. С. 124). Жибер, сын Мирры Лохвицкой (см. Л. Савицкая – К. Бальмонту, примеч. 2 к письму 11), быстро сблизился с Бальмонтами и влюбился в Мирру Бальмонт, названную в честь его матери. Молодые люди выстроили свои отношения по избитому сюжету из модернистского репертуара эстетически значимого поведения. В этом «тексте жизни» Жиберу выпала роль несчастного влюбленного Пьеро, а Мирре – жестокой кокетки Коломбины. Трагическая развязка их взаимоотношений, которую Бальмонт предугадал, довольно легкомысленно отнесясь к создавшейся ситуации, тоже была печальным клише в русской модернистской культуре. Из писем Бальмонтa: «Там, в соседней комнате, сидит юноша Жибер, сын Мирры Лохвицкой. Бедняга, по видимости, – как мы говорили в гимназии – врезался в Мирру Бальмонт, которая потешается над ним и вовсе холодна. По правде сказать, мне его жаль. Он что-то лепетал насчет револьвера. Я не без иронии (весьма кроткой) отсоветовал этот инструмент» (Бальмонт – Шаховской. 27.XII.1922. С. 193); «Мирра уже давно вызвала в Жибере (без каких-либо усилий с своей стороны) безответную страсть. Сегодняшняя ночь прошла в борьбе с его попыткой самоубийства. Я сам, однако, улегся спать и спокойно спал. Мне надоело подобное. Чем все это кончится, не знаю» (17.V.1923. С. 334); «Глупейшая и тягостная попытка Жибера покончить с собой из‐за Мирры, спасенного Еленой от петли, когда она приехала к нему ночью в три часа, узнав случайно о его предсмертном письме» (26.V.1923. С. 334). Подробности «пятого акта» изъезженной драмы, более четверти века разыгрывавшейся на подмостках русского модернизма, а потому «надоевшей» Бальмонту, мы находим в его письме к Шаховской от 16 мая 1924 г.: «Вчера получил несколько слов от Куприна: „И. Е. Жибер застрелился в Булонском лесу в ночь с 11 на 12 мая. В письме, найденном при нем и адресованном мне, он просит меня переслать Вам этот пакет. Письмо было всунуто за обвязку пакета“. – В пакете – его памятные книжки, разные записки и портреты его матери. На листке бумаги – просьба передать все это Мирре. Бедный мальчик! Я помню и понимаю вдвойне его прощальный взгляд» (С. 465).
Речь идет о нереализованном намерении Дагмар Шаховской переехать из Франции в Германию, которое любовники переживали как трагическое расставание на неопределенный срок (Бальмонт – Шаховской. 18, 19, 22, 27 мая 1924. С. 467–469). Их связь продолжалась еще около года, несмотря на увлечения Бальмонта другими женщинами. 10 февраля 1925 г. Сергей Прокофьев писал Н. К. Кусевицкой, что «Бальмонт по-прежнему неудержим в своем творчестве и создал Шаховской второго бэбса – мальчика или девочку, это выяснится в мае» (Сергей Прокофьев – Сергей Кусевицкий. С. 162).
Balmont C. Images de femme dans la poésie et dans la vie // Le Mercure de France. 1924. № 622. 15 mai. P. 30–66. Подробнее об обстоятельствах перевода этой статьи см. примеч. 10 к письму 54. Поэт, драматург и романист Луи Дюмюр (1863–1933), возродивший вместе с Альфредом Валлеттом «Le Mercure de France», официально заведовал всей литературной частью журнала.
Balmont C. André Spire // Les Cahiers idéalistes. 1924. № 10. Mai. P. 42–45. Получив номер журнала, Спир писал Людмиле о вступлении, которым она сопроводила статью Бальмонта: «Как хорошо Вы все объяснили в своей „шапке“, которая, в сущности, является статьей, такой умной, прочувствованной и патетической! Какая страшная судьба постигла этих больших русских поэтов в изгнании! А разве мы, в подобных обстоятельствах, не были бы так же бездомны и неуживчивы, как они?» (<пер. с фр.> Savitzky – Spire. 15.V.1924. P. 476–477).
Речь идет о статье-некрологе Анри Гильбо (Guilbeaux H. Vladimir Ilitch Lénine, in memoriam // Les Cahiers idéalistes. 1924. № 10. Mai. P. 35–38), в примечании к которой автор анонсировал свою будущую книгу о Ленине (P. 38).
Старый знакомый Людмилы, поэт, романист и драматург Эдуард Дюжарден (1861–1949) был основателем и редактором «Les Cahiers idéalistes» – «журнала литературы, искусства и социологии», в котором вышел французский перевод очерка Бальмонта о Спире.
Бальмонт К. Русский язык (воля как основа творчества) // Современные записки. 1924. № 19. С. 206–233. Текст очерка основывался на одноименном цикле парижских лекций, прочитанных Бальмонтом в Русском народном университете 13 и 28 декабря 1923 г.
В экземпляре «Visions solaires», преподнесенном Бальмонтом Анри де Ренье и ныне хранящемся в Парижской национальной библиотеке (BNF, 16-REGNIER-1094), разрезаны лишь первые сто страниц, из чего можно заключить, что французский поэт не прочитал и трети подаренной ему книги.
Бальмонт K. О звуках сладких и молитвах // Дни. 1924. № 481. 8 июня. С. 1–2.
Имеется в виду цикл из трех сонетов «Пушкин», опубликованный вместе с очерком о Пушкине в газете «Дни» (см. выше). Второй сонет цикла содержит обращение к Пушкину: «Первовладыка наш, священнейший наш друг».
Вероятно, речь идет о написанном онегинской строфой стихотворении Бальмонта «Кому судьба» (1922), опубликованном в том же юбилейном номере «Дней».
Бальмонт К. Закон Океана (морская страница) // Звено. 1924. № 76. 9 июня. С. 2.
Еще одно стихотворение на пушкинскую тему: Бальмонт К. Огнепламенный // Последние новости. 1924. № 1265. 8 июня. С. 2.
Савицкая перевела присланные ей пушкинский очерк и стихотворения Бальмонта (Записные книжки. 1 июня 1924), которые так и не появились во французской печати.
Открытка: Châtelaillon (Ch.-I.) – Rochers sur Angoulins (Скалы над Ангуленом <фр.>).
О Н. В. Чайковском см. примеч. 1 к письму 53.
От фр. gagas – здесь: выжившие из ума, маразматики.
Моисей Леонтьевич Гольдштейн (1868–1932), юрист, председатель Русского общественного комитета, основатель Союза русских писателей и журналистов в Париже, один из редакторов еженедельника «Еврейская трибуна» и газеты «Последние новости».
12 июня 1924 г. в Сорбонне состоялось торжественное чествование памяти А. С. Пушкина, организованное Комитетом помощи русским писателям и ученым, Союзом русских писателей и журналистов и Русским народным университетом. Среди выступавших были русские и французские писатели, ученые и общественные деятели (Мнухин Л. Русское зарубежье. С. 141).
От фр. goujats – хамы.
Жившая в Будапеште подруга юности Людмилы, художница Ольга Рожафи (Rozsaffy), в девичестве Лемпицкая, навестила Савицкую летом 1924 г. Бальмонт познакомился с Ольгой в Париже, весной 1902 г. (см. Л. Савицкая – К. Бальмонту, примеч. 13 к письму 7, примеч. 5 к письму 20, примеч. 1 к письму 32), сделав ее своим очередным мимолетным увлечением (см. ниже примеч. 2 к письму 105).
К письму приложен ответ Рене Аркоса: «Europe, revue mensuelle. Paris, le 18 Juin 1924. Cher Monsieur Balmont, je vous ai déjà publié et vous publierai encore avec le plus grand plaisir. À la réflexion vous comprendrez facilement les raisons qui ont empêché votre nouvelle de paraître jusqu’ici. Il y a beaucoup de bons écrivains russes. Entraîné par l’enthousiasme, j’ai retenu plus de choses que je n’en pouvais publier. Nous devons encore faire passer dans les prochains numéros Smelnov et Grebentchikov. D’une façon générale la matière qui s’offre à une revue comme la nôtre est formidable et c’est chaque fois un casse-tête pour établir les sommaires où nous sommes obligés d’introduire le plus possible de variété. Tout ce que je peux vous dire c’est que nous publierons certainement votre nouvelle avant la fin de l’année. Elle me plaît beaucoup, et si vous voulez avoir un peu de patience je la publierai avec joie. Je vous prie de bien vouloir juger la situation dans son ensemble et non à un point de vue particulier. Veuillez trouver ici, cher Monsieur Balmont, l’expression de mes sentiments les plus amicaux et les plus admiratifs. René Arcos».
Пер. с фр.: «Europe», ежемесячный журнал. Париж, 18 июня 1924 г. Уважаемый г. Бальмонт, я Вас уже издавал и снова с превеликим удовольствием издам. По зрелом размышлении Вы легко поймете причины, по которым пока задерживается издание вашей повести. Существует много хороших русских писателей. Увлекшись, я принял больше вещей, чем в состоянии опубликовать. В ближайших номерах мы еще должны пустить Смельнова (то есть Шмелева. – Л. Л.) и Гребенщикова. Могу лишь Вам обещать, что мы непременно опубликуем Вашу повесть до конца года. Она мне очень нравится, и, если Вы готовы немного запастись терпением, я ее с радостью опубликую. Прошу Вас взглянуть на общую ситуацию, оставив частности в стороне. Примите, уважаемый г. Бальмонт, наилучшие уверения моей дружбы и почтения. Рене Аркос.
Обыгрывание исковерканной фамилии Ивана Шмелева в письме Аркоса (см. выше). Подробнее о взаимоотношениях писателей-эмигрантов см.:Бальмонт – Шмелеву.
К письму приложено стихотворение «О чем ты мыслишь, жаворонок серый…».
Бальмонт К. Шошана Авивит («Пленительное имя – Авивит…») // Последние новости. 1924. № 1279. 26 июня. С. 3. Первое стихотворение из цикла, написанного Бальмонтом летом – осенью 1924 г. во время его увлечения актрисой московского еврейского театра «Габима» Шошаной Авивит (Сусанна Лихтенштейн, 1901–1981), эмигрировавшей из Советской России. Е. Андреевой-Бальмонт поэт сообщал (15.IX.1924), что Авивит «лучшая артистка Еврейского театра, моя теперешняя мечта, далекая и близкая, которой я пишу целую книгу лирики и напишу драму „Юдифь“» (Андреева-Бальмонт Е. Воспоминания. С. 527). Подробнее о взаимоотношениях Бальмонта с Авивит см.: Азадовский К. «Глаза Юдифи»: Бальмонт и еврейство // Новое литературное обозрение. 2005. № 73. С. 82–99; Хазан В. К. Бальмонт, Ш. Авивит и русско-еврейский еженедельник // Особенный еврейско-русский воздух: К проблематике и поэтике русско-еврейского литературного диалога в ХХ веке. М.; Иерусалим: Гешарим; Мосты культуры, 2001. С. 201–205.
См.: Balmont C. Chochana Avivit / Trad. L. Savitzky // Menorah. 1924. № 13–14. 1 août. P. 209.
Имеется в виду А. Н. Иванова (см. примеч. 6 к письму 14).
Романтическая дружба (фр.).
Мать Ольги Лемпицкой приходилась племянницей жене А. С. Пушкина Наталье Гончаровой (см.: Л. Савицкая – К. Бальмонту, примеч. 5 к письму 20).
Театр Габима (буквально – сцена) был создан в Белостоке в 1909 г. Наумом Давидовичем Цемахом (1887–1939), но закрылся во время войны. В 1917 г., при содействии К. Станиславского, Цемах возродил Габиму в виде студии при Московском художественном театре, под руководством Евгения Вахтангова. Вскоре Габима превратилась в отдельный еврейский театр, дающий спектакли на иврите. В 1926 г., во время заграничного турне, труппа решила не возвращаться в СССР. Часть актеров переехала в Палестину, где театр Габима возродился в обновленном составе.
Театральный псевдоним Сусанны Лихтенштейн, Шошана Авивит, значит «весенняя роза» на иврите. Бальмонт писал Шаховской: «Мне очень любопытно, как Тебе покажется мой стих „Шошана Авивит“. Кстати, месяц Авив у древних Евреев звался месяц Пасхи, когда они вышли из Египта» (4.VII.1924. С. 481).
Хаим Нахман Бялик (1873–1934), еврейский поэт и прозаик, писавший на иврите и на идише, считал Авивит лучшей исполнительницей своих текстов и поддерживал с ней близкие отношения.
Стихотворение «Удел» отсутствует в приложении к письму. Стихотворение «В голубых долинах» («Решая летний день переиначить…») датировано 27 июня 1924 г.
Открытка: Châtelaillon (Ch.-I.) – La rue du Marché (Рыночная улица <фр.>).
Подобно другим писателям-эмигрантам, стремившимся выйти на франкоязычную аудиторию, Борис Зайцев обратился к «переводчице Бальмонта» с предложением о сотрудничестве. Людмила перевела роман Зайцева «Анна» (Париж: Современные записки, 1929) и ряд рассказов, не все из которых увидели свет во французской прессе (подробнее см. вступительную статью в настоящем издании и библиографию Зайцева в: Russian Émigrés. P. 425–426). Первое упоминание в записных книжках Савицкой о сотрудничестве с Зайцевым приходится на 2 декабря 1924 г.
Вторая жена Бориса Зайцева, общественный деятель Вера Алексеевна Зайцева (1878–1965). Упоминаемые Бальмонтом тексты Б. Зайцева отсутствуют в собраниях сочинений писателя и в библиографических справочниках о его творчестве.
Подробнее о взаимоотношениях двух писателей см.: Куприяновский П. К. Бальмонт и Б. Зайцев // К. Д. Бальмонт и его литературное окружение / Под ред. П. Куприяновского, Н. Молчановой. Воронеж: ФГУП ИПФ «Воронеж», 2004. С. 121–129; Бонгард-Левин Г. Письма К. Д. Бальмонта Б. К. Зайцеву // Проблемы всемирной истории. Сборник статей в честь Александра Александровича Фурсенко. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. С. 28–36.
Мне не терпится (фр.).
К письму приложено стихотворение «Недосяжимой» («Могу ли позабыть Вас, Авивит?..»), датированное 3 июля 1924 г.
Нам не удалось обнаружить следов знакомства Савицкой с Авивит. Людмила присутствовала на совместном вечере Бальмонта и Авивит в зале гостиницы Majestic (16 февраля 1925. Записные книжки).
Имеется в виду личный автомобиль Марселя Блока (относительная редкость по тем временам). См. вторую вкладку с иллюстрациями в настоящем издании.
Открытка: Châtelaillon-Plage – Étude dans le bois de pins (Пляжный район в Шатэлейоне – Урок в сосновом лесу <фр.>).
Фраза из письма А. С. Пушкина к М. П. Погодину (19.II.1828): «На днях пришлю вам прозу – да Христа ради, не обижайте моих сирот-стишонков опечатками и т. под.» (XIV: 5).
Savizky L. S. Nadson (1862–1887) // Menorah. 1924. № 12. 15 juillet. P. 4–5. Подобно Бальмонту, Савицкая в юности увлекалась поэзией Надсона, и это заметно по ее отроческим попыткам писать стихи в 1890‐х гг. (IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ17, папка «Souvenirs d’enfance et de jeunesse. Lud»).
См. примеч. 3 к письму 99.
К письму приложено стихотворение «Созвенные» («Был легкий ветерок с предутренним туманом…»), датированное 25 августа 1924 г. Стихотворение под тем же названием, но другого содержания, вошло в авторский сборник «Дар земле» («Высокий кокошник, наряд нарочитый…» С. 44).
Венок сонетов «Основа», впервые опубликованный в журнале «Перезвоны» (1926. № 26. С. 818–820), вошел, в расширенном виде (15 сонетов), в сборник: Бальмонт К. В раздвинутой дали. Поэма о России. Белград: Русская типография, 1929. С. 191–199.
В библиотеке Л. Савицкой хранится экземпляр сборника «Мое – Ей» (см. примеч. 1 к письму 38) с дарственной надписью автора: «Дорогой и тонко-чувствующей Люси Савицкой (от Корочи райских дней до странных, но солнечных дней гремучей Атлантики). Всегда ее любящий К. Бальмонт. Шатэлейон. 1924. 10 окт.»
Balmont C. Le Cerf. – Pays du nord / Trad. L. Savitzky // Le Monde nouveau. 1924. 15 août. P. 34–35; Balmont C. Liverpool / Trad. L. Savitzky // Europe. 1924. № 22. 15 octobre. P. 194–207.
Здесь: несмотря ни на что (фр.).
Из письма поэта (25.IX.1924): «С утра и до этого часа просидел в постели, разбирая несчетные листы и листки своих стихов за последние пять лет и пытаясь установить несколько цельных оазисов. Пока вижу только „Пронзенное Облако“ и, может быть, краешек „Раздвинутой дали“» (Бальмонт – Шаховской. С. 522). В 1924 г. Бальмонт опубликовал стихотворение «По сапфировой стремнине», указав, что оно «из книги „Пронзенное облако“» (Воля России. 1924. № 14–15. С. 82–83). Проект книги остался нереализованным (вопреки неверному указанию в: Алексеев А. Литература русского зарубежья. Книги 1917–1940. Материалы к библиографии. СПб.: Наука, 1993. С. 25).
Экземпляр книги (см. примеч. 9 к письму 1) хранится в библиотеке Л. Савицкой. Судя по дате на дарственной надписи, автор преподнес ее лишь в конце 1924 г.:
Месяцем ранее Бальмонт передал Людмиле другой экземпляр той же книги для пересылки в библиотеку Еврейского университета в Иерусалиме. Книга осталась у Савицкой и ныне хранится в ее библиотеке со следующей дарственной надписью: «Студентам Иерусалимского Университета с приветом искренним. К. Бальмонт. 1924. 7 ноября. Океан». Ниже приписка: «Желаю лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия. Псалом LXXXIII, 11. Châtelaillon, Char.-Inf., Villa Aiglon».
Бальмонт К. Прихоть природы // Последние новости. 1924. № 1382. 26 октября. С. 2.
См. примеч. 1 к письму 112.
Текст и перевод «поэмы о Париже» обнаружить не удалось.
Бальмонт K. Дружба с удавом // Последние новости. 1924. № 1424. 15 декабря. С. 2–3.
Сотрудничество Бальмонта в парижской ежедневной газете «L’ Éclair» ограничилось статьей, опубликованной годом ранее: Balmont C. La France est la citadelle de la raison clairvoyante // L’ Éclair. 1924. № 12721. 1 janvier. P. 1.
Открытка: Châtelaillon-Plage. – L’ Eglise (Пляжный район в Шатэлейоне. – Церковь <фр.>).
См. примеч. 4 к письму 3.
Речь идет об очерке Бальмонта «Мысли Словацкого», включенном в сборник «Где мой дом?» (С. 41–53; впервые: Речь. 1914. № 39. 9 февраля. С. 3). Перевод остался неизданным.
Savitzky L. Aube // Menorah. 1924. № 22. 15 décembre. P. 325–326.
Письмо хранится в IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ30, папка «Corréspondance relative aux Mémoires de Mme Kousminskaya».
Наш Веселовский (итал.).
Историк литературы, ученица Александра Веселовского, автор монографии о творчестве Джованни Боккаччо («Итальянская новелла и Декамерон», 1880), Александра Алексеевна Андреева (1853–1926) была старшей сестрой второй жены поэта, Е. А. Андреевой-Бальмонт (см. примеч. 3 к письму 12). А. А. Андреева сотрудничала в журналах «Северный Вестник» и «Вестник Европы», где писала о современной западной литературе, включая и упоминаемых Бальмонтом авторов – Генрика Ибсена, Поля Бурже и Пьера Лоти. Ее перу, в частности, принадлежал критический очерк «Генрик Ибсен и основные идеи его произведений» (1900).
О роли А. А. Андреевой в истории замужества ее младшей сестры, вопреки желанию их матери, см.: Андреева-Бальмонт Е. Воспоминания. С. 283–285.
Речь идет о проекте издания по-французски книги свояченицы Л. Н. Толстого, Татьяны Андреевны Кузминской (1846–1925) «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. 1846–1862» (М.: Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1925). В поисках средств к существованию в СССР, А. А. Андреева перевела свежеопубликованные мемуары Кузминской и, через Андрееву-Бальмонт, состоявшую в переписке с мужем, искала издателя для книги во Франции.
Экземпляр книги Т. Кузминской хранится в библиотеке Л. Савицкой. Дарственная надпись: «Париж. 1925. 27 апреля. К. Бальмонт».
См. примеч. 1 к письму 76.
Как следует из писем А. де Шатобриана к Л. Савицкой, присланная из Москвы рукопись была совершенно неприемлема из‐за плохого французского языка. Людмиле пришлось полностью переработать перевод А. А. Андреевой, сверяя его с оригиналом (7.VIII.1925, 2.IX.1925, 12.X.1925, IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ30, папка «Corrеspondаnce relative aux Mémoires de Mme Kousminskaya»).
Предисловия (фр.).
«Моя» переводчица (фр.).
См. примеч. 1 к письму 56. Очерк остался неопубликованным.
У Людмилы были крайне неровные отношения с русской родней (см. вступительную статью к настоящему изданию), эмигрировавшей во Францию в начале 1920‐х гг. Кончина Анны Петровны Савицкой (см. примеч. 10 к письму 5) стала очередным эпизодом в конфликте Людмилы со старшим братом и младшей сестрой (о них см. Л. Савицкая – К. Бальмонту, примеч. 12 к письму 4, примеч. 1 к письму 17, примеч. 3 к письму 22), которые сообщили ей о смерти матери с большим запозданием.
По признанию Л. Н. Толстого, Т. А. Кузминская, вместе со своей сестрой Софьей, женой писателя, послужили прототипами Наташи Ростовой в романе «Война и мир» (1869).
Открытка: Croix-de-Vie (Vendée) – Corniche Vendéenne (Вандейские скалы <фр.>).
‹…› к одной селянке, чтобы поработать там над книгой, которая занимает меня в настоящий момент (фр.).
При содействии Шатобриана Савицкая безуспешно попыталась продать заново переведенную рукопись парижскому издательству Grasset, которое отклонило предложение, ссылаясь на то, что мемуары Кузминской неинтересны и банальны. К тому же мнению пришел и Шатобриан, ознакомившись с переводом (см. письма из издательского дома <13.II.1926, 6 и 13.III.1926>, а также письмо Шатобриана к Савицкой <1.XII.1925>, IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ30, папка «Corréspondance relative aux Mémoires de Mme Kousminskaya»). Отдельной книгой воспоминания Кузминской во Франции не вышли. Отрывки из нее печатались, стараниями Людмилы, в специальном номере журнала «Europe», посвященном столетию Толстого: Kouzminskaia T. Souvenirs / Trad. A. Andréeff, L. Savitzky // Europe. 1928. № 67. 15 juillet. P. 69–90.
Не откладывая, побыстрее сообщите г-же Людмиле Савицкой адреса Ваших московских корреспондентов (фр.).
Здесь: налаживается (фр.).
Бальмонт К. Звуковой зазыв (А. Н. Скрябин) // Последние новости. 1925. № 1553. 17 мая. С. 2–3. В начале 1910‐х гг. общность эстетических интересов сблизила композитора и пианиста Александра Скрябина с Бальмонтом и другими поэтами-модернистами. Бальмонт отдал должное творчеству Скрябина в брошюре «Светозвук в природе. Световая симфония Скрябина» (М.: Концертная библиотека Кусевицких / Нотный магазин Российского музыкального издательства, 1917). Дочь композитора, поэт Ариадна Скрябина (1905–1944), навещала Бальмонтов в Париже и дружила с Миррой Бальмонт (см.: Бальмонт – Шаховской. 29.Х.1922, 16.XI.1922, 24.XI.1922. С. 122, 140, 152).
См. примеч. 5 к письму 103.
Liste – список (фр.).
Неясно, что здесь имеется в виду под «дневником Толстого», так как отрывки из его дневников пользовались большим спросом у французских читателей и издавались с завидной регулярностью. Ко времени написания письма Шатобриан мог читать любое из следующих изданий: Tolstoi L. Journal intime des quinze dernières années de sa vie 1895–1910 / Trad. P. Birjukov. Paris: Flammarion, 1917; Tolstoi L. Journal intime de sa jeunesse 1846–1852 / Trad. Natacha Rostowa, Mgte Jean – Debrit, préf. Paul Birukoff. Paris: Agence générale de librairie, 1921; Tolstoi L. Pages inédites. Extraits de la correspondance et du journal / Trad. J. W. Bienstock. Paris: Œuvres libres, 1922.
Открытка: La Rochelle – Bateaux partant pour la pêche, toutes voiles dehors (Суда, уходящие на рыбную ловлю на всех парусах <фр.>).
Лафкадио Хирн (Якумо Койзуми, 1850–1904), ирландский писатель, автор путевых очерков и этнографических этюдов о Японии, которые Савицкая и Бальмонт могли читать как в английском оригинале, так и во французском переводе. Возможно, здесь рeчь идет о недавно вышедших книгах: Hearn L. Japan: An Attempt at Interpretation (New York: Houghton Mifflin, 1923); Hearn L. En glanant dans les champs de Bouddha / Trad. M. Logé (Paris: Mercure de France, 1925).
Открытка: St.-Gilles-sur-Vie (Vendée) – La Plage à marée haute, à gauche, la Villa Notre-Dame (Пляж во время прибоя, слева Вилла Нотр-Дам <фр.>).
Бальмонт K. Слова о женщине // Дни. 1924. № 635. 7 декабря. С. 9–10; Balmont C. Paroles au sujet de la Femme // La Nervie. 1925. № 4. Avril. P. 1–4.
Адвокат (фр.).
Здесь: представлять интересы (фр.). Имеются в виду авторские права Александры Андреевой и Людмилы Савицкой, как переводчиц воспоминаний Татьяны Кузминской. Альфонс де Шатобриан, таким образом, был бы юридическим представителем переводчиц при переговорах с французскими издателями о предполагаемой публикации книги.
К письму приложена газетная вырезка со стихотворением «На знойной грани» («Россия страстотерпчески томима…», 29 июля 1925). Негодование А. Н. Ивановой объяснялось тем, что политический пафос стихотворения ставил под угрозу жившую в СССР Андрееву-Бальмонт, приходившуюся ей тетей (см. примеч. 6 к письму 14). Так, 23 ноября 1924 г. поэт жаловался на невозможность «сделать удесятеренно-бешеный выпад против большевиков», потому что «в последнем письме к Нюше <А. Н. Ивановой> Катя просит меня не „бранить родину“ (понимай: большевиков), иначе „пострадают близкие“» (Бальмонт – Шаховской. С. 549).
См. примеч. 4 к письму 126.
Критик литературы и искусства, публицист и редактор Роже Леба (1899–1978), автор очерка о творчестве Бальмонта: Lesbats R. Constantin Balmont // Nantes le soir. 1925. № 26. 28 mars. P. 6–8. Книжный проект, о котором идет речь, не осуществился.
Бальмонт сообщал Евгению Ляцкому (см. примеч. 6 к письму 69), общение с которым подало ему идею переводить Ярослава Врхлицкого (1853–1912): «Все лето я занимался чешским языком, изучаю творчество Врхлицкого и перевел уже из него несколько десятков стихотворений. Хотелось бы приготовить целый томик страниц в 200. Это поэт изумительный, большой силы и тонкости» (Бальмонт – Ляцкому. 11.X.1925. С. 91). В письме к Людмиле Бальмонт называет этот проект «делом важным и хитрым», надеясь получить за переводы из Врхлицкого и других чешских поэтов материальное пособие от Министерства иностранных дел Чехословакии и таким образом пополнить свой семейный бюджет. Ляцкий служил посредником между Бальмонтом и чешскими властями (Бальмонт – Ляцкому. 13.II.1926, 3.III.1926, 1.VI.1926, 17.X.1927, 18.X.1927. С. 91–92, 94, 99). Бальмонт издал сборник переводов из Врхлицкого (Избранные стихи. Прага: Славянская библиотека министерства иностранных дел, 1928). См. также: Бальмонт К. Праздник сердца (Ярослав Врхлицкий) // Последние новости. 1926. № 1758. 14 января; Образцы чешской поэзии // Воля России. 1927. № 4. С. 29–44; и его переводы из Врхлицкого в журналах «Воля России» (1927. № 11–12. С. 50–53) и «Годы» (1926. № 23. С. 1–2). Подробнее см.: Позднякова Т. К. Д. Бальмонт – переводчик чешской поэзии // Славянская филология. Вып. VII. СПб.: СПбГУ, 1993. С. 49–62.
В письме к Роже Леба (IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ29, папка «„Où est ma maison“. Recueil») Бальмонт писал:
1925. 18 septembre
Cher Monsieur,
Pour votre article dans Nantes le Soir consacré à moi – étude aussi nourrie que pleine de finesse, – pour votre lettre à notre grand ami Alphonse de Châteaubriant dont le contenu il m’a communiqué, – pour votre lettre à moi et pour cette bonne invitation littéraire, – merci. Je vous remercie sincèrement pour tous les sentiments que vous éprouvez envers moi et mon oeuvre assez méconnue, en France comme en Russie d’aujourd’hui ligotée et aveuglée.
Certes, je veux vous donner pour cette édition populaire un livre de moi. Je suis heureux de pouvoir le faire – et sans retard. Mais vous ne m’avez pas communiqué quelles dimensions doit-il avoir ce livre. Puis, ne serait-il pas préférable de réunir dans ce petit livre – et vers, et prose. J’aime beaucoup plusieurs de mes récits, mais ce sont mes poésies lyriques qui réalisent ma qualité maîtresse. En même temps que cette lettre-ci je vous envois dans une autre enveloppe l’image approximative de mon livre dont la table des matières est voici:
Où est ma maison?
Vers et prose
1. Le cerf.
2. Je suis venu au monde pour voir le soleil.
3. Pays du Nord.
4. L’ Harmonie des mots.
5. Blanche fleur.
7. Plus ancient.
8. La Souterraine.
9. Annonciation.
10. Les coursiers des orages.
11. Camée.
12. J’ignore la sagesse.
13. Aux humains.
14. Je ne suis point de ceux…
15. Le blessé.
16. Oh oui…
17. Les Scythes (1899).
18. Les Scythes (1922).
19. Sans paroles.
20. Seulement.
21. Le Devin.
23. Rivale d’Ys.
1. Où est ma maison?
2. Vassenka.
3. Liverpool.
4. La Blanche Fiancée (C’est Madame Ludmila Savitzky qui va vous envoyer ce récit qui est seul aussi long que trois précédents).
Et bien, si ce matériel n’est pas suffisant pour composer un volume j’ai la parole de Mme L. Savitzky qui m’a promis de donner des suppléments nécessaires – s’ils sont nécessaires – comme traductions.
Je vous enverrai un portrait de moi dans quelques jours.
Quant à la préface, je vous envois un article de Mme Savitzky que j’apprécie beaucoup. L’élément purement biographique y manque, mais je crois qu’elle pourrait remanier cet article tout facilement, d’autant plus qu’elle est essayiste accomplie et qu’elle me connait personnellement depuis 23 ans.
L’adresse de Madame Ludmila Savitzky-Bloch est – pour le moment – Lestiou par Avray, Loir et Cher.
Je vous envois en même temps mon livre Quelques Poèmes ainsi que deux articles de René Ghil et de F. de Miomandre que vous lirez probablement volontiers. Je vous prie de me rendre l’article de René Ghil après avoir lu.
Je voudrais bien vous connaître personnellement. J’espère que ça viendra bientôt. En attendant, nous nous sommes trouvés, – ne nous perdons plus.
Je vous exprime, cher Monsieur, mon dévouement sincère.
P. S. Je connais Semion Youchkévitch depuis longtemps. C’est un homme charmant, cœur sensible et talent véritable.
Пер. с фр.: 1925. 18 сентября. Милостивый государь, за Вашу статью обо мне в «Nantes le Soir» – этюд и содержательный и очень тонкий, – за Ваше письмо нашему близкому другу Альфонсу де Шатобриану, который дал мне его прочесть, – за Ваше письмо ко мне и за любезное литературное приглашение, – спасибо. Сердечно благодарю Вас за Ваши чувства по отношению ко мне и к моему творчеству, недостаточно известному как во Франции, так и в нынешней, связанной и ослепленной России. Конечно, я хочу предложить свою книгу в Вашу серию для широкого круга читателей. Я рад, что в состоянии это сделать – и без промедления. Однако Вы мне не указали, какого размера должна быть эта книга. К тому же не лучше ли включить в эту книжечку – и поэзию и прозу. Я очень люблю многие свои рассказы, но суть моего дара выражается в моей лирической поэзии. Одновременно с этим письмом я высылаю Вам, в другом конверте, приблизительный состав своей книги следующего содержания: «Где мой дом? Стихи и проза». <Далее следует список всех переведенных к тому времени Л. Савицкой стихотворений, рассказов и очерков Бальмонта, не вошедших в «Visions Solaires». «Белая невеста» сопровождается примечанием: «Этот рассказ, по длине своей равный трем предыдущим вместе взятым, пришлет Вам г-жа Людмила Савицкая».> Ну а если этого материала будет недостаточно для составления тома, я заручился обещанием г-жи Л. Савицкой предоставить мне необходимые дополнения – в случае надобности – в форме переводов. Через несколько дней я отправлю Вам свой портрет. Что же касается предисловия, я высылаю Вам статью г-жи Савицкой, которая мне очень нравится. Здесь нет чисто биографической информации, но я думаю, что она <Л. Савицкая> могла бы без труда переделать эту статью, тем более что она отличная эссеистка и лично знает меня вот уже 23 года. Андрес г-жи Людмилы Савицкой-Блок – в данный момент – <деревня> Летью около <городка> Авре, <департамент> Луар и Шер. Пользуюсь случаем, чтобы послать Вам свою книгу «Quelques Poèmes» и две статьи <о Бальмонте>, написанные Рене Гилем и Ф. де Миомандром, которые Вам, вероятно, понравятся. Прошу Вас вернуть мне статью Рене Гиля по прочтении. Мне не терпится лично с Вами познакомиться. Надеюсь, что это произойдет в скором времени. Пока же, раз уж мы нашли друг друга, не будем терять связи. Примите, милостивый государь, выражение моего искреннего почтения. Константин Бальмонт. P. S. Я с давних времен знаком с Семеном Юшкевичем. Это очаровательный человек, глубоко чувствующий и по-настоящему талантливый.
Как следует из письма к Леба (см. выше), речь идет о предисловии к новой французской книге Бальмонта, задуманном как расширенный вариант статьи Савицкой «Constantin Balmont et la poésie russe» (см. примеч. 1 к письму 27).
Речь идет о публикации перевода очерка «К молодым поэтам» из сборника «Где мой дом?» (С. 89–94): Balmont C. Aux jeunes poètes / Trad. L. Savitzky // Rythme et synthèse. 1925. № 54. Mai – Juin. P. 145–149.
В ответном письме (без даты, IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ29, «Lettres de Balmont à L. Savitzky + autres lettres du dossier») Роже Леба благодарил Бальмонта за полученные машинописные тексты и оттиски стихов и прозы, которые поэт хотел включить в свою новую французскую книгу, вежливо отказываясь публиковать стихи – материал неподходящий для его издательской серии, рассчитанной на массового читателя. Леба поэтому просил Бальмонта прислать ему через Савицкую дополнительные прозаические переводы.
Речь идет об историческом очерке Жана Шюзвиля (см. примеч. 2 к письму 94) о русской поэзии последних тридцати лет: Chuzeville J. La Poésie russe de 1890 à nos jours // Le Mercure de France. № 654. 1925. 15 septembre. P. 589–591. Шюзвиль поддерживал профессиональные и дружеские отношения с Мережковскими, переводил Дмитрия Мережковского и написал ряд статей о его творчестве (Russian Émigrés. P. 252–258). В статье Шюзвиля Бальмонту отводилась отдельная секция, что должно было польстить поэту. Однако критик обходил молчанием последние двадцать лет творчества Бальмонта, подспудно присоединяясь к расхожему в русских литературных кругах мнению о том, что поэт исписался к концу 1900‐х гг.
Открытка: Bretignolles. – Rocher Rouge du Marais Girard (Бретиньоль. – Красная скала в районе жирарских болот <фр.>).
Здесь: безвоздушное пространство (фр.).
Писатель, журналист и политический деятель Леон Доде (1867–1942), лидер и трибун национал-монархического движения Action française, подал в суд на службу госбезопасности Французской республики после самоубийства его сына, произошедшего в 1923 г. и в котором Доде усмотрел заговор левых политических кругов, включая и лидера Радикальной партии Эдуарда Эррио (1872–1957), преданного анафеме в русской эмиграции за его роль в установлении дипломатических отношений между Францией и СССР (см.: Бальмонт – Шаховской. 7–8.XII.1924. С. 558; Ранний период. С. 434–436; L’ Émigration russe. P. 35–36). Проиграв первый процесс, Доде сам оказался на скамье подсудимых по обвинению в клевете. В 1925 г. он был приговорен к пяти месяцам лишения свободы и укрылся в Бельгии, чтобы избежать тюремного заключения.
Многолетний процесс (1894–1906) офицера французского Генштаба Альфреда Дрейфуса (1859–1935), оклеветанного и несправедливо обвиненного в шпионаже, послужил полем идеологических сражений для всех партий и политических течений Франции рубежа веков, интеллектуально сформировав целое поколение общественных и культурных деятелей страны. В 1928 г., во время полемики с Максимом Горьким и просоветски настроенными французскими писателями о свободе слова и творчества в СССР, Бальмонт еще раз прибегнет к сравнению с делом Дрейфуса, обвиняя «левых» в нечистой игре (Бальмонт К. Мещанин Пешков. По псевдониму: Горький // Возрождение. 1928. № 1033. 31 марта. С. 3).
Речь идет об отказе издательства «Грассе» принять к печати воспоминания Татьяны Кузминской в переводе Александры Андреевой, о котором та узнала от Савицкой. Повторное обращение Савицкой в редакцию «Грассе» ни к чему не привело (см. примеч. 1 к письму 120).
Имеется в виду доклад Бальмонта «Пророки Библии и судьбы русского духа», прочитанный на совместном вечере поэта и Шошаны Авивит 16 февраля 1925 г. (Вечер К. Д. Бальмонта // Последние новости. 1925. № 1476. 15 февраля. С. 3). По имеющимся данным, доклад издавался только в переводе Людмилы Савицкой (оригинал утерян): Balmont C. Les Prophètes de la bible et les destinées de l’esprit russe // Menorah. 1926. № 7. 1 avril. P. 100–102.
В литературном ежемесячнике «La Ligne de cœur», выходившем в Нанте, Бальмонт опубликовал несколько текстов в переводе Савицкой, включая и очерк «Орлиные крылья», зачитанный 10 января 1926 г. в Сорбонне на вечере памяти Л. Н. Толстого. Людмила немедленно начала работу над переводом очерка (Записные книжки. 12 января 1926). См.: Balmont C. Ailes d’aigles // Ligne de cœur. 1926. № 4. 15 mars. P. 34–42. Писатель и критик Жюльен Ланоэ (1904–1983) был основателем и редактoром журнала «La Ligne de Cœur», в котором он опубликовал статью о творчестве Бальмонта (Lanoë J. Un prêtre du soleil: Constantin Balmont // Ligne de cœur. 1925. № 1. 15 novembre. P. 36–45).
Пневматическим письмом (фр.; см. примеч. 1 к письму 55).
Людмила с мужем навестили Бальмонтов 8 января 1926 г. (Записные книжки).
См. примеч. 2 к письму 129. Людмила лично передала перевод автору во время визита к Бальмонтам 11 января 1926 г. (Записные книжки).
Речь идет о франкоязычном обзоре русской литературы последнего десятилетия, который Илья Эренбург написал в соответствии с добровольно взятой на себя обязанностью неофициального эмиссара советской культурной политики в Париже: Ehrenbourg I. La Littérature russe après la révolution // Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques. 1926. № 169. 9 janvier. P. 6. Статья развивала общее место марксистской критики, утверждавшей, что эмигрантская словесность принадлежит, интеллектуально и эстетически, далекому прошлому в силу оторванности от повседневной жизни России и что иностранные читатели, интересующиеся Россией, должны читать советских, а не эмигрантских писателей. Подробнее о борьбе русских литературных подсистем за читательскую публику в межвоенной Франции см.: Russian Émigrés. P. 19–34.
Имеются в виду советские государственные и партийные деятели Григорий Зиновьев (1883–1936), председатель Исполнительного комитета Коминтерна, Лев Каменев (1883–1936) и Наталья Седова-Троцкая (1882–1962), в 1918–1928 гг. заведовавшая музейным отделом Народного комиссариата просвещения.
Повесть Леонида Леонова «Петушихинский пролом» (1923) могла привлечь внимание Бальмонта тематикой глубинной России, чья вековая культура лежит вне социально-политических событий современности. Леонову поэт противопоставляет советских прозаиков-модернистов – Исаака Бабеля и Бориса Пильняка, чье творчество подробно обсуждается в статье Эренбурга.
В том-то и загвоздка (фр.).
Людмила не разделяла энтузиазма своего корреспондента по отношению к творчеству Кусикова, которое она знала по сохранившимся в ее библиотеке сборникам поэта – «В никуда» (Берлин: Эпоха, 1922), «Птица безымянная» (Берлин: Скифы, 1922), «Аль-Баррак» (Берлин: Скифы, 1922), – но исключила из своего проекта антологии русской модернистской поэзии (см. примеч. 2 к письму 88).
С таким шулерством, верно, ничего не поделаешь (англ.).
Имеется в виду очерк поэта и переводчика Филеаса Лебега (см. примеч. 3 к письму 164) о творчестве Бальмонта: Lebesgue Ph. Le plus grand poète vivant // Paris critique. 1926. 15 janvier.
Открытка: Aux Marais Vendéens – Les Souhaits des petits Maraîchins (В регионе вандейских болот. – Праздничные поздравления от юных жителей региона Маре <фр.>).
На открытке изображены дети в национальных вандейских костюмах.
Второй том воспоминаний – Кузминская Т. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. 1863–1864 / Под ред. С. Бахрушина, М. Цявловского (М.: М. и С. Сабашниковы, 1926) – сохранился в библиотеке Л. Савицкой.
Речь идет о книге стихотворных переводов из Ярослава Врхлицкого, профинансированной чешским правительством и опубликованной в 1928 г. (см. примеч. 1 к письму 126). Другому корреспонденту Бальмонт сообщал, что «целый месяц почти не спал, работая над Врхлицким» (Бальмонт – Ляцкому. 19.IV.1926. С. 93).
Первый муж Мирры Бальмонт, музыкант, композитор и антропософ Григорий Бойченко, впоследствии оставил ее с двумя дочерьми, Оксаной и Анной.
Следующая встреча поэта с переводчицей произошла 1 мая 1926 г., когда она приехала навестить Бальмонтов (Записные книжки).
Неустановленное лицо. Судя по контексту – один из редакторов в издательстве «Грассе».
К письму приложены газетные вырезки со стихотворениями Бальмонта «Крылья» («Красивы все живые ткани мира…») и «Паутина» («Предо мной на камине…»).
Открытка: Paris. – La Gare Montparnasse (Монпарнасский вокзал в Париже <фр.>).
Людмила проходила курс лечения в одном из пансионатов курортного городка Néris-les-Bains.
Здесь: городской район (фр.).
См. стихотворение «Юность» в сборнике: Бальмонт К. В раздвинутой дали. С. 97–98. Французский перевод стихотворения опубликован не был.
Первое заседание Общества по изучению Атлантиды – «ассоциации, занимающейся всеми вопросами, относящимися к Атлантиде», включая «проблематику Атлантиды в свете сегодняшней науки» – состоялось в Сорбонне 24 июня 1926 г. под председательством его основателей, поэта и фольклориста Роже Девиня (1885–1965) и писателя, оккультиста и астролога Поля Ле Кура (1871–1954). См.: Rivet P. Société ď études atlantéennes // Journal de la Société des Américanistes. 1926. № 18. P. 382. Бальмонта, видимо, заинтересовал журнал общества, «Les Études atlantéennes», как возможное место для франкоязычных публикаций и источник литературного дохода. К примеру, его статья «Океания» (Заветы. 1914. № 6. Июнь. С. 9–34) включала стихотворение «Атлантида потонула…».
Открытка: Cap Breton-sur-Mer. – Hosségor. – Les villas et bords du canal (Виллы и берега канала <фр.>).
Открытка: Cap Breton – Effet de Vagues (Прибой <фр.>).
Открытка: Uniwersytet St. B. w Wilnie. Tablica pamiatkowa (Виленский университет. Мемориальная доска <польск.>). Во время поездки в Польшу, весной 1927 г., Бальмонт посетил Вильно по приглашению местных польских литературных кругов и Виленского университета.
Стихотворный экспромт Бальмонта пришелся адресату по вкусу. К письму приложен черновик незаконченного французского перевода стихотворения, написанного рукой Людмилы.
Из письма Ивана Шмелева секретарю Союза русских писателей и журналистов в Париже Владимиру Зеелеру (27.XI.1929): «Дочка К. Д. Бальмонта бьется в Париже, ищет работы ‹…› Мирра Константиновна в отчаянном положении. Ищет какой-нибудь работы, „хоть в горничные“, говорит!! Что она умеет? Если надо будет – все сумеет, лишь бы не требовалось технической специальности. Прекрасно, понятно пишет. Молодая поэтесса. Душа чистая, детская… Надо помочь ‹…› Жить в Capbreton’е у родителей, без дела, без заработка, Мирре Константиновне – бессмысленно. Для ее душевного состояния „тяжело висеть обузой“. А дела Поэта все хуже, хуже» (цит. по: Азадовский К., Бонгард-Левин Г. «Встреча». Бальмонт – Шмелеву. С. 29–30).
См.: Каспрович Я. Книга смиренных / Пер. и предисл. К. Бальмонта. Варшава: Добро, 1928. В 1926–1927 гг. Бальмонт опубликовал ряд очерков, посвященных творчеству польского поэта-модерниста Яна Каспровича (1860–1926), с которым вступил в переписку еще во время своей первой эмиграции. В одном из них он писал: «Пути мои никогда не пересекались с путями Каспровича, но я люблю его музыкальное, полное высокого мыслительного полета и в то же время близкое к народной песне творчество – уже более трех пятилетий, а за этот год, через письма и взаимный обмен книгами и портретами, между мной и польским поэтом, так же как Марией Каспрович, возникла поэтическая дружба» (Бальмонт К. Ян Каспрович // Последние новости. 1926. № 1975. 19 августа. С. 2–3). В 1927 г., во время поездки в Польшу, Бальмонт провел несколько дней в усадьбе вдовы поэта, Марии Васильевны Каспрович (1873–1930), родственницы И. А. Бунина. См. также: Бальмонт К. Ян Каспрович // Родная земля. 1926. № 2. 15 апреля. С. 2; Поэт земли. (Ян Каспрович) // Последние новости. 1927. № 2322. 1 августа. С. 2; Ян Каспрович // Сегодня. 1927. № 174. 7 августа. С. 4.
См. примеч. 1 к письму 125, примеч. 2 к письму 126.
См. примеч. 5 к письму 73.
Речь идет о гербарном подарке с литературными ассоциациями, привезенном Людмилой из летнего путешествия по Италии и вложенном в письмо Бальмонту. Джону Родкеру Людмила сообщала: «Я сходила на могилы Шелли и Китса под кипарисами в Риме. Там я насобирала маленьких листьев, но не знаю, заинтересуют ли они тебя, ты, наверное, не любишь сувениры такого рода» (12.IX.1927, <пер. с фр.> частное собрание наследников Л. Савицкой).
Намек на операцию на обе ноги, перенесенную Людмилой в 1923 г. (см. письмо 68), последствия которой продолжали сказываться на ее здоровье.
Открытка: Capbreton-sur-Mer (Landes). – Coucher de Soleil (Закат <фр.>).
Господин (фр.).
Открытка (от фр. carte postale).
К письму приложен машинописный текст стихотворения «Врхлицкий», датированного 18 октября 1927 г.
Открытка: Biarritz (B.-P.). – Rocher du Basta (Утес Баста в Биаррице <фр.>).
Речь идет о критическом этюде, посвященном творчеству Андре Фонтенаса, автором которого был поэт, прозаик и музыкальный критик Рене Клер (1885–1945), писавший под псевдонимом Рене Кердык: Kerdyk R. André Fontainas. Paris: Librairie de France, 1927.
Здесь: цитаты из критических высказываний (фр.).
23 января 1923 г. в кафе «Хамелеон» состоялся вечер в честь Андре Фонтенаса, на котором Бальмонт сочинил сонет в честь виновника торжества (Бальмонт – Шаховской. 23.I.1923. С. 227). Речь идет о следующем сборнике стихов Фонтенаса: Fontainas A. L’ Allée des glaïeuls. Cinq odes et un sonnet dédiés à Paul Valéry. Paris: Librairie de France, 1921.
Бальмонт K. Тетя Саша. Повесть в письмах // Сегодня. 1927. № 234. 16 октября. С. 4.
Открытка: Cap Breton – Effet de vague en éventail (Прибой в форме веера <фр.>).
Прототипом «Тети Саши» была старшая сестра Екатерины Андреевой-Бальмонт – Александра Андреева (см. примеч. 3 к письму 116), чья смерть послужила толчком к написанию «повести в письмах». Из письма Бальмонта к Б. А. Евреинову (9.XII.1926): «Знаете ли Вы, что 19-го ноября умерла Ал. Ал. Андреева? Не умерла, а заснула, как насыщенная днями и озаренная своею просветленностью» (цит. по: Бальмонт – Шмелеву. С. 64).
Воры-домушники (фр.).
Польские бандиты (фр.).
Летний дом Людмилы Савицкой и Марселя Блока подвергся ограблению в отсутствие хозяев. 6Из письма Елены Цветковской к Людмиле (19.XI.1927): «Вы знаете, что наша Мирра снова в Париже, живет со своей подругой и пытается что-то (кажется, нем<ецкий> яз<ык>) изучать „для заработка“ (!). Боюсь, что изучает слабо. Очень была бы рада, если б Вы захотели увидеть ее однажды» (IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ1, папка «Lettres de Constantin Balmont à Ludmila Savitzky. 1926–1931»).
Открытка: Capbreton-sur-Mer (Landes) – Le Canal du Boudigau.
В порядке (англ.).
Из письма Елены Цветковской к Людмиле (19.XI.1927): «Спасибо и за предложение поискать для нас что ниб<удь> в Кламаре. Но видно уж судьба наша – остаться в Capbreton и в той же самой нашей хижине, которая для нас все же велика – но Поэт влюблен в нее. У нас, правда, поэтически, исключительно хорошо, но житейски – весьма тяжко. Но придется побеждать» (IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ1, папка «Lettres de Constantin Balmont à Ludmila Savitzky. 1926–1931»).
Из письма Елены Цветковской к Людмиле (19.XI.1927): «Б. все ждет отклика от Шато, но как и Вы – не получает, это очень его огорчает. Все же как-то странно и нелепо, что из всех Русских писателей, живущих во Франции, наш Б. наиболее обделен переводами своих вещей на Фр. яз. Правда, что Пушкин, кажется, еще более обделен, но это печальное утешение» (там же).
Оригинал письма хранится в IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ29, папка «Textes en prose de Balmont traduits par L. Savitzky».
К письму приложена статья «Размëтанность», написанная под впечатлением смерти польского писателя-модерниста Станислава Пшибышевского (1868–1927), которого Бальмонт лично знал (см.: Последние новости. 1927. № 2451. 8 декабря). Перевод статьи, «L’ Esprit de dispersion», хранится в бумагах Л. Савицкой (IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ29, папка «Textes en prose de Balmont traduits par L. Savitzky»). Перевод остался неопубликованным.
Эмиль Бюре (1876–1952), журналист и соредактор парижской газеты «L’ Avenir», где через месяц Бальмонт будет полемизировать с Роменом Ролланом о свободе слова и творчества в СССР (см. примеч. 6 к письму 149).
Ганс Христиан Андерсен не входил в круг авторов, которых Бальмонт много переводил. Лишь одно произведение Андерсена – стихотворение «Вечер» («Безмолвен лес, не дышит ветерок…») – вошло в сборник Бальмонта «Из чужеземных поэтов» (СПб.: Просвещение, 1908).
Поселившись в Капбретоне, Бальмонты подружились с Яном Кроллем и его женой Цецилией, жившими в Бордо. Поэт посвятил Кроллю стихотворный цикл «Виолончель и скрипка» (Бальмонт К. В раздвинутой дали. С. 101–104) и писал о нем в статье «Злополучие отшельника» (Сегодня. 1928. № 61. 4 марта. С. 5). Цецилия, гостившая у Бальмонтов в Капбретоне, фигурирует в шуточной «Поэме о беспьянственности русских писателей» (7 января 1928), преподнесенной Бальмонтом Ивану Шмелеву (см.: Бальмонт – Шмелеву. С. 95–96).
Разрыв, перелом, распыление, опрокидывание (фр.).
Бальмонт К. Чехи о России. Франтишек Кубка // Последние новости. 1927. № 2444. 1 декабря. С. 2.
Галлицизм, образованный от французского эквивалента глагола «разминуться» – se croiser.
Людмиле эта проблема была хорошо знакома. Андре Спиру она сообщала: «По-французски мою фамилию пишут, как кому угодно. Я пишу Savitzky, потому что tz лучше, чем ts передает русскую согласную, которая произносится, как немецкая z или c. Это польская фамилия, и по-польски она пишется Sawicki. Но Вы ведь сами понимаете, во что это выльется при французском произношении!» (Savitzky – Spire. 18.IV.1923. P. 427).
В 1914–1917 гг. Бальмонт перевел и частично опубликовал в Москве эпическую поэму Шота Руставели, которую он смог полностью издать лишь пятнадцать лет спустя: Руставели Ш. Носящий барсову шкуру. Грузинская поэма XII-го века. Париж: Союз грузинских деятелей искусств, 1933. Об этом издании поэт писал (29.II.1932): «Одна у меня есть, казалось бы, радость, а я не радуюсь: шестнадцать лет тому назад сделал я полный перевод-перепев грузинской поэмы Руставели „Носящий барсову шкуру“ (12‐й век). Десять лет она лежала в грузинском посольстве. Наконец она печатается и выйдет весной в таком роскошном издании, в каком не печаталась ни одна зарубежная русская поэма. И вот я смотрю на это мертвым оком. Надоело мне нянчиться с разными народами (Господь их суди, с лимитрофами!), когда мой родной народ рехнулся и никак не желает опомниться и вернуться к Божьему лику» (Бальмонт – Шмелеву. С. 263). 17 декабря 1927 г. Людмила присутствовала на вечере, где зачитывался очерк Бальмонта о Руставели (Записные книжки).
Речь идет о вечере памяти Ильи Чавчавадзе, организованном Национальным объединением студентов-грузин 10 декабря 1927 г. (см.: Мнухин Л. Русское зарубежье. С. 390). О Шалве Беридзе Бальмонт писал в очерке «Слово ли Слово?» (Последние новости. 1926. № 2041. 24 октября. С. 4): «У меня есть молодой друг грузин. Я люблю этот горячий народ. Зовут этого грузина Шалва Беридзе, и тянет его к себе наука. Нужда берет у него почти все часы его дня. А вот он взял да, зарабатывая на свою жизнь самым притупляющим трудом, нашел возможность защитить на днях в Сорбонне докторскую диссертацию на тему о старинных французских путешественниках, описывавших Грузию. Он состоит продавцом в одном книжном магазине на бульваре Сен-Мишель. И тоскует о Грузии. Но и на бульваре Сен-Мишель у Грузии есть верный сын, который ей не изменил, и в сердце его – Грузия. Кстати, с помощью этого молодого друга я прочел старинное грузинское „Слово о слове“ Теймураза-хана». Диссертация Беридзе хранится в Парижской национальной библиотеке: Béridzé Ch. Les Savants et voyageurs français en Géorgie (XVIIe – XVIIIe ss.). Mémoire, préparé à la Faculté des Lettres de l’Université de Paris en vue de l’obtention du Diplôme d’étude universitaire (lettres) par Chalva Béridzé, licencié ès-lettres de l’Université de Kharkow. Paris, 1926.
Французский очерк Бальмонта о Руставели увидел свет лишь десять лет спустя в переводе Филеаса Лебега: Balmont C. La Géorgie au XVIIe siècle. La Reine Thamar et son chevalier Roustavéli / Trad. Philéas Lebesgue // Revue bleue. 1938. № 2. Février. P. 58–60.
Во второй половине 1920‐х годов журнал «Europe», подконтрольный политическим взглядам Ромена Роллана, занимал все более просоветскую позицию во французских спорах о достоинствах и недостатках советского режима. Это вызвало разрыв отношений между журналом и писателями-эмигрантами, которыe раньше здесь печатались (Бальмонт, Бунин, Шмелев и пр.). Из письма Бориса Зайцева к Людмиле Савицкой (27.III.1929) следует, что Бальмонт попрекал ее продолжающимся сотрудничеством в журнале Роллана: «То, что Бальмонт сердился и на Вас нападал – просто смешно. Это ребяческая штука. Вы совершенно правильно определяете мнение о нас здешних писателей. В частности, не предлагайте ничего мною написанное в „Europe“ – там имени моего не следует называть (хотя покойный Базальжет и относился ко мне неплохо – пока не стал большевизанствовать)» (IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ12, папка «Documents à identifier»; см. также примеч. 3 к настоящему письму).
Имеются в виду члены редакционной коллегии журнала «Europe» Леон Базальжет (см. примеч. 7 к письму 61) и Рене Аркос (см. примеч. 3 к письму 69), а также редактор журнала «Les Cahiers idéalistes» Эдуард Дюжарден, с которым у Бальмонта уже возникал ранее конфликт на политической почве (см. примеч. 5–6 к письму 99).
Борис Зайцев ответил открытым письмом (Zaïtzev B. Appel des écrivains russes de la Soviétie. – Réponse des écrivains russes émigrés / Trad. E. Halpérine-Kaminsky // L’ Avenir. 1927. № 3569. 20 décembre. P. 1, 3) на анонимный протест против советской цензуры и культурной политики, озаглавленный «К писателям мира» и подписанный «Группой русских писателей. Россия, май 1927». Протест был опубликован в эмигрантской прессе (Последние новости. 1927. № 2300. 10 июля. С. 2; Возрождение. 1927. № 768. 10 июля. С. 2; За свободу! 1927. № 157. 13 июля. С. 3), откуда попал во французскую печать (Le Figaro. 1927. № 201. 20 juillet. P. 2; La Vague rouge. 1927. № 8. Août. P. 16–17; подробнее см.: Блюм А. Советская цензура в эпоху тотального террора 1929–1953. СПб.: Академический проект, 2000. С. 252–263). Бальмонт писал Зайцеву 22 декабря 1927 г.: «Вчера, с живым увлечением читал Елене Константиновне и Анне Николаевне Ваши строки в „L’ Avenir“. Отослал этот № (для поучения) Людмиле Савицкой. От нее знаю, что вся редакция „Europe“ в бешенстве на Вас за Дюгамеля, и Базальжет, мстя мне за Вас (превосходно!), отказал Л. Савицкой в напечатании моего очерка о Пшибышевском. Я ответил, что Вы – достойный человек, а что с ними, с проклятыми коммунистами, с убийцами никакого дела я иметь не желаю. Вот им на пряники» (Boris Konstantinovich Zaitsev Papers, картон 1, папка «Bal’mont, Konstantin Dmitrievich v. p., 1925–1938», BAR; текст открытки воспроизведен с пропусками и неточностями в: Бонгард-Левин Г. Письма К. Д. Бальмонта Б. К. Зайцеву. С. 31).
Пустозвон (фр.).
Писатель, критик и публицист Жорж Дюамель (1884–1966), бывший член группы «Кретейского аббатства», в которую Людмила была вхожа до войны, и заведующий библиографическим отделом журнала «Le Mercure de France», совершил летом 1927 г. поездку в СССР по приглашению Всесоюзного общества культурной связи с заграницей, в чьи обязанности входило показывать иностранной культурной элите потемкинскую деревню советских достижений. По возвращении во Францию Дюамель опубликовал книгу путевых впечатлений (Le Voyage de Moscou. Paris: Le Mercure de France, 1927), в которой наивно описал увиденное, расхвалив советскую власть. Во втором открытом письме к Ромену Роллану (см. примеч. 3 к письму 161) Бальмонт назвал путевые очерки Дюамеля преступными по легкомыслию, развязности и неосведомленности.
Подобно Зайцеву, Бальмонт откликнулся на анонимное обращение писателей из Советской России «К писателям мира» открытым письмом (Бальмонт К. Обращение к Ромэн Роллану // Сегодня. 1927. № 282. 14 декабря. С. 3; За Свободу! 1927. № 289. 17 декабря. С. 3), французский вариант которого был также подписан Иваном Буниным. Своему протесту против уничтожения свободы слова в СССР и постыдного молчания западных писателей, не выступающих в защиту российских коллег, Бальмонт придал форму политической полемики с Роменом Ролланом, чья просоветская позиция, с точки зрения эмигрантов, была несовместима с его общеизвестным кредо гуманиста: Balmont C., Bounine I. Le Martyre des écrivains russes. – Lettre à Romain Rolland / Trad. E. Halpérine – Kaminsky // L’ Avenir. 1928. № 3592. 12 janvier. P. 1 (см. также: Бальмонт – Бунину. 15.I.1928. С. 57). В ответ Роллан обратился к Бальмонту и Бунину с открытым письмом в журнале «Europe» (Rolland R. Réponse à Constantin Balmont et à Ivan Bounine // Europe. 1928. № 62. 15 février. P. 246–252), которое затем появилось в русском переводе, как в эмигрантской, так и в советской прессе (Сегодня. 1928. № 52. 23 февраля. С. 12; Вестник иностранной литературы. 1928. № 3. С. 133–137). Незадолго до обращения к Роллану Бальмонт публиковал открытое письмо Кнуту Гамсуну, прося его откликнуться на письмо литераторов из Советской России (Сегодня. 1927. № 257. 13 ноября. С. 4; За Свободу! 1927. № 267. 20 ноября. С. 5), но от Гамсуна ответа не последовало.
Открытка: La Lande pittoresque. Le courant d’Huchet (Живописная область Ланд. Поток Юше <фр.>).
Бальмонт К. Месяцеслов // Сегодня. 1928. № 14. 15 января. С. 5.
Бальмонт К. Светлая страна. Слово к Польше // За Свободу! 1928. № 4. 5 января. С. 2–3; № 5. 6 января. С. 2–3.
См. примеч. 6 к письму 149.
Кроме уже упоминавшихся (см. примеч. 3 и 6 к письму 149), газета «L’ Avenir» опубликовала обращения к западному общественному мнению следующих писателей-эмигрантов: Иван Бунин (1927. № 3522. 3 novembre. P. 1), Зинаида Гиппиус (1928. № 3645. 5 mars. P. 1–2), Евгений Чириков (1927. № 3550. 1 décembre. P. 1), Александр Куприн (1927. № 3515. 27 octobre. P. 1), Иван Лукаш (1927. № 3550. 1 décembre. P. 1), Иван Шмелев (1927. № 3522. 3 novembre. P. 1). Газетная кампания была организована журналистом, писателем и переводчиком Ильей Даниловичем Гальпериным-Каминским (Élie Halpérine-Kaminsky, 1858–1936), который подготовил французские версии всех текстов.
В начале 1920‐х гг. французский славист Поль Буайе (1864–1949), директор парижского Института восточных языков, был вице-президентом Французской секции при Комитете помощи русским писателям и ученым (L’ Émigration russe. P. 29–30). Именно в этом качестве Бальмонт с ним и познакомился, снисходительно относясь к деятельности Буайе в вопросах помощи писателям-эмигрантам (Бальмонт – Шаховской. 25 и 26.I.1923. С. 230–231). Подробнее о Буайе см.: André M. Paul Boyer (1864–1949)// Revue des études slaves. 1950. № 1. P. 4–13.
Об издании, к толстовскому юбилею, отрывков из воспоминаний Кузминской во французском переводе см. примеч. 1 к письму 120. Место публикации – журнал «Europe», ставший для поэта политически одиозным (см. примеч. 1 и 3 к письму 149), – не могло порадовать Бальмонта. 29 августа 1928 г. он сообщал Е. Андреевой-Бальмонт: «Два дня, как я послал тебе № „Europe“ с переводом отрывков из воспоминаний Т. Кузминской, сделанным тетей Сашей. Надеюсь, что он благополучно прибудет к тебе. Мне горько, что нет именно той, кого бы обрадовало напечатание хоть части работы. Сколько было пустых разговоров и дутых обещаний. Я, вообще, за эти годы рассмотрел здешних болтунов. Изношенные снобы, себялюбцы, слепцы и ничтожество. Моя душа – с Литвой и Славией» (Андреева-Бальмонт Е. Воспоминания. С. 532).
Это очень трудно (исп.).
Речь идет о переводах с сербского, два из которых были опубликованы в начале года: Бальмонт К. Святой Савва // Последние новости. 1928. № 2493. 19 января. С. 3; Смерть царевича Уроша // Последние новости. 1928. № 2496. 22 января. С. 3.
Под «святочным мигом» имеется в виду шуточная «святочная поэма» о «Беспьянственности русских писателей», датированная 7 января 1928 г., которую поэт рассылал в это время своим корреспондентам (см.: Бальмонт – Шмелеву. 7.I.1928. С. 93–96). В письме Бальмонт играет разными значениями существительного «жажда», намекая на свою поэму, где речь идет о разных способах утоления жажды при помощи алкогольных напитков и об отношении повествователя к разным лицам, в зависимости от их винных предпочтений.
Бальмонт К. Предвестники весны (Письмо из Франции) // Сегодня. 1928. № 41. 12 февраля. С. 5.
Людмила поддерживала близкие дружеские и профессиональные отношения с писателем и публицистом Жюльеном Банда (1867–1956). Здесь речь идет о его новой книге: Benda J. Properce, ou Les amants de Tibur. Paris: Grasset, 1928.
Известны лишь два перевода Бальмонта из Стивенсона – стихотворения «Осенние огни» и «Куда уплывает челнок» (см.: Стивенсон Р. Детский цветник стихов. М.: Изд-во ВЦИК СРК и КрАрмД, 1920. С. 25–26).
Бальмонт К. Злополучие отшельника // Сегодня. 1928. № 61. 4 марта. С. 5.
Бальмонт состоял в переписке с хорватским поэтом, драматургом и романистом Божо Ловричем (1881–1953) с декабря 1927 г. (см.: Бальмонт – Ловричу. С. 89–106). Он перевел на русский ряд произведений Ловрича, включая стихотворение «Смирение (Памяти ушедшего)» (Последние новости. 1928. № 2505. 31 января. С. 3).
Ловрич прислал Бальмонту, лучше понимавшему по-чешски, чем по-хорватски, оригинал своего стихотворения «Smirenje» и его чешский перевод (Бальмонт – Ловричу. 16.II.1928. С. 94).
Lovrić B. Syn. Drama o 3 děj. Praha: Grosman a Svoboda, 1922. Ловрич прислал Бальмонту свою драму в декабре 1927 г. с просьбой написать предисловие для ее хорватского издания (Бальмонт – Ловричу. 29.XII.1927. С. 92). Бальмонт написал предисловие, озаглавленное «Горный родник», а затем перевел драму на русский, но не нашел для нее издателя.
Увлечение творчеством Ловрича и переписка с ним нашли отражение в стихотворениях Бальмонта «Брат братьев. Сербская быль» (Последние новости. 1928. № 2596. 1 мая. С. 3) и «Певцу русского гения Божо Ловричу» (Россия и славянство. 1929. № 14. 2 марта. С. 3).
См.: Бальмонт – Шмелеву. 27.II.1928. С. 118–119. Речь идет о статье, в которой Иван Шмелев полемизирует с просоветскими взглядами писателя и публициста, члена французской компартии Анри Барбюса (1873–1935): Шмелев И. Анри Барбюс и российская корона // Возрождение. 1928. № 963. 21 января. С. 3.
Имеется в виду стихотворение «Горячий побратим» из сборника «Мое – Ей» (С. 97). Перевод остался неопубликованным.
Полная свобода действий (фр.).
Успокоение, умиротворение (фр.). Речь идет о французском переводе стихотворения Божо Ловрича «Смирение» (см. примеч. 2 к письму 156, примеч. 1 к письму 157).
Цитата из стихотворения Поля Верлена «Белая луна» (цикл «Добрая песня», 1871; Verlaine P. Œuvres poétiques completes / Réd. Y.-G. Le Dantec. Paris: Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 1948. P. 105–106). Перевод Федора Сологуба: «Сходит к нам покой / Нежный, бесконечный / С тверди голубой…» (Верлен П. Стихи. СПб.: Факелы, 1908). Французский текст стихотворения был положен на музыку Игорем Стравинским в 1910 г.
Бальмонт опубликовал свой перевод поэмы Божо Ловрича «Бегство Льва Толстого» («Bijeg Lava Tolstoja») в парижской газете «Россия и славянство» (1929. № 14. 2 марта. С. 4). Ловричу Бальмонт писал: «Получил я наконец Хорватский текст Вашей поэмы о Толстом. Сейчас буду ее читать и напишу Вам о ней, – до сего дня, Французский язык был в этом помехой. Я вовсе не поклонник Французского языка. Он довольно хорош для рассуждений, для салона, для политики, но для поэзии, – за редкими исключениями, – он никуда не годится» (Бальмонт – Ловричу. 26.III.1928. С. 95).
Открытка: Côte d’Argent. – Soorts. Vue Générale (Серебряный берег. Вид на Соор <фр.>).
Тем лучше (фр.).
30 апреля 1931 г. Людмила выступила с французскими переводами из Бальмонта на «Славянском вечере» поэта в парижском Hôtel Majestic. Сам Бальмонт читал свои переводы из поэтов Югославии (Й. Дучич, Б. Ловрич, Й. Сакович), Болгарии (Е. Димитров, Н. Лилиев, Н. Ракитин), Польши (Б. Лесмян, К. Вержинский, Ю. Тувим) и Чехословакии (Ф. Кубка, Р. Шварцова, Й. Волькер). Программа вечера хранится в бумагах Л. Савицкой (IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ29, папка «Hommage à Constatin Balmont + Presse»). См. также: Бальмонт К. Отзвуки славянского вечера в Париже // Россия и славянство. 1931. № 134. 20 июня. С. 3; Львов Л. К славянскому вечеру Бальмонта // Россия и славянство. 1931. № 126. 25 апреля. С. 3; Славянин. Славянский вечер в Париже // Россия и славянство. 1931. № 128. 9 мая. С. 4. Бальмонт писал 10 июня 1931 г. Софье Пети: «Мне очень жаль, что Вы не были на моем вечере. Одни надежды мои он совершенно не оправдал и лишь запутал меня еще больше, – другие зато, порядка внутреннего, оправдал, и был красив, и бросил светлый след» (BDIC, Fonds Eugène et Sophia Petit, F delta rés 571 <1> <6>).
В открытом письме к Ромену Роллану (Europe. 1928. № 63. 15 mars. P. 430–432) Горький попытался дискредитировать анонимное обращение писателей из СССР «К писателям мира» (см. примеч. 3 к письму 149) как фальшивку, сфабрикованную эмигрантами в целях политической провокации. Письмо Горького было ответом на франкоязычную газетную кампанию писателей-эмигрантов против советской культурной политики (см. примеч. 3 и 6 к письму 149, примеч. 2 к письму 153). За несколько месяцев до выступления Горького Бальмонт согласился участвовать в издательском проекте при условии, что «и тени Горького (вдохновитель убийц – хуже убийц) там не будет» (Бальмонт – Бунину. 19.XII.1927. С. 56).
В ответ на открытое письмо Горького Бальмонт опубликовал полемическую статью «Мещанин Пешков. По псевдониму: Горький», датированную 23 марта 1928 г. и печатавшуюся в эмигрантских газетах Парижа, Риги и Варшавы (Возрождение. 1928. № 1033. 31 марта. С. 3; Сегодня. 1928. № 89. 1 апреля. С. 4; За Свободу! 1928. № 80. 5 апреля. С. 3). Полемика писателей-эмигрантов с просоветски настроенными французскими коллегами получила широкий резонанс: Сакмаров А. Ромэн Роллан и палачи // За Свободу! 1928. № 50. 1 марта. С. 3; Айхенвальд Ю. Роллан-Отступник // Сегодня. 1928. № 93. 5 апреля. С. 4; Философов Д. Двуличие мещанина Пешкова // За Свободу! 1928. № 83. 8 апреля. С. 2; <Без подписи> О преступлении Ромэн Роллана // За Свободу! 1928. № 88. 15 апреля. С. 5. См. отклики в советской печати: Рыклин Г. Проза Бальмонта // Известия. 1928. № 39. 15 февраля. С. 2; и во французской прессе: Hirsch Ch.-H. Les Revues // Le Mercure de France. 1928. № 714. 15 mars. P. 691–692.
Appel des écrivains russes de la soviétie. – Réplique de Constantin Balmont à Romain Rolland / Trad. E. Halpérine – Kaminsky // L’ Avenir. 1928. № 3656. 16 mars. P. 1–2. Русская версия второго обращения Бальмонта к Ромену Роллану печаталась в парижских «Последних новостях» (1928. № 2551. 17 марта. С. 3), в рижской газете «Сегодня» (1928. № 78. 21 марта. С. 2) и в варшавской «За Свободу!» (1928. № 70. 24 марта. С. 2).
См.: Бальмонт К. В раздвинутой дали. С. 161. Газетная вырезка стихотворения «От солнца» («От солнца – золото, пушистый грозд мимозы…») и рукопись его французского перевода вложены в подарочный экземпляр сборника Бальмонта «Воздушный путь», хранящегося в библиотеке Л. Савицкой (см. примеч. 5 к письму 67). Перевод остался неопубликованным.
Имеется в виду цикл из шести стихотворений под общим заглавием «Литовские народные песни» («Мать и дочь», «Воробьиный праздник», «Звериная свадьба», «Божьи дети», «Три лебедя», «Овечка»), вошедший в сборник: Бальмонт К. Северное сияние. Стихи о Литве и Руси. Париж: Родник, 1931. С. 100–105.
Жюльен Банда (см. примеч. 2 к письму 155) был широко известен своей публицистикой, и в частности – нашумевшим памфлетом об «измене клерков» (Benda J. La Trahison des clercs. Paris: Grasset, 1927), в котором он обвинил европейскую культурную элиту в том, что она оставила служение непреходящим ценностям и вечным идеалам ради политической злобы дня.
Открытка: Cap-Breton-sur-Mer – Route d’Hossegor devant la plaine du Bouret (Дорога на Оссегор, идущая вдоль низины Бюре <фр.>).
Frau Sorge – злая фея немецкого фольклора, приносящая заботы и страдания, героиня одноименного стихотворения Генриха Гейне (русский перевод Н. А. Некрасова «Ах, были счастливые годы…», 1853) и романа Германа Зудермана (1887). О переводах Бальмонта из Зудермана см. примеч. 10 к письму 6 Л. Савицкой К. Бальмонту.
Бальмонт К. Музыкант настроения. Антонин Сова // Последние новости. 1928. № 2584. 19 апреля.
По имеющимся у нас данным, французский перевод рассказа «Воздушный путь» (см. примеч. 5 к письму 73) опубликован не был.
Франкоязычный литератор и литовский дипломат Оскар Милош (1877–1939), дядя будущего нобелевского лауреата Чеслава Милоша, переводил прозу и поэзию Бальмонта: La Lithuanie et la chanson // Le Mercure de Fance. 1929. № 740. 15 avril. P. 351–366; La Joie. – Peut-être // La Revue nouvelle. 1931. № 66. Mars. P. 14–21.
Поэт, романист, критик и переводчик Филеас Лебег (1869–1958), работавший редактором в журнале «Le Mercure de France», переводил стихи и прозу Бальмонта во второй половине 1930‐х гг. (см. библиографию в: Russian Émigrés. P. 74). Его перу принадлежат несколько критических очерков о творчестве поэта: Lebesgue Ph. Le plus grand poète vivant // Paris critique. 1926. 15 janvier; Un grand poète slave Constantin Balmont // Revue Bleue. 1931. № 15. 1 août. P. 460–465; Constantin Balmont // Poésie. 1936. № 8. Août. P. 143. Бальмонт посвятил Лебегу три очерка: Поэт-крестьянин Филеас Лебег // Последние новости. 1929. № 3151. 7 ноября. С. 3; Поэт колоса и цветка. Филеас Лебег // Сегодня. 1930. № 19. 19 января. С. 4; Деревенские поэмы Ф. Лебега // Последние новости. 1934. № 4719. 23 февраля. С. 2. Бальмонт переводил стихи Лебега: Проклятие Верцингеторикса // Последние новости. 1935. № 5236. 25 июня. С. 3; Броселианда // Последние новости. 1935. № 5253. 11 августа. С. 4. В настоящем письме речь идет об отклике Лебега на публичное выступление Бальмонта в поддержку прав Литвы на Вильнюсский регион. Вместе с заметкой Бальмонта «Радость видения (Филеас Лебег)» открытое письмо Лебега появилось, в литовском переводе, в каунасской газете «Lietuvos aidas» (1929. № 12. 15 января) и, по-русски, в каунасском «Эхе» (Анкета Бальмонта по Виленскому вопросу // Эхо. 1929. № 13. 16 января).
Ратуя за право Литвы на Вильнюсский регион, аннексированный Польшей, Бальмонт поместил два открытых письма в каунасской газете «Эхо Литвы» (Lietuvos aidas. 1928. № 171. 30 августа; № 197. 25 сентября). Подробнее см.: Бальмонт – Гире. С. 118–130. Польский поэт Ян Лехонь (1899–1956), переводчик стихов Бальмонта, опубликовал полемический ответ ему в газете «Glos prawdy» (1928. № 260. 19 сентября). Бальмонт ответил стихотворением «Польскому поэту Яну Лехоню», которое послал Людмиле в начале ноября (Бальмонт – Гире. 5.XI.1928. С. 126). Стихотворение печаталось в оригинале и в литовском переводе все в том же «Эхе Литвы» (Lietuvos aidas. 1928. № 238. 17 ноября). Именно об этой, третьей по счету публикации Бальмонта в каунасской газете и идет речь в настоящем письме.
Литовский патриот польско-немецкого происхождения, поэт, драматург и общественный деятель Людас Гира (1884–1946) выступал в своих публицистических и литературных писаниях за передачу Вильнюса Литве. Переписка с Гирой послужила главным толчком к участию Бальмонта в печатной дискуссии о статусе Вильнюсского региона.
Людмила, чей отец родился недалеко от Вильно и происходил из польско-литовского дворянского рода, адресовала Бальмонту открытое письмо, которое было опубликовано в литовском переводе: Savitzky L. Laiskas K. Balmontui // Židinys. 1929. № 1. Январь. P. 66–70. Письмо, датированное декабрем 1928 г., представляет собой развернутый комментарий на стихотворный протест Бальмонта в адрес Яна Лехоня (см. выше примеч. 4). Машинопись французского оригинала хранится в IMEC, Fonds Ludmila Savitzky, картон SVZ1, папка «Lettres de Ludmila Savitzky à C. Balmont». К письму приложен французский перевод (с литовского) вступительного слова редакции журнала: «Известный русский поэт К. Бальмонт, выступая в поддержку справедливых литовских требований в отношении Вильны, опубликовал некоторое время назад открытое письмо к польским писателям с воззванием к их совести и порядочности. В ответ польский поэт Ян Лехонь объявил, от имени живых и мертвых, что Вильна должна навеки принадлежать Польше. Бальмонт ответил Лехоню изысканным стихотворением, облекшим в благородную поэтическую форму утверждение прав литовской нации. Наш большой друг также обратился с просьбой к нескольким французским писателям высказаться по поводу Вильны и получил несколько отзывов, один из которых мы здесь приводим. Его автор – французский поэт, г-жа Людмила Савицкая, чья семья происходит из региона Вильны. Ее первый сборник стихов был тепло встречен „принцем французских поэтов“ Полем Фором. Кроме того, г-жа Л. Савицкая является одним из самых видных сотрудников парижского журнала „Le Mercure de France“» (пер. с фр.).
Речь идет о захвате Виленского региона Польшей в 1920 г. и о его аннексии в 1922‐м.
Несмотря на отсутствие писем после 1928 г. (за исключением настоящего), что объясняется прекращением литературного сотрудничества Савицкой с Бальмонтом, их общение продолжалось. Так, они виделись во время приезда поэта в Париж весной 1929 г. (Записные книжки. 4 и 7 марта 1929). Два года спустя Людмила читала свои переводы из Бальмонта на «Славянском вечере» поэта (см. примеч. 1 к письму 160). А Бальмонт продолжал дарить ей новые книги. В библиотеке Савицкой хранится его стихотворный сборник «В раздвинутой дали» (см. примеч. 1 к письму 111) со следующей дарственной надписью: «Сестре моей поэтической, Люси Савицкой, пленяющей и пленительной. К. Бальмонт. Капбретон. 1930. 22 янв.» Годом спустя Бальмонт прислал Людмиле книгу «Литовские народные сказки» (Рига: Школа жизни, 1931) со своим предисловием и дарственной надписью: «Дорогой и всегда сердцем чтимой и лелеемой Люси Савицкой. К. Бальмонт. Капбретон. 1931. 28 февраля». В том же году Людмила получила в подарок сборник поэта «Северное сияние. Стихи о Литве и Руси» (см. примеч. 5 к письму 162) с дарственной надписью: «Дорогой Люси Савицкой всегда хранящий в своем сердце очарование ее образа К. Бальмонт. Капбретон. 1931. Святки».
Бальмонт перевел несколько стихотворений чешского поэта и писателя Антонина Совы (1864–1928), с которым состоял в переписке (Бальмонт – Ляцкому. 29.XI.1929. С. 101). См.: Позднякова Т. К. Д. Бальмонт – переводчик чешской поэзии. С. 49–62.



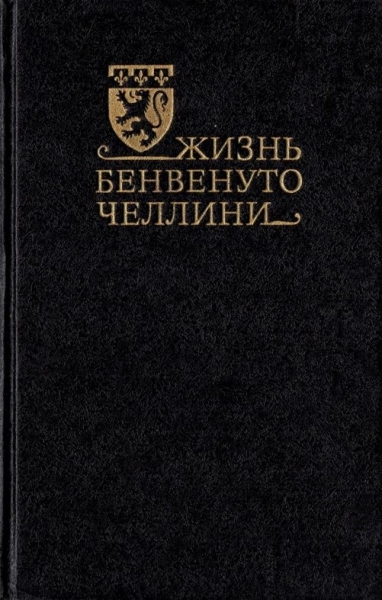



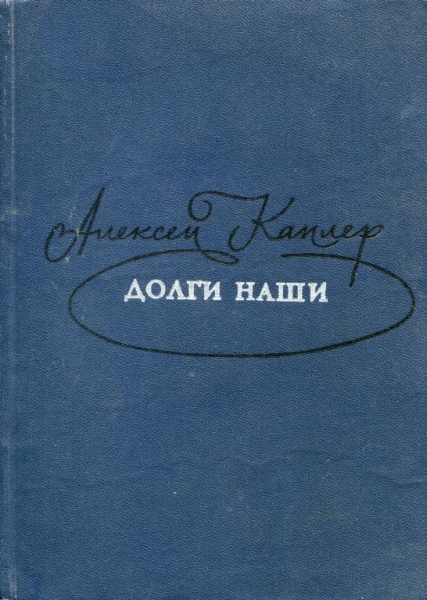




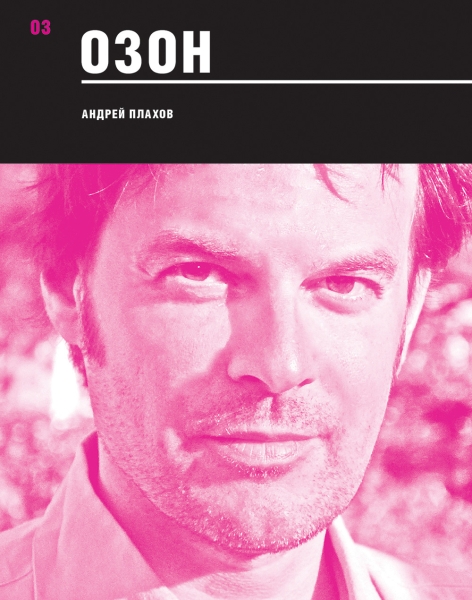
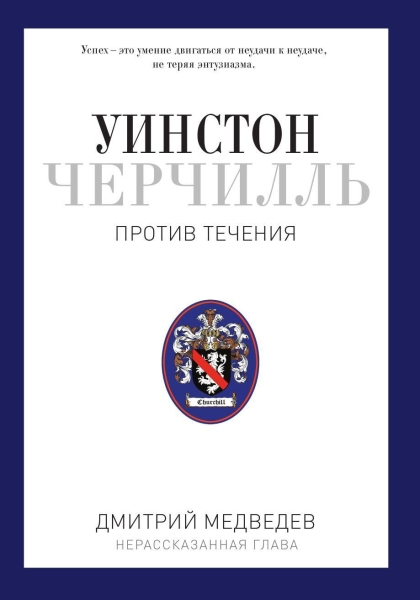
Комментарии к книге «Жила-была переводчица», Леонид Ливак
Всего 0 комментариев