Катя Яровая ИЗ МУЗЫКИ И СЛОВ (Песни и стихи)
От редакторов-составителей
Перед вами первый сборник русского поэта и барда Кати Яровой (1957–1992). Подготовка его к печати оказалась нелегкой задачей, поскольку автора нет в живых, а сохранившиеся рукописи и автографы нередко не совпадают с аудио- и видеозаписями ее песен. Тексты некоторых песен вообще не были записаны, и их пришлось восстанавливать по магнитофонным записям, а те, которые публиковались в газетах и журналах, содержали ошибки и опечатки.
Расположение стихов в хронологическом порядке затруднялось тем, что Катя редко ставила даты под своими стихами. Содержание ее концертов менялось — какие-то из своих старых песен она отбрасывала, другие продолжала петь, и трудно сказать, что она включила бы в свой первый сборник, будь она жива. Поэтому было решено организовать его так, чтобы, с одной стороны, показать читателю эволюцию ее творчества, включая и то, что никогда не было обнародовано и было обнаружено в ее рабочей тетради, а с другой стороны, следовать ее неизменной традиции в построении концертов: она перемежала лирику шуточными песнями и политической сатирой, представляя разные грани своего творчества, порядок песен тоже был отработан — с чего начинать, чем заканчивать.
Учитывая все вышесказанное, мы разбили сборник на несколько разделов. В первый включены избранные стихи и песни, которые она исполняла на концертах последних трех лет и большая часть которых была записана на двух «официальных» кассетах, подготовленных ею в 1990-ом и 1992-ом годах. Во второй вошли ранние стихи, посвящения личного характера, которые не исполнялись публично, и часть политических песен, которые она перестала петь в последние два года жизни (за исключением песни «На смерть Л. И. Брежнева», которую мы поместили в этом разделе как часть цикла). Тексты в обоих разделах расположены преимущественно хронологически, с учетом последовательности, которой Яровая придерживалась на концертах и на записанных ею кассетах. Третья часть содержит стихи из рабочей тетради в том порядке, в каком они были записаны. Некоторые из них не закончены, но этот раздел, пожалуй, больше всего позволяет оценить Катю как личность, ощутить, какой мощный творческий потенциал несла она в себе и какой трагедией было для всех нас ее потерять. Следующие три раздела невелики по объему и включают песни к спектаклям, переводы и прозу.
Большое внимание было уделено пунктуации, так как у Кати, как и у многих поэтов, было к ней свое отношение — например, она любила тире, терпеть не могла запятые и придавала большое значение точкам и заглавным буквам. Поэтому, следуя правилам грамматики, мы в то же время старались не нарушать авторского замысла в тех случаях, когда традиционное использование знаков препинания утяжелило бы структуру и свободное от всех земных пут течение стиха, которое лучше всего передает ощущение полета, столь свойственное поэзии Яровой.
Название сборника — «Из музыки и слов» — взято из песни Кати, оно как нельзя более точно определяет ее творческое пространство. Читая сборник, вы встретите отзывы В. Вишневского, И. Губермана, Л. Ошанина, Э. Ульман, В. Фрумкина, В. Швейцер. Большинство из них были написаны специально для сборника, и мы выражаем им всем сердечную признательность. Лев Ошанин написал свое маленькое эссе о Кате незадолго до своей смерти.
Обращаемся с просьбой к читателям сборника. Часть песенного наследия Кати Яровой утрачена, хочется верить — не безвозвратно. Если у вас есть какие-то материалы, связанные с ее жизнью и творчеством, просим связаться с нами через Интернет: ya.tatyana@verizon.net (Татьяна) и yarovaya@imedia.ru (Елена).
Я хочу поблагодарить Елену Яровую за тесное сотрудничество (хоть нас и разделял океан), взаимопонимание и доброе отношение на протяжении долгих лет работы над этим сборником, а также Катю Рыбакову, дочь Кати Яровой, за доверие и поддержку. Я очень признательна Е. Нехаевой, И. и Г. Кац и особенно профессору С. Лубенской за чтение рукописи и ценные замечания. Большое спасибо Б. Баришпольскому, Э. Горловой и Т. Зуншайн за предоставленные фотографии.
Особая благодарность барду Е. Нехаевой за передачу сборов от своего концерта, где она исполняла песни Кати Яровой, на осуществление этого проекта, а также всем остальным, приславшим деньги в фонд сборника. Я считаю весьма показательным тот факт, что первый сборник Кати Яровой издается на средства многих людей, услышавших ее песни и пожелавших дать и другим возможность узнать о ней, — ведь любовь к людям была главным двигателем ее творчества. Ниже перечислены имена их всех, независимо от размера присланного чека.
Этот сборник, наверное, еще долго не увидел бы света, если бы не помощь и поддержка моего мужа Бориса Ямрома, ибо ему принадлежит идея издать сборник в Америке и тем самым ускорить работу над ним. Его помощь с компьютерным обеспечением и советы, продиктованные вкусом, интуицией и верностью памяти Кати Яровой, поистине неоценимы. Я также выражаю признательность моей дочери Наталии Ямром за проделанную ею огромную работу по оформлению книги.
Хочу от всей души поблагодарить Эдуарда Дробицкого за рисунки и слайды, предоставленные для оформления сборника. Семья Кати Яровой выражает огромную благодарность Татьяне Янковской за неоценимую помощь в издании данного сборника и всем, кто участвовал в сборе средств для публикации: Т. Алавердян, Ц. Аникст, Б. и И. Баришпольским, М. Белкиной, Д. Беранскому, В. Бравве, П. Бурдиной, Д. и Г. Вильдгрубе, В. Драчу и Е. Тупицыной, Д. и М. Гольдиным, А. и Э. Горловым, З. Гуревич, Т. Зуншайн, Е. Казинцу и К. Старос, Ж. и Е. Каплан, И. Кунину и Н. Блок, В. и Д. Левенштейн, Н. Левиной, Е. Леоновой и А. Шахновичу, С. Лубенской, К. Меламуд, Е. Милютиной, А. Мушкаткол, Э. Попек, А. и Н. Попель, Е. Пятовой, И. и М. Рейзер, М. Ривкину, М. и В. Ромм, С. Рубинчику, Е. и О. Рыжовым, С. Селицкому, Г. Славской, Д. Смит, Э. Ульман, Ю. и М. Фикс, М. Фриман, А. и О. Футер, Р. Хинкли, П. Чернякову, М. и П. Шур.
«Любовь не кончается...» (Слово о сестре)
Этот сборник посмертный. При жизни Кати Яровой единственным признанием ее таланта были аплодисменты зрителей, пришедших на ее концерты. Это были домашние камерные концерты в тесных московских квартирах и просторных домах наших эмигрантов в Америке. Это были концерты и на престижных московских площадках, таких, как Центральный Дом литераторов, Дом актера, Центральный Дом художников, Колонный зал Дома союзов, ДК «Меридиан», и выступления в редакциях газет, в студенческих аудиториях, и гастрольные концерты в Ялте, Таллине, Ленинграде, Ташкенте, Самарканде и других городах Узбекистана.
Кто хоть однажды побывал на концерте Кати, попадал навсегда в плен ее таланта, притягательности ее яркой, своеобразной личности. Люди плакали и смеялись над ее песнями, переписывали кассеты и рассказывали друзьям о том, что встретились с удивительным явлением — песнями Кати Яровой. И приводили друзей на концерты, где она исполняла свои песни под гитару. Но настоящей известности Катя не получила. Почему? По разным причинам. Частично она сама отвечает на этот вопрос в одном из своих стихотворений:
Кате предлагали выпустить пластинку. Но только лирику, без политической сатиры. Она отказалась: «Это все равно что показать пол-лица». И в нескольких телепередачах, что все же были сняты о ней, самые острые, самые хлесткие, такие актуальные в то время песни не прозвучали. Побоялись выпустить их в эфир. А Катя не боялась. Мы помним танки на улицах Москвы в августе 91-го. Но Катя Яровая в «Песне про мое поколение» писала об этом гораздо раньше. А ее песня «Афганистан» была написана и исполнялась еще тогда, когда эту войну называли «интернациональным долгом». И разве эти едкие, обвинительные строки, к сожалению, тоже пророческие, стали менее актуальными во время войны в Чечне?
Моя сестра родилась 15 апреля 1957 года в Свердловске в семье филологов и режиссеров. В 1971 году семья переехала в Москву. Катя долго не могла найти себя: то решила поступать в театральное училище и, чтобы быть поближе к театру, устроилась работать кастеляншей во МХАТ, потом была администратором учебного театра ГИТИСа. В театральный поступать раздумала, а куда — не могла определить. Она сама освоила гитару и стала писать песни на стихи Цветаевой, Вознесенского, написала несколько собственных песен...
Чудо произошло после рождения дочери. Позже каждый свой концерт Катя начинала детской песенкой «Жил на свете гномик...», посвященной маленькой дочке. Этим сестра как бы отдавала дань судьбе, наградившей ее поэтическим даром после того, как она родила ребенка. С годовалой дочкой Катя отправилась к морю и смело путешествовала с такой крошкой почти все лето, переезжая с места на место. Когда я после долгой разлуки встретилась с ней, она находилась в предпоследней точке своего путешествия — в абхазском селении Ингири, в семье знакомых грузин.
Когда дом с его многочисленными обитателями погрузился в сон, Катя набросила шаль на плечи, взяла гитару и сказала: «Посидим на крыльце. Я спою тебе свои новые песни». Мы вышли в сад. Все казалось волшебным сном. Наша встреча и этот абхазский рай вокруг — фруктовые деревья склонялись под тяжестью наливающихся плодов, над нами раскинулось звездное южное небо, воздух был пронизан ароматами летней ночи. И в этих потрясающих декорациях Катя дала свой удивительный концерт. Я была ее единственным слушателем. Она пела песни, написанные этим летом. Я слышала их впервые. Их было много. Одна лучше другой. Я была потрясена. На моих глазах произошло чудо. Моя сестра, близкая и знакомая до мелочей, уже была не просто моя сестра. Это был поэт. Это были настоящие стихи и прекрасные мелодии. Все, что Катя писала раньше, было пробой пера, хотя и среди самых ранних Катиных стихов и песен были и милые, и талантливые. Но то, что я услышала той ночью в саду, были уже не песенки для домашнего употребления. Ее как будто прорвало. И стало ясно, что писать песни — это и будет делом ее жизни.
Она пела от первого лица, и, хотя песня написана от имени богини Земли Геи, все это так подходило к ней самой, что казалось — она сама неотъемлемая часть этого сада, этой ночи, этой земли, молодая, красивая, недавно родившая женщина, которая открыла в себе Божественный дар и вложила в свои песни любовь и восхищение этим удивительным, этим прекрасным миром.
Стихи, написанные тем летом, Катя отправила в Литературный институт и прошла творческий конкурс. Сдала все экзамены на «отлично» и поступила. Попала в семинар Льва Ошанина. В интервью таллинской молодежной газете «Мастерская» сестра рассказывает о своей учебе в Литинституте: «Училась неплохо, но не ради диплома.., просто хотела получить... филологическое образование. Были предметы, по которым — так считала — иметь что-то выше тройки нормальному человеку стыдно... Хотя в принципе мне общественно-политические предметы нравились — там же столько казусов и ляпов, как будто специально для моих песен. Иногда... начинала сочинять прямо на лекции».
Впервые в истории Литинститута выпускница Катя Яровая защищала диплом под гитару. И заработала аплодисменты Государственной комиссии.
Катина жизнь, бурная, полная событий, встреч, разлук, разочарований, бытовых и материальных проблем, пропущенная через магический кристалл поэзии, выливалась в песни. Чувство юмора, столь присущее Кате и ее стихам, спасительное чувство юмора, за которое она в самые тяжелые дни своей жизни хваталась, как утопающий за соломинку, иногда уступало место другим чувствам, как, например, в песне про отца. Это песня-воспоминание о первой настоящей детской потере, песня-признание в любви к отцу, который когда-то ушел из семьи:
Трудно разделить Катю Яровую-поэта и Катю Яровую-человека, женщину. Вся ее жизнь — поиски любви, стремление к женскому счастью. Катя должна была находиться в состоянии влюбленности, иначе она не могла писать. Она искала любовь, но далеко не всегда находила то, что искала.
Любовная лирика Кати Яровой — это самая высокая нота ее творчества, в ней соединены нежность и нестерпимая боль разлуки и утраты любви. Это песни, сотканные из ее сердца, нервов, ее души («Но зато я знаю, где душа — там, где боль от нашего прощанья»). Ее любовные песни удивительно мелодичны. Очень трудно и жалко отрывать стихи от мелодии, нарушая тем самым целостность песен, эмоционально обедняя то впечатление, которое возникает, когда слушаешь их в Катином исполнении. Тема расставания с любимым, когда чувства еще живы, но судьба разлучает с ним навсегда, — одна из главных тем Катиных любовных песен.
Тема смерти постоянно возникала в стихах сестры, начиная с самых ранних. Многие строки оказались пророческими и в отношении ее собственной судьбы. Как страшно, что и на этот раз она не ошиблась:
Эта песня была написана задолго до того, как врачи сообщили Кате, что у нее рак. Диагноз-приговор обрушился на сестру, ее близких и друзей, когда она в 1990 году находилась в Соединенных Штатах по приглашению профессора Джейн Таубман, которая влюбилась в Катины песни. Она предложила устроить несколько концертов в университетах для изучающих русский язык. Катя ехала «петь и смотреть», а попала в больницу. Не имея возможности заработать концертами и тем более заплатить за операцию, не имея медицинской страховки и никого из близких в чужой далекой стране, Катя тогда выжила благодаря Джейн и ее мужу Биллу, которые предоставили едва знакомому барду из России свой дом, договорились об операции и взяли на себя все заботы о Кате в такой страшный для нее период жизни.
Операция прошла удачно. И как только появились силы после курса облучения, Катя стала давать концерты. Везде, куда звали. Словарик в руки — и в самолет. Облетела всю страну. Позже в интервью санкт-петербургской газете «Час пик» Катя, в частности, расскажет об этом периоде: «Просыпалась утром и первым делом «находила себя»: я в Америке — раз. В штате Калифорния — два. В городке Купертино. В доме у... Как бы то ни было, дала 50 концертов. Это много... Ни славы, ни особых денег я не заработала, хотя кассеты мои раскупали и меня «передавали» из штата в штат. Благодаря последнему обстоятельству Америку я узнала вблизи, повидала огромное количество людей».
Так вышло, что моя сестра прожила в Америке целый год. У нее появилось там много новых друзей, много поклонников ее песен. В газете «Новое русское слово» была напечатана статья Татьяны Янковской о творчестве Кати Яровой «Единство сердца и строки, поступка, жеста...», правда, в сокращенном варианте. В полном объеме чуть позже эта точная по наблюдениям статья была напечатана в Париже в журнале «Континент» № 1 за 1992 год. В данный сборник мы включили именно этот вариант статьи.
В мае 91-го Катя Яровая, как тогда казалось, победившая смертельную болезнь и покорившая русскую американскую публику, вновь ступила на московскую землю. Здесь ее с нетерпением ждали самые близкие люди и самые преданные друзья, которые весь этот год молились за нее и переживали вместе с ней ее мужественную схватку со смертью. Телефон в ее маленькой квартире в пятиэтажке звонил днем и ночью, дверь не закрывалась — все хотели встретиться, послушать ее рассказы об Америке, о том, что там с ней приключилось, познакомиться с ее новыми песнями. Она умела очень интересно рассказывать и всегда была центром внимания в компании. Ее «байки» прерывались дружным хохотом — обычные, в общем-то, вещи она преподносила очень смешно.
Сохранилась видеокассета Катиного концерта в Доме актера в 1989-м году. Ее пригласили выступить перед актерами, среди которых было много очень известных, во время какого-то праздника. Артисты, привыкшие находиться на сцене, превратились в зрителей. Они сидели за столиками, угощались, а заодно слушали Катю Яровую. Но так было лишь в самом начале ее выступления. Катя так построила свой концерт, что песни перемежались историями их создания, рассказами о том, как они пробивались в печать или так и оставались неопубликованными. Эти истории она рассказывала так остроумно, что вскоре все забыли об угощении, смеялись до слез и аплодировали от души.
У Кати было много друзей. Они любили ее и нуждались в ней, многие без ее совета просто не могли обойтись. И она часто оказывалась в роли психоаналитика, раздавая свой опыт, свой ум, свою душу по кусочкам всем, кто в этом нуждался. Она не жалела для этого ни своего времени, ни сил. А силы были на исходе. Болезнь, на время отступив, постепенно возвращалась. И в дни августовского путча 1991-го, когда самое время было Кате Яровой выступить со своими песнями, такими актуальными тогда, она лежала, скованная страшной болью в спине. Тогда она еще не понимала, что это грозный признак вновь наступающей болезни...
После возвращения из Америки Катя не дала ни одного платного концерта. Она приехала не в ту страну, из которой уезжала. Система организации выступлений изменилась — артист должен был заранее заплатить за аренду зала, гастрольные поездки осложнились из-за начавшегося распада СССР и из-за резко подорожавших авиабилетов и гостиниц. Да и уверенности, что билеты на концерт барда будут проданы, не было. Все были заняты политикой, добыванием еды и ожиданием новых катаклизмов. В тот период в России творчество Кати Яровой оказалось невостребованным. А вот в Америке ее помнили и ждали. Надо было как-то жить. Ведь Катя зарабатывала на жизнь песнями. У нее не было иных источников дохода.
Весной 1992 года моя сестра вновь поехала в США, на этот раз с дочкой. Она оказалась в Колумбусе, штат Огайо, у своей давней и близкой подруги. По странному совпадению — так уж распорядилась судьба — Катя вновь узнает о том, что неизлечимо больна, именно находясь в Америке. Она успела дать несколько концертов, а потом почувствовала себя так плохо, что больше выступать не смогла. Один из зрителей, познакомившийся с Катей на концерте, сам врач, организовал ей консультацию у специалистов. Сомнений быть не могло — метастазы, болезнь прогрессирует с пугающей быстротой. Предложили традиционное лечение — облучение и химиотерапию. Но где же взять деньги на жизнь и лечение? Таня Зуншайн, у которой жила Катя с дочерью, делала все, что могла, и даже больше, но ее небольшой зарплаты не хватало. И тогда подключились друзья из России. Они подготовили письмо-обращение о помощи Кате Яровой, которое подписали известные российские деятели культуры Б. Ахмадулина, А. Битов, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ф. Искандер, Б. Мессерер, Ю. Мориц, Б. Окуджава и другие. Письмо пришло за день до того, как подборка Катиных стихов должна была появиться в газете «Новое русское слово», и сразу пошло в номер. Вот выдержки из этого письма:
«Дамы и господа! Обращаем ваше внимание на тяжелое положение, в котором оказалась известный российский поэт и бард Екатерина Яровая. В годы застоя Катя проявила достаточно мужества и свободы, исполняя на концертах песни, полные иронии, поражавшие всех смелостью и честной гражданской позицией... Но это лишь одна сторона ее творчества. Катя — тонкий поэт-лирик и наблюдательный бытописатель. Она автор более 300 песен. С большим успехом прошли ее выступления в ряде американских университетов в 1990 году.
Два года назад Катя перенесла операцию по поводу рака груди, сейчас у нее обнаружены обширные метастазы, и она проходит курс лучевой и химиотерапии в Колумбусе, штат Огайо.., где оказалась, выступая с концертами... Никаких пособий и средств к существованию не имеет. В настоящее время нетрудоспособна. Живет с дочерью у знакомых. Положение ее катастрофическое.
Выражаем надежду, что вы сочтете возможным оказать Екатерине Яровой помощь в любой форме...»
И хлынул поток доброты, человеческого участия и любви. Ей писали совершенно незнакомые люди, вкладывая в конверт деньги — кто сколько мог. Писали и те, кто побывал на ее концертах. И в каждом письме: «Дай Вам Бог здоровья. Будем молиться за Вас». Эта помощь незнакомых людей, откликнувшихся на чужую беду, явилась для Кати такой моральной компенсацией в последние месяцы ее жизни, что это помогло ей выдержать все муки и не озлобиться на мир, на свою немилосердную судьбу. Она до последних дней была благодарна Богу за поэтический дар и людям за их добро, помощь и участие.
Лечение, проведенное в Колумбусе, Кате не помогло. В это время наша мать лихорадочно искала нетрадиционные способы лечения дочери в России. И нашла, как ей показалось, самый многообещающий. Геннадий Марков, ученый из Новосибирска, который разработал оригинальную методику лечения раковых больных, взялся за спасение Катиной жизни. Это была последняя надежда.
Кате помогали не только в Америке, но и в России. После публикаций в газетах «Голос» и «Москвичка» пришли письма и деньги. В Новосибирск из Ташкента специально прилетела сотрудник Ташкентского телевидения Халима Мухамедова, чтобы привезти собранные там для Кати деньги, фрукты, видеокассету с телепередачей о ней. В Ташкенте помнили и любили Катю еще по ее гастролям в Узбекистане.
Мы с Катей жили в гостинице квартирного типа. Геннадий Марков приезжал к нам почти каждый день. Он делал все, что от него зависело, для спасения сестры, причем совершенно бескорыстно. Из Москвы прилетела Катина близкая подруга Оля Гусинская — хотела навестить ее и передать ей лекарства, да так и осталась с нами, потому что поняла, что нам очень нужна ее помощь, хотя в Москве у нее оставался сын на попечении сестры и работа, которую она, конечно, потеряла.
Да, это именно та плата, о которой мечтали ее друзья в обмен на свою доброту. Они хотели только одного — чтобы Катя осталась жить.
Сестра умерла 12 декабря 1992 года в больнице новосибирского Академгородка. Ей было 35 лет. Похоронили ее 16 декабря в Москве на Востряковском кладбище, недалеко от могилы Андрея Сахарова.
«...Катин стремительный уход из жизни — огромная потеря не только для русской культуры, но и для ее друзей, которых у нее было множество по обе стороны океана. Она обладала удивительной способностью мгновенно обрастать друзьями, куда бы ни занесла ее судьба. Тепло и свет, исходившие от нее, делали ее родным, близким человеком всем, кто попадал в поле ее притяжения. Ей было так легко помогать — наверное, потому, что она редко о чем-нибудь просила и умела радоваться и быть благодарной, как никто. Ее неиссякаемое остроумие делало общение с ней праздником. Ее нравственный барометр был безошибочен. В общении с ней люди всегда раскрывались с лучшей стороны. Для многих из ее окружения встреча с ней, ее влияние открыли новую страницу в жизни», — писала Татьяна Янковская в «Новом русском слове» 22 декабря. Попрощались с Катей и российские газеты «Голос», «Москвичка», «Литературные новости», «Российское время», опубликовавшие текст Катиной последней песни.
Каждый год, обычно 15 апреля или 12 декабря, по общеамериканскому национальному радио, вещающему на русском языке, звучит передача о Кате Яровой, подготовленная Аллой Кигель, звучат Катины песни. После передачи в студии не смолкает телефон — шквал звонков, как говорит Алла, «творится что-то невероятное, такого отклика не вызывает ни одна передача». Люди благодарят за подаренную возможность услышать песни Кати Яровой, говорят, что потрясены услышанным, скорбят о ее безвременном уходе...
«Любовь — это состояние моей души», — говорила Катя в последнем в ее жизни интервью для американского телевидения. «Связи тонкая нить» между ушедшими от нас и теми, кто остался здесь, на земле, — это Любовь. Катины песни и стихи пронизаны Любовью, и ее ощущают все, кто прикасается к ее творчеству, — давние поклонники ее песен и те, кто впервые слышит их. Наша память о ней — родных, близких и друзей, а также тех, кто никогда не знал Катю, но теперь, услышав ее песни, откликнулся на них сердцем, — это обратная связь, наш посыл Любви к ней. И так будет всегда, потому что «Любовь не кончается. Просто кончается жизнь».
ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ И ПЕСНИ
«Жил на свете гномик...»
«Отец мой, ты меня недолюбил...»
Песня про мое поколение
Вспоминая Катю Яровую... Владимир Фрумкин
С песнями Кати Яровой меня свел случай. Ее голос возник посреди редакционной суеты и шума — он доносился из портативного магнитофона, вокруг которого сгрудились мои коллеги по «Голосу Америки». Первое чувство — удивление. Казалось, чего можно ждать от новой поросли российских бардов после мощного песенного всплеска 60-70-х годов в это смутное, неустойчивое, непесенное время (дело было в 90-м году)? Но от голоса на кассете веяло подлинностью. Песни подкупали точностью и сжатостью поэтической мысли, внутренней силой и смелостью обобщений. Никакой романтической размягченности, даже в любовной лирике. Никаких иллюзий. Скепсис, трезвость, ирония (часто по-галичевски горькая и жесткая), едкая насмешливость.
«30 лет — это время свершений. 30 лет — это возраст вершины. 30 лет — это время свержений тех, что раньше умами вершили» — так пел когда-то шестидесятник Юра Кукин. «Тридцатилетние подростки... У нас лишь планы да наброски», — звучало у барда нового времени, у певца поколения, которое «...и не горенье, не гниенье, а так — застойное явленье».
Эта песня многое для меня открыла — и в Кате, и в ее сверстниках.
Прошло несколько месяцев. Был конец января 1991 года. Провожая Катю на автобус, уходивший в Нью-Йорк, я сказал ей: «Угадайте, какая из ваших песен для меня самая сильная». «70-х поколенье», — ответила она не задумываясь.
Красный уголок
Радуйтесь, что вы не в тюрьме, не в больнице.
Если вас ведут в караульный участок, радуйтесь,
что вас ведут не в геенну огненную.
Про Родину-мать
«Кто сказал, у нас бардак и неразбериха?..»
Посвящается XIX партконференции
I. Проводы друга
II. «Вот и вы, о Господи, и вы...»
Семье Голембо
III. «Настанет день — и в воздухе растает...»
Никите Якубовичу
«По свету бродит одинокая...»
«Я не боюсь ни с кем сравненья...»
Ночь в Геленджике
Пляжная зарисовка
Вспоминая Катю Яровую... Владимир Вишневский
Дружба наша оказалась избавленной от быта и обыденности: встречи с Катюшей были редки, но метки. Это был праздник взаимной приязни, пир импровизации... Мы весело нахваливали друг друга, взаимозаряжаясь энергией (тогда это слово еще не было расхожим до неприличия). Мы говорили друг другу те самые комплименты, которые сильно скрашивают всем пишущим и поющим «короткую такую»... Я это к тому, что Катя осталась для меня человеком абсолютно радостным.
Произошедшее дает безвременную возможность оценить и застолбить. Уверен, не только я считаю, что фигура Кати Яровой имеет место, она есть не просто в русском шансоне, но и в словесности — уже хотя бы в смысле т. н. работы со словом и со словами. Не так мало: несколько песен-жемчужин, стихи, которые помнят, божественный венок сонетов... Я придаю повышенное значение таким, например, строчкам — из песни слова! — «Освободите наш топчан, здесь топчаны для свердловчан!..» Недавно я лишний раз убедился в том, что Катины песни и в пересказе способны впечатлять сегодня всех, кого хочется посвятить в это имя. Лучшие не устаревают и вопреки, и благодаря точнейшим и ароматнейшим деталям своего времени, которое так снайперски схвачено в этих песнях.
...Сегодняшняя жизнь Кати представляется, слышится мне длящейся, щемящей, мерцающей мелодией, внятной для всех, кому довелось ее знать.
«— Галя, к тебе ведь сватается Лешка...»
«Зачем мы все живем начерновую...»
Посвящается Риге, Юрмале, Сигулде
«Леса со вздохом облегченья...»
«Рисует Время мой портрет...»
«Нам в дочки-матери играть уже не нравится...»
Дни сентября
«Что моя жизнь? Летящая звезда...»
«Будьте внимательны на переходах...»
«Любимый, что нас развело с тобой?..»
«Не трепетать? Не трепещу...»
«Да, и меня настигнет осень...»
НЕЛИРИЧЕСКИЙ МОНОЛОГ ЛИРИЧЕСКОЙ ГЕРОИНИ (Венок сонетов)
«Не упускай меня сквозь пальцы как песок...»
«Тоненькие пальчики пальчики...»
Песня Цирцей
«Зачем мы, сестры, белокуры...»
«Чашечки саксонского фарфора...»
Любимой подруге
«Зачем фарфор саксонский...»
Вспоминая Катю Яровую... Лев Ошанин
(в сокращении)
Катя Яровая пришла ко мне на поэтический семинар Литературного института им. Горького 1 сентября 1983 года и на первом же обсуждении своих стихов неожиданно для сокурсников появилась с гитарой. Она скромно и твердо сразу же вступила в своеобразное братство бардов, людей с гитарой и поэтической метафорой.
Катя была с нами пять лет, являлась непременной участницей литинститутских отчетных вечеров и в 1988 году защитила дипломную работу на «отлично». Ее палитра оказалась многокрасочной — лирика и улыбка, ирония, переходящая в сарказм, а порой не по-юношески мудрые обобщения.
У Кати было драгоценное острое чувство современности. Молодая, красивая, обаятельная, с милым теплым голосом и верной гитарой, что бы ни пела Катя — ее всегда ждал успех. Из ее трехсот песен каждый, вероятно, может найти для себя дорогое и необходимое. Я видел людей в американском городе Бостоне, которые после встречи с Катей не устают собирать ее поэтические и музыкальные записи, обмениваясь ими друг с другом.
Катя Яровая много двигалась по земле. В последние годы у нее появилось много политических песен. Она писала об Афганистане, о Сумгаите, о своем поколении, которое считала потерянным. А рядом с ними и такое: «Не упускай меня сквозь пальцы как песок...»
16 декабря 1992-го, всего через четыре с половиной года после окончания института, мы ее хоронили. И у меня тогда же вырвалось маленькое сердитое стихотворение:
«Во дворике Литинститута...»
В парижском зоопарке произошел необыкновенный случай — тигрица родила детеныша от льва. Ученые не знают, к какому виду животных отнести родившееся существо...
Песенка про режиссера ТЮЗа
Прощание с «Таганкой»
«Умирают стихи от насилья...»
«Переходила вброд...»
«У нас на пятом этаже...»
«Я в городе моем порядок наведу...»
«А все принцессы любят только свинопасов...»
«Я — московская жена...»
Вавилонская башня
Афганистан
«Блажен незлобивый поэт!..»
Посвящается нетленной памяти великого русского поэта Некрасова.
«Бредем вслепую, в темноте, теряя ориентиры...»
Послесловие к кинофильму «Покаяние»
«Наш сад уже облюбовала осень...»
Колыбельная Никите
«Что нам разлука в три недели?..»
«Судьбы своей не превозмочь...»
«Я снова вхожу в эту реку...»
«Вот опять заморочит метелью...»
«Как боятся стихий — урагана и смерча...»
«Любить тебя, как будто в прорубь...»
«То живу я в доме этом...»
Вспоминая Катю Яровую... Элейн Ульман
(из выступления в университете Брандайс 17 марта 2002)
Я познакомилась с Катей весной 1990 года в доме моей подруги Джейн Таубман, профессора кафедры русского языка в Амхерст колледже. Мы подружились. Катя проходила курс лучевой терапии, и когда мы переехали на дачу, она поселилась в нашем доме, который находился недалеко от больницы. После обеда она загорала в саду, принимала навещавших ее друзей, переписала себе всю нашу коллекцию классической музыки и непрерывно читала. Когда я заезжала, она развлекала меня смешными историями. Все врачи и персонал больницы были совершенно сражены этой красивой, умной, дерзкой и экзотичной женщиной.
Окрепнув, она начала выступать с концертами перед группами эмигрантов в Бостоне и Нью-Йорке. Джейн устроила ее выступление в Амхерст колледже, я организовала концерт в Йельском университете. Зная, что даже хорошо освоившие русский язык студенты не смогут уловить нюансов в ее песнях, мы решили перевести около двадцати из них на английский, чтобы студенты могли пользоваться переводами во время концертов. Катины стихи и песни — это ее подарок людям. Жизнь была жестокой и безжалостной, как ее родина, как рабство или рак. Но она раскрывала ей свои объятья, каждый раз поднималась и пела — страстно, непреклонно. Она смеялась над жизнью, оплакивала и праздновала ее.
В песне «Я снова вхожу в эту реку», моей любимой, она поет, что входит в реку любви, затем в море жизни, где волны счастья и горя едва не сбивают ее с ног. Но ее дух непоколебим. Перед лицом потерь и болезни она мужественно идет навстречу волнам, продолжая петь — аллилуйя.
Осенний романс
«Моя минорная тональность...»
«Мой круг друзей, спасательный мой круг...»
«Чужие голоса, чужая речь...»
На смерть России
«В разных была и обличьях, и обликах...»
«Не музыкант и не певец...»
Посвящается всем бродячим поэтам
СТИХИ И ПЕСНИ РАЗНЫХ ЛЕТ
«Из Екатеринбурга родом...»
«Я играю вничью. Я — ничья...»
«Машины, машины, машины...»
«Я пролетом в твоих городах...»
«О чем кричит ночная птица?..»
А. Оболеру
«Когда мне кажется, что всеми позабыта...»
«Уходит молодость, а с нею и любовь...»
«Кто ты, Артист?..»
«Закружит ветром лист осенний...»
В. Рыбакову
«Мир так жесток...»
«Катится колясочка...»
«Ужели костер догорает, едва разгоревшись...»
«А праздник только начался...»
По дороге из «Домодедово»
«Душа устала от порывов...»
«Любовь не пернатым ангелом...»
«Над Москвою, над Москвою...»
«Доколь играть чужую роль?..»
«Ах, мы с тобой друзья по переписке...»
В. Рыбакову
«Когда зимы проходят сны...»
«Мой маленький самолетик...»
«Снова ты улетаешь...»
В. Рыбакову
«Удар, удар, еще удар...»
«Мы пришли сюда из дальних мест...»
«Смысл жизни доселе неведом...»
«Я служанка твоих глаз...»
«Штормит и волнуется море...»
«Среди Кавказских гор...»
«Прощай, мой домик на горе...»
«Измена лик имеет скорбный...»
«Свет потухшей звезды...»
«Русалка с личиком и детским, и спокойным...»
«Я снова в Москве неприветливо-серой...»
«Чем уберечь себя от стрессов...»
«Я вижу белый снег...»
Снег какой угодно, только не белый...
Родословная
Вспоминая Катю Яровую... Татьяна Янковская
При подготовке этого сборника среди друзей Кати Яровой возникли разногласия — включать или не включать ее политические песни? Ведь эти, по ее выражению, «песни протеста» были откликом на конкретные события, и некоторые из них утратили свою злободневность, как считала Катя в последние годы жизни.
Но время показало, что многие из них по-прежнему актуальны в сегодняшней России, а также универсально приложимы к событиям и ситуациям в разных точках земного шара. Поэтому невозможно себе представить первый сборник Кати Яровой без её политических песен. При жизни она не раз отклоняла возможность публикаций или выпуска пластинки, если эти песни не хотели включать, желая ограничиться только лирикой. Сам факт их создания знаменателен: в то время как большинство тех, кто был гораздо лучше, чем она, защищен известностью и положением, предпочитали молчать, ее голос был камертоном, по которому можно было проверять правильность своей политической позиции.
Слова, сказанные когда-то о Марине Цветаевой — свет, правдивость, бесстрашие, — могут быть отнесены и к Кате Яровой, и в первую очередь к её политическим песням.
Мелодически они, как правило, уступают её лирическим песням, но мелодия в них — лишь несущая волна, облегчающая контакт автора с аудиторией. А свежесть взгляда, острота мысли, новаторское использование привычных лексических форм, отличающие её творчество, присутствуют и в ее политических песнях, как и пророческий характер — черта всякой истинной поэзии. Эти песни останутся жить как страница русской летописи 80-х годов XX века и как свидетельство того, что всегда, при любых обстоятельствах, человек способен оставаться Человеком. Когда рушились устои, рвались привычные связи, «всё рвалось, только струны держались и, как водка, слова дорожали»...
Слову, вовремя сказанному, нет цены. И из песни слова не выкинешь. Поэтому мы считаем необходимым включить политические песни Кати Яровой в этот сборник.
«Гниет в амбарах тоннами пшеница...»
«Прогрызаю я плаценту...»
«Из окон распахнутых раненым зверем ревет...»
В. С. Высоцкому
«Среди всеобщего упадка и разрухи...»
Мы — кузнецы
«Нас пугают грядущей войною...»
«А если окна занавесить...»
Жизнь есть форма существования белковых тел.
НА СМЕРТЬ ВОЖДЕЙ
I. На смерть Л. И. Брежнева
II. На смерть Ю. В. Андропова
III. На смерть К. У. Черненко
«Темнеет за оградой сад...»
«Что, я тебе нравлюсь?..»
«Я мыслями — с одним...»
«Плоти плотная плотина...»
«Ах, девочка-хищница...»
«Золотом — по золоту...»
Сестре Елене
«Передо мной разорванная фотография...»
«Мой милый Муж...»
В. Рыбакову
«Ленивые пальцы...»
«Рассыпались снежные ноты...»
Рождественская открытка
«Мы поедем вскоре...»
Песенка про развод
«Я лежала с тонкими телами...»
«Указом антиалкогольным крепко вмазал...»
«На территории Тульского завода крепленых вин забил минеральный источник...»
К 70-летию Советской власти
Посвящается Феликсу Медведеву, который предложил объединить Америку и Россию в одно общее государство и назвать его АМЕРОС
«Дождь, дождь, дождь...»
Я вижу ночное небо
ПОСВЯЩЕНИЯ Э. ДРОБИЦКОМУ
I. «Эдик Дробицкий...»
II. «Уставший от роли Бога...»
III. «На границе меж тьмою и светом...»
IV. «Ты прыгнул выше крыши...»
V. Поздравление с днем рождения, на который меня не пригласили
«Когда-то это был мой дом...»
«По артериям Таганки...»
В. Высоцкому
Посвящение В. С. Высоцкому
Но душам их дано бродить в цветах...
На узких перекрестках мирозданья.
Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед ним.
«Меняются законы...»
Ответ А. Розенбауму от имени Вилли Токарева
(на песню «У вас на Брайтоне хорошая погода»)
«По стране бродит призраком смута...»
Обручальное кольцо —
Не простое украшенье,
Двух сердец одно решенье —
Обручальное кольцо.
«Мне ветер мартовский покоя не дает...»
ИЗ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ
«Ну что, Душа, поговорим?..»
«Я буду говорить открытым текстом...»
«Здравствуйте! Вы были моим первым мужчиной...»
«У педикюрши Ниночки...»
«Раз любила, два любила, три любила...»
«В одиночестве ночей...»
«Покинута и нелюбима...»
Ироническая элегия
«Расслабиться, не думать об осанке...»
«Школа на Таганке, там, в районе детства...»
«Весов холодных помню я прикосновенье...»
«Я родилась и жила на Урале...»
«Идет весна хозяйкой хлопотливой...»
«Если ты кавалер орденов или знаков почета...»
«Вступать в Союз писателей позорно...»
«Когда в груди зажжется хоть искра вдохновенья...»
«Эта жизнь, как колючею проволкой...»
«Меня мать недосмотрела...»
«Я плыву, как кораблик бумажный...»
«Как за время перестройки...»
«Когда мы будем умирать...»
«Как наши замыслы убоги...»
Женщинам конца XX века
«Снова сердце скрепив...»
«Да, любовь, как время — деньги...»
«Я первой была любовью...»
«Мой ангел! В этом мире...»
«Когда придет пора с тобой проститься...»
«Мне царского имени...»
Вспоминая Катю Яровую... Виктория Швейцер
Катя Яровая... Что вспоминается при этом имени? Вероятно, каждому что-то свое: одному — ее песни, другому — ее устные рассказы, необычайно живые и яркие, по большей части из ее собственной, совсем не легкой жизни, третьему — ее улыбка или ее фигура, прекрасная в любом наряде. Мне же при имени Кати Яровой вспоминается ее удивительное, редкостное жизнелюбие и мужество, может быть, потому, что я знала Катю только в последние ее годы.
Как могла она улыбаться, болтать обо всем на свете, думать о пустяках — преодолевая боль и столь естественный, казалось бы, страх? Что давало ей силы шутить над своей болезнью, своей менявшейся внешностью, своими все более безнадежными перспективами? Она вела себя так, как будто не было ни боли, ни страха. Как будто все горести и даже болезнь преходящи и впереди новая жизнь и надо искать и завоевывать свое место в ней. Жизнелюбие — вот главное человеческое качество Кати. Из него черпала она свою неувядаемую молодость — и свою мудрость, свой интерес к людям, свои «байки», свой юмор, свой смех, свою человеческую широту. Все это делало Катю яркой, своеобразной, запоминающейся. Она нравилась людям, но даже и те, кому не очень нравилась, не могли не подпасть под ее обаяние. Ее всеобъемлющая любовь, я бы сказала, страсть к жизни заставляла верить, что Катя выкарабкается, победит даже эту страшную болезнь, она не может умереть. Ее смерть, для нее явившаяся, вероятно, освобождением, для меня оказалась полной неожиданностью. И сейчас, в воспоминаниях, Катя Яровая вызывает у меня ассоциации с самой жизнью.
«Генуг, товарищи, генуг...»
«Купим лампу настольную...»
«Я хочу превратиться в камень...»
«Зима мне не зима, весна мне не весна...»
«Когда б с тебя писала я картину...»
«Давайте поплачем над нашею общей судьбою...»
«Когда меня пронзает тайной...»
«Перед вами я покаюсь...»
«Мне мама говорила...»
«О пролейся, пролейся, мой дождь золотой!..»
Вспоминая Катю Яровую... Игорь Губерман
(из интервью)
Катя Яровая изумительно талантлива, человек необыкновенных качеств и достоинств — творческих, я ее как человека, к сожалению, не знал.
У нее изумительные песни — по чистоте, по распахнутости, по открытости, по таланту.
Мне о Кате Яровой рассказали в Америке, дали ее кассету, я послушал, и, несмотря на плохое качество записи, проступил необыкновенный талант. Я тут же попросил тексты, почитал — жутко настоящее все это! Ужасно жалко, что так рано оборвалась ее жизнь...
ПЕСНИ К СПЕКТАКЛЯМ
ПЕСНИ К СПЕКТАКЛЮ «ВРЕМЯ СНОВИДЕНИЙ»
I. «Все человечество — кентавр...»
II. «Над Нью-Йорком и Парижем...»
ПЕСНИ К ПЬЕСЕ В. РЫБАКОВА «СЕРЕБРЯНОЕ НЕБО, ИЛИ ЦАРЬ ОСЬМИНОГ»
Песенка Рыбы-Клоуна
Песня серебристых кефалек
Песня Каракатицы
Песня Летучего Рыба
Песня фантастических медуз
Песня уплывающей наверх девочки
ПЕСНИ К СПЕКТАКЛЮ «ЗОЛОТОЙ КОЛОДЕЦ»
Песня Герасима
Песня Вани
Песня Ларисы
Песня представителя Общества трезвости
«В этом мире унылом и скушном...»
ПЕРЕВОДЫ С ГРУЗИНСКОГО
Отар Чиладзе. «Я готов служить тебе и слушать...»
Резо Амашукели. Одиночество
Бежан начал ходить с отцом на охоту еще в шестом классе. И уже тогда обнаружились его удивительные способности к меткой стрельбе. Не было такой мишени, в которую бы не мог попасть Бежан. Даже самая маленькая и шустрая перепелка не могла уйти от его пули. Правда, дальше восьмидесяти метров Бежан стрелять на мог. Но не потому, что не мог попасть, а потому, что дальше восьмидесяти метров пуля из ружья не летит.
Вот, например, отправились на охоту Бежан, отец и его приятель. Видят — две перепелки рядом летят. Приятель отца направил свою трехстволку, выстрелил, промахнулся и, чертыхаясь, стал перезаряжать ружье. Тогда отец прицелился своей двустволкой — но опять мимо, только вспугнул птиц, и они полетели в разные стороны. И когда Бежан поднял свое ружьишко с одним стволом, отец хмуро сказал: «Э, брось, не выйдет». Раздался выстрел, и одна перепелка дернулась, взлетела чуть выше и камнем упала на поле. Не успели проводить ее взглядом, как вслед за выстрелом упала вторая.
После этого случая отец подарил Бежану свою двустволку, а себе купил новую, трехствольную, как у приятеля.
Но вот однажды Бежану здорово досталось от отца. И все из-за зайца. Бежан знал, что за зайца дают восемь лет, но любой охотник на его месте не выдержал бы.
Они с Джильдой возвращались с полной сумкой перепелок, и вдруг собака стремительно промчалась по полю и остановилась как вкопанная, глядя немигающим взглядом в ров. Бежан не сразу даже понял, в чем дело. Стал тормошить ее, звать, гладить, начал даже сердиться, но Джильда превратилась в камень. И вдруг во рву зашевелилось, зашуршало, мелькнуло что-то белое, и собака, моментально вышедшая из оцепенения, помчалась вслед за ним. И тут Бежан увидел, как прямо на него бежит огромный испуганный заяц, а за ним Джильда. Бежан не раздумывая вскинул ружье. От первого выстрела прямо в лоб заяц потерял сознание, но продолжал бежать. Второй выстрел не заставил себя долго ждать, и через несколько минут окровавленный заяц, завернутый в плащ, оттягивал плечо своего победителя.
Но вместо лавров и восхищения дома Бежан получил такую взбучку, что три дня не мог прийти в себя и пять дней не мог сидеть. Но так как заяц был убит без свидетелей — все обошлось.
Но самое интересное произошло в субботу, первого августа. В этот день, как и каждый год, в Анаклии собралось очень много мужчин. День открытия охотничьего сезона собрал не только охотников, но и массу людей, желающих просто потолкаться, потолковать, послушать нескончаемые традиционные «охотничьи рассказы».
Бежан с отцом приехали на своей машине, когда уже все были в сборе. Народ горячился, о чем-то спорил, показывая пальцами на банку, возвышавшуюся на небольшом столбе. Выяснилось, что спор заключается в том, можно ли разбить эту банку одним выстрелом с расстояния восемьдесят метров.
Спор, судя по всему, шел давно. Мужчины громко рассуждали, жестикулировали, но никто не решался приступить к делу. И тогда Бежан сказал: «О чем вы тут спорите? Я разобью эту банку с одного выстрела!» И тогда один из мужчин, его все знали, так как он был подпольным миллионером и купил недавно ружье стоимостью девять тысяч, сказал: «Если ты разобьешь эту банку, я сделаю тебе такой подарок, о котором ты и не мечтаешь».
Оживлению и всеобщему возбуждению не было предела. Бежан прицелился и выстрелил. Банка осталась на своем месте. Все засмеялись, но Бежан сказал: «Вы что, зрение потеряли?! Посмотрите хорошенько». Мужчины побежали к столбу. Банка действительно стояла на месте, но ее верхняя часть вместе с крышкой была аккуратно срезана. Поднялся гул голосов, все опять начали спорить и пришли к единодушному мнению, что эту банку нельзя назвать разбитой, как было оговорено в условиях спора. Тогда взбешенный Бежан опять нацелился в эту проклятую банку, и вслед за выстрелом раздался звон разбитого вдребезги стекла. Всеобщее ликование, пожимание рук, возгласы, но главное — подарок. Шикарное немецкое ружье стоимостью три с половиной тысячи.
После этого случая все в Ингири и даже многие в Зугдиди узнавали Бежана, при встрече почтительно пожимали ему руку, и некоторые даже показывали на него пальцем.
Итак, в свои семнадцать с половиной лет Бежан стал уважаемым человеком. За свой меткий глаз, за твердую, без промаха бьющую руку, и за настоящее мужское сердце, закаленное ежедневным зрелищем смерти и крови, сердце, не знающее жалости и сомнений.
Но вот однажды с Бежаном случилось несчастье. Поздней осенью, после особенно удачной охоты, усталый и довольный он возвращался домой, насвистывая и размахивая ружьем. И когда он уже совсем было подходил к селу, на размокшей после дождя тропинке вдруг поскользнулся и упал. Рука, в которой было ружье, с силой ударилась о землю. Раздался выстрел. От ослепительной боли в ноге Бежан потерял сознание.
Операция длилась четыре часа. Четыре месяца неудачливый охотник пролежал неподвижно с подвешенной ногой. За полгода, что Бежан провел в больнице, обезумевшие от горя родители платили тысячу за тысячей врачам, чтоб спасти ногу своему сыну. Немалые деньги были заплачены и за то, чтобы Бежан лежал в отдельной палате.
Таким образом он впервые в жизни оказался один на один с собой и своими мыслями. Что он только не передумал за эти полгода!
Особенно мучил его один сон, который повторялся изо дня в день, из ночи в ночь. Снилось ему, что он целится в куропатку, но ружье не послушно его рукам, а, подвластное какой-то неведомой силе, разворачивается и целится прямо в него, в Бежана. Он пытается уклониться, повернуть ружье, но оно, как намагниченное, неумолимо целится в своего хозяина. Тогда Бежан бросает ружье и бежит прочь. Но ружье гонится за ним. Бежан в ужасе просыпался, чертыхался, но как только засыпал — все повторялось сначала.
Теперь Бежан уже выписался из больницы. Ходит с палочкой, но врачи говорят, что со временем и палочка будет не нужна. А отец, желая подбодрить сына, в день выписки из больницы сказал: «Ничего. Не переживай. Мы с тобой еще поохотимся». Бежан не стал возражать, но перед сном снял со стенки свое ружье и отнес его в чулан.
Долго еще ходили по селу разные слухи. Одни говорили, что Бежан стал немного «того», и крутили пальцем у виска.
Другие говорили, что он стал вегетарианцем. Но это как раз мало кого могло удивить, так как все жители села были в каком-то смысле вегетарианцами, поскольку цены на мясо росли в прямо пропорциональной зависимости от уровня благосостояния грузинского населения.
Третьи же говорили, что злополучное это ружье (подарок подпольного миллионера) было заговорено старухой-соседкой Бежана, которая, по мнению многих, состояла в какой-то связи с нечистой силой.
В общем, разговоров всякого рода было много, и мы не беремся судить, какая же из версий действительно имела основания, но факт, что Бежан с тех пор ни разу не взял в руки ружья, остается фактом.
Это случилось морозным воскресным утром.
— Пойдем, я покажу тебе дом, — сказал Он, когда они возвращались с базара с полной сеткой маленьких, крепких и красных яблок.
И они пошли. Минуя дворы и двухэтажные сараи, увязая по колено в сугробах, ослепительно белых в ярком и холодном свете январского солнца.
— Вот мой дом, — кивнул Он в сторону блекло-желтого двухэтажного дома с двумя подъездами.
Дворик был пуст, и только на перекладине детских качелей сидел воробей, но и он упорхнул при звуках скрипящего под их ногами снега.
Они сели на спинку низенькой скамеечки, утонувшей в сугробе, и стали смотреть на дом.
Он стоял, запорошенный снегом, и молчал, погруженный в глубокое раздумье. Все шторы на окнах были задернуты, форточки закрыты. Но он был полон какой-то неведомой внутренней жизнью, как некий замкнутый пульсирующий мир. Глазницами окон он смотрел не во внешний мир, а как бы внутрь себя, подобно тому как новорожденный младенец еще не видящим окружающего мира взглядом обращен в себя и, сосредоточенный на себе, как будто прислушивается к процессам, происходящим в его организме.
Он закурил. Она, сняв варежки, достала из сетки несколько яблок и стала протирать их в снегу. Яблоки были холодные, от них ломило зубы, они хрустели во рту и пахли морозом.
— Вот это — наши окна, а вот здесь жил Витька Ермолаев, а вон там, прямо над нами, — Сашка Магутин. Такие друзья были — не разлей вода, на базар вместе бегали, яблоки воровали.
Она с интересом слушала его, глядя внимательно из-под низко спускающейся на лоб рыжей лисьей шапки. Сидеть ей было неудобно — мешал большой, круглый, как яблоко, выпирающий из-под шубки живот. Но она не думала об этом и внимательно слушала, жадно вглядываясь то в его лицо, то в памятные для него местечки, о которых он говорил: сарай, качели, поломанный забор, подъезд и крышу дома.
Весь этот дворик, покрытый пеленой снега, не тронутый ничьими следами, являл собой живую, до боли знакомую, близкую и далекую картинку детства.
— А вообще-то здесь почти ничего не изменилось, — и добавил неуверенно: — только разве что занавески на окнах... Представляешь, а что если они до сих пор здесь живут?
Какой-то внутренний безотчетный страх охватил ее. Стало как-то жарко и жутковато.
— Кто «ОНИ»?
Он задумался ненадолго, усмехнулся:
— Ермолаев и Магутин.
— Вполне может быть, — с присущей ее голосу уверенностью сказала Она.
— Слушай, а что если мне зайти туда, прямо в нашу квартиру? Позвонить, объяснить, что я здесь жил когда-то и вот, мол, приехал и хочу посмотреть.
Она боялась его встречи с прошлым, но чувствовала, что его неминуемо влечет туда, в свой дом, в свое детство, и Он не звал ее с собой. Он хотел идти один. Пришла в голову нелепая и безумная мысль, что дом затягивает и отнимает его у нее.
— Не надо.
— Почему? Что тут такого? — и решительно встал со скамейки.
— Не ходи. Там все по-другому, и тебе станет больно. Ты только разрушишь свои воспоминания. Пошли! — сказала Она, бросив в сугроб огрызок от яблока. Огрызок канул, оставив в снегу глубокую ямку. Он посмотрел на ямку и направился к подъезду.
Она молча провожала взглядом его удаляющуюся спину и видела, как с каждым шагом удлиняется соединяющая их цепочка неглубоких следов, оставляемых на снегу.
Он открыл деревянную обшарпанную дверь и шагнул в черную дыру подъезда.
Дверь скрипнула пружиной и захлопнулась.
Стало тихо.
Прошло несколько минут, и вдруг внезапно возникший порыв ветра взметнул поземкой, запорошил глаза, прошелся по низким кустам голых акаций, и когда все улеглось и снова стало тихо, она открыла глаза и увидала, что следов, оставленных им на снегу, уже нет...
Она ждала его. Долго, много лет. Но Он так и не вернулся.
«Единство сердца и строки, поступка, жеста...»[*]
Но песня перехватит горло,
И я опять с душою голой
Стою, открыта всей ветрам...
В августе прошлого года нам принесли послушать плёнку московского барда Кати Яровой. Имени этого никогда раньше не слышала, хотя продолжала интересоваться творчеством бардов и после отъезда из Союза в 1981 году. И вот мы слушаем плёнку, сначала вполуха. И вдруг —
Так защемило душу от этой знакомой картины, ставшей знамением времени в России последнего двадцатилетия. Все мы через это прошли — одни уезжали, другие оставались. Но я никогда ещё не слышала, чтобы так говорилось об эмиграции, о трагедии расставания, — светло и печально.
Оказалось, что Катя в Америке и заинтересована в концертах. Возникла идея пригласить её в Олбани. И вот я звоню ей по телефону — «расскажите о себе». «Начала писать песни в 25 лет, сейчас их больше трёхсот. До этого никогда ни песен, ни стихов не писала. Нормально человек проходит через периоды подражания, развития — у меня ничего этого не было». Пытаюсь выудить что-нибудь ещё, что могло бы привлечь слушателей на концерт. Она ничего значительного припомнить не может.
— Мне говорили, что о вас была передача по телевизору, что вы лауреат Всесоюзного конкурса бардов.
— Да, действительно, но если бы вы мне сейчас не напомнили, я бы сама не вспомнила. Для меня это не так важно.
— У вас выходили пластинки?
— Нет. Мне предлагали выпустить пластинку, но только лирические песни, политические не хотели включать, и я отказалась.
— Но ведь лирические песни очень хорошие!
— Я считаю, что без политических песен моё творчество было бы представлено неполно, а я их ценю и считаю, что они не менее важны.
— Бывают у вас официальные концерты?
— Я — бард и этим зарабатываю на жизнь. Я много езжу по стране. Меня приглашают спеть где-нибудь, но если я, например, спою песню про ЦК, то меня уже туда снова не пригласят.
— Но ведь у вас же гласность?!...
За год, проведённый Катей в Соединенных Штатах, у неё было немало концертов. Она выступала в Йельском университете, Беркли, колледжах Амхерст, Вильямс, Юнион, Скидмор, Колгейт и других. Было много домашних концертов, выступления в синагогах и еврейских центрах. Мы с Катей познакомились, и я узнала о ней больше. Но всё-таки лучше всего помогли мне её понять её песни.
Так кто же такая Катя Яровая?
В этих строках и толкование Яровой роли барда, и её поэтическое кредо, которое, как видно, теснейшим образом связано с жизненным кредо. (Текст этой и некоторых других песен я не видела в рукописи, они записаны с плёнки, и пунктуация может расходиться с авторской.)
Когда ещё шла война в Афганистане, Катя написала об этом песню. Однажды она выступала в Узбекистане в госпитале перед ранеными «афганцами». Она совсем не должна была петь эту песню, это был риск — как-то они к этому отнесутся? — но она пошла на него, считая, что иначе это было бы трусостью.
Когда она кончила, на миг воцарилась тишина, а потом разразились аплодисменты — хлопали все, «кому было чем». Они думали и чувствовали то же, что и она. В Ташкенте ей запретили петь песню про хлопок, но она сказала со сцены: «Товарищи, мне запретили петь эту песню, но я её исполню и предупреждаю, что администрация за это ответственности не несёт. Отвечаю лично я».
Юнна Мориц была у неё одним из рецензентов на защите диплома в Литературном институте (Катя поступила туда в 26 лет). В рецензии она благодарила институт и Льва Ошанина, руководителя семинара, за то, что они не подавили Катину самобытность, не пытались причесать её «вихрастые стихи». Конечно, спасибо Ошанину, но дело и в самой Кате — не укладывается она в прокрустово ложе, да и всё!
Из интервью А. Руденко («Мастерская», Таллин, 4/1989): «Ошанин убрал несколько стихотворений с резолюцией: «Это, конечно, одни из лучших твоих вещей, но мы их выкинем». Когда очередь дошла до послесловия к фильму «Покаяние» («Бредём вслепую, в темноте, теряя ориентиры...»), я не выдержала. «Лев Иванович, — говорю, — вы сейчас находитесь в том возрасте и в том положении, когда бояться вам уже нечего и некого. Диплом — моя собственная судьба, и я несу полную ответственность».
Кстати, Государственная комиссия вызвала её на бис и поставила «отлично». А песня действительно замечательная. Это послесловие не только к «Покаянию», но и ко всему тому нескончаемому пути длиной в 70 с лишним лет, который, казалось, никогда не кончится.
Интересно, что пророчества её сбываются. Кто бы мог подумать еще совсем недавно, что и эти строки станут правдой:
Хотя Катя не писала песен до 25 лет, весь её опыт был подготовкой к этому. Хотела стать актрисой, не попала в театральное училище, работала натурщицей — там больше платят. (Наверно, страшновато обнажать своё тело перед толпой, даже если это твоя работа. А обнажать душу — не страшно?) Потом работала костюмершей и театральным администратором. Говорит, что у неё нет любимых поэтов, хотя ей близки Некрасов, Цветаева. Преклоняется перед Бродским. Очень любит Салтыкова-Щедрина, Набокова и Платонова. Три книги в русской литературе и три в зарубежной, по выражению Кати, перевернули её сознание. Это «Слово о полку Игореве», «Житие протопопа Аввакума», «Горе от ума» и «Фиеста» Хемингуэя, «Сто лет одиночества» Маркеса, «Иосиф и его братья» Т. Манна. Поэтов любимых нет, а вот бардов очень любит. Это Галич, Вертинский и Высоцкий, Окуджава и Н. Матвеева, Ким и Долина.
Литературные пристрастия Яровой помогают понять истоки её творчества. Её темы: потерянное поколение, избавление от рабства, эпос и мифология, одиночество и скитания, судьбы России и маленького человека, язычество по соседству с монотеизмом. Жанр её песен весьма разнообразен: любовная и философская лирика, политическая сатира, гротеск, фантазия. Её стиль отличают лаконизм, точность, фольклорная простота языка. Интересно, что в жизни для Кати характерны приподнятые интонации, она восклицает и восхищается, не опасаясь высокопарных слов в выражении дружеских чувств и благодарности. А в поэзии она скупа в выборе выразительных средств, мерит эмоции точной мерой. При этом она свободна и раскованна, совершенно лишена фальши, для неё нет запретных тем. Её стихи — это концентрат мыслей, чувств, затронувших душу поэта, которая отзывается то одной, то другой струной, то мощным аккордом.
Эта песня — лучшее, что я знаю в женской лирике, написанное за последние двадцать пять лет. Так внешне просто передана трагедия предчувствия разлуки, когда внутри — крик, когда отрывают от живого.
Скупость поэтической палитры отнюдь не сковывает воображение, не ограничивает выбора тем. Тут она даёт волю своему мятежному темпераменту. Ей привычно и надёжно среди стихий.
Она приносит жертву стихиям, язычница Катя, стихами («а между нашими плечами рифмую я полёт стихий»). Она говорит от имени стихий («ведь я земля, богиня Гея, прекрасна, вечна, молода!») и сама стихия («Ты меня узнаёшь? Я стихия твоя»).
Такое отождествление себя со стихиями, наделение их человеческими чертами характерно для эпоса. Катя переносит эти приёмы из глубины веков в нашу повседневность, в весеннюю Москву, изменив лексику и интонацию.
В её песнях полёт над сонной Москвой не менее реален, чем прогулка по Сигулде.
В интервью, данном А. Руденко, Яровая говорит о «генеалогическом древе» русской авторской песни, которое представляет себе так: Вертинский, Галич, Высоцкий — ствол, остальные барды — ветви. «Даже Окуджава, который мне очень нравится». Каждый волен предлагать свою классификацию, для поэта это всегда связано ещё и с поиском своего пути и осознанием собственного места в поэтической иерархии, но мне такая точка зрения кажется правомерной. Это напоминает мне цветаевское деление на поэтов с историей и поэтов без истории (чистых лириков). «Над первыми (стрела) — поступательный закон самооткрывания. Они открывают себя через все явления, которые встречают на пути... Поэты с историей прежде всего — поэты темы... Они редко бывают чистыми лириками. Они слишком велики по объёму и размаху, им тесно в своём «я» — даже в самом большом; они так расширяют это «я», что ничего от него не оставляют, оно просто сливается с краем горизонта. (Помните, у Высоцкого: мой финиш — горизонт, а лента — край Земли, я должен первым быть на горизонте! — Т. Я.) Человеческое «я» становится «я» страны — народа — данного континента — столетия — тысячелетия — небесного свода... Весь их земной путь — череда перевоплощений... Для поэтов с историей нет посторонних тем, они сознательные участники мира... Чистая лирика живет чувствами. Чувства всегда — одни. У чувств нет развития, нет логики... Чувство... всегда начинается с максимума, а у великих людей и поэтов на этом максимуме остаётся. Чувству не нужен повод, оно само повод для всего... Чувству нечего искать на дорогах, оно знает — что придет и приведёт — в себя. Зачарованный круг... Итак, ещё раз: Мысль — стрела. Чувство — круг».
Итак — ствол и ветви у «генеалогического древа» русских бардов. Стрела, ствол — это то, что можно продолжать, развивать. Ветвь, круг — замыкает себя, себя исчерпывает. Нельзя «продолжать» Окуджаву, можно пытаться ему подражать, хотя это бесполезно — им нужно родиться. Другой бард — чистый лирик, это новая ветвь, свой неповторимый круг изобразительных средств. Это ничуть не умаляет их значения. У Цветаевой пример поэта без истории — Пастернак, которым она так восхищается.
То, что делали Галич или Высоцкий, можно развивать и продолжать. Их песни стали энциклопедией жизни советского общества 60–70-х годов. Песни Кати Яровой позволяют нам увидеть и услышать Россию 80-х. Афганистан, Сумгаит, Прибалтика, падение нравов, рост дефицита и цен, перестройка — при этом мы слышим живой язык и интонацию нового поколения. «Поэты — ловцы интонаций», — замечательно сказала Ахматова. Окуджава, Матвеева, Долина — у каждого из них своя неповторимая интонация, подкупающая искренностью и лиризмом. Яровая, как Галич и Высоцкий, удивительно верно передает интонацию своего времени.
Еще Салтыков-Щедрин писал об утверждении в русской литературе «особенной рабской манеры писать, которая может быть названа езоповскою» и о развитии искусства понимать аллегории, читать между строк. Эта «рабская манера писать», так же как и искусство понимать её, достигли вершин при советской власти. Галич первым отказался от эзоповского языка, Высоцкий писал: «Во мне Эзоп не воскресал. В кармане фиги нет, не суетитесь!» У Яровой много песен на политические темы. Её оценки остры и бескомпромиссны, порой провидчески. И всегда открытым текстом.
Нередко приходится слышать, что политические песни «не идут», быстро устаревают и т. п. Стоит ли ей писать их — ведь у неё прекрасные лирические песни. Но она не может их не писать! Её интерес к миру глобален, и многогранность её творчества вызвана многогранностью самой жизни. Нельзя пытаться задушить в себе песню — есть опасность замолчать навсегда, ибо «умирают стихи от насилья».
Такие попытки принизить политические песни (не только Яровой, но и, к примеру, Галича) напоминают извечный спор о том, что выше — поэзия или проза, поэзия лирическая или гражданская. Е. Эткинд в «Материи стиха», говоря об отношении Блока к спору о литературной иерархии, комментирует цитату из его последней статьи: «Нет чисто литературных вопросов — настоящие писатели должны думать не о них, а о единственно ценном, о душе, — они должны стараться быть «больше похожими на свою родную, искалеченную, сожженную смутой, развороченную разрухой страну!»»
Яровая ясно ощущает, что «по стране бродит призраком смута», и то состояние безысходности, предчувствия физической гибели, которое присутствует в настроении сегодняшней России. В настоящий момент доминирует эйфория послепереворотных событий, но немало ещё предстоит пережить.
Некоторые политические песни Кати по стилистике близки к анекдоту. Я не знаю подобных песен у других бардов. Она расширяет рамки жанра авторской песни, используя эту неотъемлемую часть городского фольклора с его грубоватым юмором, порой некоторым цинизмом, безошибочной политической ориентацией. Роль политического анекдота в советском обществе неоценима. Не зря же В. Буковский считает, что анекдот достоин памятника.
В своей книге «И возвращается ветер...» он пишет: «И уж раз зашла речь о памятниках, то нужно еще поставить монумент человеку с гитарой. Где, в какой стране скверные любительские магнитофонные записи песенок под гитару будут тайно, под угрозой ареста распространяться в миллионах экземпляров?... Чем дальше, тем больше возникало этих незримых фигур с гитарами. Им не давали залов для выступлений, за каждую их песню могли намотать срок... Их предшественникам на заре человечества было легче: никто не сажал в тюрьму менестрелей, не тащил в сумасшедший дом Гомера, не обвинял его в слепоте и односторонности. Для нас же Галич никак не меньше Гомера. Каждая его песня — это одиссея, путешествие по лабиринтам души советского человека».
Это продолжение уже цитированной песни о бродячем поэте. Эта песня не только поэтическое кредо поэта-барда, но и памятник им всем, от Гомера до Высоцкого, и будущим, которых мы еще не знаем. Мне хотелось бы, чтобы Буковский услышал эту песню.
Ну, а Вертинский? По-моему, очень важно, что Катя не забыла его. Он начал свой путь еще перед Первой мировой войной своими новаторскими по форме песнями-ариетками. Их сюжетность и особая интимная интонация подкупали слушателей, были лишены официально-патриотического духа. На протяжении десятилетий его песни отражали историю его поколения, продолжая завоевывать сердца слушателей. Он сочинял музыку на слова других поэтов, но в основном пел свое, оставаясь собой и в песнях на чужие стихи, тем более что выбор был не случаен, а зачастую он выступал соавтором слов. Но и его собственные стихи были талантливы. Ю. Олеша, мастер метафоры и большой ценитель её в творчестве других, восхищался строчками Вертинского «и две ласточки, как гимназистки, провожают меня на концерт». Главное же, он не боялся открыто говорить о сокровенном, «в песнях душу разбазаривать».
Он населяет свои песни многочисленными персонажами, наделяя их речевыми характеристиками, точно передает интонацию своих современников: «а вам какое дело!», «ты, отец, ужасно устарел!». К. Рудницкий сравнивает его песни с новеллами. Песни Галича называли романами, пародиями, спектаклями, сценариями, полифоническими поэмами. А песни-монологи, диалоги Высоцкого — целая галерея персонажей! Театр — вот что объединяет всех троих. Не случайно Вертинский, как и Яровая, пытался стать актером (а после возвращения в Россию успел сняться в кино), а Высоцкий и Галич актерами были. Театрализованный мир их песен вызван тягой к мифологии, полифоничностью тем, особенностью дарования.
В «театре» Вертинского немало экзотической бутафории: гавайская гитара, попугай по имени Флобер, синий далекий океан и розовое море. Но ведь он пришел из десятых годов, из тех времен, когда были живы маски ахматовской «Поэмы без героя». У Галича и Высоцкого нет романтических атрибутов — другое время, другие песни.
«Театр» Екатерины Яровой имеет свои неповторимые черты. Как и у её предшественников в этом жанре, у неё тоже есть песни, написанные в виде диалога или от имени персонажей (например, «Галя, к тебе ведь сватается Лешка»), но в основном такие песни написаны для спектаклей. В большинстве же её песен выбор лексики и интонации диктуется выбором темы и жанра, а написаны они от первого лица — я, мы — от лица нашего современника.
Есть два типа актеров. Одни полностью перевоплощаются от роли к роли, другие во всех ролях прежде всего играют самих себя. В каждой они находят что-то близкое, созвучное своему внутреннему миру и живут жизнью этого персонажа, оставаясь собой. Так «играет» роли в своем театре Катя Яровая. Она живет в том же пространстве и времени, что и мы, только глаз у ней острее, да кожа тоньше, да еще дан ей песенный дар. Многие признаются, что плачут, слушая её песни. При этом её никак нельзя упрекнуть в сентиментальности, нет в её песнях никаких расхожих приемов, рассчитанных на выжимание слез у слушателей. Но каждый может найти в них что-то, что его глубоко волнует. Люди любили, переставали любить, прощались, прощали, переживали ссоры родителей в детстве, хлестали водку из граненых стаканов или пили с подругой кофе из чашечек саксонского фарфора, так не гармонирующих с атмосферой коммунальной квартиры; не хотели, чтобы кончалось лето, испытывали одиночество и тяжело болели.
Порой у неё появляется тот безмятежно-радостный тон, которым все бы должны говорить в «особой стране оптимистов-профессионалов». Так Салтыков-Щедрин в «Истории одного города» прятал иронию за наивной манерой летописца-обывателя и притворной солидарностью с противником. При этом он придумывал фантастические сюжеты для усиления сатирического эффекта. Сто лет спустя советская действительность сама преподносит нам сюжеты один фантастичней другого. Например, когда Кате негде было жить, она целый год жила с семьей в Красном уголке общежития.
Эту песню несколько раз хотели напечатать, но каждый раз срывалось: то смущал Ленин с кепочкой в руке, то строчки о тире. Как-то включили в телевизионную передачу, но в последний момент передача показалась кому-то слишком длинной. Что же выкинули? Угадали! Яровую с «Красным уголком».
Кого-то это может удивить — да ведь теперь там такое печатают... Да, но вспомните, было время — и Солженицына печатали, и Абрамова, и Тендрякова, и «Наследников Сталина», и «Бабий Яр». А вот ни Галича (я имею в виду Галича-барда), ни Высоцкого, которых знала и любила вся страна, при жизни не печатали.
Вскоре после попытки переворота Яровая, выступая в Москве в АПН, устроила «публичные похороны» своих политических песен, многие из которых внезапно устарели. Она сказала, что с удовольствием сдаст их в Музей Революции. Да, такова участь театра: спектакли злободневны и быстро сходят со сцены — но лучшие пьесы возвращаются вновь и вновь, по-новому осмысленные грядущими поколениями. Так же наши потомки будут снова и снова обращаться к творчеству лучших наших бардов.
Я уже упоминала, что для песен Яровой характерно одушевление стихий. Так она очеловечивает и важные для неё эмоции и понятия, наделяя их собственными именами.
(В этой «неосветленной печали» эхо пушкинского «мне грустно и легко; печаль моя светла».)
Душа — излюбленный персонаж Катиных песен. Голая душа, открытая миру, взваливающая на себя его горести и радости. Это нелегкая ноша — поэтому мы узнаём, что «душа устала от порывов. Устала и жива едва». Или читаем: «на перекрестке дел моих и дней меня продуло так, что ломит душу». И все же душа стремится воплотиться в песне, пусть и дорогой ценой.
Как и бродячий поэт, душа бездомна. Но душа живет вечно, а поэт смертен. Если поэт выбирает высшую «свободу быть только самим собой», то за это приходится платить.
В Америке родилась ещё одна песня, посвящённая теме скитаний.
Дело, конечно, не в Америке. Не случайно сюда перекочевала слегка видоизменённая строфа из её более ранних стихов. Истинный поэт ведом призванием и провидением, ему целый мир чужбина, и не у каждого есть своё Царское Село — отечество выбранное, а не данное, тот источник, у которого можно исцелиться душой в трудную минуту. Однако поэт знает, «как трудно не свершить того, что суждено», и приемлет свою судьбу. Быть может, без испытания бездомностью невозможно испытать ощущение полёта?
Больше, чем бездомность, её страшит возможность неосуществления — безрадостная участь её поколения.
Эволюция образа несостоявшейся личности проходит через песни «Про Родину-мать» («Жить в рабстве так же сладко, как спать ребенку в мокрых пеленках») о пребывании людей вечными детьми в коммунистическом рае и «Послесловие...», где метафора доведена до предела — «бредут толпою эмбрионы, кому родиться не дано среди кромешных дней». Но нет, во что бы то ни стало — родиться, осуществиться!
Её одолевают сомнения — а по плечу ли это ей? Но призвание обязывает, и другого пути нет.
Но очереди здесь нет, она в другом месте — там, где получают членские билеты, пайки, льготные путевки... А «резать в кровь свои босые души» дано лишь тем, у кого талант сильнее инстинкта самосохранения. Это они обречены пророчить кассандрами, писать «непроходимые» стихи, оставаться собой до последнего дыхания. Но именно они помогли пережить «тьму кромешных дней» и сохранить души для грядущих перемен.
В. Буковский не случайно пишет о значении «человека с гитарой», барда, для нашей культуры. Их песни получили воистину всенародное распространение и признание в послесталинские годы. Возрождение бардовской песни имеет несколько причин. Одна из них та, что в эпоху стремительно развивающейся системы коммуникаций все мы, хотим мы этого или нет, все больше становимся слушателями и зрителями, чем читателями. Радио, телевидение, магнитофоны, концерты перед огромными аудиториями во всех уголках земного шара... Ведь авторская песня популярна не только в Союзе, но и в Америке, и во Франции, например (с поправкой на национальные культурные традиции). В Союзе есть еще одна причина: возможность распространения минуя цензуру.
Так или иначе, авторская песня живет и развивается. И тут мне хотелось бы поговорить о мелодии в авторской песне. Часто значение мелодии в ней принижается и даже отрицается. Кате иногда говорят — зачем тебе музыка, у тебя же прекрасные стихи сами по себе. Вот что писала на эту тему Новелла Матвеева: «Иногда говорят, будто я «исполняю свои стихи под гитару». Мне кажется, что под гитару я исполняю все-таки песни, а не стихи. Тем более, что я вообще очень резко отделяю стихи от песен... Откуда же это выражение: «Стихи под гитару»? Может быть, таким образом утверждается главенство слов над мелодией? Может быть, чтобы уравнять в правах свои слова и мелодию, надо быть непременно композитором-профессионалом? Но при таком взгляде пришлось бы отрицать очевидное: стариннейшую, всеевропейскую, прочно существующую «менестрельскую» песню. Ту как раз песню, мелодия которой не может быть хуже или лучше слов, ибо слова и музыка в ней неразрывны. Недаром и возникают они чаще всего одновременно».
В стихах тоже есть мелодия. Поэзия воздействует на нас не только словами и образами, но и ритмом, той внутренней пружиной, которая определяет структуру стиха. Чтение поэзии предполагает сотворчество со стороны читателя, он выступает в роли интерпретатора. Стихи звучат совершенно по-разному в исполнении разных чтецов, а иногда для неискушенного любителя поэзии, не сумевшего уловить заключенную в строфах мелодию, «не звучат» совсем.
Бард является одновременно и автором, и интерпретатором, и исполнителем своих песен. Мелодия дает стиху новое измерение, которое помогает песне «в душу к нам проникнуть и зажечь» и воспринять её именно так, как задумал автор. Она несет и структурную, и смысловую, и эмоциональную нагрузку, проясняя ритмический рисунок, оттачивая фразировку, создавая особую атмосферу, которая облегчает наше восприятие.
Но при том, что Катя Яровая прежде всего бард, нельзя не отметить её поэтическое мастерство. У неё свой почерк, свои излюбленные поэтические приемы. Многие образы, а иногда и отдельные слова в контексте её песен являются многозначными, несут двойную, тройную нагрузку. Это проистекает из её стремления к лаконизму, а также высокой смысловой и эмоциональной насыщенности её поэзии.
Я уже говорила об определении, данном Юнной Мориц Катиной поэзии — вихрастые стихи. Это относится, в частности, к её порой синтаксически неприглаженному стилю, передающему современный разговорный язык, что придает большую живость и аутентичность её стихам, как её речи — уральская скороговорка, просвечивающая сквозь её московский говор (Катя родилась в Свердловске и до седьмого класса жила на Урале). Иногда она предпочитает просторечие, шероховатость принятому стандарту литературной речи. Выбор этот никогда не случаен, он ассоциативно расширяет рамки смысла.
В слове «надтреснувшие» — и потрескавшиеся губы, и надтреснутый звук ржавой трубы.
«Меланхольный» — это одновременно и меланхолический и малахольный.
Многоплановость образов может быть проиллюстрирована следующим примером.
«Свет в промытом окне» — удивительно ёмкий образ. Это и освещённое в ночи окно, которое даёт нам надежду в пути, и ощущение уюта «в чистом и прибранном доме», покойного размеренного быта, и — «свет в окошке», то есть кто-то, кто нам дорог, чьё присутствие наполняет жизнь смыслом и счастьем.
Таких примеров можно привести множество, но эта тема требует отдельной статьи. Кстати, в этом же отрывке можно наблюдать и еще одну особенность поэзии Яровой: звуковые повторы в словах, несущих основную смысловую нагрузку, обычно в двух-трех соседних строчках. Здесь это причастье — причастности — счастья.
К сожалению, так повелось на Руси, что многие талантливые её люди, особенно поэты и художники, находят официальное признание после смерти. Многие из нас страдают странной дальнозоркостью: мы боимся разглядеть поэта в человеке, живущем среди нас. Мы готовы им восхищаться, но потом, когда он, безопасно отдаленный временем, пылится на полке рядом с классиками. А как насчет того, чтобы издать книжку стихов сейчас? Выпустить кассету? Помочь организовать концерты? Сейчас есть возможность организовать совместное предприятие и продавать книжку и пленки и там, и здесь. В Союзе они бы быстро разошлись. Еще в 1989 году А. Руденко назвал её восходящей звездой, и интерес к её творчеству растет.
Уверена, что её концерты могли бы быть с успехом организованы в Израиле, а в США, Канаде, Англии и Франции она могла бы выступать не только перед русскоязычной аудиторией. Существуют переводы на английский язык, сделанные Джейн Таубман и Элейн Ульман. Мне известно, что есть и французские переводы. Во время Катиного пребывания в США я неизменно наблюдала огромный интерес к ней американцев.
Я не сомневаюсь, что время работает на Катю. Её песни несут нашим душам очищение, и если «не услышит имеющий уши», то «имеющий душу услышит». Пусть же и поэт услышит нашу признательность, и пусть это произойдет сейчас. Пока мы живы.
Татьяна ЯНКОВСКАЯ
Меня не раз спрашивали, была ли Катя Яровая известна. Что можно ответить? При жизни её не вышло ни одного сборника стихов, ни одной пластинки. Отчасти причина в том, что слишком коротка была её творческая жизнь. Главное же, всё это требует от автора, особенно молодого, определённых компромиссов, суеты, а суета была ей несвойственна.
Но когда люди, никакого отношения к литературным и каким бы то ни было влиятельным кругам не имеющие, обращаются на радио и телевидение, предлагая свою помощь в организации передач о её творчестве; когда, услышав записи её песен или прочитав о ней в газете, разыскивают её, чтобы познакомиться, помочь с устройством концертов; когда плёнки с её песнями, её шутки расходятся по стране, хотя люди нередко не знают, кто автор, и ошибочно приписывают их другим лицам (даже на уровне одной из ведущих российских газет!); когда человек, прочитавший некролог, пишет, что не был знаком с Катей Яровой, но смерть её воспринимает как личную трагедию, — не это ли и есть истинно народная любовь, стихийное, не внушённое официальной пропагандой или авторитетными мнениями признание?.. Уверена, что оно будет только расти, что время не удалит, а приблизит её к нам, позволив, наконец, разглядеть и оценить человека и поэта в полный рост.
Иллюстрации
Катя Яровая во время концерта. 1988–89 г.
Болит горло. Кате 5 лет. Верхняя Пышма, Свердловская обл.
Катя с бабушкой Б. Г. Квасман. Свердловск, 1961–62 г.
Кате 16 лет. Москва
Москва, около 1973 г.
Катя Яровая с первым мужем Владимиром Бордуковым в день свадьбы 10 апреля 1976 г. Справа мать Кати, Э. В. Яровая.
Катя Яровая. Москва, середина 1970-х годов
Катя (слева) с сестрой Еленой Яровой. Москва, 1982 г.
С мужем Валерием Рыбаковым. Хабаровск, 1981 г. Фото Г. Лободы
С дочерью Катей. Хабаровск, 1981 г.
С мужем Валерием Рыбаковым и дочерью Катей. Хабаровск, 1982 г.
Слева направо: Катя Яровая, ее дочь Катя, сестра Елена (стоит), отец В. С. Цукерман, брат Гриша, племянник Миша. Москва, 1983 г.
Катя Яровая. Начало 1980-х годов
Катя у Литературного института. Москва, 1983 г.
«С моей гитарою на пару». Москва, 1983 г.
Катя Яровая. Москва, середина 1980-х годов
Программа спектакля «Чертановская чертовщина» Одесского русского драматического театра, в котором исполнялись песни Кати Яровой.
Москва, 1988–89 годы
Выступление в ВТО. Декабрь 1989 г.
Москва, 27 февраля 1987 г.
Катя Яровая с Владимиром Вишневским за кулисами Дома Политпросвета на вечере издательства «Московский рабочий». Май 1989 г.
Катя (справа) с профессором Джейн Таубман. Амхерст, штат Массачусетс, США, 1990 г.
Катя Яровая (в центре) с онкологом Деборой Смит и хирургом Ричардом Хинкли. Амхерст, штат Массачусетс, США, 1990 г.
Объявления о концерте в Юнион колледже. Скенектэди, штат Нью-Йорк, США, 29 ноября 1990 г.
Катя Яровая. США, 1991 г.
Возле дома Бориса и Ирмы Баришпольских. Вест Хартфорд, штат Коннектикут, США, 9 мая 1992 г. Фото Б. Баришпольского
Катя Яровая (в центре) со зрителями после концерта в доме Баришпольских. Слева дочь Катя Рыбакова. Вест Хартфорд, штат Коннектикут, США, 9 мая 1992 г. Фото Б. Баришпольского
Памятник на могиле Кати Яровой работы Э. Дробицкого на Востряковском кладбище в Москве. 1999 г. Фото Э. Горловой
Фрагмент памятника.
Катя Рыбакова, дочь поэта. Москва, 1998 г.
Катя Рыбакова, 19 лет.
Страница из рабочей тетради Кати Яровой.
По вопросам приобретения книг, компакт-дисков и аудиокассет Кати Яровой обращаться по телефонам:
в России (095) 757-85-96 (Москва)
в США (718) 884-7882 (Нью-Йорк)
yarovaya@imedia.ru
ya.tatyana@verizon.net
Уважаемый Читатель!
Заказать эту книгу и другие книги издательства можно в Интернете по адресам:
-ny.com/sakansky/baemist.htm
Подробно познакомиться с условиями издания можно по адресу:
:8001/publish/era
era@izdat.ru
baemist@online.ru
Тел. в Москве:
7-(095) 431-02-97
Мы будем рады вам и вашим отзывам о книге Кати Яровой
Издательское содружество А. Богатых и Э.РАкитской (Э.РА) — частная некоммерческая издательская программа. Специализируемся на издании авторов современной поэзии, прозы, драматургии, а также научных и научно-популярных работ разными тиражами (от 100 экз., в том числе представительские издания — от 10 экз.) Работаем с российскими и зарубежными авторами.
Наши задачи: сделать издание книг недорогим, грамотным, качественным, официально защищающим авторские права; помочь автору творчески выразить себя в работе над книгой, найти путь к читателю после выхода книги. Мы стремимся способствовать профессиональному росту и продвижению авторов, выдвигаем лучших на литературные премии и сетевые литературные конкурсы, такие как Литер.ru, Тенета и др.
Проект "Некоммерческая издательская группа "Э.РА" был включен в бюллетень литературных проектов, выдвигавшихся на премию "Малый букер-2000".
По итогам конкурса Ассоциации книгоиздателей России «Лучшая книга 2001 года» мы были награждены почетной грамотой «За открытие новых литературных имен, издание книг поэзии и прозы».
Нами создан интернет-журнал-магазин редких изданий «Баемист» (-ny.com/sakansky/baemist.htm) и открыт литературно-художественный журнал «У».
Тел. и факс (095) 431-02-97
:8001/publish/era
-ny.com/sakansky/baemist.htm
e-mail (адрес электронной почты):
baemist@online.ru
era@izdat.ru
niw@nexter.ru
Примечания
Статья опубликована в Париже в журнале «Континент» № 1 (71), 1992 г. Сокращенный вариант напечатан в газете «Новое русское слово» в Нью-Йорке 18 октября 1991 г.

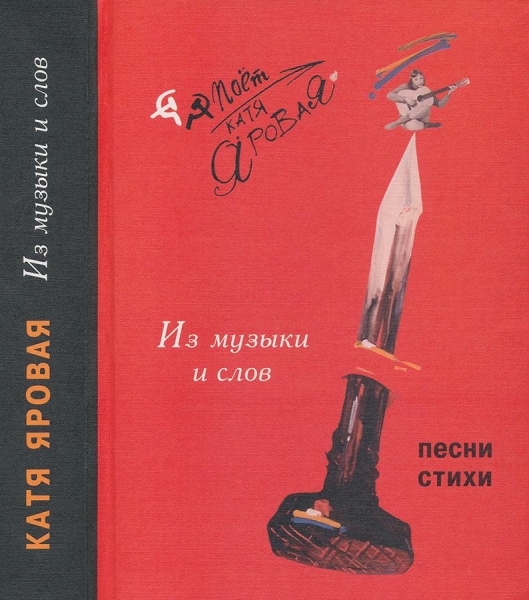

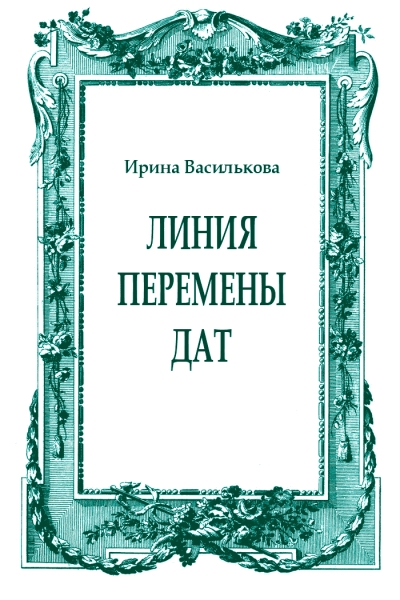

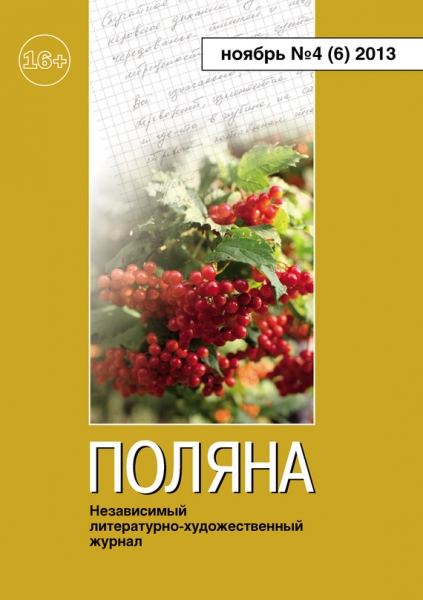
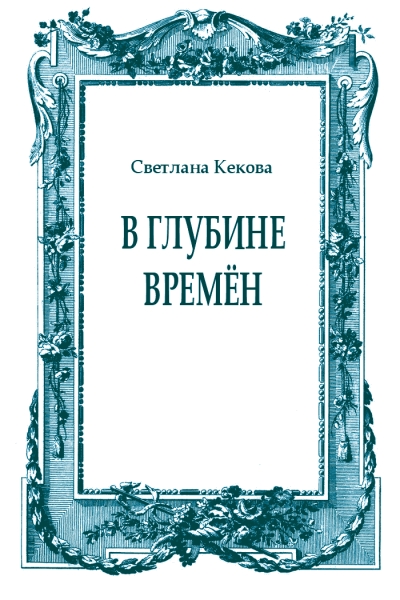
Комментарии к книге «Из музыки и слов. Песни и стихи», Екатерина Владимировна Яровая
Всего 0 комментариев