Для чтения книги купите её на ЛитРес
Реклама. ООО ЛИТРЕС, ИНН 7719571260, erid: 2VfnxyNkZrY
Сергей Есенин Стихотворения, поэмы
К школьникам, к родителям, к учителям
Книги серии «Поэтический класс» основаны на тех темах и произведениях, которые изучаются в начальной школе по программам литературного чтения.
Вместе с тем в «Поэтическом классе» читателям предлагаются, по сути, небольшие антологии русской лирики на разные темы, которые станут их добрыми спутниками на долгие годы – как в школе, так и во взрослой жизни. Эти стихотворения помогут вам не только лучше подготовиться к урокам, расширить свой литературный кругозор, но и открыть безграничность красоты поэтического слова, мощи его изобразительности, силы идей, несомых им.
Подборки сопровождаются краткими сведениями о поэтах. К историческим и другим, редко употребляемым сегодня словам даны пояснения.
Сергей Есенин: жизнь, творчество, судьба
Сергей Александрович Есенин родился 21 сентября (3 октября по новому стилю) 1895 года в селе Константинове Кузьминской волости Рязанского уезда Рязанской губернии. Его родители – крестьяне Александр Никитич (1873–1931) и Татьяна Федоровна (1875–1955; урождённая Титова) Есенины.
В 1904–1909 годах Есенин учился в Константиновском земском училище. Хотя в третьем классе был оставлен на второй год, окончил его успешно, с похвальным листом. В 1909–1912 годах учился в Спас-Клепиковской церковно-учительской второклассной школе, по окончании которой получил звание «учитель школ грамоты».
Летом 1912 года Есенин уезжает из Константинова в Москву, к отцу, служившему там приказчиком в мясной лавке.
В марте 1913 года Есенин поступил на работу в типографию «Товарищества И.Д. Сытина». Работал сначала в экспедиции, потом подчитчиком корректора. Здесь он познакомился с Анной Романовной Изрядновой (1891–1946), которая стала матерью его первого сына Юрия (родился 21 декабря 1914 г. (3 января 1915 г.). Брак был гражданским, и Юрий был официально признан сыном Есенина лишь после его смерти, в 1926 г. Ю.А. Есенин в 1938 году пал жертвой большевистских репрессий.
В сентябре 1913 года Есенин начал заниматься в Московском городском народном университете имени А. Л. Шанявского.
В январе 1914 года в московском журнале для детского чтения «Мирок» под псевдонимом «Аристон» напечатано стихотворение Есенина «Береза». В следующем, февральском номере уже под его собственным именем появилось стихотворение «Пороша», в мартовском – «Село». Это первые известные выступления Есенина в печати.
9 марта 1915 года в Петрограде Есенин познакомился с Александром Блоком. По рекомендации Блока вошёл в круг петроградских поэтов и писателей. В октябре познакомился с поэтом Николаем Клюевым. Быстро приобрёл поэтическую известность и уже 12 января 1916 года по приглашению великой княгини Елизаветы Фёдоровны выступал в Марфо-Мариинской обители в Москве.
30 января 1916 года было дано цензурное разрешение на выход в свет первого сборника Есенина «Радуница». В марте призван на военную службу. В апреле, благодаря хлопотам Клюева, был причислен к Царскосельскому полевому военно-санитарному поезду № 143, который находился под патронажем императрицы Александры Федоровны. В поезде и царскосельском лазарете № 17 Есенин прослужил санитаром до марта 1917 года. В это время неоднократно выступает на разных вечерах, в том числе придворных.
Весной 1917 года в редакции эсеровской газеты «Дело народа» Есенин познакомился с Зинаидой Николаевной Райх (1894–1939), работавшей там техническим секретарем. 30 июля во время поездки по Северу обвенчался с нею в Кирико-Иулиттовской церкви близ Вологды.
29 мая 1918 года в Орле у З.Н. Райх родилась дочь Есенина Татьяна (умерла в 1992).
В сентябре 1918 года в Москве по инициативе и при участии Есенина создается кооперативное издательство «Московская Трудовая Артель Художников Слова». Здесь у него вышло не сколько книг.
Тогда же Есенин познакомился с А.Б. Мариенгофом, В. Г. Шершеневичем, А.Б. Кусиковым. В январе 1919 года была составлена «Декларация» имажинистов, подписанная: «Поэты: Сергей Есенин, Рюрик Ивнев, Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич. Художники: Борис Эрдман, Георгий Якулов».
Имажинисты (от французского и английского image– образ) провозгласили «единственным законом искусства» – «выявление жизни через образ и ритмику образов». Имажинисты превозносили «образ как таковой». Это не слово-символ в его многозначности, как в символизме, не преклонение перед вещью, как в акмеизме, не «слово как таковое», отделённое от содержания, заумный язык», как в кубо-футуризме, наконец, не подчинение слова идеологии, лозунгу, как у так называемых пролетарских поэтов. Имажинисты сделали образ, одно из изобразительных средств, – своим единственным средством и целью.
3 апреля 1919 года Есенин вместе с имажинистами выступает в Большой аудитории Политехнического музея в Москве. 28 мая вместе с другими участниками имажинистского объединения расписывал кощунственными текстами стены Страстного монастыря в Москве. В ноябре открылось кафе «Стойло Пегаса» на Тверской в Москве.
При этом в творчестве все поэты-имажинисты отступали от своих деклараций. И прежде всего это относится к Есенину, ставившего выше всего свободу творчества. Поначалу имажинизм помогал ему обозначить свою отделённость от новой власти. В важнейшей для него статье «Ключи Марии» Есенин писал: «…противны занесенные руки марксистской опеки в идеологии сущности искусств. Она строит руками рабочих памятник Марксу, а крестьяне хотят поставить его корове». Он видит в большевистской практике суррогаты религии и церкви.
3 февраля 1920 года в Москве родился сын З.Н. Райх и Есенина Константин (умер в 1986).
19 апреля на литературном вечере в Харьковском городском театре Есенин принял участие в действе по возведению Велимира Хлебникова в «Председатели Земного Шара».
В апреле-мае 1921 года Есенин совершил поездку в Туркестан (Самара – Оренбург – Ташкент – Самарканд – Бухара). В июле-августе неоднократно в Москве выступал с чтением своей драматической поэмы «Пугачёв». 3 октября встретился с Айседорой Дункан в студии художника Г.Б. Якулова на Садовой, близ «Аквариума». 5 октября Народный суд г. Орла расторг брак Есенина с З.Н. Райх.
2 мая 1922 года состоялось бракосочетание Есенина с Айседорой Дункан. 10 мая Есенин и Айседора Дункан вылетели из Москвы в Германию и в мае – сентябре совершает поездку вместе с Айседорой Дункан по Европе: Германия – Бельгия – Франция – Италия. 24 сентября отплыл с Дункан из Франции в США на океанском пароходе «Paris», где пробыл до начала февраля 1923 года.
3 августа 1923 года Есенин возвратился в Москву из зарубежной поездки. К этому времени наметился его разрыв с Дункан. Вскоре Есенин был в Кремле на приеме у председателя Реввоенсовета Республики Льва Троцкого, который обещал ему содействие в издательских делах. 21 августа выступает на литературном вечере в Политехническом музее в Москве с рассказом о зарубежной поездке и чтением стихов. Тогда же Есенин познакомился с Августой Леонидовной Миклашевской, долгое время ведущей актрисой Камерного театра, и увлекся ею.
20 ноября 1923 года произошёл инцидент в одной из московских пивных, послуживший основой для так называемого «дела четырех поэтов». Алексей Ганин, Есенин, Сергей Клычков и Пётр Орешин были задержаны и обвинены в антиобщественном поведении и антисемитизме. 21 ноября против них было возбуждено уголовное дело. 10 декабря в Доме печати состоялся товарищеский суд. В защиту Есенина выступили А. Эфрос, А. Соболь, Вяч. Полонский, В. Львов-Рогачевский, М. Герасимов, Р.Ивнев. 17 декабря Есенин лег в Профилакторий им. Шумской (так называемая «Больница на Полянке»), где пробыл до конца января 1924 г. В феврале с Есениным происходит несчастный случай с глубоким порезом руки: он соскочил с пролетки и руками разбил окно в полуподвале. В связи с этим помещён сначала в Шереметевскую больницу, затем переведён в Кремлевскую.
В конце мая 1924 года совершает первую после возвращения из-за рубежа поездку на родину, в Константиново. Под впечатлением этого были написаны «Возвращение на родину» и «Русь советская».
31 августа 1924 года письмом в «Правду», подписанном также И. В. Грузиновым, известил, что группа имажинистов «в доселе известном составе» объявляется распущенной.
3 сентября 1924 года Есенин выехал на Кавказ. Пребывание на Кавказе (Баку – Тифлис – Батум) с сентября 1924 по февраль 1925 года и затем в апреле и мае 1925 года стало одним из самых плодотворных периодов в жизни Есенина.
30 июня 1925 г. подписан договор с Госиздатом на выпуск «Собрания стихотворений» с гонораром по высшей ставке.
В июле 1925 года вступил в брак с Софьей Андреевной Толстой (1900–1957; официальная регистрация брака состоялась 18 сентября). 25 июля – 6 сентября Есенин вместе с С.А. Толстой-Есениной совершил последнюю поездку на Кавказ (в Баку). По возвращении в Москву продолжил работу по подготовке «Собрания стихотворений». Осенью обостряется разлад во взаимоотношениях с С.А. Толстой-Есениной, первые признаки которого обнаружились вскоре после женитьбы.
В двадцатых числах ноября 1925 года, страдая от пьянства, Есенин соглашается лечь в психиатрическую клинику. Лечение здесь было рассчитано на два месяца, но Есенин наметил, что пробудет здесь меньший срок. Здесь же принял окончательное решение не возвращаться к жене и уехать из Москвы в Ленинград.
21 декабря Есенин покинул клинику. Заходил в Госиздат, где написал заявление с просьбой считать недействительными все ранее выданные им доверенности и гонорар выдавать впредь только ему самому. Провёл вечер в писательском клубе. Навестил А.Р. Изряднову, был у своих детей Тани и Кости, которые жили в семье режиссёра Всеволода Мейерхольда, чьей женой стала к этому времени Зинаида Райх.
23 декабря 1925 года Есенин ночным поездом выехал из Москвы в Ленинград. Здесь встречается с литераторами и друзьями, в том числе с Николаем Клюевым, говорит о том, что приехал в Ленинград, чтобы начать новую жизнь, без пьянства. 28 декабря 1925 года найден в петле в ленинградской гостинице «Англетер», где жил в эти дни.
Официальное заключение о самоубийстве как причине смерти Есенина не раз подвергалось сомнению. Так, уже в наши дни обосновывалась версия, согласно которой Есенин пал жертвой борьбы, которую Сталин вёл против оппозиционного ему партийного руководства Ленинграда. Согласно ей, Есенин был убит приехавшими из Москвы чекистами с тем, чтобы возложить вину за его гибель на ленинградские власти с последующей их заменой. Однако чекисты ленинградские обнаружили тело поэта раньше, чем это намечалось по плану, и предугадывая последствия, инсценировали самоубийство. Так эта акция была сорвана, что, впрочем, не остановило процесса нейтрализации антисталинской оппозиции.
31 декабря 1925 года Сергей Александрович Есенин был похоронен в Москве, на Ваганьковском кладбище. Перед этим погребальная процессия обнесла гроб с его телом вокруг памятника Пушкину на Тверском бульваре.
Могила Есенина сразу стала местом паломничества для многих любителей поэзии. Ночью 3 декабря 1926 года на ней застрелилась его возлюбленная – Галина Бениславская.
На долгие годы творчество и само имя Есенина в СССР оказались под полузапретом. Только в 1950-е годы началось его возвращение к читателям нашей страны. Сегодня литературное наследие Сергея Александровича Есенина естественным образом стало одной из живых частей русской классики ХХ века.
В сборник вошла большая часть стихотворений Сергея Есенина и поэмы «Анна Снегина», «Чёрный человек» (в том числе – все включённые в Стандарт по литературе и в основные школьные программы).
Тексты печатаются по изданию: Сергей Есенин в стихах и жизни: Стихотворения, 1910–1925 / Вступительная статья и составление Н.И. Шубниковой-Гусевой. М.: Республика, 1995 с учётом последних исследований и текстов в Полном собрании сочинений С. А. Есенина в 7-ми томах (М., 1995–2000).
Стихотворения расположены в хронологическом порядке. При подготовке примечаний и комментариев к стихотворениям учитывались разыскания и материалы А.Козловского, С.П. Кошечкина, С.И. Субботина, Н.И. Шубниковой-Гусевой, Н.Г. Юсова, других исследователей.
С. Дмитренко
Стихотворения
ПОДРАЖАНЬЕ ПЕСНЕ
По свидетельству друга детства Есенина, Н.А. Сардановского, записанному С.А. Толстой-Есениной, это стихотворение, впервые опубликованное в московском журнале «Млечный путь» (1915. № 3), было у Есенина первым «с признаками настоящей художественности». Сам Есенин был под впечатлением этого стихотворения и читал его Сардановскому «вслух бесконечное число раз. Вскоре же он набрался смелости и поехал со своими стихами к профессору Сакулиину… Отзыв критика был, по-видимому, очень лестным для Сергея».
Первое по времени появившееся в печати известное нам стихотворение Есенина. Оно было опубликовано в январском номере детского журнала «Мирок» за 1914 год под псевдонимом «Аристон» (так назывался популярный в начале ХХ века музыкальный ящик). Издатели вскоре убедили Есенина псевдонимом не пользоваться и печататься под своей фамилией.
С ДОБРЫМ УТРОМ!
Молитва матери
Моей царевне
Что это такое?
Р. В. Иванову
Стихотворение было напечатано в петроградском журнале «Северные записки» (1915. № 6/7) и принесло автору первую известность. Есенин читал «Русь» на концерте для раненых в присутствии императрицы Александры Федоровны и удостоился ее похвалы.
Стихотворение обращено к поэту, литератору Рюрику Ивневу (псевдоним Михаила Александровича Ковалева; 1891–1981), одному из близких друзей Есенина. Они познакомились вскоре после первого приезда Есенина в Петроград, в марте 1915 года. В воспоминаниях Ивнев рассказывает, что стихотворение «Я одену тебя побирушкой…» написано Есениным в ответ на подаренное ему Ивневым стихотворение «Я тусклый, городской, больной…».
Рюрику Ивневу
Песнь о собаке
С.А. Толстая-Есенина рассказывает: «Случай подобно тому, какой описан в этом стихотворении, произошел однажды в молодые годы Есенина, в его селе Константинове. Собака соседа Есениных ощенилась, и хозяин убил всех щенят. Есенин сам рассказывал об этом, и мать его, Татьяна Федоровна, помнит этот случай и то, как под впечатлением от него Есенин написал стихи».
А.М. Горький, прочитав «Песнь о собаке», сказал, что Есенин «первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных».
Л. И. Кашиной
Лидия Ивановна Кашина (1886–1937) – владелица поместья в селе Константинове. Е. А. Есенина вспоминает: «Каждое лето Кашина с детьми приезжала в Константиново… Молодая красивая барыня развлекалась чем только можно. В усадьбе появились чудные лошади и хмурый уродливый наездник… Каждый день после полдневной жары барыня выезжала на своей породистой лошади кататься в поле. Рядом с ней ехал наездник». Рассказывая далее о пребывании Есенина в Константинове весной и летом 1917 г., Е. А. Есенина пишет: «Тимоша Данилин, друг Сергея, занимался с ее детьми. Однажды он пригласил с собой Сергея. С тех пор они стали часто бывать по вечерам в ее доме. Матери нашей очень не нравилось, что Сергей повадился ходить к барыне… Сергей молчал и каждый вечер ходил в барский дом… Мать больше не пробовала говорить о Кашиной с Сергеем. И когда маленькие дети Кашиной, мальчик и девочка, приносили Сергею букеты из роз, только качала головой. В память об этой весне Сергей написал стихотворение Л. И. Кашиной „Зеленая прическа…“ (Восп., 1, 44–46). Е. А. Есенина справедливо отмечает – «в память об этой весне», поскольку летом 1918 г., когда Есенин, будучи в Константинове, написал это стихотворение, Кашиной там не было. Как свидетельствовал ее сын, Г. Н. Кашин, летом 1918 г. Л. И. Кашина была больна и в Константиново не приезжала.
Мариенгофу
Анатолий Борисович Мариенгоф (1897–1962) – поэт, один из основателей и теоретиков группы имажинистов. Познакомился с Есениным в конце лета 1918 г. Поначалу между ними установились близкие дружеские отношения. В 1919–1921 гг. они часто выступали вместе на различных вечерах, организовали книжную лавку на Никитской улице, одно время даже жили вместе в Богословском переулке. В этот период Есенин посвятил А. Б. Мариенгофу это стихотворение и ряд других произведений. Их отношения обострились после возвращения Есенина из зарубежной поездки и завершились резким разрывом, когда Есенин заявил о своем выходе из группы имажинистов и ее роспуске.
Сорокоуст[7]
А. Мариенгофу
Исповедь хулигана
С. А. Толстая-Есенина вспоминает: «Есенин рассказывал… что это стихотворение было написано под влиянием одного из лирических отступлений в „Мертвых душах“ Гоголя. Иногда полушутя добавлял: „Вот меня хвалят за эти стихи, а не знают, что это не я, а Гоголь“. Несомненно, что место в „Мертвых душах“, о котором говорил Есенин, это начало шестой главы, которое заканчивается словами: „…что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О, моя юность! О, моя свежесть!“.
Этим стихотворением открывался цикл «Любовь хулигана», в который входило также шесть следующих стихотворений. Цикл обращен к актрисе московского Камерного театра Августе Леонидовне Миклашевской (1891–1977), с которой поэт познакомился вскоре после своего возвращения из зарубежной поездки в августе 1923 г.
Письмо матери
Стихотворение связано со безвременной смертью близкого друга Есенина поэта Александра Васильевича Ширяевца (псевдоним Абрамова; 1887–1924), скончавшегося при непрояснённых обстоятельствах. Есенин часто приходил на его могилу на Ваганьковском кладбище.
Стихотворение написано в связи со 125-летием со дня рождения Пушкина. В день празднования, 6 июня 1924 года, Есенин читал стихотворение во время торжественной церемонии у памятника Пушкину на Тверском бульваре в Москве.
Русь cоветская[8]
А. Сахарову
На Кавказе
Письмо к женщине
Поэтам Грузии
Письмо от матери
Письмо деду
Персидские мотивы
Несмотря на заглавие, цикл навеян не Персией (традиционное название Ирана), где Есенин никогда не был, хотя и хотел совершить это путешествие, а поездками в Закавказье (трижды, в период с сентября 1924 по август 1925 год) и встречами в Баку, Тифлисе (Тбилиси), Батуме.
В «Персидских мотивах» сказалось знакомство Есенина с творчеством классиков персидской и таджикской литературы Саади, Омара Хайяма, Фирдоуси, имена которых не раз встречаются в стихах этого цикла. Одно из них («Голубая да веселая страна…») было даже озаглавлено в рукописи «Подражание Омар Хаяму». Один из тифлисских знакомых Есенина вспоминал: «…подвернулся мне томик – „Персидские лирики X–XV веков“ в переводе академика Корша. Я взял его домой почитать. А потом он оказался в руках Есенина, который уже не хотел расставаться с ним. Что-то глубоко очаровало поэта в этих стихах. Он ходил по комнате и декламировал Омара Хайяма…» (Восп., 2, 221).
Во время пребывания в Батуме зимой 1924/25 годов Есенин познакомился с Шаганэ Нерсесовной Тальян – молодой учительницей одной из батумских школ. Ее имя стало эмоциональным рефреном стихотворения.
По свидетельству С.А. Толстой-Есениной, это стихотворение посвящено Розе Чагиной, шестилетней дочери Петра Ивановича Чагина, журналиста и издательского работника, редактора газеты «Бакинский рабочий», где была впервые напечатана часть стихотворений цикла «Персидские мотивы». Роза Чагина «сама себя прозвала „Гелия Николаевна“ по имени какой-то актрисы. Все окружающие в шутку так ее и называли. Есенин очень любил и понимал детей и находился с этой девочкой в большой дружбе».
Собаке Качалова
Об обстоятельствах написания этого стихотворения подробно рассказывает в своих воспоминаниях В.И. Качалов.
«Это было, по-моему, в марте 1925 года. „Он давно знает вас по театру и хочет познакомиться“. Рассказали, что в последние дни он шибко пил, вчера особенно, а сегодня с утра пьет только молоко. Хочет прийти ко мне почему-то непременно трезвым. Часам к двенадцати ночи я отыграл спектакль, прихожу домой. Небольшая компания моих друзей и Есенин уже сидят у меня. Поднимаюсь по лестнице и слышу радостный лай Джима, той самой собаки, которой потом Есенин посвятил стихи. Тогда Джиму было всего четыре месяца. Я вошел и увидал Есенина и Джима – они уже познакомились и сидели на диване, вплотную прижавшись друг к другу. Есенин одною рукой обнял Джима за шею, а в другой держал его лапу и хриплым баском приговаривал: „Что это за лапа, я сроду не видал такой“. Джим радостно взвизгивал, стремительно высовывал голову из-под мышки Есенина и лизал его лицо. Есенин встал и с трудом старался освободиться от Джима, но тот продолжал на него скакать и еще несколько раз лизнул его в нос. „Да постой же, может быть, я не хочу больше с тобой целоваться. Что же ты, как пьяный, все время лезешь целоваться!“ – бормотал Есенин с широко расплывшейся детски лукавой улыбкой. Сразу запомнилась мне эта его детски лукавая, как будто даже с хитрецой улыбка. <…>
Сидели долго. Пили. О чем-то спорили, галдели, шумели. Есенин пил немного, меньше других, совсем не был пьян, но и не скучал, по-видимому, был весь тут, с нами, о чем-то спорил, на что-то жаловался. Вспоминал о первых своих шагах поэта, знакомстве с Блоком. Рассказывал и вспоминал о Тегеране. Тут же прочел «Шаганэ». Замечательно читал он стихи. И в этот первый вечер нашего знакомства, и потом, каждый раз, когда я слышал его чтение, я всегда испытывал радость от его чтения. У него было настоящее мастерство и заразительная искренность. <…>
Джиму уже хотелось спать, он громко и нервно зевал, но, очевидно, из любопытства присутствовал, и, когда Есенин читал стихи, Джим внимательно смотрел ему в рот. Перед уходом Есенин снова долго жал ему лапу: «Ах ты, черт, трудно с тобой расстаться. Я ему сегодня же напишу стихи. Приду домой и напишу». <…>
Прихожу как-то домой – вскоре после моего первого знакомства с Есениным. Мои домашние рассказывают, что без меня заходили трое: Есенин, Пильняк и еще кто-то, Тихонов, кажется. У Есенина на голове был цилиндр, и он объяснил, что надел цилиндр для парада, что он пришел к Джиму с визитом и со специально ему написанными стихами, но так как акт вручения стихов Джиму требует присутствия хозяина, то он придет в другой раз. И все трое молча ушли. Молча – и «нам показалось, – добавили мои домашние, – что все трое как будто слегка пошатывались». <…>
В июне того же года наш театр приехал на гастроли в Баку. <…> Приходит молодая миловидная смуглая девушка и спрашивает:
– Вы Качалов?
– Качалов, – отвечаю.
– Один приехали?
– Нет, с театром.
– А больше никого не привезли?
Недоумеваю:
– Жена, – говорю, – со мною, товарищи.
– А Джима нет с вами? – почти вскрикнула.
– Нет, – говорю, – Джим в Москве остался.
– А-яй, как будет убит Есенин, он здесь в больнице уже две недели, все бредит Джимом и говорит докторам: «Вы не знаете, что это за собака. Если Качалов привезет Джима сюда, я буду моментально здоров. Пожму ему лапу и буду здоров, буду с ним купаться в море».
Девушка отошла от меня огорченная.
– Ну что ж, как-нибудь подготовлю Есенина, чтобы не рассчитывал на Джима.
Как выяснилось потом, это была та самая Шаганэ, персиянка. <…>
А вот и конец декабря в Москве. Есенин в Ленинграде. Сидим в «Кружке». Часа в два ночи вдруг почему-то обращаюсь к Мариенгофу:
– Расскажи, что и как Сергей.
– Хорошо, молодцом, поправился, сейчас уехал в Ленинград, хочет там жить и работать, полон всяких планов, решений, надежд. Был у него неделю назад, навещал его в санатории, просил тебе кланяться. И Джиму – обязательно.
– Ну, – говорю, – выпьем за его здоровье.
Чокнулись.
– Пьем, – говорю, – за Есенина.
Все подняли стаканы. Нас было за столом человек десять. Это было два – два с половиной часа ночи с 27 на 28 декабря. Не знаю, да, кажется, это и не установлено, жил ли, дышал ли еще наш Сергей в ту минуту, когда мы пили за его здоровье.
– Кланяется тебе Есенин, – сказал я Джиму под утро, гуляя с ним по двору. Даже повторил: – Слышишь, ты, обалдуй, чувствуешь – кланяется тебе Есенин.
Но у Джима в зубах было что-то, чем он был всецело поглощен – кость или льдина, – и он даже не покосился в мою сторону.
Я ничем веселым не был поглощен в это полутемное, зимнее, морозное утро, но не посетило и меня никакое предчувствие или ощущение того, что совершилось в эту ночь в ленинградском «Англетере».
Так и не почувствовал, по-видимому, Джим пришествия той самой гостьи, «что всех безмолвней и грустней», которую так упорно и мучительно ждал Есенин. <…>»
Василий Иванович Качалов (1875–1948) – выдающийся театральный артист; один из соратников К.С. Станиславского, ведущий актёр Московского Художественного театра. Произведения Есенина вошли в его концертный репертуар с 1922 года – за несколько лет до личного знакомства с Есениным в марте 1925 года.
Письмо к сестре[11]
По свидетельству С.А. Толстой-Есениной, в стихотворении «отразился действительный случай, бывший с Есениным, – попугай у цыганки-гадалки вынул ему обручальное кольцо», которое он подарил С.А. Толстой.
Стихотворение посвящено младшей сестре Есенина – Александре Александровне (1911–1981). Осенью 1924 года она приехала из Константинова в Москву, где продолжила учение в школе. А.А. Есенина вспоминала, что в один из сентябрьских дней Есенин предложил ей и жене, Софье Толстой-Есениной покататься на извозчике.
«День был теплый, тихий. Лишь только мы отъехали от дома, как мое внимание привлекли кошки. Уж очень много их попадалось на глаза. Столько кошек мне как-то не приходилось встречать раньше, и я сказала об этом Сергею. Сначала он только улыбнулся и продолжал спокойно сидеть, погруженный в какие-то размышления, но потом вдруг громко рассмеялся. Мое открытие ему показалось забавным, и он тотчас же превратил его в игру, предложив считать всех кошек, попадавшихся нам на пути… Это занятие нас всех развеселило, а Сергей увлекся им, пожалуй, больше, чем я. Завидев кошку, он вскакивал с сиденья и, указывая рукой на нее, восклицал: „Вон, вон еще одна!“ Мы так беззаботно и весело хохотали, что даже угрюмый извозчик добродушно улыбался. Когда мы доехали до Театральной площади, Сергей предложил зайти пообедать. И вот я первый раз в ресторане. Швейцары, ковры, зеркала, сверкающие люстры – все это поразило и ошеломило меня. Я увидела себя в огромном зеркале и оторопела: показалась такой маленькой, неуклюжей, одета по-деревенски и покрыта красивым, но деревенским платком. Но со мной Соня и Сергей. Они ведут себя просто и свободно. И, уцепившись за них, я шагаю к столику у колонны. Видя мое смущение, Сергей все время улыбался, и чтобы окончательно смутить меня, он проговорил: „Смотри, какая ты красивая, как все на тебя смотрят…“ …А на следующий день Сергей написал и посвятил мне стихи: „Ах, как много на свете кошек, нам с тобой их не счесть никогда…“ и „Я красивых таких не видел…“.
Сестре Шуре
Сестре Шуре
Сестре Шуре
Сестре Шуре
Это последнее стихотворение Есенина. Написано накануне смерти, в ночь на 27 декабря. Днем Есенин передал его поэту, члену Воинствующего ордена имажинистов Вольфу Эрлиху (1902–1937), с которым был дружен с 1924 года, Но тот так и оставил рукопись у себя в кармане. Стихотворение, как рассказывал Эрлих, было прочитано им только на следующий день, когда стало известно о смерти Есенина.
Анна Снегина
По свидетельствам сестёр поэта, в поэме отразились впечатления от приездов поэта в родное село Константиново в 1917 и 1918 годах. Отчасти прообразом героини поэмы можно считать владелицу имения в Константинове Лидию Ивановну Кашину (см. комментарий к стихотворению «Зеленая прическа…»). Вместе с тем обстоятельства ее жизни далеки от судьбы Анны Снегиной в поэме. После октябрьского переворота Л.И. Кашина жила в Москве, работала в редакциях, время от времени они с Есениным виделись.
Поэма посвящена Александру Константиновичу Воронскому (1884–1937), литературному критику, не раз писавшему о творчестве Есенина.
А. Воронскому
Черный человек
Замысел поэмы относится ко времени зарубежной поездки Есенина в 1922–1923 годах. Возможно, тогда был написан её первый вариант, ныне неизвестный. В настоящем виде поэма создана в 1925 году, в течение двух вечеров 12 и 13 ноября. Сам Есенин говорил, что работал над поэмой под влиянием пушкинского «Моцарта и Сальери».
Примечания
Речь идёт о православных праздниках, называемых в народе первым, или медовым, Спасом (он отмечается 1 (14) августа) и вторым, или яблочным, Спасом (он отмечается 6 (19) августа).
Леха – гряда, ряд, полоска, борозда, межа.
Луговая трава.
Низший полицейский чин в сельской местности, выбираемый из крестьян.
Прибаутка; здесь: частушка.
Цевница – род свирели, популярный у крестьян духовой музыкальный инструмент.
В православной церкви поминальная служба по покойнику в течение сорока дней после смерти человека.
Стихотворение посвящено Александру Михайловичу Сахарову (1894–1952) – одному из близких друзей Есенина, издательскому работнику. В мае 1924 года он вместе с Есениным ездил в Константиново.
Здесь: здание сельского правления.
Город на юге Ирана, родина Саади и Хафиза.
Стихотворение обращено к сестре, Екатерине Александровне Есениной (1905–1977).
Слова Пушкина (прим. С. Есенина).
«Липа» – подложный документ.(Прим. С. Есенина).


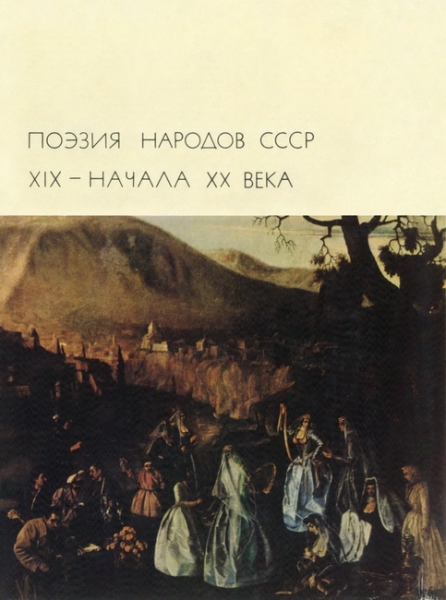

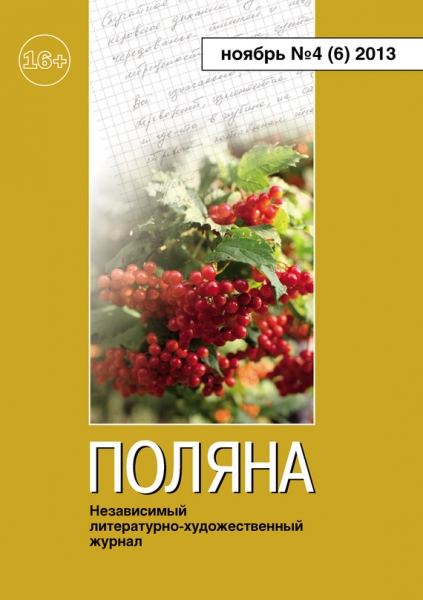
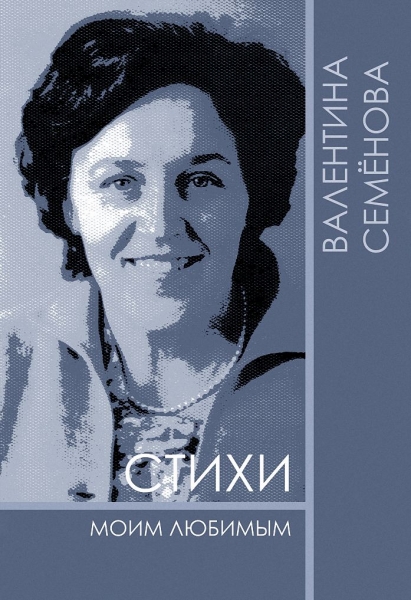
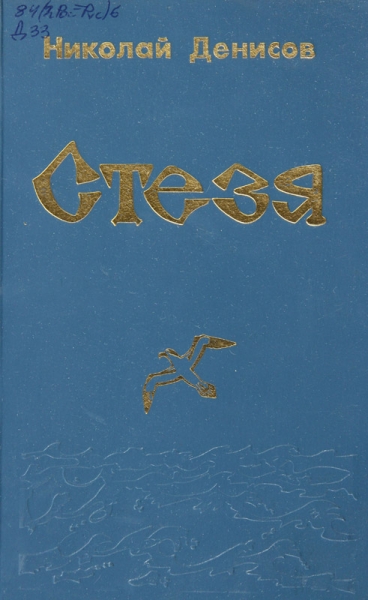

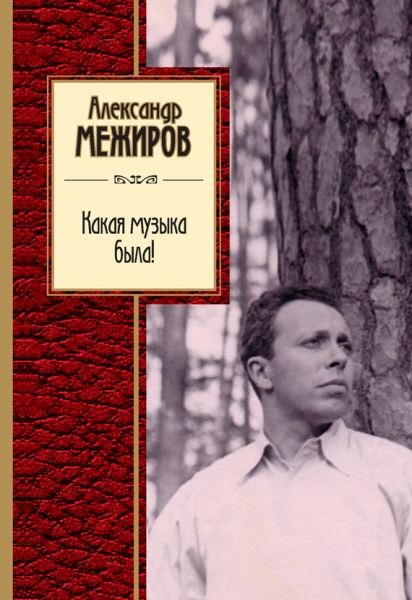
Комментарии к книге «Стихотворения, поэмы», Сергей Александрович Есенин
Всего 0 комментариев