Поэзия русского футуризма
Поэзия русского футуризма
Русскому футуризму и его отдельным представителям посвящены многие десятки исследовательских и критических работ. Львиная доля их долгое время приходилась на изучение В. Маяковского, но теперь как объект литературоведческого осмысления к Маяковскому решительно приблизился В. Хлебников, сделан прорыв и по другим направлениям. Вместе с тем и на сегодняшний день трудно назвать другое поэтическое течение в русской литературе XX века, которое подверглось бы такому же противоречивому и переменчивому освещению, как футуризм. И дело не столько в живучести тенденциозно-однобокой оценки футуризма, которая была узаконена в советском литературоведении (оценку нетрудно переменить на противоположную, по принципу «наоборот»), сколько в действительной сложности и запутанности самого явления, не поддающегося нормативным определениям даже в некоторых своих главных и вроде бы очевидных сторонах.
В настоящей статье учтены работы В. Шкловского, Р. Якобсона, Н. Харджиева, Н. Степанова, В. Перцова, 3. Паперного, В. Маркова, Р. Дуганова, В. Григорьева, А. Парниса, А. Крусанова и других исследователей, различающиеся по подходу к футуризму, и высказаны свои идеи. Задача статьи заключается в том, чтобы представить в основных чертах картину футуристического движения и показать особенности поэтики футуризма на уровне общих тенденций и, главное, на примере индивидуальных художественных решений и конкретных произведений.
В статье использованы отдельные фрагменты прежних работ автора, но в целом она написана заново, специально для настоящего тома, с учетом его состава и построения. По замыслу составителей, персональные справки-портреты должны как бы продолжить вступительную статью, сосредоточив внимание на восприятии футуристов современниками и тем конкретизируя, в лицах, живую историю движения. Некоторые важные вопросы, опущенные или едва затронутые в статье, передвинуты еще дальше – в примечания к соответствующим текстам. В свою очередь, автор справок-портретов и примечаний стремился не повторять сказанного в статье.
В марте 1910 года в сборнике «Студия импрессионистов» было напечатано стихотворение В. Хлебникова «Заклятие смехом». И почти одновременно, чуть погодя, вышел сборник «Садок судей», который принято считать началом русского футуризма как направления. В истории литературы это Садок 1, потому что позже, весной 1913 года, появился «Садок судей II».
Книга «Садок судей», по воспоминаниям одного из ее авторов, Василия Каменского, «с оглушительным грохотом разорвалась… на мирной дряхлой улице литературы»[1]. Особенного взрыва на самом деле не было, и «яркоцветная» окраска сборника для критиков вполне исчерпывалась рисунком дешевых обоев, на оборотной стороне которых сборник был напечатан. «Обойные поэты», «клоуны», «курам на смех» – уровень первых выступлений футуристов оценивался критикой как ничтожный, псевдопоэтический. А между тем «Садок судей» открывался стихами В. Каменского (среди них «Чурлю-Журль»), которые, наряду с хлебниковскими «смехачами», прокладывали один из важнейших путей футуристического творчества; представлены в сборнике Давид и Николай Бурлюки, Елена Гуро; а главное – в значительном объеме опубликован Хлебников: именно в Садке I появились ныне знаменитые «Зверинец», «Журавль» (первая половина поэмы), «Маркиза Дэзес». Это поэты, очень скоро назвавшие себя «будетлянами», «гилейцами» и вошедшие в историю литературы как кубофутуристы. В конце 1910 года (дата на обложке – 1911) выходит роман В. Каменского «Землянка» – лирическая проза, перемежаемая стихами. В 1912 году появляются первые литографированные книги футуристов, среди них «Игра в аду» А. Крученых и В. Хлебникова. А параллельно (1911) утверждает себя эгофутуризм Игоря-Северянина.
Программное значение для определения принципов кубофутуризма имел, конечно, манифест в сборнике «Пощечина общественному вкусу», сочиненный в декабре 1912 года Д. Бурлюком, А. Крученых, В. Маяковским и В Хлебниковым. За ним последовал второй – манифест в альманахе «Садок судей II» за подписью Д. и Н. Бурлкжов, Е. Гуро, В. Маяковского, Е. Низен, В. Хлебникова, Б. Лившица и А. Крученых. Во втором случае авторы манифеста представляют главный поэтический состав кубофутуризма (группы «Гилея»). Отсутствует лишь В. Каменский, который после «Землянки» на время, до конца 1913 года, выключился из активной литературы, посвятив себя авиации. И Екатерина Низен, сестра Елены Гуро, выступала как прозаик, а не поэт.
Эти (и другие) коллективные заявления формулировали позицию кубофутуризма в общем виде. Конкретизацию давали индивидуальные выступления. В статьях и публичных докладах футуристов (о докладах можно судить по афишным тезисам и отчетам прессы) тоже доминировала групповая идеология. Но в них очевидны индивидуальные различия авторов и иногда, в рамках целого, моменты внутренней полемики. Статьи-декларации В… Хлебникова, А. Крученых. В. Маяковского, Д. Бурлюка и Б. Лившица теснее соприкасаются с их поэтическим творчеством и подчас могут служить конкретным комментарием к стихам.
Пик вызывающей, агрессивной активности кубофутуризма приходится на 1913 год и первую половину 1914-го, до начала Первой мировой войны. Новые коллективные и индивидуальные сборники с эпатирующими названиями («Дохлая луна», «Рыкающий Парнас», «Я!», «Взорваль», «Танго с коровами» и т. п.), постановка в Петербурге трагедии «Владимир Маяковский» и оперы А. Крученых – М. Матюшина «Победа над солнцем», прошумевшее по южным городам России турне Маяковского. Д. Бурлюка и Каменского – все это тогда воспринималось вживе, возмущало или привлекало. Футуризм стал входить в моду: новые сборники раскупались, а за Садок I – уже раритет – в 1913 году платили 50 рублей. Но футуристы не просто обратили на себя внимание – они заставили думать и говорить о себе всерьез. В спор о футуризме включились виднейшие представители тогдашней литературы. Первым был В. Брюсов: уже в марте 1913 года появилась его статья «Новейшие течения в русской поэзии. Футуристы», и в дальнейшем он неоднократно писал о футуризме, расширяя и углубляя анализ. Парадоксальным и эффектным критиком нового направления, с позиции ненависти-любви, проявил себя К. Чуковский. Долго воздерживался от печатных оценок А. Блок, но теперь мы знаем, из опубликованных свидетельств современников и записных книжек поэта, что он очень внимательно приглядывался к футуризму. Много шуму наделала оценка М. Горького («тут что-то есть…»), веско и по-разному высказались Ф. Сологуб, И. Бунин, М. Кузмин и др. За скандальной стороной футуризма стали прощупывать его возможности, намечать перспективу– художественную и историческую – в рамках целой эпохи. Мнения решительно расходились. Брюсов и Горький пытались найти в футуризме элементы новых связей с жизнью и возможности обновления искусства. Д. Мережковский, наоборот, оценил футуризм как «новый шаг Грядущего Хама», «пробу конца». Упрекая П. Струве за легковесную отмашку от футуризма («апокалиптический анекдот»), Мережковский предрекал роковое время, когда эта проба удастся, – тогда «просвещеннейший Петр Бернгардович хихикать перестанет»[2].
Отчетливой концепции кубофутуризм так и не создал. Манифесты были рассчитаны на скандальный эффект, это демарш, самореклама. Их теоретические посылки противоречивы и эклектичны. Но определенные смысловые центры в этой браваде все же проступали – с самого начала. В. Брюсов говорил о «беспомощности теоретических рассуждений футуристов»[3]. Однако он же выделял главные направления (как теперь говорят, приоритеты) футуристических интересов: «…футуризм как доктрина призывает к двум важным вещам: к воплощению в поэзии современной жизни… и к новой работе над словом»[4].
Исходным пунктом, главным условием и средством самоутверждения кубофутуристов была идея исчерпанности существовавшего до них искусства.
«Только мы – лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве.
Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов.
Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности.
Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней»[5].
Всем известны эти слова. Они вошли в хрестоматии, цитируются при первом упоминании о футуризме как главное свидетельство его враждебности классическим традициям.
Отрицание не ограничивалось классикой. Далее в манифесте «пощечина» отвешивалась уже и современному искусству, «всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Соллогубам, Ремизовым, Аверчонкам, Черным. Кузьминым, Буниным и проч. и проч.» – без разбора. Совсем по-базаровски: отрицаются не только «отцы» – отрицается «все» («нужно место расчистить»). Мы еще увидим, что значил для футуристов этот принцип работы «с нуля», на чистом месте, «впервые». И какая была в этом традиция, уже традиция, идущая, между прочим, и от тех «авторитетов», которые ниспровергались.
Принципиальным и самым сложным моментом в заявке кубофутуризма является переход от ниспровержения к утвердительной части программы – это не смена признаков в определенной плоскости (антитеза), а утверждение другого угла зрения, смена методологии.
Старое, отжившее определялось футуристами (в той же «Пощечине…») через отрицательное «содержание», в эмоционально-оценочном ключе: «непонятные <почти ископаемые> гиероглифы», «парфюмерный блуд», «бумажные латы», «грязная слизь», «дача на реке», «грошовая слава». Новое, «наше» ощутимо представлено в этом ключе разве что «высотой небоскребов»; прочие определения («Новое Первое Неожиданное», «зори неведомых красот») – до банального привычные абстракции. Гораздо более веско новое заявляло себя в другом измерении, не через «содержание», а через «форму» («не что, а как»). Новое, открытое футуристами, – Самоценное (самовитое) Слово.
Оно тоже отрицает. В манифесте Садка II отрицаются привычный синтаксис, правописание, знаки препинания. Наиболее отчетливо принцип утверждения посредством отрицаний развернут Маяковским в тезисах доклада «Пришедший Сам» (1913): «1) Слово против содержания. 2) Слово против языка (литературного, академического). 3) Слово против ритма (музыкального, условного). 4) Слово против размера. 5) Слово против синтаксиса. 6) Слово против этимологии»[6]. Сплошное «против». За Самоценным Словом остается его «внутренняя жизнь», не столько даже распознаваемая и угадываемая, сколько приписываемая слову по его строению и звучанию. «Мы стали придавать содержание словам по их начертательной и фонической характеристике»[7]. – сказано в манифесте сборника «Садок судей II». «Не идея рождает слово, а слово рождает идею»[8]. Это Маяковский, статья «Два Чехова», одна из ранних попыток взгляда на литературу с формальной стороны.
Проблема «отношения к слову» и неотделимая от нее проблема содержательности формы породила в начале века острые теоретические и поэтические споры. Футуристов не устраивало слово-символ, которое в системе символизма призвано было исполнять особую, иератическую роль – открывать во временном вечное, быть эхом иных звуков, иных миров. Футуристы подчеркивали материальную, заземленную сущность слова, но свою идею они тоже доводили до предела, до противоположной крайности. Они не просто возвращали слову его вещественное значение – они само слово утверждали как реальную вещь, которую можно пощупать, препарировать, видоизменить. Только в таком качестве слово могло стать «самоценным» и «самовитым», вплоть до перехода в разряд «зауми». Параллельно с футуристами выступали акмеисты, которые тоже, по-своему, упрекали символистов за превращение слова в придаток и средство выражения религиозно-философских идей. Критики-современники почувствовали относительное сходство акмеистов и футуристов в споре с символистами. Но они крайне упрощенно оценивали акмеизм почти исключительно как возврат к «прозе» и «здравому смыслу», к предметности трехмерной действительности (отчасти в этом повинны программные статьи Н. Гумилева и С. Городецкого 1913 года; «Утро акмеизма» О. Мандельштама появилось значительно позже). И, даже негодуя по поводу грубости и примитивности футуристов, критики могли признавать их преимущество перед акмеистами в новизне и перспективности. Сегодня очевидно, что акмеизм «по Мандельштаму» исторически «позже» и символизма, и футуризма: слово по-новому обрело себя в многослойном предметном и культурном контексте, развернулась «поэтика ассоциаций» (определение Л. Я. Гинзбург), выходящая далеко за пределы сближения слов «по их начертательной и фонической характеристике», чем по преимуществу интересовались футуристы.
И все же именно футуризм, до предела заострив вопросы формы, заметно воздействовал на их активное и новое теоретическое осмысление. Сами футуристы черпали идеи из разнородных источников, в том числе культурно-исторических и лингвистических (А. Н. Афанасьев, И. П. Сахаров, А. А. Потебня, Л. В. Щерба и др.). Но кто бы решился в пору нигилистического натиска футуризма говорить о возможности его взаимного плодотворного контакта с филологической наукой, которая сама искала новых путей и при этом оставалась позитивной, «академической». В 1914 году вышла книжка В. Шкловского «Воскрешение слова». Применительно к футуристам, причем со ссылкой на самые крайние словесные эксперименты, В. Шкловский высказал мысль, казалось бы, парадоксальную во всех отношениях: «Их поэтические приемы – приемы общего языкового мышления, только вводимые ими в поэзию…»[9]. Без учета опыта футуристов не обошлись потом Московский и Пражский лингвистические кружки, ОПОЯЗ, «формальная школа» в литературоведении. Стихи будущих ученых-формалистов Р. Якобсона и В. Шкловского в настоящем издании помещены в разделе кубофутуризма по генетическому признаку.
Кубофутуризм утверждал себя в теснейшем контакте с изобразительным искусством. Именно с футуризма начинается принципиально новый этап во взаимоотношениях поэзии и живописи. Привычная связь по идее, повествовательному мотиву решительно вытесняется связью по метолу, «мастерству». Почти все поэты-кубофутуристы начинали с живописи и в той или иной мере владели ее профессиональными секретами. Они не просто признавали – они утверждали приоритет живописи в выражении современности. Ценя Ван Гога, Сезанна и фовистов как предшественников, они главную ставку делали на самую «левую» живопись – французский кубизм и итальянский футуризм (в изобразительном искусстве, не в литературе). Именно здесь находили они торжество принцип.> «сделанности», ту динамику форм и «одержимость веществом», которая должна была вытеснить из искусства отживший, по их мнению, психологизм. Первооткрыватель кубизма Пикассо был для них в этом отношении эталоном.
Но самая непосредственная творческая связь соединяла кубофутуристов с нашими, отечественными художниками, которые в чем-то зависели от Запада, в чем-то обгоняли его (беспредметная живопись), но во всяком случае имели свое лицо. Это ярко проявилось, например, в ориентации на примитив, которая характерна для художников раннего «Бубнового валета» и «Ослиного хвоста»[10] и дает прекрасный материал для сближения с поэзией кубофутуристов. Но главное опять-таки не в предметных мотивах – новое видение утверждало себя в искусстве даже и беспредметном. В книгах кубофутуристов. по большей части литографированных и рассчитанных на единство слова и изображения[11]. приняли участие многие художники (помимо самих «гилейцев» Д. Бурлюка, Е. Гуро, А. Крученых, В. Маяковского, В. Каменского, которые тоже давали рисунки или участвовали в оформлении). Это М. Ларионов, Н. Гончарова, К. Малевич, П. Филонов, О. Розанова, В. Татлин, А. Лентулов, В. Бурлюк, Н. Кульбин, Н. Альтман, В. Чекрыгин, Л. Шехтель, К. Зданевич, Н. Роговин. И. Пуни, А. Экстер и др. Их работы редко связаны с текстом как иллюстрации – чаще они имеют самостоятельный, «параллельный» характер, соответствие тексту проявляется в методе, стиле. Или другой аспект. Художники тогда сами теоретизировали. Представление о русском футуризме будет явно недостаточным без учета теоретических концепций Василия Кандинского, Казимира Малевича, Михаила Матюшина. Понятно, что рамки футуризма при этом расширяются, потому что каждый из названных художников претендовал на создание собственной глобальной системы. И, наконец, стихи, сочиненные художниками. В Давиде Бурлюке поэт и художник представлены на равных. Но к поэзии имели отношение и другие. В настоящем томе поэтические произведения Павла Филонова и Ольги Розановой в силу их ключевых особенностей отнесены, конечно же, к разделу кубофутуризма.
Добавим к этому, что кубофутуристы стремились создать свой театр, а судьба театра для них во многом зависела от набиравшего силу кинематографа. И в музыке уже намечались новые пути, соотносимые с литературно-художественным футуризмом[12]. Границы футуризма оказались неопределенными, в восприятии современников он то сужался до события местного значения (группа скандалистов-самозванцев), то расширялся до таких масштабов, что стирались привычные разграничения в искусстве. Н. Бердяев, трактуя футуризм предельно широко, как кризис искусства, связанный с разрушением «иллюзий воплощенной, материально-синтезированной красоты», включает в футуризм не только живопись Пикассо, но и роман символиста А. Белого «Петербург». Эту неопределенность усиливала и пестрота внутри футуризма, наличие в нем раз-пых, к тому же враждующих групп.
Не менее, чем кубофутуристы, претендовала на роль первооткрывателя нового направления другая футуристическая группа, возглавляемая Игорем-Северянином (И. В. Лотаревым). Именно Северянин первым в России, в 1911 году, назвал себя футуристом, прибавив к этому слову другое – «эго». Получился эгофутуризм («Я – Будущее» или «Я в Будущем»). В организованную Северянином «Академию Эго-поэзии» входили, кроме «мэтра», Константин Олимпов (К. К. Фофанов). Георгий Иванов, Грааль-Арельский (С. С. Петров), Павел Широков, Павел Кокорин, Иван Оредеж (И. С. Лукаш). Из-за внутренних распрей, главным образом между Северянином и Олимповым, «Академия» в конце 1912 года распалась. Северянин остался вне групп, Г. Иванов и Грааль-Арельский еще раньше, числясь членами северянинской группы, вступили в «Цех поэтов», где складывался акмеизм. А примкнувший к «Академии» Иван Игнатьев (И. В. Казанский) создал на ее руинах объединение «Интуитивная Ассоциация Эго-футуризм» (оно еще значится в литературе по названию основанной Игнатьевым газеты как группа «Петербургского Глашатая»). Ядро (ареопаг) «Интуитивной Ассоциации» составили И. Игнатьев, П. Широков, Василиск Гнедов, Димитрий Крючков. После самоубийства Игнатьева в январе 1914 года эгофутуризм фактически прекратил существование, хотя позже предпринималась попытка его воскресить[13].
Теория эгофутуризма незначительна. Северянин декларировал свою позицию в стихах. Специальными стихотворениями отметил он возникновение и конец («пролог» и «эпилог») своей Академии, стихами вел, после краткого союза, войну с кубофутуристами («Поэза истребления»). И новизну своей поэтики, ставя ее в прямую связь с современностью, он оценивал сам и тоже в стихах:
Впрочем, дважды в 1912 году его группа заявляла себя листовками-манифестами. Первая подписана «ректориатом» «Академии Эго-поэзии» (И. Северянин, К. Олимпов, Г. Иванов, Грааль-Арельский), вторую, сменив название Академии на «Интуитивную школу», подписал единолично Северянин. Самым любопытным пунктом изложенной в листовках программы является утверждение «вселенского» характера эгофутуризма.
Если кубофутуристов, при всех их различиях, соединяла идея Самоценного Слова, принцип, так сказать, формальный («кубо» – от слова «кубизм»), то само название «эгофутуризм» имело другое направление, толкало к раскрытию «содержания»: что есть «Я»? Эгофутуристы стремились подвести под «восславление Эгоизма» – доминанту своей программы – некое метафизическое и «вселенское» основание. В «скрижалях» первой из листовок 1912 года выстроена на этот счет длинная цепочка определений: «1. Единица – Эгоизм. 2. Божество – Единица. 3. Человек – дробь Бога. 4. Рождение – от дробление от Вечности. 5. Жизнь – дробь вне Вечности. 6. Смерть – воздробление. 7. Человек – Эгоист»[14]. В «доктринах» второй листовки Северянин объявил «признание Эгобога (Объединение двух контрастов)» и «обрет вселенской души (Всеоправдание)»[15] Построения натужные и очень не новые. В стихах Северянина самоутверждение через «эго» осуществляется прямее и эффектнее: «Я прогремел на всю Россию / Как оскандаленный герой!», «Я покорил литературу» и т. п. До «безумного» предела (будем думать все-таки, что поэтического) довел самоутверждение К. Олимпов, объявивший себя Родителем Мироздания. И на этом иссяк, тогда как у Северянина, замечательного поэта, много других существенных качеств, включая и «всеоправдание», не в масштабах вселенской души, а в плане специфического, именно северянинского демократизма.
Теоретизировать хотели и члены «Интуитивной ассоциации» – группы И. Игнатьева. Они тоже выпустили листовку-манифест и тем же способом построения цепочки понятий выражали свой взгляд на место человека во Вселенной: «Человек – сущность. / Божество – Тень Человека в Зеркале Вселенной. / Бог – Природа. / Природа – Гипноз. / Эгоист – Ингуит. / Интуит – Медиум»[16]. Таков «игнатьевский» вариант, он отличается от «северянинского», как комментирует Игнатьев в брошюре «Эго-футуризм», наличием «энергии», «силы», «борьбы». Похоже, что относительно живой, в поэтическом смысле, момент заключается не в «силе», а в той внутренней антиномии, которая в стихах Игнатьева (опять-таки в стихах) породила роковой для него вопрос: «Почему Я – лишь „я“?».
Что касается собственно поэтики, то показательны притязания «Интуитивной ассоциации» на реформу рифмы. Игнатьев предлагал «гласные рифмы» (глаза – ее – огни – Mimi…) и «согласные рифмы» (рак – брег – их). Василиск Гнедов в манифесте «Глас о согласе и злогласе» объявил об открытой им «рифме понятий», основанной на том или ином семантическом признаке (коромысло – дуга; хрен – горчица; вода – зеркало и т. д.). Он утверждал, что дает «новую дорогу в поэзии на тысячи лет», а на деле упразднял рифму как таковую. И прославился Гнедов глобальным снятием смысла (Слова) – опубликовал цикл однострочных «поэм» под общим названием «Смерть искусству», финалом которого, в качестве «Поэмы Конца», явилась чистая страница, – это выглядело даже решительнее, чем «Черный квадрат» К. Малевича или «заумные» эксперименты А. Крученых.
Пунктом ощутимого пересечения эгофутуризма с кубофутуризмом была как раз «работа над словом» – словотворчество, и Гнедов здесь наиболее близок к «гилейцам». Но главная проблема и особенность эгофутуризма шире – она в той ставке на широкого читателя и слушателя, которую сделал Северянин. Эгофутуризм и ассоциируется прежде всего с Северянином, со всем его дореволюционным творчеством, включая периоды до и после «Академии Эгопоэзии».
«Кубо» и «эго» выступили в качестве родоначальников футуристического движения. Группы так называемого умеренного футуризма – «Мезонин поэзии» и «Центрифуга» – по времени возникновения отставали на год-полтора, не больше, но разрыв этот уже многое значил. Поэты, объединявшиеся в новые группы, опоздали к началу движения, пришли на «готовое». Стать футуристами при наличии Хлебникова, Маяковского и Северянина оказалось задачей не из простых, если, конечно, не согласиться с ролью «соратников», сателлитов, эпигонов.
Приходилось не столько сводить счеты с прежней литературой, сколько определяться по отношению к лидерам самого футуризма.
Самая деятельная фигура в «Мезонине поэзии» – Вадим Шершеневич. В его стихах футуристического периода очевидно перекрестное влияние Северянина и, по возрастающей, Маяковского. Но Шершеневича не назовешь просто эпигоном, – в структуре свободного стиха, ориентированного на разговорную интонацию, он, возможно, оказал встречное воздействие на Маяковского. Теоретическая и поэтическая позиция Шершеневича сводилась к перехвату инициативы в русле радикальной футуристической идеи. Он чуть ли не единственный представлял русский футуризм перед лицом приехавшего в Россию Ф. Т. Маринетти, перевел и издал манифесты итальянских футуристов и произведения их вождя – демонстрировал содружество, которого на деле не было. Он написал книжку о футуризме и принцип примата формы («не что, а как») закрепил в простейшей схеме поэтапного движения искусства (снабдив ее для четкости математическими знаками): «Таким образом реалистическая формула: „форма < содержания“, обращенная символистами в „форма = содержанию“, превращалась у футуристов в „форма > содержания“»[17]. И атаку на футуризм, уже с позиций имажинизма, он позже поведет под тем же флагом, обвинив футуризм в отступничестве, в измене идее: «Нам смешно, когда говорят о содержании искусства. <…> А футуризм только и делал, что за всеми своими заботами о форме, не желая отстать от Парнаса и символистов, говорил о форме, а думал только о содержании»[18].
Другой позиции в футуризме придерживался Борис Пастернак, крупнейший, как оказалось, из поэтов «Центрифуги», имевший за плечами (как, впрочем, и Шершеневич) контакты с символизмом. «Обращение» в футуризм не сопряжено у Пастернака с притязаниями на ведущую роль в новом движении, хотя он и подписал воинственную «Грамоту» – начальный манифест «Центрифуги». Не соперничество с уже определившимися лидерами футуризма, не оспаривание у них прав – Пастернаком руководило стремление быть самим собой, он очень скоро отстранился от борьбы и вообще от футуризма. Чрезвычайным событием для него был не футуризм как направление, а персонально Маяковский. По словам Пастернака, сказанным позже, в «Охранной грамоте», он пошел на сознательную ломку и «ограничение» своей поэтической манеры, дабы избежать сходства с поразившим его Маяковским. Именно в период «Центрифуги» Пастернак формирует свою «неромантическую поэтику» – основу всех его последующих поэтических открытий.
«Мезонин поэзии» существовал совсем недолго. Вся его история, заключающаяся в выпуске грех альманахов, умещается во второй половине 1913 года. Кроме В. Шершеневича, в группу входили Лев Зак, Константин Большаков, Рюрик Ивнев (М. А. Ковалев), Сергей Третьяков, Борис Лавренев. Внешний характер этого союза, где главную роль играли издательские интересы, подтверждается дальнейшей судьбой его участников: в столичном (петербургском и московском) футуризме не было другой группы, которая после распада дала бы такой расклад писательских путей по разным направлениям (см. соответствующие справки-портреты). «Мезонин» даже не выступил с групповым манифестом. Заменившие манифест статьи М. Российского (Л. Зака) «Перчатка кубофутуристам» и В. Шершеневича «Открытое письмо М. М. Россиянскому» касались единственной, хотя и главной, проблемы – отношения к слову. Оставляя логике и науке семантику слова и не удовлетворяясь кубофутуристическим восприятием слова со стороны звучания, Л. Зак и Шершеневич предлагали: первый – обогащенное ассоциативными рефлексами «слово-запах», второй – ключевую для него формулу «слово-образ», отдаленно предшествовавшую программе имажинизма.
«Центрифуга», возникшая в 1914 году, держалась дольше других футуристических групп – до начала 1920-х годов. В нее входили Сергей Бобров. Николай Асеев, Борис Пастернак, Иван Аксенов, Григорий Петников, Божидар (Б. П. Гордеев), Федор Платов, Борис Кушнер. Фактически присоединился к ней после прекращения деятельности «Мезонина поэзии» К. Большаков. Были и эпизодические участники.
Ядро «Центрифуги» сложилось загодя. С. Бобров, Н. Асеев и Б. Пастернак объединились еще до того, как примкнули к футуризму, – в группе «Лирика», сохранявшей связи с символизмом. И в «Центрифуге» они остались верны круговой поруке, которая значила для них не меньше, чем сходство творческих устремлений. Бобров, по воспоминаниям Пастернака, был заводилой в споре с другими течениями футуризма и настойчиво вовлекал в эти разборки своих друзей, которые, особенно Пастернак, по складу своему не были полемистами.
Критики отмечали, что поэтам «Центрифуги» присущи «солидная эрудиция» и «культурные поиски», но что не всегда это шло на пользу «работе над стихом». «Мне кажется, – иронизировал Г. Иванов, – что в Аксенове и Боброве пропадают почтенные методические доценты точных наук»[19].
Обозвав (в «Грамоте») своих оппонентов по футуризму «пассеистами», поэты «Центрифуги» сами куда откровеннее опирались на традиции. В. Брюсов относил Пастернака к «порубежникам», к тем, у кого «футуризм сочетается со стремлением связать свою деятельность с художественным творчеством предшествующих поколений»[20]. Почти теми же словами характеризовал Брюсов и Боброва, намекая, впрочем, на искусственность стилистических решений в его стихах, «в которых футуристичность причудливо смешивается с традициями пушкинской плеяды»[21] (Бобров и как литературовед занимался поэтами пушкинского времени, в первую очередь Н. Языковым).
Главным предметом теоретического осмысления была для поэтов «Центрифуги» лирика: ее они создавали и ее же стремились определить. Конкретнее – они решали вопрос о динамическом соотношении в пределах стихотворения тематически обозначенного целого и достаточно автономных, как бы отпочковывающихся от целого, обостренно-выразительных деталей. Трудно утверждать, но может быть, в самом названии «Центрифуга» как-то заложена эта проблема: целое – движение – составные. Бобров сформулировал понятие «лирический простор» и структурировал пространство стихотворения за счет ломки ритма, дозировки рифмы, введения в стихи разнообразных терминов (вплоть до математических). Определенную параллель ему составлял Аксенов. У Асеева важно включение в лирическую тему «посторонних» (зачастую мнимых) источников. В рецензии на итоговую для раннего Асеева книгу «Оксана» (1916) Пастернак насчитал у него пять «миров выражения» и особо выделял анахронистические варианты – романтический «тон преданья», «таинственность самоутверждающегося апокрифа»[22]. Сам Пастернак последовательно, шаг за шагом, осваивал идею целого и взаимозаменяемости его частей. Эта идея имела для него самое широкое мировоззренческое значение и преломлялась в поэтике как принцип «взаимозаменимости образов», их «движущегося языка» в объеме целой «мысли» или целой «картины» произведения. Акцент у поэтов «Центрифуги» перемещался со «слова как такового» на интонационно-ритмические и синтаксические структуры. И если опыты Боброва по большей части так и остались опытами, то у Асеева и особенно у Пастернака они привели к открытиям. Достаточно вспомнить знаменитую пастернаковскую «Метель» с неповторимой «раскачкой» ритма и, соответственно, темы. Особую организующую роль в стихах Пастернака начинает играть синтаксис, способный «держать» стихотворение, не дать ему рассыпаться хаосом разделенных, логически не связанных образов.
«Центрифуга», самая «интеллигентская» и «филологическая» из футуристических групп, составила, по существу, третье главное течение русского поэтического футуризма.
С началом мировой войны демарши футуризма резко ослабевают, футуристы ищут контакта с символистами (совместный сборник «Стрелец»), добиваются сочувственной оценки М. Горького, печатаются в посторонних изданиях. В 1915 году почти общим в критике стало мнение о конце футуризма. Декабрем 1915 года помечен альманах «Взял. Барабан футуристов» со статьей Маяковского «Капля дегтя». Маяковский утверждал, что «Футуризм мертвой хваткой ВЗЯЛ Россию», но одновременно признавал конец футуризма как этапа анархизма и разрушения старой культуры. «Да! футуризм умер как особенная группа, но во всех вас он разлит наводнением. <…> Первую часть нашей программы разрушения мы считаем завершенной. Вот почему не удивляйтесь, если сегодня в наших руках увидите вместо погремушки шута чертеж зодчего…»[23]
Программа «зодчества», жизнестроения средствами искусства развернется позже, в другую эпоху и под другим флагом (Леф 1920-х годов). И вклад футуризма в духовную и материальную культуру, его противоречивые практические результаты, выходящие далеко за пределы искусства, осознаваться будут постепенно, – этот процесс и сегодня не завершен. А пока что, на первых порах, футуризм распространялся по России эпигонскими группками, которые усвоили как раз эпатажную сторону движения – крикливое самовосхваление и раскрашенные физиономии. На таком самодеятельном уровне, подчас трудно отличимом от пародии, эпигоны футуризма заявили себя в Казани, Саратове, Харькове (не путать с харьковским издательством «Лирень» – филиалом «Центрифуги»), Ростове-на-Дону и других городах[24].
Серьезные попытки продолжить футуризм были предприняты его ветеранами после революции. В Тифлисе Алексей Крученых и Илья Зданевич образовали группу «41°» («Сорок первый градус» – по местоположению Тифлиса: 4Г северной широты). Крученых – виднейший из кубофутуристов. И. Зданевич. лишь по стечению обстоятельств оказавшийся среди подписавших манифест «Центрифуги», действовал с начала футуристического движения практически вне групп: его идея «всёчества», провозглашенная в 1913 году, противостояла им всем. Перед революцией, впрочем, И. Зданевич был связан с художественной группой «Бескровное убийство», там берет начало его драматургический цикл «аслааблИчья». Однако в истории футуризма он значится прежде всего как один из основателей и главная фигура «41°». С Крученых он был заодно в деле создания заумного искусства, и в манифесте компании «41°» (1919) заявлено, что «Компания… утверждает заумь как обязательную форму воплощения искусства»[25]. Третьей активной фигурой группы был новичок – Игорь Терентьев, который и позже, в искусстве 20-х годов, остался, наряду с Крученых, приверженцем самых крайних принципов футуризма.
Ветераны же сыграли ведущую роль в журнале «Творчество» и деятельности одноименной футуристической группы на Дальнем Востоке (Владивосток – Чита). В первом номере журнала (1920) участвовали Д. Бурлюк, Н. Асеев, С. Третьяков. Последние двое (Бур-люк уехал за границу) составили в 1921 году ядро группы «Творчество», в котором значатся также Петр Незнамов (П. В. Лежанкин), Владимир Силлов, Сергей Алымов, Венедикт Март (В. Н. Матвеев) и др. В качестве теоретика выступал Н. Чужак. (В настоящем томе Д. Бурлюк, Н. Асеев и С. Третьяков представлены в разделах, соответствующих их первой футуристической «прописке».)
Две последние группы русского футуризма, имея общую основу, направили свои усилия в разные стороны. И оба направления подводили под футуризмом определенную черту. Группа «41°» преумножала опыты по линии «не что, а как», доводя ее до предела, – создавала заумное искусство. Но как ни разнообразились эти опыты за счет тех или иных компромиссов с нормативным языком (идея «оркестровой поэзии» и другие варианты), классической реализацией принципа зауми оставалось первоначальное крученыховское «Дыр бул щыл.»[26]. Группа «Творчество» была решительна в другом отношении – она прониклась духом революционной действительности и, подобно центральным комфутам (коммунистам-футуристам), искала прямого союза с революционной властью. Это еще не идея государственного искусства, но отдаленный намек на нее. Не случайно члены «Творчества» (Н. Чужак, Н. Асеев, С. Третьяков, П. Незнамов, В. Силлов) войдут потом в круг активных участников или соратников Лефа.
Непросто было определить в настоящем томе раздел «Вне групп». Единого критерия здесь нет. Молодые одесские поэты (главный из них, понятно, Э. Багрицкий) печатали в своих альманахах произведения В. Маяковского, В. Шершеневича, С. Третьякова, но сами футуристическими признаками не отличались, за исключением Анатолия Фиолетова, фигуры достаточно загадочной. Он единственный из одесситов, кто нашел место в нашем издании.
Но в большинстве своем поэты, составившие раздел «Вне групп», имели определенные контакты с «организованным» футуризмом и сами печатались в его изданиях. Их творчество отмечено влиянием «старших» – И. Северянина, В. Шершеневича, а стихи Сергея Спасского – влиянием К. Большакова и Б. Пастернака. Любопытны и самостоятельные эксперименты. У Георгия Золотухина название «Готика» относится не столько к теме стихотворения, сколько к самому его строю. Похоже, что стихотворение намеренно выдержано в стиле «пламенеющей готики» с перетеканием деталей «от звена до звена», «пламенными языками». Это находит воплощение в изощренной и чрезвычайно интенсивной рифмовке: чуть ли не каждое слово стихотворения получает соответствующую, по большей части внутреннюю, рифму. Вообще в стихах этого раздела совмещаются элементы разных систем, стихи заведомо эклектичны, но посмотреть можно и с другой стороны: футуризм начинает растворяться в широком потоке литературы, это процесс неизбежный, и эпигонская поэзия его по-своему выражает.
Выделяются среди поэтов «вне групп» Дмитрий Петровский и, конечно, Тихон Чурилин. Первый трансформировал отдаленно родственные и в то же время разные начала футуризма, идущие от Е. Гуро и В. Хлебникова. А Чурилин, самый ранний и самый значительный из поэтов данного раздела, сразу занял особое место в поэзии. В его трактовке темы безумия была какая-то опора на Андрея Белого, но это момент проходной. У Чурилина свои слова, своя интонация, а главное – свои ритмы, которые оказали воздействие на Марину Цветаеву. Не случайно Цветаева ставила Чурилина очень высоко.
«Я и подобные мне убеждаем не метафорами, не стихами, не доводами, / Мы убеждаем тем, что существуем». Сколько раз на разные лады повторяли футуристы эти слова Уолта Уитмена из «Песни большой дороги». Стихи, понятно, не исключались, но мало сказать, что стихи футуристов выражали определенную жизненную позицию, – в них самих главную суть составляли поза, жест, поведение, стихи вели себя вызывающе даже в тех случаях, когда не были рассчитаны на эстраду. Мы пришли (я пришел), – футуристы в той или иной форме, имея на то внутреннее право или являясь всего лишь самозванцами, несли это утверждение как принцип, определяющую черту, заведомо присвоенное значение.
Они и буквально пришли – стянулись к центру со всех концов. «Буйная кобыла с черноземов России», – сказал о Давиде Бурлюке Хлебников, сам явившийся из калмыцких степей. «Вы в города обледенелые / Врываетесь из темных нив», – писал Д. Бурлюк в 1908 году о поездах, как бы предрекая то бурное нашествие провинции на столицы, которое явил собою русский футуризм. Братья Бурлюки, А. Крученых, Н. Асеев, Божидар, В. Каменский, Б. Лившиц, В. Гнедов, Д. Хлебников, В. Маяковский, И. Зданевич… Из Таврической, Херсонской, Харьковской губерний, с Урала, из Киева, Донецка, Казани, Закавказья. Разумеется, футуристами молодые провинциалы становились, за редчайшими исключениями, уже в столицах – в Москве и Петербурге. Но важно отметить саму их решительность, напор, готовность схватить и присвоить все наиновейшее, радикальное, чтобы взбудоражить застоявшиеся, «обледенелые» столицы. Применительно к Маяковскому об этом позже писал Пастернак: «Провинция не всегда отставала от столиц во вред себе. <…>…в царство танго и скетинг-рингов Маяковский вывез из глухого закавказского лесничества, где он родился, убеждение, в захолустье еще незыблемое, что просвещение в России может быть только революционным»[27].
Из видных московских футуристов уроженцами Москвы и москвичами «по складу» были трое – С. Бобров, К. Большаков. Б. Пастернак. Остальные «пришли» и соединились в Москве, городе пестром, многосоставном, конгломерате провинций. В Петербурге картина вроде бы иная: шестеро из десяти представленных в настоящем томе эгофутуристов родились в северной столице. Но петербуржцы они с существенной оговоркой и как поэты не соответствуют уже сложившемуся реноме «петербургского поэта», представленному в то время Ин. Анненским, А. Блоком, А. Ахматовой. Дело даже не в том, что, к примеру, детские и ученические годы Северянина прошли в провинции. Эгофутуристы генетически «промежуточные», потерявшие одну традицию и не приобщившиеся к другой. Северянин и Д. Крючков произошли от мещанского корня, И. Игнатьев, Грааль-Арельский и Оредеж – от крестьянского. И К. Олимпов, сын поэта К. М. Фофанова, именно через отца восходил к тем же крестьянским истокам. Внугри «интеллигентского» символизма такого рода аномалии (В. Брюсов. Ф. Сологуб) перекрывались мощью групповой идеологии и серьезностью посвящения в символизм. Состав футуризма – чрезвычайно неровный и пестрый по социальному и образовательному статусу, не говоря уже об уровне поэтического дарования. Среди законодателей поэтического футуризма оказались выходцы из чиновного дворянства (Хлебников, Маяковский), но по большей части это дети учителей, разного уровня чиновников, выходцы из мещанской и крестьянской среды (кроме названных выше – П. Филонов и А. Крученых). Самый низкий уровень образования был у эгофутуристов – Северянин и Игнатьев ограничились реальным училищем. Но около двадцати футуристов учились в университете (далеко не все окончили), причем многие предпочли юридический факультет (К. Большаков, И. Зданевич, Б. Лившиц, И. Терентьев. Оредеж. Б. Лавренев). Философское образование получил Б. Пастернак, филологическое – Н. Асеев, 8. Шкловский, Н. Бурлюк (учился и на физмате), военное – И. Аксенов. В Училище живописи, ваяния и зодчества учились Д. Бурлюк, В. Маяковский, С. Бобров, Дм. Петровский (Бурлюк и Маяковский исключены за футуризм). Художественное образование ниже рангом имели Е. Гуро, Л. Зак, А. Крученых, Ф. Платов, П. Филонов, О. Розанова.
Для чего все это приводится? Не для того, чтобы оживить «социально-классовый» подход к литературе. О «мелкобуржузной» природе футуризма говорить не будем, а вот разночинский его характер отметим и подчеркнем. И роль провинции, и раяючинский состав значили в истории футуризма гораздо больше, чем просто сумма писательских биографий. Ведущие футуристы оценивали то и другое как явления исторического и культурного значения, на концептуальном уровне.
В. Хлебников, тракгуя мировую историю, необычно оценивал в ней роль центра и периферии, «победителей» и «побежденных»: «…нет творения или дела, которое выразило бы дух материка и душу побежденных туземцев, подобного „Гайавате“ Лонгфелло. Такое творение как бы передает дыхание жизни побежденных победителю. <…> Мозг земли не может быть только великорусским. Лучше, если бы он был материковым»[28]. Здесь по крайней мере два интересующих нас аспекта. Первый – это раскрытие залежавшихся, придавленных богатств, о которых забыли в великорусском центре. Известен особый интерес Хлебникова к славянской «периферии» (периферии – с точки зрения великодержавных представлений). А второй аспект, очевидный в контексте постоянных хлебниковских размышлений, – «евразийский», «материковый»: русская мысль, вкупе с «туземной» (и сама в этой связи «туземная»), протестует против духовной диктатуры Запада и – на правах «побежденного» – «передает дыхание жизни… победителю». В обоих случаях именно «периферия» оказывается плодотворной. С этих позиций Хлебников решительно выступал против вождя итальянских футуристов Маринетти. Или, прекрасно зная и ценя новую французскую живопись, воздерживался от хвалы в ее адрес. Больше он ее любил в русском варианте, обогащенную русской мыслью и русской традицией.
«Провинция» футуристов, если взглянуть широко, – Россия, хотя и, скажем так, не самая привычная из российских провинций. Это не провинция стародавних бытовых устоев (устоев не обязательно в мещанском, «окуровском» смысле, но и тех, что связаны со многими прочными, стабильными сторонами живой народной жизни). Их провинция больше состоит из исключений, это условная провинция бунтарей, самоучек-художников, изобретателей машины времени: «Эй! / Россия, / нельзя ли / чего поновее?» (В. Маяковский). В «Людях и положениях» Пастернак передает свое первое, оказавшееся устойчивым, впечатление от Маяковского 1914 года: «И мне сразу его решительность и взлохмаченная грива, которую он ерошил всей пятерней, напомнили сводный образ молодого террориста-подпольщика из Достоевского, из его младших провинциальных персонажей»[29]. Главным обвинением, которое предъявили современники футуристам, было обвинение в нигилистическом отношении к традициям. Но это тоже традиция. Первое, что сделали нигилисты-разночинцы 60-х годов прошлого века, – они отвернулись от среды, которая их породила, начали поход против «мещанства». Но они не укладывались в «женевские» веяния: слишком сами были укоренены в русской жизни, слишком истово сокрушали веру, превращая в веру само безверие. Достоевский писал антинигилистические романы, и Достоевский же связывал нигилизм с некоторыми особенностями русского национального сознания. Разночинцы прошлого века и разночинцы-футуристы века нового лишены чувства устойчивого дома – «белого дома с колоннами» или «золотой бревенчатой избы». Футуристы, в принципе, всегда в дороге, они «ничьи», и, может быть, самое простое для них – заменить слово «ничьи» другим (принадлежащим Маяковскому) – «всехние». Или «всехние» – или «ничьи».
Разумеется, Хлебников или Маяковский, больше всего подходящие под этот разряд, – исключения среди исключений. Их масштаб и их свойства не могут быть приписаны всем футуристам. В настоящем томе много слабых стихов, это осознается сразу, но исключительно на уровне непосредственного впечатления. Искусство, нацеленное на крайний эксперимент и сокрушение «правил», несет возможность больших открытий – и предоставляет простор для «новаций», имеющих мало общего с творчеством. Опытнейшие искусствоведы порою признаются, что перестают ориентироваться в неиссякаемом потоке авангардистской живописи, поскольку неясными остаются критерии, позволяющие отделить в ней истинное от поддельного. Исследователи литературного авангарда, сосредоточив внимание на том, «как это сделано», обычно тоже уходят от вопроса, хорошо это или плохо. Теоретически вопрос вряд ли разрешимый, и может быть, он вообще не научного свойства, но практически он существует, от него никуда не деться. В имидже многих футуристов не последнюю роль играло стремление возвыситься за счет целого направления, сконцентрировав его приемы и «соответствующие» ему повадки, поведение. И стоять за этим могло как наивное самоупоение, так и чувство творческой неполноценности.
В особом имидже не нуждался Хлебников, в нем и без того все было «не так, как у людей».
Елена Гуро настолько слилась с придуманной ею легендой об умершем сыне, что неловко говорить о литературной мистификации. Ее открытая лирическая манера начисто лишена и пародийного начала, очень важного в поэзии и имидже футуристов, – это ставит ее в положение особое, исключительное. И тем поразительнее внутренние токи, которые соединяли ее с самым «дичайшим» из кубофутуристов – с А. Крученых.
Автору этих строк посчастливилось в школьные годы (это было в конце 40-х) познакомиться с Василием Каменским, гостить у него в с. Троица на берегу уральской реки Сылвы. Уже неизлечимо больной, без ног, Каменский оставался источником энергии и жизнелюбия. Его поздние поэмы, особенно «Емельян Пугачев», по мастерству заметно превосходят то, что им сделано в пору прославившего его футуризма. Но и они не слишком-то впечатляют, если читать их глазами, про себя, по печатному тексту. Надо было слышать, как читал Каменский, – пел, голосил, заливался, замирал, отчеканивал ритмы, прихохатывал. Не просто манера исполнения – это было вскрытие той стихийной подосновы, подобной разливу его любимой Камы, которая лишь частично умещалась в русле печатных строк. Каменский-поэт и Каменский-авиатор (актер, охотник и т. д.) – это, в принципе, одно и то же. Не жизнь служила комментарием к стихам, а стихи были главным, но отнюдь не единственным способом реализации энтузиазма, который составлял суть, натуру этого человека, действовавшего в открытую и напоказ.
Критики не без основания сравнивали футуристов с декадентами 1890-х годов, имея в виду перекличку поэтических мотивов и эстрадные. эпатирующие способы их подачи. Вспоминали названия сборников раннего Брюсова: «Chefs d'Euvre»(«Шедервы») и «Me cum esse» («Это – я») – чем не футуризм? Футуристы, шокируя публику, пошли неизмеримо дальше, разрабатывали собственный образ, имидж, негативный по отношению к традициям. Но не все уходило в позу, в намеренно открытые приемы. Имидж – это личина и лицо одновременно. Личина демонстративно подчеркивает какие-то черты, а что-то утаивает – не исключает, а уводит в подтекст. Рассмотрим чуть подробнее, как это проявляется у поэтов, по-разному, но отчетливо озабоченных своим имиджем, – у Д. Бурлюка и Крученых, у Маяковского и Северянина.
В советском литературоведении Давид Бурлюк наряду с Крученых представлен как главное свидетельство разрушительной, нигилистической сущности футуризма, глумления над традициями. Раз за разом цитировались одни и те же строчки Бурлюка: «ПОЭЗИЯ – ИСТРЕПАННАЯ ДЕВКА / а красота кощунственная дрянь» или «„Небо – труп“!! не больше! / Звезды – черви – пьяные туманом…». И даже стихи «Каждый молод молод молод / В животе чертовский голод… / Будем лопать пустоту…» оценивались как дикарство и цинизм, обычно без указания, что это переложение А. Рембо. Совсем на отшибе оказывалась, в качестве сугубо личной оценки, сердечная характеристика Бурлюка, сделанная Маяковским («Я сам»), и практически игнорировался яркий и убедительный образ Бурлюка в «Полутораглазом стрельце» Б. Лившица.
В восприятии современников Д. Бурлюка-поэта затмевал тот же Д. Бурлюк – вызывающий художник и герой скандальных футуристических выступлений. Но поэт существовал, и как раз Б. Лившиц в своих воспоминаниях отмечает главные признаки его ранних, до 1911 года, стихов: «Их тяжеловесный архаизм, самая незавершенность их формы нравились мне своей противоположностью всему, что я делал, всему моему облику поэта, ученика Корбьера и Рембо»[30]. Уроки Корбьера и Рембо в данном контексте означают четкость и определенность формы, тогда как у Бурлюка важнее были «сдвиги» формы, непривычное взаимодействие элементов. «Незавершенность» стихов Бурлюка может и сегодня произвести впечатление профессиональной неумелости автора, но Бурлюк в дальнейшем своем развитии, после 1911 года, усвоив на свой манер тех же французских «проклятых поэтов», не уменьшил, не сгладил, а, наоборот, усилил эти «сдвиги» и «ошибки», обнажил их намеренный характер. Архаические («высокого» стиля) и подчеркнуто грубые или обиходно-прозаические слова и обороты у Бурлюка перемешиваются в едином потоке. Если при этом ломается синтаксис и снимается пунктуация, то это даже не поток, а «словесная масса». В «непрерывности словесной массы», подчеркнутой отсутствием знаков препинания, футуристы видели космическую сущность. «Погружение в стихию языка» для них – это «не архаика, а практика космологии, не допускающая для себя никакого измерения временем»[31].
Поэзия Д. Бурлюка ориентирована в основном на внешний предмет, на «показ», лирическая медитация сведена в ней до минимума, но определенные лирические мотивы проступают. Во многих стихотворениях Бурлюка, особенно ранних, эти мотивы до банального стереотипны, – какой поэт-урбанист обходился тогда без метаний героя по городу, плача на площади или «у темного угла», показа городских самоубийств – «с этажей в мостовые»? Но не это главное у Бурлюка Его система осваивает расхожий материал в более или менее пародийном ключе, что и порождает свои, особые акценты. К тому же субъект его лирики (если можно о нем говорить) редко предстает как поэт, в своей исключительности, и ценит «безликую прелесть» бытия. Моменты драматического противостояния чему-то иному, враждебному – прозе, обыденности, косным правилам жизни и т. п. – не доводятся до романтического конфликта, как у Маяковского. Стороны проникают друг друга, обнаруживают внутреннее родство, и драматическая нота угасает или уходит вглубь. Стихотворение «Какой глухой слепой старик!..», открывающее в настоящем томе подборку Бурлюка. написано в 1907 году, до всякого футуризма, но оно задает тональность подборке в целом. Можно так или иначе гадать, кто он, этот старик, но, по-видимому, ясно, что для субъекта стихотворения («я») он антипод и в то же время – свое, неотторжимое, почти двойник.
Похожую, в принципе, двойственную структуру наблюдаем в программном для Бурлюка стихотворении «Глубился в склепе, скрывался в башне…» (<1914>). Оно разворачивается поначалу в образно-стилистических нормах поэзии символистского направления (склеп, башня, УЗОР СОЗВЕЗДИЙ, отравленный фиал; скрывался, мечтал, горел, трепетал, соблазнял). Причем пародийный характер первых двух строф практически не осознается, почти не осознается, хотя он задан с самого начала оттенками глагольных значений (глубился, УЛОВЛЯЛ) и протокольностью перечисления «высоких» состояний. Такова система: не поймешь, всерьез он или издевается. Можно прочитать и всерьез. А далее третья строфа, ставшая скандально-известной и способствовавшая репутации Бурлюка – нигилиста и хулигана:
И ведь не вдруг появилась эта строфа – она естественно стыкуется с предшествующим стихом «высокого» стиля («Даря отравленный фиал»). Она контрастна по отношению к первым строфам в плане лексическом, но последовательно развивает тему стихотворения, привнося в нее оценочный момент: все эти башни, мечты, сгорания и есть болезнь. Движение темы акцентировано цепочкой выделенных слов: УЛОВЛЯЛ УЗОР СОЗВЕЗДИЙ НО ПРОКАЗОЙ ДОИТЕЛЬ ИЗНУРЕННЫХ ЖАБ. В таком ключе комментировал самую скандальную строчку стихотворения своего брата Николай Бурлюк: изнуренных жаб, то есть идей. Надо полагать – старых, чужих идей (ср. в другом стихотворении: «Какой позорный черный труп / На взмыленный дымящий круп / Ты взгромоздил неукротимо… / Железный груз забытых слов…»). Однако можно интерпретировать и по-другому. Подчеркнуто плотский смысл явного автопортрета Бурлюка (сатир одноглазый), а также следующее за строфой отточие провоцируют на рискованные прочтения, вплоть до скабрезно-эротического. Б. Лившиц вспоминает признание Бурлюка, что для него все женщины до девяноста лет хороши, а в другом месте, касаясь отношений Бурлюка с женщинами, намекает на возможную сексуальную аномалию. Впрямую это не может быть отнесено к разбираемому тексту, но – кто знает? – футуристы бравировали и таким образом, приоткрывая исподнее, ставили читателя в тупик или разогревали соответствующего рода фантазии. И концовка стихотворения, после отточия, удостоверяя пародийность его структуры, не вносит ясности в зыбкий характер темы – она насквозь двусмысленна и демонстративно возвращает к «высоким» образам начала: «Живи небесная жена» (небесная и жена, понятно, со строчной буквы). У Бурлюка вообще концовки часто «слабые» – банальные или нелепо-претенциозные. Логично предположить, что они намеренно «слабые» – имитирующие примитив.
Возглавив атаки футуристов на классику, Бурлюк сам в своих стихах активно осваивал русскую поэтическую традицию от поэтов XVIII века до К. Случевского, В. Брюсова и А. Белого, не говоря уже о новых французах. Осваивал особым способом. Пародийное начало, присущее его поэзии, сводило счеты с прошлым и укрепляло реноме разрушителя-нигилиста. И оно же, захватывая сферу поэтического «я», приоткрывало другую сторону поэтического сознания Бурлюка, которую в рамках его системы невозможно представить в форме прямого лирического самовыражения. Есть в поэзии Бурлюка нота самоиронии. Есть намек на рефлексию, несовместимую с обликом эстрадного Бурлюка.
Был в России поэт Давид Бурлюк. Поэт не первого разряда, но по-своему крепкий, ибо и выверты его обретают какой-то смысл в пределах продуманной и, как ни странно, уравновешенной манеры. Был Бурлюк – и даже оставил заметные следы. Это касается его словесной живописи: вслед за космическими зорями символистов пришли закаты Бурлюка (закат-маляр, закат-прохвост, закат-палач и т. д.) – их отсветы появятся у Маяковского, Пастернака и других поэтов. А самое любопытное в том, что последующая поэзия вольно или невольно подхватила (по-иному мотивируя) самые антиэстетические пассажи Бурлюка. «Была душа больна ПРОКАЗОЙ…» – так у Бурлюка. «Страданье, что сердце, что сердце в экземе!» – это Пастернак («О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б…»). Скандальные стихи Бурлюка: «„Небо-труп“!! не больше! / Звезды – черви – пьяные гуманом». А Мандельштам? – «Нельзя дышать, и твердь кишит червями…» («Концерт на вокзале»), Бурлюк пишет: «Луна, как вша, ползет небес подкладкой…» Маяковский в «Хорошо!» дает свой варианг: «…небу в шаль / вползает солнца вша». Да, у Маяковского образ связан с темой «тифозной горячки» времен Гражданской войны, но в изобразительном плане, право же, убедительнее строчка Бурлюка.
Поэзия Д. Бурлюка при всех своих крайностях – герметична, самодостаточна. Поэзия А. Крученых открыта вовне, она поступок, жест, поза. Она рассчитана на мгновенную и активную реакцию читателя (слушателя). Такие стихи, по рекомендации самого Крученых, «читать в здравом уме воспрещается».
Самый выразительный портрет своего собрата по футуризму и одно время соавтора сделал Хлебников в стихотворении «Крученых» (1921). Оно не вошло в основное собрание настоящего тома по условиям отбора, поэтому есть смысл привести его полностью:
Комментарий в «Творениях» В. Хлебникова (М… 1986) поясняет, что бледный житель серых камней – это птичка крученок (каменка), сибирский зов на «чёных» – фамилии на – ых, а энглиз – англичанин. В других пояснениях стихотворение не нуждается, настолько ясны составные образа, человеческие и литературные. Правда, указано еще в комментарии, что есть пометка Хлебникова на автографе – карандашом: «Опасен».
«Я смеюн», – говорил Крученых. Современное исследование поэзии и имиджа будетлян в свете фольклорно-мифологической традиции открывает связи Крученых с разными смеховыми формами народной культуры. «Принимая на себя обязанности бала!ура. смеющийся постоянно должен был поддерживать свою репутацию непрекращающимися шутками, насмешками над окружающими и над собой. <…> Балагурство разрушает значения слов, коверкает их внешнюю форму. Балагур дает неверную этимологию или связывает слова, похожие лишь внешне»[32]. Все это имеет отношение к Крученых, только картинка получается совсем веселая. Между тем Д. Бурлюк свой очерк о Крученых назвал «Ядополный» и давал соответствующее о нем представление: «А. Крученых в лаборатории слова занимает целый угол – он злобен и безмерно ядовит»[33]. Крученых, конечно, вызывал смех, но смех по большей части опасливый, неприязненный, он сам это сознавал и провоцировал («костюм покроя шокинг»). И Хлебников, и позже Пастернак, и другие говорили о не прекращающемся с годами мальчишестве Крученых. Но если он мальчик, ребенок, то «злой мальчик», «испорченный ребенок». Дело не в личных достоинствах или пороках Крученых, – он бывал и удивительно нежным, заботливым, скажем, по отношению к Елене Гуро, – дело в свойствах и направлении игры, в доминирующем поэтическом мотиве. Ибо отрицание, издевка, «порча» в стихах Крученых возведены в принцип тематический, мотивный, и это придает особый акцент его эксперименту со словом.
В самом начале поэтического пути видим у Крученых два программных, как оказалось, стихотворения. Первое – «Дыр бул щыл…». эталон зауми (о ней ниже). Второе («я жрец я разленился…») – тематическое, «понятное», оно определяет параметры предметно-образного мира Крученых и составные его лирического «я». Космос Крученых складывается из грубой земной плоти («лежу и греюсь близ свиньи») и взбаламученного неба (мотив демонического «вестника», устроившего на небе «рукопашную»). В конце стихотворения эти две стороны совмещаются, обнаруживают общий «запах»: «все помню запах крылий / смешался он с свининой». К. Чуковский обозвал Крученых «свинофилом» (пародия на слово «славянофил»). Это тоже выпад. В целом стихотворение «я жрец я разленился…», как можно судить по его строю, должно звучать драматично. Но Крученых, опять-таки по правилам игры, загодя принимает клеймо «свинофила».
Раз за разом Крученых утверждал близость, даже тождество «демонического» и «подпольного». На «Первом в России вечере речетворцев» в октябре 1913 года он объявил Передонова (из «Мелкого беса» Ф. Сологуба) единственным положительным типом во всей русской литературе и аргументировал это тем, что Передонов «видел миры иные… он сошел с ума»[34]. Б. Пастернак позже, в 1925 году, писал, обращаясь к Крученых: «Ты на его (искусства. – В. А.) краю. Шаг в сторону, и ты вне его, то есть в сырой обывательщине, у которой больше причуд, чем принято думать»[35] Крученых поэт предельно чувственного, физиологического мировосприятия, что и составляло его своеобразную силу. Лучше всех сказал об этом тот же Пастернак: «По своей неуступчивости он отстает от Хлебникова или Рембо, заходивших гораздо дальше. Но и он на зависть фанатик и. отдуваясь своими боками, расплачивается звонкою строкою за материальность мира.
Чем зудесник отличается от кудесника? Тем же, чем физиология сказки от сказки.
Там, где иной просто назовет лягушку, Крученых, навсегда ошеломленный пошатыванием и вздрагиваньсм сырой природы, пустится гальванизировать существительное, пока не добьется иллюзии, что у слова отрастают лапы.
Если искусство при самом своем зарождении получило от логики единицу, то именно за это движение, выдающее его с головой»[36].
Будучи продолженной, эта мысль должна обернуться другой стороной, констатацией безбожия Крученых. И Пастернак, так веско по-своему его оценивший, говорит в другом месте, что Крученых «выбрасывает» из своего лирического приема «одухотворяющую часть»[37].
Художник у Крученых (стихотворение «Смерть художника») «ищет днем с фонарем», но не человека, как Диоген, а «безобразия» – и бросается в Обводный канал потому, что мир, оказывается, «вовсе не рвотное». Крученых нередко обыгрывает разговорную метафору в каком-то крайнем из ее буквальных прочтений – получается даже не фантастическая картина, как у Маяковского, а именно не-логика шокирующего свойства. Вот стихотворение 1913 года «Отчаяние»:
из-под земли вырыть
Оно построено на метафорах «из-под земли вырыть» и «прыгнуть сверх <выше> головы», противоположных в плане предметно-выразительном и очень близких как обозначение сверхусилия. Но в первой метафоре у Крученых проступает намек на мародерство, гробокопательство: «из-под земли вырыть / украсть у пальца <кольцо>»; а «прыгнуть сверх головы» – значит не только совершать что-то немыслимое, «выше» логики («сидя идти / стоя бежать»), но и повеситься, то есть оказаться в прямом смысле «выше» – под потолком (ср. в другом стихотворении: «умер под потолком / привинченный/к кокотной / л/а/м/п/о/ч/к/е»). В качестве моста между этими значениями выступает стих «куда зарыть кольца», он соотносится со стихом «украсть у пальца», и он же содержит в себе третью метафору – «зарыть в землю <талант, богатство, судьбу».. Стихотворение кому-то наверняка покажется всецело надуманным, но это никак не упрек для Крученых (может быть, в словах «украсть у пальца» таится и еще акцент, что-то вроде «высосать из пальца»).
Система Крученых, построенная на смысловых «сдвигах», дает и более впечатляющие результаты. В основе стихотворения «На Удельной» тоже метафора-идиома («будто гвоздь в голову вбивают»). «Перевернутая» с самого начала («Сам попросил / … / Пусть простукает нарыв»), она играет рефлексами, рождает варианты («забивают» – крышку гроба; «гвоздит» – жена). Нет смысла проставлять сравнительные оценки, но в раскрытии темы безумия, характерной для поэзии начала века, это стихотворение занимает свое место наряду со стихами Андрея Белого и Тихона Чурилина. Лирика Крученых к тому же выигрывает по сравнению с его оперой «Победа над солнцем», обозначившей веху в развитии футуризма, но поэтически малоубедительной.
На разных уровнях своей проясненности (тематической, сюжетной и т. д.) поэзия Крученых стремится к зауми как высшему пределу. Стихи 1920 года, периода «41°», – это в принципе заумь, не в границах «заумного слова», в котором перемешались первоначальные элементы (фонемы), а в составе целого стихотворения. Здесь уже слова (и обозначенные ими реалии – предметы, лица и т. д.) перемешались в «заумной», абсурдной мозаике, которая не поддается расшифровке. Последние произведения нашей подборки Крученых свидетельствуют о том, что для него не составляло труда снова «восстановить» фантастический сюжет («В полночь я заметил на своей простыне черного и твердого…») или видимую последовательность мысли («Зудивец»). Но все равно – за тем и другим стоит некое Ничто, нуль, с которого и начинается заумь. Она рождается из ощущения глобального несоответствия, в котором находятся привычная реальность и «НЕЧТО ЛУЧШЕЕ», совсем другое, узнаваемое «В ОГНЕ», в уничтожении и требующее отрицания «смысла жизни» и «бога любовьего» – традиционных ценностей и традиционной веры.
И все-таки это игра, «злая», настораживающая, отвращающая – но и увлекающая, потому что игра. Мотивы Крученых, все эти безумия и самоубийства, не могут восприниматься вполне всерьез и по-настоящему удручать по причине своей пародийности. И сам он снимает их с великолепной легкостью: «ЗАБЫЛ ПОВЕСИТЬСЯ / ЛЕЧУ К АМЕРИКАМ». Нигилизм Крученых – литературного происхождения и назначения. Он рассчитан и расчетлив. Как сказано в позднем (1942) стихотворении «Почти из Козьмы Пруткова», обращенном к Пастернаку:
Теперь о Маяковском.
Маяковский на эстраде, в отличие от писклявого, верткого Крученых, был громогласен и эффектен. И в стихах он буквально эксплуатировал свою внешность. Природа выдала ему авансом не только исключительную одаренность, но и первое зримое удостоверение ее, исходный, так сказать, художественный образ. Он стихи кроил себе по росту и себя внутреннего, отнюдь не такого цельного и законченного, формировал по своему же (внешнему) образу и подобию.
Бесконечные возможности эпатажа открывались в том, что этот изначальный и навсегда принятый масштаб можно было наполнить любым, самым неожиданным, содержанием, вплоть до выпадов в духе Крученых: «Лягу / светлый / в одеждах из лени / на мягкое ложе из настоящего навоза…» («Владимир Маяковский»), Но в эпатажных приемах проступали ключевые трагические темы Маяковского. Его герой – «глыба», «громадина» – оказывается в положении страдательном, «стонет, корчится». И больше, хуже – рождается главная маета и проблема, для него самого и для нескольких поколений читателей:
Нужен ли Маяковский? Вопрос спровоцирован им самим, уже в ранний период перемещавшим, вопреки футуристическому «не что, а как», принцип пользы в центр эстетики.
Воспоминания А. Н. Тихонова воспроизводят момент пребывания Маяковского в 1915 году в Мустамяках, где поэт читал М. Горькому «Облако в штанах». Маяковский, пишет А. Н Тихонов, «мог без краю вышагивать лес и, натыкаясь от восторга на сосны, орать всего „Медного всадника“.
– Ишь, какой леший! – любовно говорил о нем Горький, прислушиваясь к его завываниям. – Какой он футурист! Те головастики – по прямой линии от Тредьяковского. <…> А у этого – темперамент пророка Исайи. И по стилю похож. – „Слушайте, небеса! Внимай, земля!“ Чем не Маяковский!»[38]
Очень эффектно и в целом, по-видимому, правдиво, что подтверждается неоднократными тогдашними высказываниями Горького. Но еще существует воспоминание самого Горького о той встрече в Мустамяках – в письме к И. А. Груздеву 1930 года, и в нем подчеркнута другая сторона Маяковского, тоже хорошо знакомая Горькому и теперь усиленная известием о трагической смерти поэта. «Там он читал „Облако в штанах“, „Флейту-позвоночник“ – отрывки – и много различных лирических стихов. Стихи очень понравились мне, и читал он отлично, даже разрыдался, как женщина, чем весьма напугал и взволновал меня. Жаловался на то, что „человек делится горизонтально по диафрагме“. Когда я сказал, что – на мой взгляд – у него большое, хотя, наверное, очень тяжелое будущее и что его талант потребует огромной работы, он угрюмо ответил: „Я хочу будущего сегодня“, и еще: „Без радости – не надо мне будущего, а радости я не чувствую!“ Вел он себя очень нервозно, очевидно, был глубоко расстроен. <…> Он говорил как-то в два голоса, то – как чистейший лирик, то – резко сатирически. Чувствовалось, что он не знает себя и чего-то боится. <…> Но – было ясно: человек своеобразно чувствующий, очень талантливый и – несчастный»[39].
Сила – и бессилие. Пафос – и трагизм. Две крайние черты, две сущности раннего Маяковского. Их равноправие и нерасторжимость многократно закрепляются в едином образе – формуле героя:
Герой Маяковского вообще заявлен во множестве контрастных, несоединимых качеств, совместить которые в нашем восприятии может лишь понятие из романтического словаря: безмерность. Он нежнее нежных и грубее грубых, чище чистых и грешнее грешных Он «красивый» и «грязный» одновременно, призывает к мятежу и расписывается в крайнем неверии. При «вселенскости» замаха он непоправимо одинок. Критики с однозначным идеологическим подходом терялись, оправдывали, критиковали, обличали в «ошибках». Сводили все, в конечном счете, к стремлению эпатировать «буржуазно-салонный вкус» И никто не увидел того, что увидел Пастернак: «Он открыто позировал, но с такою скрытой тревогой и лихорадкой, что на его позе стояли капли холодного пота»[40]. Эта тревога и лихорадка пронизывает всю структуру «Облака в штанах», на первый взгляд такую монолитную.
«Облако» – монолог, но он направлен не к обобщенному слушателю и читателю, как сценический монолог или лирическая медитация. В каждый момент он обращен к кому-то определенному, и адресаты все время меняются. Поэт (герой) многократно обращается к тем, кто назван в поэме «вы» (и тональность каждый раз меняется), к любимой, к маме, не один раз к уличной толпе (тоже со сменой акцентов), к Северянину, Богоматери, Богу, вселенной (обращения к Богу и Богоматери в первом издании были вымараны цензурой, но и в таком варианте адресаты легко угадывались). Он проклинает, ниспровергает, призывает, умоляет, жалуется и всегда ждет, чтоб услышали, отозвались, прореагировали-даже заведомо глухие, даже враги: «Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?» Монолог хочет перерасти в диалог, ищет отклика, результата, общения. Герой поэмы смоделирован по образцу библейских пророков, в нем есть также черты титанического и эпатирующего самоутверждения, в принципе несвойственные русской литературе; он уникален, непримирим, беспрекословен, агрессивен, – а по сути, в глубине это все то же русское стремление достучаться до всех, от лица к лицу, преодолеть расщепление, достичь утопического, всемирного преображения. На площадь, в трактирные углы, к порогу любимой герой выносит проблемы всеобщего свойства, «любви и правды чистые ученья». От «Облака» веет трагической атмосферой лермонтовского «Пророка», атмосферой русского проблемного романа-диспута (Достоевский).
Игорь-Северянин раньше Маяковского объявил себя «вселенским Хамелеоном» и стал примеривать лики прежних великих: «Был Карлом Смелым, был я Дантом, / Наполеоном и собой» («Поэза возмездия»). Главное различие сказывалось там, где оба прикасались к жизни «как она есть» – к «мещанству» и «пошлости». На площадь, к толпе они выходили с разными предложениями. Маяковский опирался на грубые понятия улицы («сволочь» и «борщ» в «Облаке в штанах»), но звал в неведомое, утопическое будущее, мыслимое по контрасту с настоящим, по принципу «наоборот», – выступал как «глашатай грядущих правд». Северянин «популярил изыски» и предлагал площади «поесть деликатного». Предлагал он своим читателям тоже в общем-то недоступные, но такие желанные, такие соблазнительные дворцы, ландо и ликеры – «мороженое из сирени» (чем не сегодняшняя реклама?). В стихотворении «Это было у моря» самый замечательный поэтический ход заключается в том, что соната Шопена превращается в «сонату пажа» – момент сюжетный, но уже и поверх сюжета, завлекательный намек, обращенный к читателю, расчет на читательское воодушевление. Тома соблазна – одна из главных в творчестве Северянина, и сама манера его – прельстительная, даже когда он касается грязи жизни. Он не скажет, как Маяковский, с позиций подчеркнутого антиэстетизма: «Все эти, провалившиеся носами, знают: / я – ваш поэт». Он сохранит дистанцию и одновременно найдет интонацию подкупающую, доверительную:
Читатели Северянина могли каждое слово принимать за чистую монету и плохо понимали другую его определяющую особенность – иронию.
По мнению Г. Шенгели, Северянин был не просто ироничгн – он был демон. Г. Шенгели писал: «Игорь обладал самым демоническим умом, какой я только встречал, – это был Александр Раевский, ставший стихотворцем; и все его стихи – сплошное издевательство над всеми, и всем, и над самим собой… Игорь каждого видел насквозь, толстовской хваткой проникал в душу и всегда чувствовал себя умнее собеседника – но это ощущение неуклонно сопрягалось в нем с чувством презрения»[41].
Можно, по-видимому, усомниться, таким ли уж абсолютным было демоническое презрение Северянина. Критик Адольф Урбан, автор лучшей статьи о Северянине, показывает его, наоборот, «добрым ироником» и выносит это определение в название статьи[42]. Так или иначе – лиризм и ирония у Северянина неразделимы («я лирический ироник»), что вносит очень серьезные уточнения в пресловутый вопрос о пошлости Северянина.
Он не участвовал в глобальном натиске на мещанство, предпринятом русской литературой (словно догадываясь, какие горькие судьбы предстоят в XX веке презираемому российскому обывателю); он по-своему даже потакал невзыскательным вкусам, делая ставку на банальность (за что, кстати, его оценил А. Блок); однако нет никакого смысла считать его апологетом пошлости. Он изготавливал «товар по душе», оказался одним из главных родоначальников массовой культуры XX века, оставаясь при этом подлинным поэтом.
«И что ни слово – то сюрприз». Читателей поражали словоновшества Северянина – озерзамок, лесофея, грёзерка, окалошить, весенеют и т. д. Он бывал вызывающе «футуристичен» в постановке темы («Фиолетовый транс»). Но не меньше, чем на удивление читателя, поэтика Северянина рассчитана на узнавание, – он зорко видел, давал неожиданные, но такие понятные вдруг поэтические определения, и не в особо «ударных», а в проходных для себя, на среднем уровне стихах:
Поэтическая смелость Северянина «совпадала» со стремлением читателя к красоте экстравагантного свойства, привлекала акцентированными, очевидными и в этом смысле внешними приемами. В целом же поэзия Северянина и шире, и драматичнее. «Я трагедию жизни превращу в грёзофарс». Греза, мечта получают свойство пародийности, игра ведется не только с читателем, но и с самим собой.
Слишком часто имидж футуристов прочитывался впрямую, буквально, с соответствующими оценками: грубость, пошлость, трюкачество, нигилизм. Труднее и важнее почувствовать в нем скрытое значение, лирическое действие, внутренний сюжет. Поза есть поза, за нею всегда что-то стоит. Это «что-то» может быть пустой претенциозностью, но может нести и по-настоящему значительное содержание.
Мировоззрение футуристов не было единым. В критике его чаще всего сводят к обладавшей относительным единством позиции кубофутуристов, но и в этих пределах трудно сблизить, к примеру, Маяковского и Е. Гуро.
Общим местом и привычкой стало определять футуризм как искусство переломной, катастрофической эпохи войн и революций в России. Но именно это утверждение требует если не пересмотра, то существенного уточнения.
Размах футуризма приходится на тот самый «Девятьсот тринадцатый год», который воссоздан Анной Ахматовой в «Поэме без героя». Среди многих карнавальных масок в поэме появляется и персонаж футуристического плана – тот, кто «полосатой наряжен верстой» (желтая кофта Маяковского была с черными полосами). Наряду с другими, но таинственный, загадочный. В «Прозе о поэме» Ахматова комментирует: «Там (в поэме. – В. А.) уже все были. Демон всегда был Блоком, Верстовой Столб – Поэтом вообще, Поэтом с большой буквы (чем-то вроде Маяковского) и т. д.»[43] Весь этот карнавал, включавший представителей разных искусств и разных художественных направлений, конечно же, исполнен тревоги, но не меньше в нем игры – на грани такой свободы, когда «все можно». Об одном из героев в «Прозе о поэме» сказано: «Я сейчас не буду перечислять, что было можно ему, но если бы я это сделала, у современного читателя волосы бы стали дыбом»[44]. Это не о футуристах, это о том, кто предстает в поэме как «общий баловень и насмешник», «сам изящнейший Сатана», – о Михаиле Кузмине. В картине, нарисованной в «Поэме без героя», даже проглядывает, с оттенком осуждения, мысль, что вся эта арлекинада, апокалипсическая игра, в которой принимал участие и сам автор, имела самодостаточный характер и заслоняла реальный ужас надвигающихся событий «не календарного – настоящего Двадцатого века» («Сколько гибелей шло к поэту, / Глупый мальчик, он выбрал эту…»).
У Пастернака в «Докторе Живаго» акценты другие, но общий смысл примерно тот же. Пастернак включил оценку предвоенной поры в крут мыслей героя романа о жизни целостной и налаженной. «В этот круг, родной и привычный, входили также те признаки нового, те обещания и предвестия, которые показались на горизонте перед войной, между двенадцатым и четырнадцатым годами, в русской мысли, русском искусстве и русской судьбе, судьбе общероссийской и его собственной, живаговской»[45]. Предел этим предвестиям и надеждам положили война и революция, осознание которых составляло другой, второй круг мыслей Живаго. На смену метафорическим «страхам» искусства пришли реальные, буквальные страхи, «а это разные вещи», как говорит другой герой романа, Гордон.
Если учесть, что Пастернак, невысоко оценивая футуризм в целом, сам был ему причастен и выделял среди футуристов, помимо Маяковского, еще и Большакова, Асеева и даже Хлебникова с Крученых, то ясно, что и футуризм включался им в общую тенденцию обновления искусства, которая по-разному проявилась именно в предвоенную пору. В 1913 году появились «Опавшие листья» В. Розанова, «Уездное» Е. Замятина, начал печататься «Петербург» А. Белого.
Другое дело, что футуристы, в первую очередь кубофутуристы, в силу нигилистических свойств своего сознания «хотели» потрясений и призывали к потрясениям. Их искусство, основанное на сломе традиции, на идее исчерпанности прежней культуры, было готово, хотя бы на словах, к любому слому в самой жизни. Убежденные в том, что «каждый период жизни имеет свою словесную формулу» (слова Маяковского), они свои художественные эксперименты прямо соотносили с «ритмами» современности («нервная жизнь городов» и т. д.) и заранее примеривали к будущему. И когда происходили чрезвычайные события – война, революция, – футуристы, задним числом, объявляли себя их пророками. Маяковский в статье «Штатская шрапнель. Вравшим кистью» (1914). написанной в начале мировой войны, заявляет, обращаясь к «Репиным, Коровиным, Васнецовым»:
«Вчера еще на выставках вы брюзжали около наших картин, картин крайних левых: „Сюжетца нет, надо с натуры писать, господа, вы правды не ищете, это учебник геометрии, а не картина“.
Сегодня же попробуйте в лаптях вашей правды подойти к красоте. Даже в жизни сегодняшней нет ничего правдашнего. <…> Эй вы, списыватели, муравьиным трудом изучившие натуру, сосчитайте, сколько ног у несущейся в атаку кавалерии, нарисуйте похожей яичницу блиндированного поезда, расцапанную секундой бризантного снаряда!»[46]
Типичная для футуристов подтасовка фактов для утверждения своей пророческой роли.
На деле было так, что война, скорее, отрезвила футуристов, и не только тем. что отвлекла от них внимание публики. Война возвращала к «содержанию», к ответственной теме. И футуристы создали ряд значительных, трагически окрашенных произведений о войне. Помимо известных стихов Маяковского, Хлебникова и Пастернака, необходимо отметить произведения К. Большакова и П. Филонова.
Антивоенная «Поэма событий» К. Большакова вполне оригинальна по своему строю и особому характеру лирической темы. И в то же время побуждает к сопоставлениям: в ней есть перекличка со стихотворениями Маяковского «Война объявлена», «Мама и убитый немцами вечер», «Я и Наполеон» (концовка), как и – в свою очередь– отзвук ее отдельных мотивов, образов и рифм (Цезаря – [на] лице заря) можно обнаружить в позже написанной поэме Маяковского «Война и мир».
Интереснейшее явление искусства представляет собою книга Павла Филонова «Пропевень о проросли мировой» (так делал ударения автор). Она написана ритмизованной прозой, по внешней структуре это пьеса, а по внутреннему строю, по сути, – поэма, где все подчинено стихии языка, причудливого, тяжеловесного, почти шаманского. Это книга художника: рисунки Филонова лишь слегка соприкасаются с тематическими узлами текста, они самостоятельны, автономны, но составляют неотъемлемую часть стилистического целого.
Трудно даже и предположить, что найдется лингвист, который разложит многослойный язык Филонова по четким разрядам исторического, этимологического, словотворческого и прочих значений. Непосредственному читательскому восприятию приходится продираться сквозь эти дебри, и вознаграждением ему служит то, что в потоке странных, почти заумных слов образуются какие-то таинственные гроздья и вдруг открываются целые застройки прекрасных, «понятных» метафорических словообразов.
Ключ к методу Филонова дан в общем названии книги, состоящей из двух связанных между собою поэм. Известно, что Филонов-живописец, – правда, позже, когда он обратился к метафизической абстракции, – мог писать картину от угла, чтобы она росла и развивалась, как природный процесс, именно как «проросль мировая». В книге Филонова фольклорный сюжет о Ваньке-ключнике и княгине не просто продолжен (вторая поэма) – он, проступая пунктирно, намеками, привлекает к себе другие сюжеты, и все вместе расширяется до коллизии универсальной, на субстанциальном уровне: жизнь и смерть. Посредницей между жизнью и смертью выступает любовь, которая одновременно принадлежит обеим противоборствующим сторонам, ведет к гибели и служит залогом воскресения. В колебаниях словесной массы нарушаются границы между миром земным и загробным, смещаются сроки и имена – мифологические, исторические, культурные. Пушкинский Командор появляется не Каменным гостем, а уже «истлевшим», из могилы, где ему «корни провили грудь», и потом снова «проваливается» (пушкинское слово) в преисподнюю. С Амуром, Адамом и Каином в тексте соседствуют икс-лучи, современный газетчик и «провокатор с проплеванным лицом». Немецкий король старого времени говорит: «возжемте свеч Дьяволу Бойни железобетонной».
Именно тема войны, проходящая через весь «Пропевень…». способствует внутренней цельности произведения и определяет его нравственную и психологическую доминанту. И не так уж важно, в конечном счете, кто из «действующих лиц» в конкретном месте текста «говорит» о войне – ее вожди или ее жертвы. Акценты есть, но все произведение выдержано в принципах единого «авторского» стиля, и образ войны в нем складывается сквозной, единый, выражающий авторскую позицию.
В. Хлебников в повести «Ка» (1915) пишет: «Я встретил одного художника и спросил, пойдет ли он на войну? Он ответил: „Я тоже веду войну, только не за пространство, а за время. Я сижу в окопе и отымаю у прошлого клочок времени. Мой долг одинаково тяжел, что и у войск за пространство“. <…> Художник (помета Хлебникова: „Филонов“. – В. А.) писал пир трупов, пир мести. Мертвецы величаво и важно ели овощи, озаренные подобным лучу месяца бешенством скорби»[47].
Картина Филонова, описанная Хлебниковым, – «Пир королей» (этот мотив присутствует и в «Пропевне…»), а «война за время», которую ведет Филонов, интерпретируется в духе хлебниковских идей об искусстве с «верой 4-ех измерений». Хлебников приветствовал «Пропевень о проросли мировой» и, в частности, отмечал, что «в этой книге есть строчки, которые относятся к лучшему, что написано о войне»[48]. Очевидна близость творческих устремлений двух художников, в книге Филонова есть следы зависимости от Хлебникова («Зверинец», «Журавль», ранняя проза), а в свою очередь она, вместе с живописью Филонова, могла оказать воздействие на самого Хлебникова, его последующие произведения.
Оба, рисуя войну, обращаются к образам «первобытным»: у Филонова – «ход единорога тяжко проломный», у Хлебникова – «чудовище из меди, одетое в железный панцирь», ползущее «как ящер до потопа» («Ночь в окопе»). А главное у обоих – «натурфилософский» аспект внутри военной темы.
У Филонова в «Пропевне…» читаем:
Подобная тема рокового круговорота, как и тема «русских юношей», проходит через целый ряд произведений Хлебникова, вызванных войной, от стихов 1915 года (в стихотворении «Где волк воскликнул кровью…»: «Правда, что юноши стали дешевле?») до поздней поэмы «Берег невольников»:
Разумеется, эта перекличка не ограничена взаимодействием двух художников. Сказывается длительная и широкая традиция, от «Слова о полку Игореве» до Маяковского.
Физиологическое неприятие бойни граничит у Филонова и Хлебникова с протестом против целого миропорядка. «Тесно небесной харчевне медово едою черветь», – пишет Филонов. Хлебников, используя аналогичное сравнение (харчевня – лавка), обвиняет «Спаса белых священных знамен», чьи глаза «трепыхались над лавками русского мяса» («Берег невольников»).
Но сильнее другой мотив. Филонов несет в противовес войне «нежности маленько» – «ее можно поливать распустится цветок я принес прямые глаза тебе их дам сам я стану слеп по миру пойду». Если буквально – в лицах – воспринимать драматургическую структуру произведения, то слова эти, произнесенные Ключником, обращены к «врагу» – Командору. В «Пропевне…» есть тенденция к высшему примирению. Авель, оживший на луне, «Каина руку тяжкую жмет беззлобно». И даже «живомертвые дрожжи» из прогнивших трупов – образ неоднозначный. В слове «живомертвые» равноправны оба корня: жизнь и смерть обусловливают друг друга, составляют разные стороны единого процесса («в старом саду рай перевернулся спину греть»). Не оправдание войны – скорее, причастность народному фатализму и народной вере. Авангардист с крестьянскими корнями, аскет и фанатик, Филонов сознавал себя художником народным и хотел, как сказано в поэме, «нежную дорогу выверить бабьему богу».
Хлебников мог выступать против войны очень решительно: «Мамонт наглый, жди копья!» («Девы и юноши, вспомните…»). Но и образ «тихого» подвижника, «вестника добра» – один из ликов его поэзии. А Маяковский в поэме «Война и мир» противопоставил «кровавому пиру» войны свою первую поэтическую утопию – солнечную фантазию о будущем, удивительную и загадочную по пафосу, юмору, открытости, доброте.
Искусству футуризма изначально не хватало элементарной, открытой человечности. Кажется, теперь она стала проступать – в связи с войной.
В советское время некоторые бывшие футуристы и отдельные исследователи «левого» искусства стремились представить футуризм в роли провозвестнике! революции, обновившей мир. Они даже, в данном вопросе, не совпадали с официальной идеологией, осудившей футуризм как направление мелкобуржуазное и декадентское.
С другой точки зрения, за пределами советской идеологии, связь футуризма с революцией рассматривалась в плане негативном: футуристы, по этой версии, активно содействовали разрушительному хаосу, который в конечном счете поглотил Россию. Вырисовывалась мысль о родстве художественного нигилизма с нигилизмом историческим.
Читатель настоящего издания легко убедится, что идея социальной революции в поэзии футуризма практически отсутствует. Хлебниковская тема «восстания вещей» и даже «Сарынь на кичку!» В. Каменского имеют к ней весьма отдаленное отношение. Огромным революционным потенциалом обладал единственный из лидеров футуризма – Маяковский, но это очевидно с учетом стихов, вычеркнутых цензурой из «Облака в штанах» и неизвестных дореволюционному читателю, а также в свете дальнейшего пути Маяковского. После революционных событий 1917 года футуристы должны были как-то «самоопределиться». Они и определялись, очень по-разному, и лишь немногие оказались в боевой революционной группе Маяковского. Восприятие революции Хлебниковым слишком специфично, чтобы считать его показательным для футуризма, к тому же оно вовсе не является однозначным, если учесть такие поэмы Хлебникова, как «Ночной обыск» и «Председатель чеки», а также трагическую позднюю лирику.
Бунт футуристов разворачивался в искусстве, и главный вопрос заключается в том, как он соотносим (и может ли быть соотнесен) с социально-историческими катаклизмами. У деятелей художественного авангарда XX века не было единогласия на этот счет.
Василий Кандинский стремился создать идеальную беспредметную «Композицию», он мыслил ее как повторение космоса, «грохочущее столкновение различных миров», но связывал абстрактную живопись не с социально-общественными потрясениями – скорее, с нравственной эволюцией христианства[49]. В. Шкловский в 1923 году, в пору создания Лефа, считал грубой ошибкой попытки установить эквивалент между социальной революцией и революцией в формах искусства[50]. Игорь Стравинский решительно возражал против применения к искусству самого термина «революционный», потому что искусство «конструктивно по самой своей сути», а революция обозначает «состояние смуты и насилия»[51]. Отказался признать революционность футуризма Б. Лившиц в «Полутораглазом стрельце».
Противоположная тенденция сказалась в стремлении идеологизировать форму искусства, сблизить поэтику и политику. Большую настойчивость в этом деле проявил Маяковский. Началось все с заявления по преимуществу эмоционального: «Можно не писать о войне, но надо писать войною…» (статья «Штатская шрапнель. Вравшим кистью», 1914), а привело к решительной, терминологически четкой формуле Маяковского 1918 года, в которой декларировались, в нерасторжимой связи, сразу две революции – «революция содержания (социализм-анархизм)» и «революция формы (футуризм)»[52]. В трансформированном виде эта тенденция сохранилась в позиции Лефа, и если сам Маяковский в 20-х годах смягчал формулировки, то его «последователи», наоборот, могли обострять их до крайности. Впрочем, это уже за пределами футуризма, и здесь возникают новые, на первый взгляд неожиданные, связи. Вульгарно-социологическая рапповская критика по-своему использовала методологию тех «левых», которые сближали поэтику и политику. А точнее говоря – сами «левые» этого направления дали определенный повод отплатить им той же монетой. Пришло время, и резкая формальная новизна стала оцениваться как свидетельство буржуазного индивидуализма, «контрреволюционного» по своему существу, – на той же методологической основе, но с переменой знаков.
Так или иначе, проблема «футуризм и революция» была в свое время гипертрофирована, раздута и подминала под себя другие, не менее важные проблемы.
Крайности и натяжки неизбежно возникают и тогда, когда речь заходит о связях футуризма с философской и научной мыслью эпохи. В самом начале футуризма «сумасшедший доктор» Николай Кульбин (приват-доцент Военно-медицинской академии, художник и теоретик искусства, устроитель выставок новых художников) читал специальные лекции на эту тему и самих футуристов просвещал на предмет их соответствия научно-технической революции. Позже об этом соответствии немало писали наши и зарубежные искусствоведы и литературоведы. В ряду мировоззренческих предпосылок футуристического искусства назывались концепция мирового энергетизма В. Оствальда и открытие рентгеновских лучей, рождение авиации, новые теории в психологии, лингвистике и многое другое. Философско-эстетический аспект усматривался в том. что перед художником начала века открывался потрясающий мир: материальные объекты становились проницаемыми, рушились традиционные представления о пространстве и времени, вселенная стала восприниматься как энергетическая система, и аналогом ее служил внутренний мир художника, выражающий себя в небывалых сочетаниях слов, красок, предметов, линий. Какой простор для интерпретаций необычной художественной формы! Сами футуристы (поэты и художники) могли осознавать свое формотворчество в каком угодно (космическом, метафизическом и т. д.) ключе. Они. конечно же. интересовались новейшими идеями и ориентировались на них (заумь в аспекте фрейдизма, например). Только важно при этом учитывать и другую сторону проблемы.
Небывалый мир открывался перед художниками разных направлений, никаким приоритетом и преимуществом футуристы в данном случае не обладали. Символистов Брюсова и Белого новейшие теории и открытия затронули ничуть не меньше, и символистское сознание было по-своему больше готово к их восприятию. «Астральным романом» назвал Николай Бердяев «Петербург» А. Белого и интерпретировал его как новое художественное открытие космического бытия. «У А. Белого есть лишь ему принадлежащее ощущение космического распластования и распыления, декристаллизации всех частей мира, нарушения и исчезновения всех твердо установившихся границ между предметами»[53]. Это направление анализа развито в современном литературоведении. Л. Долгополое в книге «Андрей Белый и его роман „Петербург“» (Л., 1988) строит исследование на утверждении, что Белый жил одновременно в двух измерениях, в двух мирах – в предметном, исторически-конкретном мире и в мире космическом, вневременном. Причем второй мир Белый и его персонажи воспринимают не абстрактно-мистически (сверхчувственно), а тоже чувственно, осязаемо, почти физиологически. Именно в этой прямой осязаемости «второго пространства» можно увидеть отступление Белого от ортодоксального символистского двоемирия с системой «подобий», шаг в сторону «футуристической» космогонии. Тем более что одновременно в «Петербурге» это «мозговая игра», которую ведут и автор, и герои, она обозначает себя через словесную игру (открытый прием, «остранение», как говорили формалисты), вплоть до слов-перевертней: Шишнарфне (фамилия) – Енфраншиш. Н. Бердяев и относил роман Белого к очень широко трактуемому футуризму. «Первым футуристом» считает Белого американский исследователь футуризма В. Марков.
И все же Белый оставался мистиком и символистом, не утратившим чувства изначальной тайны бытия. А искусство футуристов во многом основано на дискредитации этой изначальной тайны, на отказе от традиционной духовности, символически бравшей мир целиком, в его высшей целесообразности и полноте. Знаменитые в то время слова «материя исчезла» плохо вяжутся с искусством футуризма, которое оставалось материально-чувственным даже тогда, когда доходило до абстракции и зауми.
Н. Бердяев и кубистические вещи Пикассо интерпретировал в русле идеи дематериализации мира: «Он (Пикассо. – В. А.), как ясновидящий, смотрит через все покровы, одежды, напластования и там, в глубине материального мира, видит свои складные чудовища. Это – демонические гримасы скованных духов природы. Еще дальше пойти вглубь, и не будет уже никакой материальности, – там уже внутренний строй природы, иерархия духов. Кризис живописи как бы ведет к выходу из физической материальной плоти в иной, высший план»[54]. А кубист Пикассо потешался над людьми, открывшими в его творчестве «демонические мотивы». Он действительно «смотрел через покров» предмета, только вряд ли затем, чтобы открыть там «иерархию духов». Зная неумолимую плоскость холста, он разлагал объем предмета на этой плоскости – в надежде полнее выразить его, помогая глазу рассудком. И считал ошибкой попытки художников «изобразить невидимое, то есть неизобразимое».
У лидеров русского футуризма Хлебникова и Маяковского самые глобальные, всемирного масштаба идеи заземляются, материализуются как реальная программа на будущее, – это утопия, фантастика, но не мистика.
В системе Хлебникова центром таких построений была идея управления временем. Историческое время – процесс от прошлого к будущему – для Хлебникова безусловно существует: он это время «считал», отражал, предугадывал. И все же для Хлебникова эго еще не «все» время. «Полное» время как бы устремлено (от субъекта) не в одну сторону, а в обе сразу, вперед-назад; оно будет обретено тогда, когда человек будет жить сразу во «всех» временах – в «прошлом», «настоящем», «будущем» (категории для такого измерения достаточно условные).
Когда появилась «Пощечина общественному вкусу», Брюсов в статье «Новые течения в русской поэзии, футуристы» указал на противоречие футуристов: «люди будущего» – а пишут о пещерном прошлом. Для Хлебникова противоречия не было: к будущему он шел через прошлое; его методу свойственно сводить явления к первоосновам, благодаря чему и противоположные явления находят путь друг к другу.
Идея перехода в новое измерение – во времени, а не в пространстве – является ключевой у Хлебникова. В области субъективной, биографической она откликается уверенностью, что сам он, Велимир Хлебников, уже живет в новом измерении. Однако резкие противоположения («люди времени» против «людей пространства») на деле несут у него не разрыв, а возможность новой связи. Хлебников не «отменял» пространство, он искал его новых соотношений со временем в слитной формуле «время-пространство». Он грезил искусством с «верой 4-ех измерений», которое соединит Восток и Запад, рванется в будущее и воскресит прошлое, то есть призовет на помощь будущему глубинные пласты народного творчества, как он считал, утраченные и забытые искусством в пору профессионального художества. Это искусство, может быть, уже и не искусство в собственном значении, оно вбирает самые разнообразные направления мысли и эксперимента, не заботясь о своей специфике, исключительности, но всему придавая поэтический ореол. Одновременно в разные стороны устремляется хлебниковская мысль, ища предела, однако, не в бесконечном разбегании смыслов, а в созвучии противоположных полюсов – расчета и стихии, «числа» и «зверя», ума и детства. Он само слово разлагал на простейшие смысловые элементы и возвращался назад, к «праязыку», – а в итоге ему виделось восстановление языка, универсальный язык будущего, ближайшее и необходимое условие всемирной гармонии.
В системе Хлебникова многообразные опыты анализа покрываются синтезирующей идеей. И в самом его анализе, «науке» (лингвистических и исторических изысканиях) неминуемо присутствует элемент «игры» – и вместе с ним поэзия. Его идея «культуры материка», объединения Востока и Запада имела многие и противоречивые истоки, но раньше он надышался воздухом астраханских степей, «Евразия» (как буквальный стык, граница, соединение) была домом его детства, а от детства Хлебников, очень цельный по-своему человек, не имел нужды «уходить» или отказываться. Самые поэтические страницы его автобиографических записей относятся к детству.
Художественную реальность в творчестве Хлебникова составляют образ прошлого и образ будущего в их сопряженности и относительной свободе, в их противопоставленности бескрылому «сегодня» – эмпирически-однозначной, до конца «осуществившей» себя и тем исчерпавшей «данности». «Сегодня» – это и есть «пространство», мир без четвертого измерения. С самоощущением поэта в этом «сегодня» связана трагически усиливающаяся лирическая нота в эпическом искусстве Хлебникова.
Грандиозный синтез, задуманный Хлебниковым, был рассчитан в масштабах человечества. Хлебников многое беспощадно «разъял», в надежде потом воссоединить – воссоединить на уровне универсального языка. В поисках нового синтеза он неутомимо экспериментировал, открывая, по определению Маяковского, «новые поэтические материки», но нередко при этом убивая «вещее песенное слово». Без учета сверхзадачи, которую ставил перед собою Хлебников, остается подсчитывать его «лучшие» и «плохие» стихи. Дело в общем законное (и Хлебников толкает на такую сортировку), но в то же время ненадежное и вряд ли продуктивное. В. Марков считает, что «проблема вкуса футуристов не интересовала», но они все же (Маяковский) стремились к стилистическому единству; а у Хлебникова «просто нет верной ноты. Хорошее в его творчестве всегда уживается с плохим»[55]. Наверное, так, только «вкус» и «верная нота» наделены в нашем понимании определенным значением нормы, а Хлебников – вне нормативной эстетики, и его совсем не смущает выход за пределы искусства. К тому же невозможно определить, где его поэтические «слабости» и «просчеты» происходят от засилия умозрительной идеи, а где – от наивности гениального самоучки. Про идею можно сказать – маниакальная, про наивность – юродивая, но тут-то, похоже, и вступает в дело поэзия в крайнем выражении своих аномальных свойств. И бесполезно подчеркивать, что конкретные поэтические достижения Хлебникова «не соответствуют» предполагавшемуся уровню. «Незавершенность» Хлебникова производит впечатление не фрагментарности, а бесконечности. Он оставил задел во многом и для многих – на столетия вперед, как говорил о нем О. Мандельштам. А читательское отношение к Хлебникову всегда, наверное, будет колебаться и впадать в крайности.
Здание будущего, возводимое Хлебниковым, заполнялось им плотно и пестро – натурфилософией, научными гипотезами, бытом и культурой разных эпох и т. д. Строился храм нового всеохватного разума, который в конечном счете замещал Бога. С Богом у Хлебникова сложные отношения, встречаются у него и богоборческие мотивы, но они мало затронуты романтизмом, не перерастают в прямое, лицом к лицу, единоборство с Богом. Вернее будет сказать, что религия являлась для Хлебникова одной из составных нового миропонимания, в соответствии и связи с другими составными: «Я тихо радовался, что Будда был искусен в исчислении атомов»[56].
Богоборческая линия представлена в футуризме Маяковским.
С чрезвычайной дерзостью, сравнимой разве что с дерзостью Ницше, Маяковский приписал свое самоощущение некоему человеку вообще, чудо-человеку, предтече будущего. Он не размышлял долго над местом человека в мироздании – он решительно, раз и навсегда определил это место: конечно, в центре. С поразительной быстротой, почти мгновенно, Маяковский проделал путь от первых вызывающих заявлений до глобальной идеи человека на месте Бога, идеи человекобожия, требующей пересмотра целого миропорядка. А пересмотр для него – значит переделка.
Уже в первой крупной вещи Маяковского – трагедии «Владимир Маяковский» (1913) – предпринята попытка подстановки человека на место Бога. Пока что человека-Поэта и пока что в пародийном ключе. Но уже здесь, сразу, почувствован и трагический характер такой подстановки.
В обширной критической литературе, посвященной Маяковскому, более или менее убедительно охарактеризованы главные социально значимые темы трагедии – темы «восстания вещей» и «криворотого мятежа». Отмечены и историко-литературные связи: в разное время при разборе трагедии «Владимир Маяковский» возни кали имена А. Блока, А. Белого. Л. Андреева, Е. Гуро, В. Хлебникова. Н. Евреинова. Ф. Ницше и других предшественников и современников Маяковского. В контексте нашего размышления важно отметить особенности внутренней структуры произведения, состоящей из сквозных метафорических рядов. Темы в сюжете трагедии сменяются и вытесняют друг друга, сменяются и достаточно условные персонажи, а цельность произведению придают ключевые образы и подвижные, развернутые цепи реализованных метафор. Они и делают трагедию-действие подобием слитного монолога (поэмы) и образуют некий единый «сюжет» миропонимания.
Ключевыми для раскрытия конфликтных узлов трагедии являются образы-понятия «мясо» и «вещи». Для раннего Маяковского утверждение плоти, физиологии почти равно самоутверждению жизни, ее грубого (и тем ценного) нутра: он «самому» Бурлюку не уступит в демонстративности этого утверждения: «На тарелках зализанных зал / будем жрать тебя, мясо, век!» И по меньшей мере равен Хлебникову в поэтическом оживлении «вещей», близких человеку своей реальностью, материальностью и одновременно «восстающих» против него.
Дело не ограничивается «вещами» реальными. «Метафизика» Маяковского приобретает в трагедии «нечеловечий простор», вселенский масштаб. И. при всей своей стихийности и необузданности, поэтически, структурно она очень четко «выдержана», организована.
Уже в прологе трагедии высказана идея роковой и обидной неправоты мироздания. Скука, мука, несправедливость, рабство – таков мир, который наличествует.
Этому миру противопоставлен другой, который будет, к которому ведет Поэт – «царь ламп». Лампы вытеснят назойливое солнце; сильные души, «гудящие как фонарные дуги», придут на смену душам рабским и бездеятельным. Посулы Поэта великолепны и щедры:
Трон посреди вселенной – трон Бога? Нет, конечно: «с дырами звезд по истертым сводам» – бутафорская вселенная шута. Действие в трагедии построено по законам циркового представления. Этим во многом объясняется нелогичность его хода: в цирке можно есть жестяную рыбу, шить юбку из ничего («из души») и нести слезы в чемодане. Однако цирк в трагедии – это образ мира, не-логика циркового зрелища поднята до высоты трагической мысли о мироустройстве (позже в поэме «Человек»: «величественная бутафория миров»).
В приведенных строфах заявлены образы-мотивы, которые, видоизменяясь и взаимодействуя, пройдут через все произведение: небо – Бог – женщина (первый образный ряд) и поцелуи – плевки – поцелуи.
«Небо плачет безудержно, звонко…» Образ развивается как типичная для Маяковского реализованная метафора, осложненная сравнением: небо (облачко) плачет, как женщина. Если женщина реально предполагается, то, конечно же, здесь, на земле. А если кто-то есть на небе, то, по-видимому, Бог.
Синонимическое единство небо – Бог подтверждено в начале первого действия Стариком с кошками: «А с неба на вой человечьей орды / глядит обезумевший <Бог>». Бога следует «бросить» (как квартиры, как вещи!), и в том же монологе Старика возникает образ новой, будущей «очеловеченной» вселенной: «Мы солнца приколем любимым на платье, / из звезд накуем серебрящихся брошек».
«Это – правда!» – подхватывает Человек без уха. Но что правда?
В исходном образе произошла разительная подстановка, подмена. Женщина, прежде обиженная Богом («Бог ей кинул кривого идиотика»), теперь сама – как мироправительница? или вавилонская блудница? – занимает место Бога, «над городом» (ср. стихотворение Блока «Невидимка»). Теперь она «кидает плевки», вырастающие в «огромных калек». То, что раньше было сравнением (облачко – как женщина), становится фантастической реальностью содержания.
Образные ряды трагедии стремятся к слиянию, концентрации. Оживает забытый мотив поцелуев – тоже в новом, гротескном качестве: «Ваши женщины не умеют любить, / они от поцелуев распухли, как губки». Назревает тождество: плевки – поцелуи. Во втором действии и оно становится реальностью. В монологе Человека с двумя поцелуями поцелуи занимают место плевков – в том же сюжете чудовищного «деторождения» («И вдруг / у поцелуя выросли ушки, / он стал вертеться, / тоненьким голосочком крикнул: / „Мамочку!“»). Более того, сюда же оказывается подключенным образный ряд «вещей»: поцелуй используется как калоша, и налаживается «выделывание», механизация поцелуев (плевков-поцелуев), женщина превращается в фабрику, «первая» природа («мясо») – во «вторую» («рычаги»). По нескольким направлениям сразу происходит мифологизация женщины как выражения плотской природы мира (еще при отсутствии открытой любовной темы, которая появится в «Облаке в штанах»).
Здесь опущены многие другие звенья метафорической постройки произведения. Важно подчеркнуть главное. В трагедии «Владимир Маяковский» конструируется «предметный», «физиологический» космос Маяковского, соединяющий «мясо» и «вещи» («первую» и «вторую» природу), «над» и «под» (небо и землю), «плевки» и «поцелуи». Чудовищным Содомом оборачиваются щедрые, приравненные к деянию Бога, посулы Поэта в прологе: «Я вам только головы пальцами трону…» Пародийный характер подстановки Поэта на место Бога не снижает сложности проблемы. В «Облаке в штанах» Маяковский поведет атаку на Бога «в открытую», в «Человеке» снова вернется к пародии. И во всех случаях в его позиции останется двойственность, незавершенность.
Глубоко трагедийно внутренне само богоборчество Маяковского. Поставив себя на место Бога, человек у него берет ответственность за весь миропорядок, за саму природу (за жизнь и смерть). Но если он безбожник, то все его обличения, бросаемые Богу как символу миропорядка, идут, в сущности, по другому адресу. Ближайший адрес социальный, и Бога скоро заменит Повелитель Всего (всемирный буржуй). Однако лирически бунт Маяковского шире, он захватывает, вольно или невольно, и самый «физиологический космос», ту единственную, реально чувствуемую вселенную, которую поэт утверждает.
И другая, «встречная» тенденция. Стремясь перерешить мировой вопрос, богоборчество предполагает иной, вне Бога, однако не менее всеохватный смысл. Маяковский ниспровергает Бога, но при этом сохраняет «память» о Боге, она заключена в масштабе и характере самой мысли, в привычке искать непременный центр бытия, добиваться последнего, всеобъясняющего ответа. Поэтическое сознание Маяковского самой структурой своей близко религиозному. Это, кстати, прекрасно понимал в нем Пастернак: «У него множество аналогий с каноническими представлениями, скрытых и подчеркнутых. Они призывали к огромности, требовали сильных рук и воспитывали смелость поэта»[58].
Внутренние противоречия богоборчества Маяковского субъективно для него могли быть разрешены только в русле глобальной идеи переделки мира, идеи рукотворного космоса. Эта идея явилась важнейшей поэтической предпосылкой революционности Маяковского (придет время, и он Ленина примет как реальное Пришествие, «революции и сына и отца», Суд и Спасение).
С трагедией «Владимир Маяковский» по скандальности сценического эффекта (спектакли в петербургском Луна-парке в декабре 1913 года) вполне сопоставима «опера» А. Крученых «Победа над солнцем», хотя в литературном отношении эти произведения далеко не равноценны.
В них много сходного, даже общего – главные аспекты темы, двухчастная композиция, конкретные образы и детали. Но раскрытие темы осуществляется по-разному: у Маяковского содержание концентрируется в образе Поэта, лирического героя произведения, у Крученых оно «распределено» по персонажам, условным, но выражающим разные значения и требующим определения.
Своего рода парадокс заключается в том, что пьеса Крученых, гораздо более абстрактная и «заумная», чем трагедия-поэма Маяковского, в то же время «читается» в своих главных направлениях намного легче. Крученых в позднейших воспоминаниях (1960) прокомментировал заглавную тему «Победы над солнцем» в аспектах эстетическом (полемика с символистами) и социальном (солнце – власть золота), а кроме того – выделил космический аспект. Он стремился представить свое произведение как пророческое и растолковывал его логически, очень определенно. «Если в 1913 г. „Победа над солнцем“ рассматривалась как фантастическое сумасбродство, то теперь вопросы космоса поставлены на научную основу и в опере несущие солнце (таки поймали это светило!) говорят:
то есть, если смотреть в корень, то овладение космосом это наука, где математика одна из главных <…>. В опере нет плавно плетущегося сюжета, он развивается резкими скачками: тут и Летчик с упавшим аэропланом, летавшим по этому заданию, и будетлянские силачи, и необыкновенные высотные здания с запутанными ходами и выходами, и оплакивающие солнце дельцы (хор похоронщиков), и черные боги дикарей (в пику золотому идолу), которым поется гимн. Заодно уж и их любимице свинье, как читал и напечатал я в своих книгах…»[59]
Но и ближайшим современникам (зрителям) ничего не оставалось, кроме как попытаться перевести футуристический «бред» на язык общезначимых идей, которые тогда носились в воздухе (см. комментарий к «Победе над солнцем»). И не так уж трудно было, по-видимому, отделить Путешественника, Летчика, Силачей и Спортсменов от Толстяка или Трусов.
В отличие от Маяковского, Крученых изгоняет из своей «оперы» лирику и психологию. Среди персонажей нет ни одной женщины, «женская» тема исключена намеренно: «Толстых красавиц / Мы заперли в дом / Пусть там пьяницы / Ходят разные нагишом / Нет у нас песен / Вздохов наград / Что тешили плесень / Тухлых наяд!» Здесь «все стало мужским»: не страна, а «стран», не озеро, а «озер». Идут чисто мужские игры. Отметим, кстати, – кроме войны. Пушки уничтожаются, «меч» заменяется «мячом», и демонстрируются приемы футбола.
Не все, конечно, у Крученых так просто дешифруется. Есть в «Победе над солнцем» мотивы, которые могли бы, в другой системе, прозвучать очень драматично. Новый мир, к которому ведут «страшные» и «сильные» будетляне, сам из себя, будучи достигнут, порождает противоречие:
«новые: мы выстрелили впрошлое трус: что же осталось что-нибудь?
– ни следа
– глубока ли пустота?
– проветривает весь город. Всем стало легко дышать и многие не знают что с собой делать от чрезвычайной легкости. Некоторые пытались утопиться, слабые сходили с ума, говоря: ведь мы можем стать страшными и сильными.
Это их тяготило».
У Маяковского намерение Поэта изменить мир зашло в тупик, и это усугубляет трагизм. Тема Маяковского – страдание, в его трагедии «слезы» составляют еще один образный ряд. У Крученых промывка мира «пустотой», возвращение к исходному нулю при наличии неиссякаемой, деятельной «силы» – это не страшно, скорее даже благо. «Победа над солнцем» начинается с декларации будетлянских силачей: «Все хорошо, что хорошо начинается! <…> А кончается? <…> Конца не будет». И завершается произведение теми же словами тех же силачей в усиленном варианте: «все хорошо, что / хорошо начинается / и не имеет конца / мир погибнет а нам нет / конца!» Все сначала, с нуля, всегда с нуля, «без раскаяния и воспоминаний». Крайнее выражение крайней формулы футуризма. Но еще, как ни странно, лирика, характерный крученыховский жест, отмашка от проблемы (вспомним: «ЗАБЫЛ ПОВЕСИТЬСЯ / ЛЕЧУ К АМЕРИКАМ»).
В богоборчестве Маяковского – проблема теодицеи, необходимость и (для него) невозможность богооправдания. Близко к классическому: «Не Бога я отрицаю, Алеша, а мира, им созданного, не принимаю», – бунт Ивана Карамазова.
По остроте переживания страдания не уступает Маяковскому Е. Гуро, но решение у нее другое, противоположное. Ей даже Бога не надо называть, настолько уверовала она, страдальчески и высоко, в благодать, растворенную в мире: «И наклоняли чашу неба для всех – и все пили, и неба не убавилось»[60].
Зато в стихах эгофутуриста И. Игнатьева, претендующих на сложное метафизическое содержание, – сплошные «почему?»:
Брюсов сравнил Игнатьева с Ф. Сологубом и, конечно, отдал предпочтение Сологубу. Будучи одним из славнейших символистов. Сологуб вместе с тем отступал от объективной для символистов высшей реальности (поэтических модификаций Мировой Души) в творимый им самим субъективный мир (сологубовский «солипсизм»): «Я бог таинственного мира, / Весь мир в одних моих мечтах, / Не сотворю себе кумира / Ни на земле, ни в небесах». Можно сказать, что он покушался на святая святых символизма – на Вечность. В пору кризиса символизма и появления новых поэтических течений несовместимость метафизической Вечности и отдельного человеческого «я», нужда в замене Вечности чем-то более ощутимым сказались с неизбежной очевидностью. Когда молодой Мандельштам написал: «Не говорите мне о вечности – / Я не могу ее вместить», – он тем самым готовил фундамент для построек своего «Камня», призванных заполнить и «организовать» мировую пустоту («Камень», кстати, появился в том же достославном 1913 году). Игнатьев застыл на развилке, на умозрительной фиксации расколотого самоощущения «я».
Относительное лирическое напряжение стихам Игнатьева придает то, что на вопросы, так настойчиво, «в лоб» задаваемые им, нет и не может быть прямого ответа. Нагромождение прописных букв, футуристические словоновшества вперемежку с Тайнами и Судьбой. «дерзкие» образы-выпады («…Бросив в Снеготаялку Любовь») намечают «фактуру» стиха неровную, бугристую, и это может впечатлять. Но все в общем сводится у Игнатьева к тавтологическим, чисто словесным антиномиям («покорный воинственно», «множественный один», «Проклятьем молитвенны» и т. д.), к обратимости смысловых значений («Почему Безначальность страшит / Бесконечность Конца?»). И как-то не возникает нужды в серьезных сопоставлениях – ни с пафосными державинскими антиномиями, ни с контрастными воплощениями героя Маяковского.
Футуристы от рефлексии уходили в действие, в событие. С риском впасть в кощунство можно сказать, что у Игнатьева трагическое событие составило постскриптум к стихам. И богоборцем его сделал Хлебников – в четверостишии, которое вызвано самоубийством Игнатьева и написано от его лица:
Связь с художественными традициями очевидна у футуристов в пределах их наиболее «ударных», ультрасовременных тем, например, показе города. Н. Харджиев передает свидетельство А. Крученых, то в 1912–1913 годах в кругу футуристов наизусть повторяли из гоголевского «Невского проспекта» то место, где город «участвует» потрясении героя повести – художника Пискарева: «Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу и алебарда часового вместе с золотыми ловами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз». «Гилейцев» восхищала эта обнаженная структурность динамики, движения, напряженно-экспрессивная и одновременно сохранившая веселые парадоксы фольклорного лубка. Не Петербург – Витебск Марка Шагала!
Стихи футуристов о городе дают понять, какое значение имел для них Брюсов как автор стихотворений «Слава толпе», «Городу», «Голос города» и особенно, конечно, «Конь блед». А также Блок дорого тома с его «Последним днем», «Обманом», «Гимном», «Полстью», несущими следы воздействия Брюсова, и с выходом к «Незнакомке» и лирике третьего тома.
«Конь блед» Брюсова открыл в нашей поэзии длинный ряд городских фантасмагорий, соединяющих посредством свободных ритмов шум и блеск города, движение неисчислимых толп и апокалиптические видения. Футуристы, как правило, снимали мистические акценты, зато усиливали чувственную откровенность фантастических образов и картин, придавая им при этом пародийный оттенок.
К. Большаков («Луна плескалась, плескалась долго в истерике…»):
В. Шершеневич («Толпа гудела, как трамвайная проволока.»):
Образ города у футуристов изобилует «природными» сравнениями: город куда-то «лезет», «летит», содрогается, как живое существо. Это вносит поправки в упрощенное представление о футуризме как искусстве урбанистическом. Решительное суждение на этот счет высказывает Р. В. Дуганов: «Как ни странно это может показаться, эстетика футуризма с его машинностью, урбанизмом, рационализмом и т. д. и т. п. в конечном счете или, вернее, в своем первоначале была эстетикойприроды»[61]. Природа для футуристов, продолжает свою мысль Дуганов, «не храм и не мастерская», она «вполне и окончательно субстанциальна», она – энергия.
Наверное, это так, с учетом, что аналогом космической природы-энергии является самоощущение художника и что здесь возможны самые разные варианты и уровни.
Симон Чиковани, размышляя о том, почему Маяковский, прекрасно чувствующий городской пейзаж, «оставался вполне равнодушным к тайнам природы, глухим к голосу лесов, гор и рек», высказывает убеждение, что «место этой отсутствующей природы как бы занимал он сам, его физическое существо. Стихи выражали радость и боль этого человеческого организма…»[62]. Прекрасная характеристика: односторонность в данном случае не ограничивает, а укрупняет масштаб поэтической личности, потому что проявляет ее органическую (природную) суть, основу.
Другой пример – замечание А. Эфроса в адрес К. Малевича: «…трогательный фетишизм примитивной натуры, открывшей в себе движение мысли»[63]. Можно по-разному оценивать этот сугубо «интеллигентский» выпад критика, но очевидно, что здесь отмечается иное соотношение между задачами творчества, у Малевича сопряженного с комплексом глобальных теоретических идей, и «натуральными» свойствами личности художника.
А если отвлечься от ныне признанных великих и спуститься «ниже этажом», к рядовому составу футуризма, то там проблема «концептуальности» целого движения и личностной позиции его участников может просто отступить на второй план перед фактом вторичное™, подражательности, зависимости от учителей.
Нет прямого смысла подсчитывать, сколько стихов написали футуристы о городе и сколько о живой природе. Предметно-тематические различия перекрываются объединяющей спецификой футуристического отношения к слову. И если все это о природе, единой космической природе, то и она предстает в особом аспекте: слово, язык наделяют эту природу «структурностью», придают ей черты природы рукотворной, как бы заново творимой из самого языка.
Хлебников в 1916 году принял под свое державное покровительство группу харьковского издательства «Лирень», отпочковавшуюся от «Центрифуги», – появился манифест «Труба марсиан». Участники группы Н. Асеев, Г. Петников и Божидар (последнего к моменту появления манифеста уже не было в живых) испытали поэтическое воздействие Хлебникова, но у каждого было что-то свое. Грандиозная идея похищения времени, составляющая основу манифеста, принадлежит всецело Хлебникову, однако в данном случае есть возможность найти в поэзии каждого из его адептов определенное созвучие этой идее – по-своему переживаемое чувство всемирности.
Асеев – «лирик по складу души». Даже в откровенно «хлебниковском» по строю стихотворении «Донская ночь» была, по-видимому, лирическая задача – дать почувствовать густоту и чуткость южной ночи. Обычны для Асеева прямые лирические вторжения в объективную тему («Гремль – 1914 год»), лирическая интерпретация исторического и фольклорного материала. И космические масштабы чувства с богоборческим уклоном возникают у него (как у Маяковского) из лирических ситуаций.
Космос Божидара может замкнуться в ограниченном искусственном пространстве (стихотворение «Пресс-папье») или охватить простор до небесного свода-купола («Сердце в лазури»), совмещается с «полем планет» («Солнцевой хоровод») и с «брокенскими плоскогорьями» («Григорию Петникову»). Он «мучителен» для ума и сердца даже в моменты поэтического просветления. В самих конструкциях стихотворений Божидара, герметических, отмеренных, откровенно «сделанных», живет дух тяжести, «пленения». Божидар напоминает И. Игнатьева: стихи могут показаться надуманными, мертвенными, и все же есть в них скованная, стремящаяся высвободиться энергия; у Божидара она живее, он не задает сакраментальных «почему?», стремится разноообразить рисунок. И если в «Пресс-папье» повторяется единственный, по существу, образ-мотив (фигурки паяцев в стеклянном пресс-папье), то в стихотворении «Сердце в лазури» мотив сердца-солнца, вынесенный в заглавие, реализуется в плотном ряду раздельных и одновременно совмещающихся образов (колокол – зеркало – бонза – церковь – купол). Текст наполовину состоит из глаголов и глагольных форм, и все они в конечном счете тоже относятся к сердцу, передают его состояние.
Третий из этой группы хлебниковских учеников, Г. Петников, пытался создать некий синтетический стиль, соединял языковую архаику и словотворчество, трансформировал приемы изобразительного искусства и различные литературные традиции. Наиболее интересны у него поэтические пейзажи натурфилософского плана, разрабатывающие «тютчевскую» тему смены времен года, шире – тему жизни и смерти. Лирическое содержание в таких стихотворениях проступает из глубины текста, например, из уподобления древесных соков току крови, а природы в целом – человеческому организму с кровеносными сосудами и, конечно же, сердцем:
Энергичный характер своего творчества поэты группы «Лирень» стремились усилить введением темы активного действия (битва, скачки и т. д.), что по-своему тоже созвучно пафосу манифеста «Труба марсиан».
Воспринимая природу как движение, процесс, футуристы акцентировали одну сторону этого процесса – рождение нового и опускали или даже оспаривали другую – что это рождение есть возрождение, цикличность, повтор. Р. В. Дуганов рассматривает эстетику футуризма как «эстетику бесконечного материально-энергийного становления»[64] и приводит на этот счет многие заявления поэтов и художников футуристического направления. Например, Малевич: «Природа не хочет вечной красоты и потому меняет формы и выводит из созданного новое и новое»[65] (ср. пушкинское: «И пусть у гробового входа / Младая будет жизнь играть, / И равнодушная природа / Красою вечною сиять»). Или Ольга Розанова: «Нет ничего в мире ужаснее повторяемости, тождественности…»[66] (ср. мысль позднего Пастернака, подготовленную всем ходом его творческого развития, полемичного по отношению к футуризму: «…все время одна и та же необъятно тождественная жизнь наполняет вселенную и ежечасно обновляется в неисчислимых сочетаниях и превращениях»[67]). Понятно, что ведущая тенденция футуристической «натурфилософии» имела прямое отношение к эстетической проблеме традиций и новаторства, принципиально решаемой в пользу новаторства. Понятно также, в другом аспекте, что она не характерна в равной мере для всех футуристов и кто-то из них обходился без какой бы то ни было натурфилософии. Однако во всех случаях поэтика футуризма формировалась на основе материально-чувственного мировосприятия.
Художник, по убеждению футуристов, творит не подобие вещи, а саму вещь, активно участвует в деле мироустройства. Процесс создания произведения осуществляется «всеми силами нашего организма», с включением всех органов чувств. Мысль не то что бы новая, но всячески подчеркиваемая футуристами и практически реализуемая в фактуре произведения. И от читателя (зрителя) требуется нечто большее и, может быть, даже иное, чем понятная, традиционная работа «ума и сердца», – воспринимая произведение, он должен видеть, слышать, осязать, пробовать произведение на вкус и чуть ли не улавливать его запах (слово-запах, мы помним, тоже присутствует в теории футуризма). Проблема «понимания» футуристических стихов не менее каверзная, чем проблема самого творчества.
На уровне субъективного восприятия и вкуса автор данной статьи «не принимает» половины напечатанных в этом томе произведений. Не потому, что футуризм, а потому что плохо написано. Однако в плане историко-литературном дело приобретает другой оборот. Футуризм обозначил свое место в истории литературы, и его слово учтено поэзией последующего времени. Причем раздражителями, стимулирующими новые поэтические поиски, были и яркие достижения футуристического творчества, и сомнительные эксперименты, направленные всецело на сокрушение «правил», проникнутые художественным нигилизмом. В определенном смысле такие встряски, включая опыты «разрушения эстетики», полезны для искусства, в конечном счете полезны: они укрепляют его самосознание. Учет условий и особенностей литературно-художественного процесса необходим при чтении конкретных произведений футуристов.
Одним из главных принципов футуристического искусства является принцип затрудненной формы (трудно пишется – трудно читается). Сама структура произведения содержит ряд специфических условий, выполнение которых необходимо для его понимания. Далеко не всегда усилия читателя бывают вознаграждены, затрудненность может оказаться холостой, надуманной, – зато какое счастье открыть для себя действительно небывалый мир, проникнуть в большой поэтический секрет, который, кстати, покажется в итоге совсем несложным, совсем даже и не секретом.
Великим открытием в поэзии XX века явилась зрелищная, «материализованная» метафора Маяковского.
Один из исследователей Маяковского, Н. Калитин, остроумно заметил, что Маяковский, разворачивая метафору, «забывает» про троп[68]. Он рисует фантастическую по форме и грубо реальную в психологическом смысле картину, исходя из буквального значения слова, включенного в метафорический, иносказательный контекст («пляска нервов» или «пожар сердца» в «Облаке в штанах»). Когда Маяковского спрашивали, что он сам чувствует, читая свои стихи, он отвечал: «А я все вижу». Поэт зрительного, живописного мировосприятия, он, конечно же. видел, буквально видел свои фантастические метафоры. И мы вместе с ним должны увидеть (представить сцену), как «пляшут нервы» его героя, «большие, маленькие, многие», – пляшут так, что у них «подкашиваются ноги», а в нижнем этаже рушится штукатурка; как герой пытается «выскочить» из горящего дома-сердца-из собственной грудной клетки: «Дайте о ребра опереться!» Из всех органов чувств Маяковский больше всего доверял глазу, и активность зрительных образов в его стихах исключительно велика. В метафорическом образе Маяковского как бы два слоя: идет рассказ о психологическом действии – и одновременно дается показ, появляется (на основе метафорического сравнения) ряд картин-иллюстраций к событию, которые в предметности своей могут вовсе не совпадать с сюжетом, а дополняют, «дорисовывают» его эмоционально. Давая психологический комментарий к эпизоду «пожара сердца» в «Облаке в штанах», мы можем и не говорить про сапоги пожарных и запах жареного мяса – мы попытаемся назвать грани чувства, истолковать их в словесном, понятийном ряду. Примерно так же поступим мы, пересказывая сюжет произведения. А в стихах именно «посторонние» предметы, возникнув как развитие исходной метафоры, возмещают то, что называется психологизмом. Они не называют чувство, а неизмеримо усиливают его напряжение и расширяют масштаб. У раннего Маяковского весь мир стягивается к человеку, даже космос лишен самостоятельной жизни, образы космоса тоже средство гиперболизации чувств героя. И это уже не поэтика, а миропонимание.
В философско-поэтической системе символизма метафора (не только на классической своей высоте, когда она не метафора, а символ, но и метафора проходная, собственно «художественная», выразительная) есть незатухающий, на тысячу ладов возобновляемый вопрос о связи человеческого «я» и мирового «не-я», она приоткрывает краешек вселенской тайны, объемлющей человека.
По-другому у Маяковского. Он не верит в извечную тайну (или делает вид, что не верит) и все сводит к материализованным представлениям. Важен пьедестал, на который вознесены чувства прямые и грубые. Метафора у Маяковского одновременно и гипербола, что придает ей особый смысл. Реальное, чувственное, физическое самоощущение человека распространяется у него на весь мир, человек охватывает вселенную (а не наоборот), – предметы, «вещи», явления втянуты в душевную жизнь и как бы продолжают человека в этом единственном, всепроникающе-материальном мире. Поистине – если Бога нет, то Богом должен стать Я, Человек.
В метафорической системе Маяковского идеи, картины, меняющиеся «лики» героя наделены чудовищной реальностью (прямое прочтение метафоры). И одновременно они (по той же причине) – сплошная условность. Взаимодействуя, эти два начала как бы нейтрализуют друг друга: столкновение, вспышка, гром, а в результате ничего. Однако в этом «ничего» и заключена главная суть – «капли холодного пота», неразрешимая борьба, клубок противоречий. Маяковский стремился к окончательности, определенности, но окончательность предполагала такие масштабы, что неминуемо получала фантастический опенок и порождала соответствующего склада образы, рационалистические по структуре, «сделанные», но открывающие простор, который неподвластен конечным определениям. Это и есть реальность поэтическая, которую мы воспринимаем, делаем своей, переносим на другие ситуации, к Маяковскому отношения не имеющие, – энергетический заряд который мы получаем от Маяковского.
Современное литературоведение стремится дифференцировать художественные системы (мифы) в поэтике авангарда. Например, венгерская исследовательница Анна Хан считает, что реализация метафоры служит созданию мифа индивидуального, субъективного, а реализация сравнения лежит в основе «реального мифа», в котором преобладают «метаморфозы онтологически объективные». Анализируя в этом (втором) ключе поэму Хлебникова «Журавль», она находит в ней не только соответствия Апокалипсису и «петербургскому мифу», но и «ось русской культуры», начиная с Киевского периода (раскол, стихийное бунтарство, самозванство и т. д.)[69]
Речь, говоря по-другому, идет о лирике и эпосе. Но и в пределах лирики вырабатывались системы, принципиально отличные от системы Маяковского. Как уже говорилось, Б. Пастернак, придерживаясь принципа «объективного тематизма», стремился преодолеть прямое воздействие Маяковского. В первой редакции стихотворения «Марбург», которая дается в настоящем издании, это воздействие, вперемежку с воздействием Северянина, еще достаточно ощутимо. Но и здесь «вещи», предметы внешнего мира не становятся лишь «подобием» страсти – они сохраняют и утверждают реальность своего бытия, образуют стабилизирующий, уравновешивающий ряд. А если взять для сравнения позднейшие редакции «Марбурга», то со всей очевидностью можно представить главное направление поэтического развития Пастернака. Именно в «Марбурге» утверждала себя его «неромантическая поэтика». В «Марбурге» разрабатывалась композиция, принципиальная для Пастернака и многократно повторенная потом в других стихотворениях, – композиция, развернутая вширь, в мир. который больше, полнее, первее любого из нас. Поэтическое «я» Пастернака и раскрывается полнее всего в рамках этого соотношения, этого чувства, не исключительного, а всечеловеческого по своей природе. И сам взгляд Пастернака на искусство как на орган восприятия – «неноваторский» с точки зрения авангарда и отделяет его от футуризма.
Принцип затрудненной формы проявляется у футуристов в разных компонентах стиля. В частности, они бравировали тем, что «разрушили» синтаксис. А между тем даже произведения Крученых не изобилуют нарушениями синтаксических норм – их гораздо больше у С. Боброва, Г. Петникова. Божидара. Специфические варианты различаются функционально.
Д. Бурлюк в какой-то момент надумал опускать предлоги. Вот характерный пример (в квадратных скобках даются отсутствующие в тексте предлоги):
Случай – простейший. Стихотворение слишком традиционно, и нарушение синтаксиса, надо полагать, преследовало цель уплотнить «словесную массу» и отвести от сравнения с прецедентами.
Другое дело К. Большаков, незаурядный лирик, который «ломал грамматику» в целях большей лирической выразительности, не огрублял, а разнообразил акценты. Классическим примером его синтаксического эксперимента может служить истонченный, «чуткий» стих: «Чтоб взоры были, скользя коленей, о, нет, не близки…» («Посвящение»). Б. Пастернак считал, что такого рода черты составляют «единственную соль большаковского жанра», «лирическую основу его пьес», «интеграл бесконечной функции»[70].
В распоряжении Большакова целый набор средств синтаксического «сдвига». Он очень смел в употреблении глаголов: «По небу звезд струят мои подошвы…», «Потому, что вертеться веки сомкнуты…» Охотно использует инверсию, иногда весьма усложненную, как в стихотворении «Аэромечта»: «Мы бросим взятой с земли на землю кусочек жалости…» («правильная» фраза: «Мы бросим на землю кусочек взятой с земли жалости»; перестановка слов дает ключевое для темы образование «с земли на землю» с двояким смыслом: «взятой с земли на землю» и «бросим с земли на землю»). Ключевое слово может и открыто участвовать сразу в двух синтаксических рядах (стихотворение «Осень годов»): «Я века лохмотьями солнечной задумчивости бережно / Укрывал моих любовниц в рассеянную тоску…» (укрывал чем? – лохмотьями… укрывал во что? или куда? – в тоску…). Стремление свести воедино несколько структур приводит Большакова к стихам чрезвычайно прихотливым, но, как ни странно, сохраняющим смысловую прозрачность:
При желании и этот синтаксический узел можно распутать, только делать это, по-видимому, не надо: в составе целого стихотворения, «струящегося», изобилующего повторами, стихи наращивают обозначенную в заглавии тему и одновременно воспринимаются как-то отрешенно, почти абстрактно. Ведь Большаков пробовал себя и в зауми, лирический вариант которой он дал в стихотворении «Городская весна»:
Заумь в искусстве футуризма – явление не центральное, но принципиальное. В ней, можно сказать, заключены крайности, полюса – начало и конец. В том смысле, что заумь знаменует конфликтную с разумом основу творчества (А. Крученых: «Мысль и речь не успевают за переживаниями вдохновенного»[71]), а на другом конце – заумь разбивает оковы разума уже в дальней перспективе, намечает максимальные возможности творчества. В. Хлебников доходил до утверждения, что «заумный язык есть мировой язык в зародыше. Только он может соединить людей. Умные языки уже разъединяют»[72]. Тенденция к зауми заложена в основополагающем принципе футуризма – разрушении норм существующего языка, которым искусство по необходимости пользуется.
И в то же время заумь – это нечто совсем другое по сравнению с существующим языком, переход в новое измерение. В. Хлебников: «Заумный язык – значит находящийся за пределами разума»[73]. А. Крученых: «Ранее было: разумное или безумное; мы даем третье – заумное, – творчески претворяющее и преодолевающее их. Заумное, берущее все творческие ценности у безумия (почему и слова почти сходны), кроме его беспомощности – болезни. Заумь перехитрила.»[74]
В теории, разработанной Хлебниковым и Крученых, заумь связана со словотворчеством, составляет его последний, качественно новый этап. «Словотворчество учит, – писал Хлебников. – что все разнообразие слова исходит от основных звуков азбуки, заменяющих семена слов. <…> Вся полнота языка должна быть разложена на составные единицы „азбучных истин“, и тогда для звуко-веществ может быть построено что-то вроде закона Менделеева или закона Мозелея – последней вершины химической мысли»[75]. Вокруг исходной составной единицы («звуко-вещества») Хлебников выращивал целые гроздья неологизмов («Заклятие смехом»). Или, «заменив в старом слове один звук другим», прокладывал «путь из одной долины языка в другую» [правительство – правительство; боец – лоец и т. д.). Он много фантазировал на предмет смыслового значения отдельных звуков (фонем): Ч, В, X, М, Л, К… На этой основе он и строил свою теорию зауми:
«Заумный язык исходит из двух предпосылок:
1.###Первая согласная простого слова управляет всем словом – приказывает остальным.
2.###Слова, начатые одной и той же согласной, объединяются одним и тем же понятием и как бы летят с разных сторон в одну и ту же точку рассудка»[76].
Крученых поначалу подчинял свои заумные опыты локальным задачам, но постепенно разрабатывал для зауми и общие теоретические основания. В поздней декларации «Фактура слова» (1922) он писал:
«Структура слова или стиха – это его составные части (звук, буква, слог и т. д.) обозначим их а – Ь – с – d.
Фактура слова – это расположение этих частей (а – d – с – Ь или b – с – d – а или еще иначе), фактура – это делание слова, конструкция, наслоение, накопление, расположение тем или иным образом слогов, букв и слов»[77].
Фактура, по логике Крученых, создается из свободной комбинации готовых языковых элеметов или «делания» заумных (лишенных смысла) слое. Говоря о звуковой фактуре, он приводит как пример «тяжелой» фактуры две строчки Хлебникова с очевидной перестановкой слов: «табун шагов / чугун слонов» (ср.: чугун шагов / табун слонов), а в качестве фактуры «тяжелой и грубой» – свое знаменитое «дыр-бул-щыл…»
Принцип Хлебникова – семантический. Крученых больше акцентирует эмоциональное воздействие слова. Но разница не такая уж решающая: оба исходят из чувственной природы слова и берут за основу его звуковую сторону. Они легко могут как бы поменяться местами. Хлебников писал: «Если различить в душе правительство рассудка и бурный народ чувств, то заговоры и заумный язык есть обращение через голову правительства прямо к народу чувств…»[78] Крученых, со своей стороны, в нарушение главного принципа зауми, мог предложить «интеллектуальную» загадку – заумный ребус, который вроде бы (лишь частично?) может быть разгадан:
Стихотворение называется «Высоты». «За этим рисунком из гласных, – пишет В. Марков, – довольно отчетливо проступает „Верую во единаго Бога“, кончая словами „видимым [же всем]и невидимым“»[79].
А. Амфитеатров в «Заметке», опубликованной в «Русском слове» 23 января 1914 года, говорил, что «истинный золотой век стихотворного футуризма цвел 50 лет тому назад в мещанских слободках и уличках» – тогда в Орле, Мценске. Калуге, Туле или Епифани сочиняли: «Чинги дрынги, мой фетон, Чинги дрынги, фарафон». Футури-сты-заумники должны были принять это замечание в похвалу себе. Они сознательно ориентировались на детскую считалку, древние загадки, чародейные заговоры и напевы – русалки Хлебникова в стихотворении «Ночь в Галиции» поют на заумном языке по «учебнику Сахарова» (по «Сказаниям русского народа» И. П. Сахарова). Р. Якобсон вспоминает, что он обсуждал с Хлебниковым законы русских сектантских глоссолалии и магических заклинаний. И даже приведенный выше опус Крученых находит отдаленное пояснение в письме Р. Якобсона к Крученых, написанном в конце января – начале февраля 1914 года: «Вы спрашивали меня, где приходилось мне встречать стихи из гласных. Как образцы таковых, интересны магические формулы гностиков»[80].
Среди насмешек и возмущения критики по поводу зауми футуристов случались и иные голоса. В. Шкловский в статье «Заумный язык и поэзия» (1916), переводя проблему в теоретический и историко-литературный план, приводил примеры зауми из произведений писателей прошлого, а также современников, не имеющих отношения к футуризму.
Самую основательную трактовку и оценку зауми дал Павел Флоренский в работе «Антиномия языка», написанной в 1918 году (опубликована гораздо позже). Он применил к зауми широкий философско-лингвистический подход.
Опираясь на теорию Вильгельма Гумбольдта, Флоренский говорит об антиномии языка, которая проявляется в единстве его противоположных свойств. С одной стороны, «в языке все живет, все течет, все движется», «человек – творец языка», он «божественно свободен в своем языковом творчестве, всецело определяемом его духовною жизнью, изнутри»[81]. С другой стороны, язык имеет «монументальный характер», его правила «даются историей как нечто готовое и непреложное. Языком мы можем пользоваться, но отнюдь мы – не творцы его. Пользуясь же языком – достоянием народа, а не отдельного лица, – мы тем самым подчиняемся необходимости…» (с. 155). «Нет индивидуального языка, который не был бы вселенским в основе своей; нет вселенского языка, который не был бы в своем явлении – индивидуальным» (с. 164).
С этих позиций Флоренский оценивает словотворчество и заумь футуристов. Он с пониманием относится к словоновшествам, образованным по аналогии с уже существующими грамматическими формами или имеюгцим орнаментальный характер, и приводит в качестве убедительных примеры из В. Каменского, И. Северянина.
В. Хлебникова, Е. Гуро. Другое дело заумь. Флоренский признает право на такого рода творчество. Лично ему нравится «Дыр бул щыл…» А. Крученых: «…что-толесное, коричневое, корявое, всклокоченное, выскочило и скрипучим голосом „р л эз“ выводит, как немазаная дверь. Что-то вроде фигур Коненкова» (с. 183–184). Однако Флоренский считает законным и противоположное, отрицательное восприятие. Более того, по мнению Флоренского, если заумник последователен, «если он воистину и насквозь за-умен и потому бес-словесен в своем творчестве, то и самоннезнает, что долженственно воплотиться у него в звуке, а потому не может и судить – воплотилось ли» (с. 183). Заумники подчеркивают лишь одну сторону языка и потому вступают в противоречие с языком. «Когда начисто сглаживается антиномичность языка, то тем самым начисто уничтожается и самый язык» (с. 186).
В целом же Флоренский ценит смелость футуристов, признает их приверженность и родственность изначальной (до-логической) стихии языка, в которой они ведут себя «как дома».
В настоящем издании заумь представлена произведениями кубофутуристов, поэтов группы «41°» и отдельными опытами участников других футуристических групп. За пределами тома остались постфутуристы (А. Туфанов, обэриуты) и, конечно, последующие, вплоть до нынешнего времени, эксперименты в зауми[82].
В декабре 1915 года на художественной выставке «0.10» («ноль-десять», что значит: Ноль. Десять художников) был представлен «Черный квадрат» Малевича. Александр Бенуа писал: «Без номера, но в углу под самым потолком, на месте святом, повешено „произведение“… г. Малевича, изображающее черный квадрат в белом обрамлении. Несомненно, эго и есть та „икона“, которую гг. футуристы предлагают взамен мадонн и бесстыжих Венер, это и есть то „господство над формами натуры“, к которому с полной логикой ведет не одно только футуристическое творчество<…> но и вся наша „новая культура“<…> с ее царством уже не грядущего, но пришедшего Хама»[83]. Для самого Малевича созданный им супрематизм тоже был возвращением к «нулю», но к такому «нулю», который является «зародышем всех возможностей», от которого начинается новое, истинное познание природы, Бога, гармонии. В письме к М. Матюшину от 12 ноября 1916 года Малевич писал: «О сознание! Какая хорошая вещь, что только нельзя с ним сделать. Вот уж прибор, разворачивает без устали. Главное, разворачивает НИЧТО. Ох, какие ожидают чудеса нас, как бы их предупредить»[84]. Новый разум, по Малевичу, «может быть назван заумным» – открывается аналогия между беспредметной живописью и поэтической заумью. Творческая дружба не случайно связывала Малевича прежде всего с А. Крученых.
Выше в общем виде говорилось о новом характере связей поэзии футуризма с живописью. Теперь чуть подробнее. «Мы хотим, чтобы слово смело пошло за живописью»[85], – писал Хлебников. Неожиданное здесь то, что для слова, которое, по логике Хлебникова, высвобождает человека из плена пространства, он сам выбирает в качестве примера и руководителя именно живопись, искусство пространственное. Он обращается к живописи не затем, чтобы удостоверить («остановить») предмет, закрепить его пространственным представлением, – он хочет другого. У него сама живопись вдруг «взрывает» пространственное восприятие и впереди слова, прежде слова устремляется к измерениям временным. Современная живопись, по убеждению Хлебникова, «связывая материк» (Евразию), обгоняет само слово в подготовке всемирного языка. Главный интерес Хлебникова расположен там, где русские художники, испытавшие воздействие западного эксперимента (фовизм, кубизм, футуризм), искали его соединения с пафосом «гилейской» плоти, ожившей для них языческой старины, с примитивно-прикладным искусством периферии, с первозданностью детского рисунка. Павел Филонов, Наталия Гончарова, Давид Бурлюк – вот осознанные, хотя и разной четкости, центры, вокруг которых чаще обращалась мысль Хлебникова. Но она включала в свою орбиту еще многое другое, подчас неожиданное, – Хокусаи и Мурильо, Боттичелли и «священную живопись храма».
В поэзии Хлебникова есть сильные и интересные прорывы в область «живописи словом». На разных этапах своего пути он создавал поэтические структуры, аналогичные жанрам изобразительного искусства – портрету, пейзажу, натюрморту. В них отразилась его эволюция. На одном ее полюсе замкнутый в себе метафизически-формальный эксперимент-знаменитый «абстрактный портрет» («Бобэбби пелись губы, / Вээбми пелись взоры…»), попытка выразить Лицо «вне протяжения», потребовавшая специального комментария, цветового «словаря». На другом – обычно усложненный, но художественно убедительный образ, исполненный жизненного (социального, психологического, эмоционального) содержания. По условиям издания в настоящий том не вошли стихотворения Хлебникова того же «портретного жанра», вызванные трагедией Поволжья 1921 года. Поэтому приведем отрывки.
Вот беспощадное «золотое», «голубое» лицо Поволжья:
И оно же, написанное с гневом и яростью:
Можно ли такой «портрет» увидеть? И, конкретнее, соответствует ли он какому-либо живописному изображению? И да, и нет.
«Портретный» образ создается в обоих случаях путем соединения многих предметов и качеств, которые при этом сохраняют свое самостоятельное значение. Мы «видим» лицо – с лихорадочными глазами или, наоборот, жуткое слепое, и одновременно перед нами разворачивается пейзаж – раскаленное, неподвижное марево или бескрайний, белый, как саван, снежный простор с полупризрачными селами и городами.
Такой художественный принцип разрабатывался Хлебниковым на протяжении всего творческого пути («Журавль» – 1909; «Азия» – 1921). Говорить в данном случае о прямой связи с живописью было бы натяжкой, ассоциации основаны не только на «зрительном», но гораздо больше на логическом, семантическом принципе. И все же в живописи нечто подобное тоже имеет место, в традиции, идущей от Босха и Питера Брейгеля. В русской живописи начала века можно отметить тенденцию к «уподоблению» разных фактурных поверхностей у Врубеля. Филонов «уподоблял» уже сами предметы. А позже принцип конструирования целого (лица или фигуры) из самостоятельных и разных предметов будет подхвачен некоторыми экспрессионистами и особенно сюрреалистами.
Метафорические возможности поэтического слова практически безграничны. Хлебников владел искусством контекста, и внутри его произведений подобие определенного изобразительного жанра могло возникнуть как бы ненароком, вдруг, однако в логике целого. В антивоенном стихотворении «Где волк воскликнул кровью…» (1915) ведущей является тема продажи («Правда, что юноши стали дешевле?»). Мир уподоблен мясной лавке, и вдруг возникает чудовищно-фантастический «натюрморт», главной составной частью которого, наподобие освежеванной туши, оказывается поэт:
Таковы лишь некоторые, в качестве примеров, аспекты взаимодействия поэзии Хлебникова с изобразительным искусством.
По сравнению с Хлебниковым не столь существенной и убедительной представляется ориентация на живопись в некоторых стихотворениях Бенедикта Лившица. Речь не об уровне поэтических достоинств: он определяется другими свойствами стихов. Лившиц – поэт во многих отношениях замечательный, но в основе своей далекий от футуризма, и с живописью у него отношения не какие-то особенные и принципиальные. Он был знатоком, ценителем живописи, но, в отличие от большинства кубофутуристов, сам не был художником.
Наиболее футуристические стихотворения Лившица «Вокзал» («Ночной вокзал») и «Тепло» привлекали или отталкивали прежде всего тем, что были непонятны. Современники вспоминают, как действовало на них загадочное «Миэерикордией! – не надо лишних мук…» или «Над мертвым – на скамье – в хвостах – виноторговцем» («Вокзал»). В «Полутораглазом стрельце» Лившиц «расшифровал» эти стихотворения, вскрыл их реальную, предметную основу и чуть ли не описал процесс творчества (см. соответствующие примечания). Оказывается, он строил «Вокзал» и – особенно – «Тепло», руководствуясь «каноном сдвинутой конструкции» («аберрация первой степени», «аберрация второй степени» и т. д.) – по принципам современной живописи. Может быть, зря он раскрыл секрет: таинственность содержания исчезла, а «картина» (интерьер вокзала в Николаеве и квартиры Бурлюков в Чернянке) при всех «сдвигах» не воспринимается как произведение изобразительного искусства. Итог авторского комментария примерно такой же, как если бы мы свели анализ знаменитого стихотворения В. Брюсова «Творчество» к рассказу о квартире Брюсова с кафельной печью, комнатными пальмами и видом из окна.
И не случайно период намеренной ориентации на живопись был у Лившица непродолжительным: «…слово, подойдя вплотную к живописи, перестало для меня звучать»[86].
Никто из русских поэтов не был так близко связан с живописью, как Маяковский. И это была особая связь, речь здесь должна идти не о прорывах в область «живописи словом», как у Хлебникова, а о принципе кардинальном, основополагающем. Маяковский подошел к живописи как мастер, увидевший в самих приемах изобразительного искусства возможность для обновления стиха[87].
Разумеется, не всякий зрительный образ у Маяковского можно рассматривать как живописный по своей природе и тем более по конкретным связям с произведениями живописи. Более того – странно, на первый взгляд, но поэзия Маяковского дает не так уж много материала для конкретного сравнения с картинами художников. Все обстоит сложнее и проще одновременно. Живопись вошла в плоть стиха Маяковского, стала элементом его стиля, то есть органически срослась с другими особенностями его мировосприятия. Ранний Маяковский не любит называть свои чувства, он, как живописец, отделяет их от себя, выражая во внешнем, зримом образе. Все сказанное выше о творческом миропонимании и метафорической системе Маяковского может быть рассмотрено и под знаком специфической проблемы «Маяковский и живопись».
Возможны более или менее конкретные сравнения стихов Маяковского с произведениями П. Пикассо, П. Филонова, М. Шагала. Д. Риверы. Но не менее важен другой, мыслимый ряд. В него, кроме названных, входят многие художники, объективно близкие Маяковскому по духу и стилю. Некоторые из них едва слышали о Маяковском, у кого-то он учился, а кто-то испытал его влияние. Ф. Леже и К. Малевич. Г. Гросс и А. Сикейрос, Д. Бурлюк и В. Татлин, Д. Моор и А. Дейнека… Если представить том Маяковского с такого рода «иллюстрациями», то можно лишний раз увидеть, какой серьезный посредник – время, как сложно и разнообразно взаимодействуют во времени отличные друг от друга искусства.
Маяковскому было близко искусство с экспрессионистическим уклоном, самовыражение трагической личности в условиях хаотического мира. Своеобразным «практицизмом» отмечен другой ряд – его связи с «вещизмом», главным образом кубистичес-кого, а отчасти и супрематического направления. Поначалу он и кубизм воспринимал, скорее, поэтически. Повышенное чувство материала, замкнутый в себе предметный эксперимент кубистов подталкивали и обостряли поиск новой поэтической образности, нередко принимавшей у Маяковского нарочито «сделанный» («виньеточный», как он говорил) характер. А потом, уже после революции, он не случайно выделил среди кубистов Леже, увидев в его работе практически полезное искусство-ремесло, способное пойти в быт и на производство. В «левом» искусстве он отчетливо видел тенденцию к прикладничеству и призывал ее развить, превратить в «дело», тогда как она определила драму многих художников нашего века.
Путь Маяковского – особый, но, может быть, именно в нем – по-своему, крупным планом – проявилась общая тенденция и перспектива футуристического творчества. В том смысле, что футуризм не мог продолжаться как специфическое, отдельное литературно-художественное направление – он должен был трансформироваться во что-то другое, перемешаться с жизнью, предстать в ее формах, даже и безотносительных к искусству. С самого начала футуризм был не только искусством – он был общественным поведением, освобождением от норм в широком масштабе, не только от предлогов или запятых. Очевидна разрушительная сила футуризма, и очевидно, с другой стороны, что футуризм вошел в нашу жизнь многими своими элементами, повлиял на наше сознание, психику и. как ни странно, на представление о красоте.
Кубиста Пикассо щедрее всех оценил Ле Корбюзье: Пикассо, по его словам, открыл архитектуру XX века. «Архитектоны» Малевича застряли на стадии проектов – в объектах его идеи воплощены другими зодчими. Корифеи поэтического футуризма Хлебников, Маяковский, Северянин, Крученых оказали – каждый но-своему – чрезвычайное воздействие на поэзию, а в читательский (любительский) обиход входили в сопровождении легенды, смеси былей и небылиц. Кого испугает сегодня «Черный квадрат» Малевича, когда «футуристичны» эстрада, дизайн, реклама? – авангард, оказывается, может стать вполне ручным и доступным, на уровне ширпотреба. При желании можно вменить это в вину футуризму и даже позлорадствовать: вот он. истинный уровень футуризма. Однако проблема по-настоящему трудная и серьезная: говорить здесь, скорее, приходится о неизбежной (и только ли «оборотной»?) стороне демократизации культуры.
А по большому счету – смысл, по-видимому, не в том, чтобы расширять футуризм, именно футуризм, в оба конца (В. Марков относит к футуризму, с одной стороны, Андрея Белого, а с другой – всю Цветаеву, позднего Мандельштама и т. д.). Важнее «отрегулировать» отношения футуризма с другими, «нефутуристическими», направлениями искусства. Любовь к Филонову и Кандинскому не исключает любви к Рембрандту или Левитану. Хлебников и даже Крученых могут вполне ужиться в нашем сознании с Петраркой и Ахматовой. А хорошие и плохие художники есть в составе любого направления. По мере того как мы привыкаем к авангарду, он, за исключением крайностей, перестает быть авангардом и превращается в искусство «нормальное». Понятие «авангард» весомо и пока незаменимо по отношению к живописи, которая в начале века пережила период чрезвычайно резкого новаторства. Применительно к литературе это понятие уже вызывает ряд сомнений. Границы авангарда определять становится все труднее, не снимается, но приглушается со временем сама проблема, малоубедительными становятся конкретные оценки. Крайне сомнительно, например, отнесение к авангарду Пастернака, художника «толстовских» корней. «Авангардного», полемичного по отношению к прошлому неизмеримо больше в поэзии Маяковского, но и здесь значительная доля содержания приходится на свойства романтического в своей основе сознания, в котором борьба и отрицание составляют одну из традиционных сторон. Пастернак не зря при мысли о Маяковском вспоминал бунтующих героев Достоевского. «Бросить» Достоевского с Парохода современности призывал поэт, для которого Достоевский был любимейшим автором и который сам многими свойствами своей натуры принадлежит «миру Достоевского».
Футуризм в рамках конкретного литературно-художественного направления отступил в область истории культуры. Это наша история, один из самых бурных, «некрасивых» и поучительных ее этапов. Нормативная эстетика спотыкается о футуризм, он и сегодня вынуждает ее к поискам обновленных подходов и критериев. Отнесем и это к «урокам» футуризма, изучение которого (не ради оправдания или осуждения) представляется делом не просто интересным, а насущным и необходимым.
В. Альфонсов
Кубофутуристы
Велимир Хлебников*
(1885–1922)
Велимир (Виктор Владимирович) Хлебников дебютировал в печати в 1908 году. В 1910 году его произведения были опубликованы В альманахах «Студия импрессионистов» и «Садок судей», ознаменовавших рождение русского литературного футуризма. Подпись Хлебникова значится под программным манифестом сборника «Пощечина общественному вкусу», увидевшего свет в декабре 1912 года. А в одноименной листовке, вышедшей вслед за сборником, соратники по футуризму объявили Хлебникова «гением – великим поэтом современности», который несет «Возрождение Русской Литературы»[88]. В предисловии к «Творениям» Хлебникова, вышедшим в 1914 году, В. Каменский писал: «Хлебников – это примечательнейшая личность, доходящая в своем скромном, каком-то нездешнем уединении, до легендарной святости, своей гениальной непосредственностью сумел так просто, так убедительно строго пересоздать всю русскую поэзию во имя современного искусства»[89]. Культ Хлебникова, провозглашенный футуристами, был рассчитан на утверждение футуризма в целом.
Сам Хлебников по свойствам натуры не был приспособлен для участия в шумном футуристическом движении: он не умел выступать перед массовой аудиторией и участвовать в публичной полемике, мало заботился об издании своих произведений. Предельная непрактичность и самоуглубленность, органическая неспособность к пребыванию на одном месте и постоянные, внешне бессистемные, перемещения по стране делали невозможным стабильное взаимодействие Хлебникова с футуристами.
Тем не менее участие Хлебникова в движении было по-настоящему весомым и значительным. Принципиальными для футуризма были его книги: «Творения. Том 1: 1906–1908 г.» (М. [Херсон], 1914), «Ряв! Перчатки. 1908–1914 гг.» (СПб., [1914]), «Изборник стихов.1907–1914 гг.» (Пг., 1914), совместная с А. Крученых поэма «Игра в аду» (М., [1912]; 2-е издание – СПб., [1914]); он участвует почти во всех футуристических сборниках; им написаны важные для движения теоретические работы – «Учитель и ученик» (1912), «Битвы 1915–1917: Новое учение о войне» (1914), «Время – мера мира», «Труба марсиан» (обе – 1916), «Наша основа» (1919) и другие.
Общепринятый термин «футуризм» Хлебников заменял придуманным им словом «будетлянство», считая движение «будетлян» глубоко национальным явлением. Визит в Россию в 1914 году Ф. Т. Маринетти вызвал у Хлебникова отрицательную, даже агрессивную реакцию (см. в Приложении листовку В. Хлебникова и Б. Лившица).
Своеобразие личности Хлебникова и уникальный характер его творчества породили почти легендарный образ идеального поэта-изгоя, странника и провидца. При этом многие сомневались в возможности восприятия Хлебникова широким читателем. В. Шкловский в 1926 году писал: «Он писатель для писателей. Он Ломоносов сегодняшней русской литературы. Он дрожание предмета – сегодняшняя поэзия – его звук.
Читатель его не может знать.
Читатель, может быть, его никогда не услышит»[90].
Однако художественные открытия Хлебникова дали веское основание говорить о его «ферментирующем влиянии»[91] (Ю. Тынянов) на русскую поэзию. В. Маяковский, считавший Хлебникова «поэтом для производителя» (для поэтов), утверждал, что он открыл «новые поэтические материки»[92]. Той же мысли придерживались поэты, напрямую не связанные с футуризмом. «Гением и человеком больших прозрений» считал Хлебникова М. Кузмин[93]. Самую выразительную характеристику «гражданину всей истории, всей системы языка и поэзии» дал О. Мандельштам: «Какой-то идиотический Эйнштейн, не умеющий различить, что ближе – железнодорожный мост или „Слово о полку Игореве“. Поэзия Хлебникова идиотична – в подлинном, греческом, неоскорбительном значении этого слова. <…> Каждая его строчка – начало новой поэмы. Через каждые десять стихов афористическое изречение, ищущее камня или медной доски, на которой оно могло бы успокоиться. Хлебников написал даже не стихи, не поэмы, а огромный всероссийский требник-образник, из которого столетия и столетия будут черпать все, кому не лень»[94].
«Люди моей задачи, – сказал в 1921 году Хлебников, – умирают тридцати семи лет». Умер он в деревне Санталово Новгородской губернии.
Заклятие смехом*
<1908–1909>
«Бобэоби пелись губы…»*
<1908–1909>
(Пев. В. И<ванову>)
О Сад, Сад!
Где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную схватку.
Где немцы ходят пить пиво.
А красотки продавать тело.
Где орлы сидят подобны вечности, оконченной сегодняшним еще лишенным вечера днем.
Где верблюд знает разгадку Буддизма и затаил ужимку Китая.
Где олень лишь испуг цветущий широким камнем.
Где наряды людей баскущие.
А немцы цветут здоровьем.
Где черный взор лебедя, который весь подобен зиме, а клюв – осенней рощице – немного осторожен для него самого.
Где синий красивейшина роняет долу хвост, подобный видимой с
Павдинского камня Сибири, когда по золоту пала и зелени леса брошена синяя сеть от облаков и все это разнообразно оттенено от неровностей почвы.
Где обезьяны разнообразно сердятся и выказывают концы туловища.
Где слоны кривляясь, как кривляются во время землетрясения горы, просят у ребенка поесть влагая древний смысл в правду: есть хоууа! поесть бы! и приседают точно просят милостыню.
Где медведи проворно влезают вверх и смотрят вниз ожидая приказания сторожа.
Где нетопыри висят подобно сердцу современного русского.
Где грудь сокола напоминает перистые тучи перед грозой.
Где низкая птица влачит за собой закат, со всеми углями его пожара.
Где в лице тигра обрамленном белой бородой и с глазами пожилого мусульманина мы чтим первого магометанина и читаем сущность Ислама.
Где мы начинаем думать, что веры – затихающие струи волн, разбег которых – виды.
И что на свете потому так много зверей, что они умеют по-разному видеть Бога.
Где звери, устав рыкать, встают и смотрят на небо.
Где живо напоминает мучения грешников, тюлень с неустанным воплем носящийся по клетке.
Где смешные рыбокрылы заботятся друг о друге с трогательностью старосветских помещиков Гоголя.
Сад, Сад, где взгляд зверя больше значит чем груды прочтенных книг. Сад.
Где орел жалуется на что-то, как усталый жаловаться ребенок.
Где лайка растрачивает сибирский пыл, исполняя старинный обряд родовой вражды при виде моющейся кошки.
Где козлы умоляют, продевая сквозь решетку раздвоенное копыто, и машут им, придавая глазам самодовольное или веселое выражение, получив требуемое.
Где полдневный пушечный выстрел заставляет орлов смотреть на небо, ожидая грозы.
Где орлы падают с высоких насестов как кумиры во время землетрясения с храмов и крыш зданий.
Где косматый, как девушка, орел смотрит на небо потом на лапу.
Где видим дерево-зверя в лице неподвижно стоящего оленя.
Где орел сидит, повернувшись к людям шеей и смотря в стену, держа крылья странно распущенными. Не кажется ли ему что он парит высоко под горами? Или он молится?
Где лось целует через изгородь плоскорогого буйвола.
Где черный тюлень скачет по полу, опираясь на длинные ласты с движениями человека, завязанного в мешок и подобный чугунному памятнику вдруг нашедшему в себе приступы неудержимого веселья.
Где косматовласый «Иванов» вскакивает и бьет лапой в железо, когда сторож называет его «товарищ».
Где олени стучат через решетку рогами.
Где утки одной породы подымают единодушный крик после короткого дождя, точно служа благодарственный молебен утиному – имеет ли оно ноги и клюв – божеству.
Где пепельно серебряные цесарки имеют вид казанских сирот
Где в малайском медведе я отказываюсь узнать сосеверянина и открываю спрятавшегося монгола.
Где волки выражают готовность и преданность.
Где войдя в душную обитель попугаев я осыпаем единодушным приветствием «дюрьрак!»
Где толстый блестящий морж машет, как усталая красавица, скользкой черной веерообразной ногой и после прыгает в воду, а когда он вскатывается снова на помост, на его жирном грузном теле показывается с колючей щетиной и гладким лбом голова Ницше.
Где челюсть у белой черноглазой возвышенной ламы и у плоскорогого буйвола движется ровно направо и налево как жизнь страны с народным представительством и ответственным перед ним правительством – желанный рай столь многих!
Где носорог носит в бело-красных глазах неугасимую ярость низверженного царя и один из всех зверей не скрывает своего презрения к людям, как к восстанию рабов. И в нем затаен Иоанн Грозный.
Где чайки с длинным клювом и холодным голубым, точно окруженным очками глазом, имеют вид международных дельцов, чему мы находим подтверждение в искусстве, с которым они похищают брошенную тюленям еду.
Где вспоминая, что русские величали своих искусных полководцев именем сокола и вспоминая, что глаз казака и этой птицы один и тот же, мы начинаем знать кто были учителя русских в военном деле.
Где слоны забыли свои трубные крики и издают крик, точно жалуются на расстройство. Может быть, видя нас слишком ничтожными, они начинают находить признаком хорошего вкуса издавать ничтожные звуки? Не знаю.
Где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности, как вписанное в часослов слово Полку Игорови.
(В. Каменскому)
<Восстание вещей>
Конь Пржевальского*
<1912>
<1912>
«Небо душно и пахнет…»*
<1912>
Игра в аду*
Мудрость в силке*
Утро в лесу
<1914>
Ночь в Галиции*
«Ни хрупкие тени Японии…»*
<1915>
«Где волк воскликнул кровью…»*
<1915>
Печальная новость 8 апр. 1916*
<1917>
«Свобода приходит нагая…»*
<1917>
«В этот день голубых медведей…»*
<1919>
«Детуся! Если устали глаза быть широкими…»*
13/IX – 1921
Одинокий лицедей*
Конец 1921 – начало 1922
«Еще раз, еще раз…»*
<1922>
Давид Бурлюк*
(1882–1967)
«И тут из провинции приехал Давид Бурлюк. <…> Гениальный организатор, художник большого мастерства, человек, сознательно изменяющий живопись. Человек в ободранных брюках, одноглазый, остроумный и с лорнетом.
Вот тут и зашумело.
Он ссорил и понимал. И в своем плацдарме в живописи понимал хорошо, соединял, нападал. Ходил в Эрмитаж, зарисовывал мускулы и сознательно писал новое.
Это был вождь»[95]. В этой характеристике В. Шкловский отметил главное, что определяет место Давида Давидовича Бурлюка в истории русского футуризма, – его организаторский талант. Именно ему принадлежит решающая роль в запуске маховика футуристического механизма.
Начинал Бурлюк как художник. Он учился живописи в Казани, Одессе и Мюнхене. Входил в группу «Венок – Стефанос». Участвовал в выставке «Бубновый валет» (декабрь 1910 – январь 1911) и в дальнейшем был активным членом одноименного общества художников.
В 1910 году Д. Бурлюк дебютировал как поэт в двух альманахах, положивших начало русскому футуризму, – «Студия импрессионистов» и «Садок судей» (оба – СПб., 1910).
Именно Бурлюк сплотил вокруг себя группу поэтов и художников, названных позже кубофутуристами.
Одно из самых значительных открытий Бурлюка – Маяковский-поэт. «Маяковского он поднес на блюде публике, разжевал и положил в рот. Он был хорошим поваром футуризма и умел „вкусно подать“ поэта», – писал позже В. Шершеневич[96]. Это подтверждал и сам Маяковский: «Всегдашней любовью думаю о Давиде. Прекрасный друг. Мой действительный учитель. Бурлюк сделал меня поэтом»[97]. Заботился Бурлюк и о других поэтах (значительна, например, его роль в издании произведений В. Хлебникова).
Д. Бурлюк был организатором многочисленных публичных выступлений футуристов, в том числе турне по югу России зимой 1913–1914 годов. Он был инициатором и активным участником многих кубофутуристических изданий; при этом первый персональный сборник самого Бурлюка – «Лысеющий хвост» – вышел лишь в 1919 году (в Кургане).
В глазах общественности Д. Бурлюк являлся своеобразной персонификацией русского футуризма. Его скандальные выступления, вызывающий антиэстетизм в поэзии и живописи, экстравагантный внешний вид зачастую воспринимались как сущность футуристического движения. Известный театральный деятель Н. Евреинов вспоминал, что «одно время выражение „бурлюкать“ было принято в наших художественных кругах как terminus technicus[98]».[99] Бытовавшие в то время неологизмы «бурлюкать», «бурлюканье», «бурлючье» приводит в своих мемуарах и Б. Лившиц[100]. В реальном плане обобщение «Бурлюки» подтверждается тем, что в движении, кроме Давида Бурлюка, участвовали его братья – поэт Николай и художник Владимир, а эпизодически и сестры – Людмила, Марианна и Надежда. «„Бурлюки“, – вспоминает художник А. Лентулов, – это уже название собирательное, ставшее в конце концов нарицательным»[101]. Однако тот же Лентулов указывает и на двойственность личности Д. Бурлюка: «По натуре Бурлюк был семьянин-обыватель, не стремящийся к роскоши. Он был очень неприхотливым, очень экономным человеком и никогда не позволял себе ничего лишнего, экономя средства, выдаваемые папашей.
Трудно было разобраться, где настоящий, подлинный Бурлюк. Кто он на самом деле? Ярый анархист, апологет футуризма или просто обыкновенный мещанин?»[102]
Одно из названий группы кубофутуристов – «Гилея» – восходит к древнегреческому названию области в Скифии, в устье Днепра, где в 1907–1914 годах жила семья Бурлюков. «Бурлючий кулак, – вспоминает Лившиц, – вскормленный соками древней Гилей, представлялся мне наиболее подходящим оружием для сокрушения несокрушимых твердынь»[103].
После революции, в марте 1918 года, Д. Бурлюк уехал из Москвы. В 1918–1920 годах он ездил по городам Урала, Сибири и Дальнего Востока, пропагандируя современное искусство. Участвовал в дальневосточном журнале «Творчество». В 1920 году Д. Бурлюк отбыл в Японию, а в сентябре 1922 года – в США ставшие постоянным местом его проживания (американское гражданство он получил в 1930 году). Дважды, в 1956 и 1965 годах, Бурлюк посещал СССР.
«Какой глухой слепой старик!..»*
«Внизу журчит источник светлый…»*
«Стальные, грузные чудовища…»*
«Кто стоял под темным дубом…»*
Инструментовано на «С»
«Среди огней под черным небом…»*
«ТРУБА БЫЛА зловеще ПРЯМОЙ…»*
Праздно голубой*
<1910>
Зеленое и голубое*
<1910>
«Шестиэтажный возносился дом…»*
«Немая ночь людей не слышно…»*
<1910>
«Со звоном слетели проклятья…»*
<1910>
«Монах всегда молчал…»*
<1910>
«ЛАЗУРЬ БЕСЧУВСТВЕННА, – я убеждал старуху…»*
«Какой позорный черный труп…»*
«Рыдаешь над сломанной вазой…»*
<1912>
«Зазывая взглядом гнойным…»*
<1912>
«Поля черны, поля темны…»*
«ПЛАТИ – покинем НАВСЕГДА уюты сладострастья…»*
Незаконорожденные*
<1913>
Мертвое небо*
<1913>
«Я пью твоих волос златые водоемы…»*
<1913>
«Закат Прохвост обманщик старый…»*
<1913>
<1913>
«Закат маляр широкой кистью…»*
<1913>
«Глубился в склепе, скрывался в башне…»*
Там вопли славословий глуше
Среди возвышенных громад
<1914>
«Луна старуха просит подаянья…»*
<1914>
Зимнее время*
ОН (шепчет):
<1914>
«Солнцу светить ведь не лень…»*
<1914>
«Ушел и бросил беглый взгляд…»*
<1914>
«Часы толпа угрюмых старцев…»*
<1914>
«Ты нюхал облака потливую подмышку…»*
<1914>
«Серые дни…»*
<1914>
Железнодорожные посвистывания*
<1914>
Зимний поезд*
<1914>
<1914>
Железная дорога*
<1914>
Поэтический ключ.
<1914>
Поющая ноздря*
Ростов Дон
Плодоносящие*
<1915>
«Пространство = гласных…»*
<1915>
Андрею Акимовичу Шемшурину
<1915>
Превосходства*
<1915>
«Звуки на а широки и просторны…»*
<1915>
«Кинулся – камни, а щелях живут скорпионы…»*
<1916>
Хор блудниц*
<1916>
Аршин гробовщика*
<1916>
Владимир Маяковский*
(1893–1930)
17 ноября 1912 года в петербургском артистическом кафе «Бродячая собака» впервые выступил перед публикой начинающий поэт Владимир Маяковский. Через месяц его имя появилось под вызывающим манифестом, открывающим футуристический альманах «Пощечина общественному вкусу», рядом с именами Д. Бурлюка, А. Крученых и В. Хлебникова. В этом же сборнике впервые были представлены читателям его стихотворения. Пройдет не больше года, и Владимир Владимирович Маяковский займет одно из центральных мест в русском футуризме. Первому выступлению в печати предшествовали учеба в кутаисской и московской гимназиях, участие в революционной работе, три ареста, поступление в Училище живописи, ваяния и зодчества. Здесь произошло знакомство Маяковского с Д. Бурлюком, открывшим в нем поэта и взявшим его под свою опеку. «Пришлось писать, – вспоминал позже Маяковский. – Я и написал первое (первое профессиональное, печатаемое) – „Багровый и белый“ и другие»[104].
Маяковский вошел в русскую литературу резко и решительно. «С Маяковским произошло так, – писала М. Цветаева. – Этот юноша ощущал в себе силу, какую – не знал, он раскрыл рот и сказал: „Я!“ Его спросили: „Кто – я?“ Он ответил: „Я: Владимир Маяковский“. – „А Владимир Маяковский – кто?“ – „Я!“ И больше, пока, ничего. А дальше, потом, – всё»[105].
В 1913 году выходит первая книжка Маяковского «Я!», включившая цикл из четырех стихотворений и отпечатанная излюбленным футуристами литографическим способом. Произведения Маяковского публикуются во многих футуристических изданиях. Он много выступает перед публикой, дерзость его стихов, вызывающее поведение и эпатирующий внешний вид (знаменитая желтая кофта) часто приводили к тому, что выступления заканчивались скандалами и даже вмешательством полиции. Не случайно позже Ю. Тынянов писал, что Маяковский «был уличным происшествием. Он не доходил в виде книги»[106]. Этапными для истории русского футуризма стали постановка в декабре 1913 года трагедии «Владимир Маяковский», зимнее турне 1913–1914 годов по городам юга России, в котором Маяковский принимал участие, и выход в свет поэмы «Облако в штанах» (Пг., 1915). Не удивительно, что критики по Маяковскому часто оценивали футуризм в целом и ему, «Далай-Ламе от футуризма»[107], адресовали претензии, предназначенные для всего футуристического движения: «Ныне вся Россия знает, что есть на свете такой Маяковский, Крученых и подобные им. Для них важно, что к их тусклым характеристикам прикреплен ярлык руководителей нового движения, скандалом и рукоприкладством прокладывающего путь сквозь пеструю беспринципность нашего века.
И во имя этой Геростратовой славы, во имя хотя какой-либо известности вот уже третий год поджигаются зловонные петарды безобразнейших скандалов, заваливают нечистотами не только свое, но и вообще всякое искусство»[108].
Особое положение Маяковского в футуризме подтверждала первая книга о поэте «Стихи В. Маяковского: Выпыт» А. Крученых (СПб., 1914), носившая декларативный характер и касавшаяся общих вопросов движения:
«Маяковский – заговорившая жестяная рыба!
у него не душа а футуристский оркестр.
где приводимые в ход электричеством молотки колотят в кастрюли!
так жутко видеть не сердце а барабан водосточную трубу и трещотку.
и он дурит он пугает когда изображает безумие
в этом то наше (я говорю о будетлянах, т. наз. „кубофутуристах“) спасение!
безумие нас не коснется хотя, как имитаторы безумия, мы перещеголяем и Достоевского и Ницше!
хотя мы знаем безумие лучше их и заглядывали в него глубже певцов полуночи и хаоса!
ибо Хаос в нас и он нам не страшен!..»[109]
Однако некоторые критики, напротив, противопоставляли творчество Маяковского футуристической эстетике. Особенно настойчив в этом был К. Чуковский, писавший, что «Маяковский иллюзионист, визионер, Маяковский импрессионист, он им (футуристам. – Сося,) чужой совершенно, он среди них случайно, и сам же Крученых не прочь порою похихикать над ним»[110]; что город для Маяковского «не восторг, не пьянящая радость, а распятие, Голгофа, терновый венец, и каждое городское видение – для него словно гвоздь, забиваемый в самое сердце»[111]; что Маяковский «это кликуша, неврастеник, горластый, ему бы метаться по площади и кричать, рыдая: гниды вы! Его синтаксис бессвязен, его слова – сумасшедшие, но в них ударность, надрыв. И его косноязычие только придает ему мощь. Никогда не шепчет, не поет, всегда кричит из последнего голоса, до хрипоты, до судорог – и когда привыкнешь к его надсадному крику, почувствуешь здесь подлинное»[112].
Исключительность места Маяковского в истории русского футуризма отмечал в своих воспоминаниях Б. Пастернак: «Между тем в воздухе уже висела судьба гадательного избранника. Почти можно было сказать, кем он будет, но нельзя было еще сказать, кто будет им. По внешности десятки молодых людей были одинаково беспокойны, одинаково думали, одинаково притязали на оригинальность. Как движенье новаторство отличалось видимым единодушьем. Но, как в движеньях всех времен, это было единодушье лотерейных билетов, роем взвихренных розыгрышной мешалкой. Судьбой движенья было остаться навеки движеньем, то есть любопытным случаем механического перемещенья шансов, с того часа, как какая-нибудь из бумажек, выйдя из лотерейного колеса, вспыхнула бы у выхода пожаром выигрыша, победы, лица и именного значенья. Движенье называлось футуризмом. Победителем и оправданьем тиража был Маяковский»[113].
Революция 1917 года многое изменила во взглядах Маяковского на роль искусства в обществе, но многое он, главным образом поначалу, и унаследовал от футуризма. В 1918 году в «Открытом письме рабочим» он пишет: «Революция содержания – социализм-анархизм – немыслима без революции формы – футуризма»[114].
В последний период творчества (1924–1930), создавая искусство государственного назначения, Маяковский от футуризма практически отказался.
«У-/лица…»*
«На чешуе жестяной рыбы…»*
<1913>
Владимир Маяковский*
[В печатном издании произведение дается в виде репринта оригинальной книги с иллюстрациями Бурлюков, здесь – только текст по ПСС Маяковского]
Владимир Маяковский (поэт 20–25 лет).
Его знакомая (сажени 2–3. Не разговаривает).
Старик с черными сухими кошками (несколько тысяч лет).
Человек без глаза и ноги.
Человек без уха.
Человек без головы.
Человек с растянутым лицом.
Человек с двумя поцелуями.
Обыкновенный молодой человек.
Женщина со слезинкой.
Женщина со слезой.
Женщина со слезищей.
Газетчики, мальчики, девочки и др.
В. Маяковский
Первое действие
Весело. Сцена – город в паутине улиц. Праздник нищих. Один В. Маяковский. Проходящие приносят еду – железного сельдя с вывески, золотой огромный калач, складки желтого бархата.
В. Маяковский
Входит старик с черными сухими кошками. Гладит. Весь – борода.
В. Маяковский
Сцена постепенно наполняется. Человек без уха. Человек без головы и др. Тупые. Стали беспорядком, едят дальше.
В. Маяковский
Старик с кошками
Человек без уха
Все в волнении.
Еще тревожнее.
Старик с кошками
Человек с растянутым лицом
Человек без уха
Человек с растянутым лицом (радостно поддакивает).
В. Маяковский (поднял руку, вышел в середину).
(Остановился.)
(Остановился.)
Срывает покрывало. Громадная женщина. Боязливо. Вбегает Обыкновенный молодой человек. Суетится.
В. Маяковский (в стороне – тихо).
Обыкновенный молодой человек
(подбегает к каждому, цепляется).
Человек без уха
Человек без уха
Обыкновенный молодой человек
Тревога. Гудки. За сценой крики: «Штаны, штаны!»
В. Маяковский
Обыкновенного молодого человека обступают со всех сторон.
Обыкновенный молодой человек
(На коленях.)
Тревога выросла. Выстрелы. Начинает медленно тянуть одну ноту водосточная труба. Загудело железо крыш.
Человек с растянутым лицом
Человек без уха
Вступают удары тысячи ног в натянутое брюхо площади.
Человек с растянутым лицом
Волнение не помещается. Все вокруг громадной женщины. Взваливают на плечи. Тащат.
Дотаскивают до двери. Оттуда торопливые шаги. Человек без глаза и ноги. Радостный. Безумие надорвалось. Женщину бросили.
Человек без глаза и ноги
Второе действие
Скучно. Площадь в новом городе. В. Маяковский переоделся в тогу. Лавровый венок. За дверью многие ноги.
Человек без глаза и ноги (услужливо).
В. Маяковский
Робко. Женщины с узлами. Много кланяются.
В. Маяковский (беспокойно).
(Следующей.)
(беспечно).
В. Маяковский
В. Маяковский
Человек с двумя поцелуями. Все оглядывают. Говорят вперебой.
Человек без головы
Человек с двумя поцелуями
В. Маяковский
Человек с двумя поцелуями
Человек с двумя поцелуями
(танец с дырявыми мячами).
Вбежавшие дети-поцелуи (резво).
Каждый кладет слезу.
В. Маяковский
Старик с одной ощипанной кошкой
(На груду слёз.)
В. Маяковский
Не дают. В. Маяковский неуклюже топчется, собирает слезы в чемодан. Стал с чемоданом.
В. Маяковский
«Послушайте!..»*
Мама и убитый немцами вечер*
Облако в штанах*
Себе, любимому, посвящает эти строки автор*
<1918>
Алексей Крученых*
(1886–1968)
«Бука русской литературы»[115], «enfant terrible»[116][117] русского футуризма, Алексей Елисеевич Крученых был одним из самых радикальных и последовательных деятелей русского авангарда. Никто из футуристов не встретил такого непонимания и не подвергался такой уничижительной критике, как Крученых. Неутомимый полемист, организатор, теоретик, издатель, он всегда находился в эпицентре футуристической активности и самим своим присутствием эту активность создавал.
Сближение Крученых с будетлянами относится к 1912 году (хотя его знакомство с Д. Бурлюком произошло раньше). Тогда же состоялся его литературный дебют – вышли книги «Игра в аду» (в соавторстве с В. Хлебниковым) и «Старинная любовь» (обе – М., 1912), охарактеризованные одним из критиков как «безнадежное убожество при такой ухарской позе»[118].
Подпись Крученых появляется под манифестом «Пощечина общественному вкусу», его произведения публикуются в нескольких футуристических альманахах. В 1913 году в Москве выходит этапный для Крученых и всего русского футуризма сборник «Помада», в котором, кроме прочих, помещено заумное стихотворение «Дыр бул щыл…» – самое известное произведение его автора. Крученых серьезно принимается за разработку теории заумного языка, в основу которой легла его «Декларация слова, как такового» (СПб., 1913).
В декабре 1913 года в петербургском театре «Луна-парк» была поставлена опера «Победа над солнцем» (текст Крученых, пролог Хлебникова, музыка М. Матюшина, декорации К. Малевича), ставшая одним из кульминационных событий в истории русского футуризма.
Крученых много издается. Он является инициатором уникальных литографических книг, позволивших объединить усилия лучших авангардистских литераторов и живописцев. Книги самого Крученых оформляли М. Ларионов, Н. Гончарова, К. Малевич, О. Розанова, В. Татлин, Н. Кульбин.
Второй период футуристической деятельности Крученых связан с тифлисской группой «41°», которую он и И. Зданевич организовали в 1918 году. Крученых не отказывается от своих радикальных взглядов на современное искусство, продолжает развивать теорию зауми и активно пропагандирует заумную поэзию.
После возвращения в Москву в 1922 году Крученых предпринимает попытку включиться в работу группы «Леф», однако слишком умеренные, по его мнению, эстетические принципы лефовцев его не устраивают, и он продолжает свою литературную деятельность в одиночку. Теории словотворчества и зауми, развиваемые Крученых, естественно, не могли прижиться в советской литературе. Книги теории и поэзии «Фактура слова: Декларация. (Книга 120-ая)» (М., 1922; на обложке – 1923), «Сдвигология русского стиха: Трахтат обижальный. (Трактат обижальный и поучальный). Книга 121-ая» (М., 1922) и «Апокалипсис в русской литературе: Книга 122-ая» (М., 1923) явились, по существу, итоговыми работами Крученых. После этого ему удается издать еще несколько брошюр, а также неопубликованные произведения Хлебникова. Последняя выпущенная им книга датирована 1934 годом.
И.Терентьев, один из поздних футуристов, писал: «Крученых самый прочный футурист как поэт и как человек.
Его творчество – крученый стальной канат, который выдержит любую тяжесть»[119]. Но феномен Крученых оценивали не только его соратники по кубофутуризму и их продалжатели – заумники. П. Флоренский, Б. Пастернак, К. Чуковский, О. Мандельштам и другие признавали как безусловно состоявшийся факт поэтические эксперименты Крученых или по меньшей мере его «патетическое и напряженное отношение к поэзии»[120].
3 стихотворения написанные на собственном языке От др. отличается: слова его не имеют определенного значения
<1913>
«я жрец я разленился…»*
<1913>
«мир гибнет…»*
<1913>
«ГО ОСНЕГ КАЙД…»*
(написано на языке собственного изобретения)
<1913>
«ЗАБЫЛ ПОВЕСИТЬСЯ…»*
<1913>
«Я в ЗЕМЛЮ ВРОС…»*
<1913>
<1913>
Смерть художника*
<1913>
«…Суровый идиот я грохнулся на стол…»*
<1913>
«КОРОЛЬ ДЕРЖИТ ЧЕРТА…»*
<1913>
Победа над Солнцем*
Чернотворские вестучки
Люди! Те кто родились, но еще не умер. Спешите идти в созерцог или созерцавель
Будетлянин.
Созерцавель поведет вас,
Созерцебен есть вождебен,
Сборище мрачных вождей
От мучав и ужасавлей до веселян и нездешних смеяв и веселогов пройдут перед внимательными видухами и созерцалями и глядарями: мина вы, бывавы, певавы, бытавы, идуньи, зовавы, величавы, судьбоспоры и малюты.
Зовавы позовут вас, как и полунебесные оттудни.
Минавы расскажут вам, кем вы были некогда.
Бытавы – кто вы, бывавы – кем вы могли быть.
Малюты утроги и утравы расскажут, кем будете.
Никогдавли пройдут, как тихое сновидение.
Маленькие повелюты властно поведут вас.
Здесь будут иногдавли и воображавли.
А с ними сно и зно.
Свироги и песноги утрут слезу.
Воин, купец и пахарь. За вас подумал грезничий песнило и снахарь.
Беседни и двоиры певиры пленят вас.
Силебен заменит хилебен.
1-ые созерцины – тогда-то созерцавель есть преображавель.
Грозноглагольные скоропророчащие идуты потрясут.
Обликмены деебна в полном ряжебне пройдут, направляемые указуем волхвом игор, в чудесных ряжевых, показывая утро, вечер дееск, по замыслу мечтахаря, сего небожителя деин и дея деесь.
В детинце созерцога «Будеславль» есть свой подсказчук.
Он позаботится, чтобы говоровья и певавы шли гладко не брели розно, но достигнув княжебна над слухатаями, избавили бы людняк созерцога от гнева суздалей.
Смотраны написанные худогом, создадут переодею природы.
Места на облаках и на деревьях и на китовой мели занимайте до звонка.
Звуки несущиеся из трубарни долетят до вас.
Пользумен встретит вас.
Грезосвист пениствора наполнит созерцебен.
Звучаре повинуются гуляру-воляру.
Семена «Будеславля» полетят в жизнь.
Созерцебен есть уста!
Будь слухом (ушаст) созерцаль!
И смотряка.
В. Хлебников.
ПОБЕДА НАД СОЛНЦЕМ
Опера в 2 деймах 6 картинах.
Музыка М. В. Матюшина, декорации Каз. С. Малевича
1-ая картина: Белое с черным – стены белые пол черный
(Двое будетлянских силачей разрывают занавес)
Все хорошо, что хорошо начинается!
А кончается?
(1-й силач медленно уходит)
2-й силач:
(Является Нерон и Калигула в одном лице у него только левая поднятая и согнутая под прямым углом рука).
Н. и К. (Грозно).
(С благородным жестом застывает, потом поет во время пения уходит 2-й силач).
(Въезжает в колесах самолетов путешественник по всем векам – на нем листы с надписью каменный век средние века и проч… Нерон в пространство).
Нерон и К.
– Непозволительно так обращаться со стариками
Путешественник
(Нерон осторожно посматривает в лорнет на железо колес).
Путешественник
Нерон и К.
Непозволительно так обращаться со стариками! они любят молодых
Ух я искал пенночку
Искал маленький кусочек стекол – все съели даже не оставили костей…
Ну что ж делать уйду искосью в XVI век в кавычки сюда.
(Отходит полуобернувшись к зрителям).
(Снимает сапоги уходит).
Путешественник.
Я буду ездить по всем векам, я был в 35-м там сила без насилий и бунтовщики воюют с солнцем и хоть нет там счастья но все смотрят счастливыми и бессмертными… Неудивительно что я весь в пыли и поперечный…Призрачное царство… Я буду ездить по всем векам хоть и потерял две корзины пока не найду себе места.
(Некий злонамеренный подползает и слушает).
В афибе мне мало в подземном темно… Светил… Но я все изъездил (к зрителям): Пахнет дождевым провалом
Глаза лунатиков обросли чаем и моргают на небоскребы и на винтовых лестницах поместились торговки… Верблюды фабрик уже угрожают жареным салом а я не проехал еще и одной стороны. Что то ждет на станции.
О я смел закопчу путь свой и следа не оставлю… Новое…
(Некий злонамеренный).
– Ты что ж неужели в самом деле полетишь?
Путешественник.
А что ж? Что колеса мои не найдут своих гвоздей?
(Некий стреляет, Путешественник укачивает кричит).
(Тогда злонамеренный ложится и покрывает себя ружьем).
(Показывается будетлянский пулемет останавливается у телеграфного столба).
– Ох жалоба! Что значит вид что поставил вразсплох своего врага – задумался.
Я без продолжения и подражания
(Входит забияка, разгуливает и поет)
(Некий нападает, стреляет молча несколько раз из ружья).
Ха-ха-ха! Неприятели, что вы устали или не узнаете? Враги наступайте из решеток щелей вызьшайте меня на поединок. Я сам сломал свое горло, обращусь в порох, вату, крючок и петлю… Или вы думаете крючок сласнее ваты?
(убегает и через минуту возвращается).
Кички в капусте!..
А… за перегородкой! Тащи его мертвеца синеносого
(Неприятель тащит самого себя за волосы ползет на коленях).
А трус сам себя выдаешь и проводишь!
(Забияка в стороне смеется).
Забияка – Презренный сколько в тебе могильной пыли и стружек пойди вытрусись и умойся не то…
(Неприятель плачет)
Злонамеренный: А, темя неприятеля! ты меня считаешь за вилку и думу мою высмеиваешь но я ожидал и не шел на тебя с мечом.
Я продолжение своих путей.
Я ожидал… Закопал свой меч осторожно в землю и взявши новый мяч бросил его.
(Показывает прием футболиста).
В ваше стадо… Теперь смущены… Обморочены не можете различить своих гладких голов и мяча растерялись и прижались к скамеечке и мечи сами лезут со страху в земь их пугает мяч;
если неверный бежь поразишь голову своего хозяина и будет он бегать за нею в цветочном продавальце…
2-я картина. Зеленые стены и пол.
(Проходят вражеские воины в костюмах турков по хромому от сотни – с опущенными знаменами некоторые из них очень жирны).
(Один из воинов выступает и дает злонамеренному цветы – тот топчет их).
Злонам. – Выйти на встречу себе с пегим конем ружье под мышкой… А!
Я тебя давно искал наконец то вспотевший гриб.
(Затевает с собою драку. Входят певцы в костюмах спортсменов и силачи. Один из спортсменов поет):
1-й силач.
2-й силач.
1-й силач.
Оба силача (поют).
3-я картина. Черные стены и пол
(Входят похоронщики. Верхняя половина белая и красная нижняя черная).
4-я картина.
(Разговорщик по телефону):
(Входят несущие солнце – сбились так что солнца не видно):
Знайте что земля не вертится
– Надо учредить праздник: День победы над солнцем.
Солнце железного века умерло! Пушки сломаны пали и шины гнутся как воск перед взорами!
Разговорщик: что?.. Надеящийся на огонь пушки еще сегодня будет сварен с кашей!
ДЕСЯТЫЙ СТРАН
2-я деймо 5-ая картина.
изображены дома наружными стенами но окна странно идут внутрь как просверленные трубы много окон, расположенных неправильными рядами и кажется что они подозрительно движутся.
(Показывается «Пестрый глаз»):
прошлый уходит
быстрым паром
и задвигает засов
и череп скамейкой ускакал в дверь
(убегает как бы наблюдая за черепом)
(входят с одной стороны новые
с др. трусливые):
новые: мы выстрелили впрошлое
трус: что же осталось что нибудь?
– ни следа
– глубока ли пустота?
– проветривает весь город. Всем стало легко дышать и многие не знают что с собой делать от чрезвычайной легкости. Некоторые пытались утопиться, слабые сходили с ума, говоря: ведь мы можем стать страшными и сильными.
Это их тяготило
Трусл. Не надо было показывать им проложенных путей,
удерживайте толпу.
Новые. Один принес свою печаль, возьмите она мне теперь не нужна! он вообразил также что внутри у него светлее чем вымя пусть покружится
как необычайна жизнь без прошлого
С опасностью но без раскаяния и воспоминаний…
Забыты ошибки и неудачи надоедливо пищавшие в ухо вы уподобляетесь ныне чистому зеркалу или богатому водовместилищу где в чистом гроте беззаботные златые рыбки виляют хвостами кк турки благодарящие
(потревоженный – он спал – входит толстяк)
голова на 2 шага сзади – обязательно! все-то отстает!
где закат? уберусь… светится… у меня все видно дома… скорей надо убираться…
(поднимает что-то): кусок самолета или самовара
(пробует на зуб)
сероводород!
видно адская штука возьму про запас… (прячет).
(чтец спеша):
я все хочу сказать – вспомните прошлое
полное тоски ошибок…
ломаний и сгибания колен… вспомним и сопоставим с настоящим… так радостно:
освобожденные от тяжести всемирного тяготения мы прихотливо располагаем свои пожитки кк будто
перебирается богатое царство
(толстяк поет):
(Чтец перебивая): или вы не чувствуете кк живут два мяча: один закупоренный кисленький и тепленький и другой бьющий из подземелья кк вулкан опрокидывающий…
(музыка)
они несовместимы… (музыка силы)
лишь черепа обгрызанные бегают на единственных четырех ногах – вероятно это черепа основ… (уходит).
6-ая картина.
10-ые страны… окна все внутрь проведены дом загорожен живи тут кк знаешь
Ну и 10-ые страны! вот не знал что придется сидеть взаперти
ни головой ни рукой двинуть нельзя развинтятся или сдвинутся а как тут топор действует окаянный обстриг всех нас ходим мы лысые и не жарко а только парко такой климат скверный даже капуста и лук не растут а базар – где он? – говорят на островах…
а вот бы забраться по лестнице в мозг этого дома открыть там дверь № 35 – эх вот чудеса! да, все тут не тк-то просто хоть свиду что комод – и все! а вот блуждаешь блуждаешь
(лезет куда то в верх)
нет не тут все дороги перепутались и идут вверх к земле а боковых ходов нет… эй кто там наш есть подай веревку или голос стреляй… ксть! пушки из березы – подумаешь!
вот пожалуйте вход прямо назад выйдете… а другого нет нет или прямо вверх к земле
– да страшновато
– ну как хотите
толстяк: завести бы часы свои.
эй оглобля куда у вас поворачиваются часы? стрелка?
внимательный рабочий:
назад обе сразу перед обедом а теперь только башня, колеса – видишь? (старожил уходит)
толстяк: ба, ой упаду (заглядывает в разрез часов: башня небо улицы вниз вершинами – кк в зеркале)
где бы заложить часы?
не мечтайте не пощадят! Что же высчитайте быстрота ведь сказывается, на два корневых зуба если класть по вагону старых ящиков да их пересыпать желтым песком да все это и пустить тк то сами подумайте
ну самое простое что они наскочат на ккую нибудь этакую трубу в кресле ну а если нет? ведь там народ весь забрался куда то тк высоко что ему и дела нет кк там чувствуют себя паровозы их копыта и проч. ну естественно!
ну а впрочем я оставляю все по прежнему (уходит)
(Толстяк из окна):
да да пожалуйте вот вчера был тут телеграфный столб а сегодня буфет, ну а завтра будут наверно кирпичи.
это у нас ежедневно случается никто не
знает где остановка и где будут обедат
эй ты прими ноги – (уходит через окно вверху)
(шум пропеллера за сценой, вбегает молодой человек: поет испуганный мещанскую песню):
(слышен шум пропеллера)
(идут спортсмены в такт линиям зданий):
сюда… все бежит без противления
сюда направляются со всех сторон пути
паровозят сто копытца
обгоняют обманывают неловких
будетлянские страны будут
кого беспокоят эти проволки пусть обернется спиной
(музыка – стук машин)
(необыкновенный шум – падает аероплан – на сцене видно поломанное крыло)
з… з… стучит стучит женщину задавило мост опрокинул
(после падения часть бросается к аероплану, а часть смотрящих):
1-й; с виду на сиду большое
закуверкалай зачесался
спренькурезал стор дван ентал ти те
3-й – амда курло ту ти ухватилось у сосало
(авиатор за сценой хохочет, появляется и все хохочет):
Ха-ха-ха я жив
(и все остальные хохочут)
я жив только крылья немного потрепались да башмак вот!
(поет военную песню):
входят силачи:
все хорошо, что хорошо начинается
и не имеет конца
мир погибнет а нам нет
конца!
(Занавес).
Памяти Елены Гуро*
Из тетради заметок А. Крученых
<1914>
«копи богатства беги отца…»*
<1914>
На Удельной*
<1917>
«Искариоты вы…»*
<1917>
«Я поставщик слюны АППЕТИТ на 30 стран…»*
<1919>
«Я прожарил свой мозг на железном пруте…»*
<1919>
«Орман орган гаримон ха…»*
<1918>
«Кокетничая запонками…»*
<1920>
«И так плаксиво пахнут…»*
<1920>
«Дым накрашенных…»*
<1920>
Лунатизм вокзала*
<1920>
«на всех заковулках…»*
<1920>
<1920>
«Зев тыф сех…»*
<1920>
«фантазм…»*
<1920>
«это паук в бензине…»*
<1920>
«От вздрогнувшей стены…»*
ПРИМЕЧАНИЕ: последние 4 строчки читаются нараспевмаршем. (Прим. автора.)
<1922>
«В полночь я заметил…»*
В полночь я заметил на своей простыне черного и твердого,
величиной с клопа
в красной бахроме ножек.
Прижег его спичкой. А он, потолстел без ожога, как повернутая дном железная бутылка…
Я подумал: мало было огня?…
Но ведь для такого – спичка как бревно!..
Пришедшие мои друзья набросали на него щепок, бумаги с керосином – и подожгли…
Когда дым рассеялся – мы заметили зверька,
сидящего в углу кровати
в позе Будды (ростом с 1/4 аршина)
И, как би-ба-бо ехидно улыбающегося.
Поняв, что это ОСОБОЕ существо,
я отправился за спиртом в аптеку
а тем временем
приятели ввертели ему окурками в живот
пепельницу.
Топтали каблуками, били по щекам, поджаривали уши,
а кто-то накаливал спинку кровати на свечке.
Вернувшись, я спросил:
В темноте тихо ответили:
– Все уже кончено!
– Нет, сам застрелился…
ПОТОМУ ЧТО, сказал он,
В ОГНЕ Я УЗНАЛ НЕЧТО ЛУЧШЕЕ!
<1922>
<1922>
Василий Каменский*
(1884–1961)
«Я не знаю другого поэта, – писал о Василии Васильевиче Каменском известный театральный деятель Н. Евреинов, – от которого так разило бы юностью с ее улыбками, прыжками, непосредственным подходом к труднейшим проблемам жизни, бесшабашностью, голубоглазием веры и песнями, песнями, песнями!
У него настоящая магия преображения Времени! <…> Быть Василием Каменским – это значит быть вечно 18-летним.
Это значит быть мудрецом, разгадавшим непосильную для смертных загадку»[121].
Вся жизнь Каменского – в динамике, в постоянном движении, в жажде открытий и свершений. В. Шершеневич писал, что «если Каменский талантлив в своем творчестве, то в своей жизни он еще талантливее»[122].
Начало профессиональной литературной деятельности Каменского относится к 1908 году, когда он становится секретарем петербургского литературного журнала «Весна». Он знакомится с Л. Андреевым, Ф. Сологубом, А. Куприным, а также, что оказалось более важным для его творческого развития, с В. Хлебниковым, Д. Бурлюком, Н. Кульбиным и несколько позже – с Е. Гуро и М. Матюшиным. В 1910 году вышел сборник «Садок судей». Перспективное значение этой книги, как вспоминал позже Каменский, осознавалось ее авторами, считавшими, что они кладут «гранитный камень в основание „новой эпохи“ литературы»[123]. Каменский был редактором «Садка судей», его двенадцать стихотворений открывали сборник. Оценивая эту книгу, В. Брюсов отмечал, что у Каменского «попадаются недурные образы»[124]. Н. Гумилев писал, что читатель «от всего цикла стихов (Каменского. – Сост.) уносит впечатление новизны, свежей и радостной»[125]. Стихотворения из «Садка» Каменский включил в свою первую книгу – роман «Землянка» (СПб., 1910; на обложке – 1911).
Понятие «футуризм» для Каменского не было литературным термином, он применял его к своей жизни: «Уж если мы действительно футуристы <…>, если мы – люди моторной современности, поэты всемирного динамизма, пришельцы-вестники из будущего, мастера дела и действия, энтузиасты – строители новых форм жизни, – мы должны, мы обязаны уметь быть авиаторами»[126]. В марте 1911 года Каменский отправился в Париж учиться летному делу у одного из пионеров авиации Луи Блерио; после возвращения во время одного из полетов потерпел крушение, остался жив и через полтора года примкнул к сформировавшейся к тому времени группе кубофутуристов, став одним из активнейших ее участников. Поэт, прозаик, художник и пропагандист нового искусства. Каменский принимает участие в многочисленных выступлениях, лекциях, турне, художественных выставках, печатается в футуристических альманахах. Слово и изображение соединились у Каменского в двух книгах «железобетонных поэм» – «Танго с коровами» и (совместно с А. Кривцовым) «Нагой среди одетых» (обе – М., 1914); комбинация различных шрифтов и введение графических элементов были рассчитаны на то, чтобы литературный текст воспринимался одновременно и как произведение изобразительного искусства (некоторые «поэмы» демонстрировались на художественных выставках).
Важным событием для Каменского стала публикация романа «Степан Разин» (М., 1915; на обл. – 1916), как и «Землянка» включавшего стихи. Первый его чисто стихотворный сборник «Девушки босиком» (Тифлис, 1916; на титульном листе – 1917) объединил как старые, так и новые произведения. На Кавказе Каменский продолжал свою деятельность по пропаганде футуризма, выступая с лекциями и даже участвуя в цирковых представлениях (читал стихи из «Стеньки Разина», сидя верхом на лошади).
В 1917 году Каменский организовал в Москве «Кафе поэтов», на недолгое время ставшее пристанищем левых художников. Во время октябрьских событий он выпустил «Декрет / О заборной литературе, / О росписи улиц, / О балконах с музыкой, / О карнавалах Искусств», который действительно был развешен на московских заборах и призывал художников всех видов искусства к революционному преобразованию жизни.
Плодотворным для Каменского стал и 1918 год: он выпускает две книги – поэтическую «Звучаль Веснеянки» и мемуарную «Его-моя биография Великого Футуриста» (обе – М., 1918). участвует в издании единственного номера «Газеты футуристов».
В дальнейшем Каменский – известный советский поэт. Он писал стихи, поэмы, пьесы, а также художественную, очерковую и мемуарную прозу.
Жить чудесно*
Скука девы старой*
Чурлю-Журль*
<1910>
<1914>
<1914>
«Перед беременными львицами…»*
<1914>
Разбойные-бесшабашные*
<1915>
Солнцень-Ярцень*
Давиду Бурлюку – Великому парню
(Застольная)
<1916>
Поэмия о соловье*
(Георгию Золотухину – во имя его яркое).
<1916>
<1916>
Золоторозсыпьювиночь*
<1916>
Рекачкачайка*
<1916>
Вызов авиатора*
<1916>
Из Симеиза в Алупку*
(М. В. Ильинской)
<1916>
Моя молитва*
<1916>
Василий Каменский – живой памятник*
О заборной литературе –
О росписи улиц –
О балконах с музыкой –
О карнавалах искусств.
<1918>
Елена Гуро*
(1877–1913)
Как и многие кубофутуристы, Елена (Элеонора) Генриховна Гуро совмещала занятия живописью и литературой. Но в отличие от громких соратников, она не привлекла внимания массовой аудитории. И причина этого не в болезни (белокровие) и ранней смерти, а в своеобразии ее поэзии, прозы и живописи, предполагавшем пристальное, доверительное, сочувственное отношение читателей и зрителей. В. Шершеневич, называя Гуро самой одаренной из современных русских поэтесс, писал: «Елена Гуро ласковая, нежная. У нее и слова-то какие-то особенные, свои. У всякого другого эти слова пропали бы, измельчали, но у стихов Гуро есть особая притягательная сила. Ласковость Гуро сильна, ласковость Гуро – это обратная сила ее дерзости, смелости. <…>
Она чувствует себя матерью всех вещей, всех живых существ: и куклы, и Дон-Кихота, и кота.
Все ее дети изранены, и она тянет к ним свою смелую душу. <…> Елена Гуро – первая поэтесса мать»[127].
Пафос материнства пронизывает не только творчество Гуро, но всю ее жизнь. Ею был создан миф о якобы умершем сыне, которого она назвала Вильгельм Нотенберг. Его портреты она помещала в своих книгах. В реальность сына Гуро верили даже близкие знакомые, что отразилось в их мемуарах[128].
Многие критики не видели в творчестве Гуро ничего футуристического и считали ее случайной в шумной компании будетлян. Так, К. Чуковский писал: «Ее тема: светлая боль, радость увядания, умирания и нежность до восторженной муки. Ее стихи на смерть единственного сына, такие простые и страшные, невозможно читать без участия <…>.
Ясно, здесь г. Крученых ни при чем. Здесь нечего делать г. Василиску Гнедову. Озябшая душа искала крова, и рада была приютиться среди чужих, посторонних. <…> Гуро вся – осанна, молитва, – где же ей шиши и пощечины?»[129]
Дочь крупного военачальника, Елена Гуро в тринадцать лет поступила в школу Общества поощрения художеств в Санкт-Петербурге, а в 1905 году дебютировала в печати в качестве писательницы и художницы. Ее первую книгу «Шарманка» (СПб., 1909) Д. Бурлюк впоследствии назовет первым литературным выступлением «старших футуристов, вышедших на борьбу за Русскую Литературу»[130]. Гуро публиковалась в обоих «Садках судей», в третьем выпуске журнала «Союз молодежи» (март 1913), как художница участвовала в нескольких выставках. Дом Гуро и ее мужа М. Матюшина (Песочная, 10) стал своеобразной штаб-квартирой «будетлян», здесь зародились многие их проекты. Вторая выпущенная ею книга – «Осенний сон» (СПб., 1912). Высоко оценивший эту книгу Вяч. Иванов писал о ней: «Тех, кому очень больно жить в наши дни, она, быть может, утешит. Если их внутреннему взгляду удастся уловить на этих почти разрозненных страничках легкую, светлую тень, – она их утешит»[131]. Задуманный еще при жизни Гуро альманах «Трое» (СПб., 1913), включавший произведения Е. Гуро, А. Крученых и В. Хлебникова и иллюстрированный К. Малевичем, был выпущен посмертно. В предисловии М. Матюшин писал о Гуро: «Душа ее была слишком нежна, чтобы ломать, слишком велика и благостна, чтобы враждовать даже с прошлым, и так прозрачна, что с легкостью проходила через самые уплотненные явления мира, самые грубые наросты установленного со своей тихой свечечкой большого грядущего света. Ее саму, может быть, мало стесняли старые формы, но в молодом напоре „новых“ она сразу узнала свое – и не ошиблась. <…> Вся она, как личность, как художник, как писатель, со своими особыми потусторонними путями и в жизни и в искусстве – необычайное, почти непонятное в условиях современности, явление. Вся она, может быть, знак.
Знак, что приблизилось время»[132].
Сборник «Небесные верблюжата» (СПб., 1914) как бы подытожил творческий путь Гуро, хотя и не вместил в себя многое созданное ею. В. Брюсов в статье «Год русской поэзии: Апрель 1913 – апрель 1914 г.» отметил, что в книге есть «действительно художественные и проникнутые чувством страницы»[133]. В письме к М. Матюшину Хлебников отзывался о «Небесных верблюжатах»: «Эти страницы с суровым сильным слогом, с их Гафизовским признанием жизни особенно хороши дыханием возвышенной мысли и печатью духа». Писательский талант Гуро высоко ценили В. Маяковский, А. Блок, А. Ремизов, Л. Шестов.
После смерти Гуро в печати неоднократно высказывалось мнение, что ее имя скоро станет известно широким читательским кругам. Однако эти предположения не оправдались. Не случайно через много лет Р. Якобсон, называя Гуро «выдающейся поэтессой с ценнейшим литературным наследием», сетовал, что это наследие – «доселе неизученное и лишь отчасти изданное»[134].
«Вот и лег утихший, хороший…»*
Памяти моего незабвенного единственного сына В. В. Нотенберг.
<1912>
«Но в утро осеннее, час покорно-бледный…»*
<1912>
Вдруг весеннее*
<1912>
Звенят кузнечики*
<1912>
На еловом повороте*
<1913>
Этого нельзя же показать каждому?*
<1913>
«Ветрогон, сумасброд, летатель…»*
<1913>
«Поклянитесь однажды, здесь мечтатели…»*
<1913>
«Ты веришь в меня?..»*
<1913>
«Гордо иду я в пути…»*
<1913>
Финляндия*
<1913>
Моему брату*
<1913>
Выздоровление*
<1913>
<1913>
Слова любви и тепла*
<1913>
<1913>
«Струнной арфой…»*
<1913>
«Возлюбив боль поругания…»*
<1913>
<1913>
«Он доверчив…»*
<1913>
Николай Бурлюк*
(1890–1920?)
Младший из братьев Бурлюков Николай Давидович принимал участие практически во всех футуристических изданиях и выступлениях в Санкт-Петербурге и Москве, но персонального поэтического сборника так и не выпустил. В рецензии на «Садок судей» (СПб., 1910) В. Брюсов отметил, что в стихотворениях Н. Бурлюка «попадаются недурные образы»[135]. Н. Гумилев, рецензируя сборник «Садок судей II» (СПб., 1913), охарактеризовал (наряду с хлебниковскими) произведения Н. Бурлюка как «самые интересные и сильные»[136]. Н. Бурлюк, по словам Б. Лившица, «был подлинный поэт, то есть имел свой собственный, неповторимый мир, не укладывавшийся в его рахитичные стихи, но несомненно существовавший»[137]. Тот же Лившиц вспоминал, что «Николай Бурлюк собирался вступить в гумилевский „Цех поэтов“, очевидно, рисовавшийся ему неким парламентом, где представлены все литературные партии»[138]. Эстетическая умеренность Н. Бурлюка, отсутствие в его творчестве ярко выраженного футуристического экспериментаторства позволили К. Чуковскому назвать его «посторонним» среди будетлян: «Он даже немного сродни трогательной Елене Гуро. В своих кратких, скудных, старинных, бледноватых, негромких стихах он таит какую-то застенчивую жалобу, какое-то несмелое роптанье <…>. И робкую какую-то мечту… Он самый целомудренный изо всех футуристов: скажет четыре строки, и молчит, и в этих умолчаниях, в паузах чувствуешь какую-то серьезную значительность… Грустно видеть, как этот кротчайший поэт напяливает на себя футуризм, который только мешает излиться его скромной, глубокой душе»[139]. Не случайно Н. Бурлюк отказался подписать самый резкий по тону футуристический манифест «Идите к черту» (См. Приложение), «резонно заявив, что нельзя даже метафорически посылать к черту людей, которым через час будешь пожимать руку»[140]. Кроме стихов Н. Бурлюк писал лирическую прозу.
Участвовал в Гражданской войне на стороне белых и, вероятно, погиб.
«Осталось мне отнять у Бога…»*
<1910>
«Неотходящий и несмелый…»*
<1910>
Бабочки в колодце*
<1913>
«Ко мне вот-вот вдруг прикоснутся…»*
<1914>
Ночная смерть*
<1914>
«В ущелье уличного дыма…»*
<1914>
«Смыкаются незримые колени…»*
<1914>
«Пока не запаханы все долины…»*
<1914>
«Зеленой губкой…»*
<1914>
Зверинец в провинции*
<1914>
Жалоба девы*
<1915>
«Я знаю мертвыми напрасно пугают…»*
<1915>
«И если я в веках бездневных…»*
<1915>
Бенедикт Лившиц*
(1887–1938)
Вхождению Бенедикта Константиновича (Наумовича) Лившица в группу «Гилея» предшествовали публикации отдельных его стихотворений в разных изданиях, в том числе в журнале «Аполлон», и выход в свет книги «Флейта Марсия» (Киев, 1911), не очень отличавшейся от многочисленных поэтических книг, возникших на стыке символизма и акмеизма, но получившей положительную оценку В. Брюсова и Н. Гумилева.
«В 1912, – вспоминает Лившиц, – в моих литературных взглядах происходит перелом, лично мне представляющийся результатом естественной эволюции, но моим тогдашним единомышленникам казавшийся ничем не оправданным разрывом со всем недавним окружением»[141]. Немаловажную роль в этом переломе сыграло знакомство Лившица с Д. Бурлюком.
В сборнике «Пощечина общественному вкусу» (М., 1913 [1912]) Лившиц поместил свои произведения, но манифест не подписал и позже резко критически его оценивал: «Я спал с Пушкиным под подушкой <…> – и сбрасывать его, вкупе с Достоевским и Толстым, с „парохода современности“ мне представлялось лицемерием. Особенно возмущал меня стиль манифеста, вернее, отсутствие всякого стиля…»[142]. Однако вскоре после своего футуристического дебюта он стал одним из самых активных участников группы кубофутуристов, проявляя себя не только как поэт, но и как теоретик: его статья «Освобождение слова» открывала альманах «Дохлая луна». Вместе с другими будетлянами он попадает под обстрел критики. В. Брюсов осуждал Лившица за «намеренную а-грамматичность» его прозаической миниатюры «Люди в пейзаже», вошедшей в «Пощечину общественному вкусу», при этом характеризуя его как писателя, «прекрасно владеющего и обычным, „правильным“ языком»[143]. О «дешевой красивости» своего бывшего коллеги по «Аполлону» писал Гумилев[144]. Двойственность футуристической поэзии Лившица отмечалась критиками неоднократно. К. Чуковский писал: «…Напрасно насилует себя эстет и тайный парнасец г. Бенедикт Лившиц, совершенно случайно примкнувший к этой группе. Шел бы к г. Гумилеву! На что же ему, трудолюбцу, „принцип разрушенной конструкции“! Опьянение отличная вещь, но трезвый, притворившийся пьяным, оскорбляет и Аполлона и Бахуса!»[145]
Сам Лившиц оценивал этот свой период по-другому: «Во всех многочисленных, шумных, а зачастую скандальных <…> выступлениях „Гилей“ я принимал неизменное участие, так как несмотря на все, что меня отделяло, например, от Крученых и Маяковского, мне с будетлянами было все-таки по пути»[146]. Но отделяло, как оказалось, многое. Крайностей футуризма Лившиц, в конечном счете, не принял. Его отход от группы был неизбежен, а начало мировой войны и призыв в действующую армию удостоверили этот разрыв.
Стихи Лившица футуристического периода составили книгу «Волчье солнце» (М. [Херсон], 1914). Следующая книга – «Болотная медуза» (не вышла; 9 стихотворений из нее составили сборник «Из топи блат», изданный в Киеве в 1922 году) – явилась, по словам Лившица, «естественным противодействием» – реакцией «на разрежение речевой массы, приведшее будетлян к созданию „заумного“ языка», что вызвало у Лившица «желание оперировать словом, концентрированным до последних пределов…»[147].
Позже Лившиц издал книгу «Патмос» (М., 1926), итоговый сборник «Кротонский полдень» (М., 1928), а также мемуары «Полутораглазый стрелец» (Л., 1933), дающие незаменимый материал для истории русского футуризма. Хорошо известен Лившиц и как переводчик.
В 1937 году был арестован, в 1938-м – расстрелян.
Пьянитель рая*
Давиду Бурлюку
Лунные паводи*
<Вере Вертер>
Предчувствие*
Аллея лир*
Исполнение*
Николаю Бурлюку*
Сонет-акростих
Дворцовая площадь*
Новая Голландия*
<1917–1918>
Павел Филонов*
(1883–1941)
«От Филонова, как писателя, я жду хороших вещей…» – писал в связи с выходом в свет книги «Пропевень о проросли мировой» ([Пг., 1915]) В. Хлебников[148]. Однако книга эта оказалась единственной поэтической публикацией Павла Николаевича Филонова, одного из крупнейших живописцев русского авангарда (он писал еще теоретические трактаты о принципах аналитического искусства). Филонов принимал активное участие в деятельности кубофутуристов. Он иллюстрировал «Изборник стихов. 1907–1914 гг.» Хлебникова (Пг., 1914), делал рисунки для сборника «Рыкающий Парнас» (СПб., 1914), создал декорации, а также эскизы костюмов для постановки в декабре 1913 года трагедии «Владимир Маяковский». И хотя контакты Филонова с будетлянами не имели устойчивого характера (в 1914 году в письме к М. Матюшину он резко отзывался о деятельности Бурлюков и считал их относящимися «не к новому искусству, а к эксплуатации нового искусства»[149]), «Пропевень» является одним из самых ярких и показательных кубофутуристических произведений.
Пропѣвень о проросли міровой*
I. Пѣсня о Ванькѣ Ключникѣ.
Подголосокъ:
Ванька Ключникъ:
Говорителъ:
Провокаторъ съ проплеванным лицомъ:
Истлѣвшій командоръ:
Ванька Ключникъ:
Старый князь:
Старо-нѣмецкій король:
Подголосокъ:
Ванька Ключнивъ:
Командоръ:
Командоръ.
Провокаторъ съ проплеванымъ лицомъ:
Ванька-Ключникъ:
Говоритель:
3апѣвало и хоръ:
Подголосокъ:
II. Пропѣвень про красивую преставленицу.
Запѣватель:
Подголосокъ:
Могильщикъ:
Огонек заполуночный:
Могильщикъ:
Подголосокъ:
Обратное эхо:
Звѣроловъ:
Молодой охотникъ:
Подголосокъ:
Насильникъ:
Раненый солдатъ:
Ванька Ключникъ:
Отмѣтчикъ:
Убоица Любимцевъ:
Прелестница:
Скорбительница:
Ванька Ключникъ:
Ольга Розанова*
(1886–1918)
«Розанова родилась футуристкой, – писал известный критик и поэт А. Эфрос. – Если бы движение не пришло ей навстречу уже сложившимся и готовым, она должна была бы изобрести нечто подобное, очень близкое по форме и совершенно тождественное по сути, или же не стать вовсе художницей»[150]. Конечно, прежде всего Ольга Владимировна Розанова была художницей, одним из активных членов художественных групп «Бубновый валет» и «Союз молодежи», участницей выставок «Первая футуристическая выставка „Трамвай В“», «Последняя футуристическая выставка картин „0,10 (ноль-десять)“» (обе – 1915 год) и других. Она иллюстрировала многие кубофутуристические издания, прежде всего – книги А. Крученых. «Это была крупная индивидуальность, человек, твердо знавший, чего он хочет в искусстве, и шедший к намеченной цели особыми, не похожими ни на чьи другие, путями», – писал о Розановой Б. Лившиц[151]. Заумные стихи Розановой высоко оценивал Крученых, который относил ее к «настоящим поэтессам»[152].
<1918>
«Сон ли то…»*
<1918>
Виктор Шкловский*
(1893–1984)
«Я не из самых старых футуристов, – как вышел первый „Садок судей“ – не помню», – писал о своей будетлянской молодости выдающийся литературовед и писатель, участник ОПОЯЗа, один из зачинателей формальной школы в литературоведении Виктор Борисович Шкловский[153]. Футуристический дебют молодого ученого состоялся 23 декабря 1913 года, когда в петербургском кафе «Бродячая собака» им был прочитан доклад «Место футуризма в истории языка»[154], послуживший основой его книги «Воскрешение слова» (СПб., 1914). Присутствовавший на чтении доклада В. Пяст позже писал, что Шкловский «казался именно румяным как яблочко мальчиком, выпрыгнувшим в футуризм прямо из детской»[155]: «Юный ученый энтузиаст распинался по поводу оживленного Велимиром Хлебниковым языка, преподнося в твердой скорлупе ученого орешка квинтэссенцию труднейших мыслей Александра Веселовского и Потебни, – уже прорезанных радио-лучом собственных его, как говорилось тогда, „инвенций“, – он даром мощного своего именно воскрешенного, живого языка заставляет слушать, не шелохнувшись, многочисленнейшую публику, наполовину состоящую чуть не из „фрачников“ или декольтированных дам»[156]. «Воскрешение слова» и последовавшая вскоре работа «О поэзии и заумном языке»[157] положили начало серьезному теоретическому исследованию футуризма, а появление в среде будетлян человека с такой высокой филологической культурой, какой обладал Шкловский, стало для них событием весьма важным. «В лице Шкловского. – вспоминал Б. Лившиц, – к нам приходила университетская – никогда не слишком молодая – наука. Это было уже интересно: взглянуть на свое отражение в только что наамальгированном стекле, которое мы, вероятно, постеснялись бы признать зеркалом истории. <…> Шкловский пришел к нам со стороны, из университетского семинария, как филолог и теоретик: до тех пор к нам доносились оттуда только пренебрежительные насмешки да брань. Кроме того, он был хороший оратор: говорил с неподдельным задором, горячо и плавно, не заглядывая ни в какие бумажки. Нам оставалось только поздравить себя с таким союзником»[158].
Как поэт Шкловский выступил в печати лишь однажды: в альманахе «Взял: Барабан футуристов» (Пг., 1915) были опубликованы два его стихотворения, которые, впрочем, сам автор позже оценил как «совсем плохие»[159].
К футуристам же Шкловский причислял себя до конца жизни.
«В серое я одет и в серые я обратился латы России…»*
<1915>
«Напрасно наматывает автомобиль серые струи дороги…»*
<1915>
Роман Якобсон*
(1896–1982)
Публикацией под псевдонимом Алягров двух заумных стихотворений в совместной с А. Крученых «Заумной гниге» (М., 1915, на обложке – 1916) и еще одного в сборнике «Заумники» (Пг., 1922) исчерпывается участие в футуристических изданиях Романа Осиповича Якобсона, основателя Московского, Пражского и Нью-Йоркского лингвистических кружков, одного из основоположников структурализма в литературоведении и языкознании. Тем не менее характер стихотворений и тесные контакты Якобсона с В. Хлебниковым, В. Маяковским, А. Крученых, К. Малевичем, имевшие плодотворное значение как для деятельности поэтов, так и для становления молодого ученого, дают основание причислить его к когорте будетлян. Да и сам Якобсон подчеркивал свою причастность футуристическому движению. В письме к В. Шкловскому от 14 ноября 1928 года он писал: «Ведь сила нашей науки была именно в этой футуристической глыбе слова МЫ»[160] (см. в Приложении манифест «Пощечина общественному вкусу»). См. также: Якобсон-будетлянин: Сборник материалов / Сост., подгот. текста, предисловие и коммент. Бенгта Янгфельдта. Stockholm, 1992.
«мзглыбжвуо йихъяньдрью…»*
<1915>
Рассеяность*
<1915>
Эгофутуристы
Игорь Северянин*
(1887–1941)
Игорь Северянин (Игорь Васильевич Лотарев) был первым русским поэтом, определившим свое творчество заимствованным у итальянца Ф. Т. Маринетти термином «футуризм», с добавлением к нему латинизма «едо» («я»): в сборник «Ручьи в лилиях» (СПб., 1911) было включено стихотворение «Рядовые люди» с подзаголовком «Из цикла „Эго-футуризм“», а в ноябре 1911 года в Петербурге тиражом 100 экземпляров под издательской маркой «Едо» вышла «тридцать вторая» (как было указано на обложке) брошюра «Пролог „Эгофутуризм“: Поэза-грандиоз», что, впрочем, не было отмечено критикой.
К тому времени имя автора было известно не столько по его многочисленным брошюрам, сколько по отрицательной оценке Л. Н. Толстым стихотворения «Хабанера II»(в настоящем издании «Хабанера»).
Первым поэтом, высоко оценившим талант Северянина, был К. М. Фофанов, чьи слова предваряли книгу будущего эгофутуриста «Лавровые дали»: «Ничего лучшего не мог я придумать, что мне показал Игорь-Северянин. Чту Его душу глубоко. Читаю Его стихи – и все говорит мне: в Тебе – Бог!»[161]. Со своей стороны, Северянин считал Фофанова, наряду с Миррой Лохвицкой, предтечей эгофутуризма.
В октябре 1911 года в Петербурге был образован кружок «Едо», в который, кроме Северянина, вошли К. Олимпов. Грааль-Арельский и Г. Иванов. В январе 1912 года кружок был «преобразован» в «Академию Эгопоэзии».
Однако Северянин, с чьим именем ассоциируется эгофутуризм, был формальным членом группы меньше года. В октябре 1912 года была опубликована брошюра Северянина «Эпилог „Эго-футуризм“». В ноябре 1912 года в журнале «Гиперборей» он объявило своем выходе из кружка «Едо». Основной причиной разрыва с бывшими соратниками послужила, по-видимому, полемика (а точнее, борьба за первенство в группе) с Олимповым. В «открытом письме» к последнему Северянин утверждал: «Теперь, когда для меня миновала надобность в доктрине: „я в будущем“, и находя миссию моего Эго-Футуризма выполненной, я желаю быть одиноким, считаю себя только поэтом, и этому я солнечно рад»[162]. Этот период характеризуется и некоторым сближением Северянина с другими литературными кругами, в частности с символистами. В декабре 1912 года В. Брюсов организовал в «Обществе свободной эстетики» первое публичное выступление Северянина. Известны и его контакты с акмеистами.
Вышедший в марте 1913 года с предисловием Ф. Сологуба сборник «Громокипящий кубок» – лучшая книга Северянина, «книга истинной поэзии», по характеристике Брюсова[163], – сделал имя его автора необычайно популярным. Многочисленные «поэзовечера» собирали переполненные залы. Северянин много печатается в периодике, издает и переиздает свои книги огромными по тем временам тиражами («Громокипящий кубок» за два года был издан семь раз), его «поэзы» даже экранизируются. Северянин в центре внимания критики, диапазон оценок его творчества чрезвычайно широк – от самых уничижительных характеристик до безудержных восхвалений. Но большинство хулителей и апологетов сходились в том. что творчество Северянина самобытно, своеобразно, что он нашел свою чему, свой поэтический голос, свою манеру исполнения стихов перед публикой (Северянин исполнял их нараспев). Его поэзию ценили А. Блок. Н. Гумилев, В. Маяковский, В. Ходасевич, К. Бальмонт.
Осенью 1913 года состоялся непродолжительный альянс Северянина с кубофутуристами. Было проведено несколько совместных выступлений, Северянин принимал участие в сборнике «Рыкающий Парнас» (СПб., 1914) и даже подписал декларацию «Идите к черту», открывающую этот сборник, – самый резкий по тону футуристический манифест. Однако зимой 1914 года во время турне футуристов по югу России произошла размолвка, и от дальнейшего сотрудничества с кубофутуристами Северянин отказался.
Выходившие после «Громокипящего кубка» книги Северянина несли на себе печать самоповторения, но продолжали пользоваться большим читательским спросом. В 1916 году вышел сборник критических статей, целиком посвященный творчеству Северянина[164]. Впрочем, пик популярности поэта к этому времени уже прошел.
Тем не менее 27 февраля 1918 года на выборах «Короля поэтов» в Политехническом музее в Москве Северянин одержал победу (вторым оказался Маяковский).
В том же году Северянин переехал из Петрограда в эстонский поселок Эст-Тойла на побережье Балтийского моря и в 1919 году в результате провозглашения независимости Эстонской республики оказался за пределами России. Поэтическое творчество позднего Северянина имеет мало общего с его «Вселенским Эго-Фугуризмом».
Интродукция*
1909. Январь
Синьоре Za
1909. Сентябрь
Это было у моря…*
Поэма-миньонет
1910. Февраль
Весенняя яблоня*
Перу И. И. Ясинского посвящаю
1910. Апрель.
Св. Пасха.
Июльский полдень*
Синематограф
В шалэ березовом*
Квадрат квадратов*
Пролог «Эго-Футуризм»*
Поэза-грандиоз
Вы идете обычной тропой, –
Он к снегам недоступных вершин.
1911. Июль
Ст. Елизаветино, село «Дылицы»
1909. Июнь
Ст. Пудость, мыза «Ивановка»
1909. Октябрь
Ст. Елизаветино, село «Дылицы»
1911. Июль.
Ст. Елизаветино, село «Дылицы»
На реке форелевой*
1911. Август
Поэзоконцерт*
Где свой алтарь воздвигли боги,
Не место призракам земли!
Мисс Лиль*
1912. Июнь
Мороженое из сирени!*
1912. Сентябрь
Эпилог «Эго Футуризм»*
24-го Октября, 1912 г.
Фиолетовый транс*
<1913>
В блесткой тьме*
Поэза возмездия*
1913. Ноябрь
Поэза истребления*
Манифест Игоря Северянина
1914 г., февраль
1915. Январь
Константин Олимпов*
(1889–1940)
Константин Олимпов (Константин Константинович Фофанов) был сыном известного поэта К. М. Фофанова, особо авторитетного в среде эгофутуристов. В октябре 1911 года вместе с И. Северянином Олимпов организовал кружок «Ego». «Явно сумасшедший, но не совсем бездарный» – так охарактеризовал его в своих воспоминаниях Г. Иванов[166].
Если К. Чуковский считал Олимпова «первым учеником Северянина»[167], то Д. Бурлюк в своих мемуарах утверждал, что у «несчастного сына Фофанова» Северянин «многое позаимствовал, правда, усилив и по-северянински подчеркнув»[168]. А сам Олимпов настаивал: «Ключ возникновения футуризма в России лежит в первом моем печатном выступлении»[169]. Именно борьба за право считаться основателем эгофутуризма между Олимповым и Северянином привела к тому, что последний покинул группу.
«В нем была квинтэссенция „эго-футуризма“», – писал об Олимпове В. Пяст[170]. И действительно, если в 1912 году в футуристических изданиях могло многозначительно сообщаться, что «Константин Олимпов носит воротники „Тореадор“ (размер 39)»[171] или что «Вселенский Эго-футурист К. Олимпов в резиденции „Обухово“ за весь истекший летний сезон написал только четыре строчки, за которые ему уже предлагали колоссальную сумму»[172], то с распадом в 1914 году «Академии Эгопоэзии» самовосхваление, свойственное эгофутуристам, достигло у Олимпова предела и, похоже, вышло за рамки поэтической образности. С 1914 года наряду с термином «эгофутуризм» Олимпов начал употреблять «Эго Олимпизм». Он объявляет себя «Феноменом Гением и Самой Эпохой» и, наконец, «Родителем Мироздания». С высоты этого положения он обращается к «негодяям и мерзавцам» (Глагол Родителя Мироздания. Пг., 1916) или «идиотам и кретинам» (Проэмний Родителя Мироздания. Пг., 1916). При этом одно из его произведений сопровождалось «оглашением»: «Человечество не может себе представить, что Великий Мировой Поэт Константин Олимпов не в состоянии заработать даже одной тленной копейки, чтобы приобрести себе насущных макарон для поддержания своей планетной оболочки. Он умирает от голода и нищеты»[173]. В своем последнем изданном произведении – листовке «Анафема Родителя Мироздания» (Пг., 1922), адресованном «проститутам и проституткам», – Олимпов именует себя «Всемогущим, Вездесущим и Всезнающим, Всеблагим, Всенраведным, Всевечным Великим Мировым Поэтом».
В 1931 году В. Шкловский писал об Олимпове:
«Сейчас он где-то управдомом.
Пишет стихи в домовой книге.
Я думаю, что эта домовая книга не пропадет»[174]
Амурет Игорю Северянину*
Август 1911 г.
Интерлюдия*
<1912>
«Я хочу быть душевно-больным…»*
<1912>
«Гении в ритмах экспрессий…»*
<1912>
Буква Маринетти*
Я. Алфавит, мои поэзы – буквы.
И люди – мои буквы.
1 февраля 1914 г.
Флейта славы*
Полдень 1 мая 1914 г.
Глагол Родителя Мироздания*
(Буквы произносятся густым басом)
НЕГОДЯЯМ и МЕРЗАВЦАМ
<1916>
Третье Рождество*
Где только возможно, на всех перекрестках
Я стану кричать о Величьи Своем.
Пусть будет известно на клубных подмостках,
Я Выше Бога Сверкаю Венцом.
<1922>
Анафема Родителя Мироздания*
КОНСТА. Я, КОНСТАНТИН ОЛИМПОВ,
УТВЕРЖДАЮ, ЧТО ХРИСТОС – ВЕЛИЧАЙШИЙ ГРЕШНИК НА ЗЕМНОМ ШАРЕ.
(Проститутам и проституткам)
<1922>
Георгий Иванов*
(1894–1958)
Участие Георгия Владимировича Иванова в футуристическом движении относится к самому раннему периоду его творческого пути, оно было недолгим и носило, скорее всего, формальный характер. Под издательской маркой «Едо» в декабре 1911 года вышла первая книга Иванова «Отплытие на о. Цитеру». Был он и членом ректориата «Академии Эгопоэзии». Тем не менее весной 1912 года, откликаясь на предложение Н. Гумилева, Иванов переходит в «Цех поэтов», а в ноябре того же года журнал «Гиперборей» опубликовал письмо, подписанное Ивановым и Грааль-Арельским, в котором, в частности, говорилось: «Кружок „Ego“ продолжает рассылать листки манифеста „Ego-футуристов“, где в списке членов „ректориата“ стоят наши имена. Настоящим доводим до общего сведения, что мы из названного кружка вышли и никакого отношения к нему, а равно и к газете „Петербургский Глашатай“, не имеем»[175].
Позже, весьма скептически оценивая свою «эгофутуристическую» юность, Иванов напишет: «Из моего футуризма ничего не вышло»[176].
Сонет-послание*
Игорю Северянину
<1911>
Майская баллада*
<1912>
Грааль-Арельский*
(1888/1889–1938?)
Грааль-Арельский (Стефан Стефанович Петров) вошел в «Академию Эгопоэзии» и стал членом ее ректориата в январе 1912 года, одновременно вступив в «Цех поэтов». Этому предшествовали знакомство с И. Северянином и К. Олимповым, немногочисленные публикации в периодике и выход в свет книги «Голубой ажур» (СПб., 1911), которая была замечена критикой. Так, Н. Гумилев, отметив в поэзии Грааль-Арельского влияние И. Эренбурга, И. Северянина и «современных поэтов-экзотиков», упрекнув автора в отсутствии «своего слова, которое необходимо сказать ценой чего бы то ни было и которое одно делает поэта», отметил, однако, «горячность молодости, версификационные способности, вкус и знание современной поэзии»[177]. Влияние Северянина и избыток в «Голубом ажуре» «условно-красивого» отмечал В. Брюсов[178]. А. Блок писал Грааль-Арельскому: «Книжка Ваша (за исключением частностей, особенно псевдонима и заглавия) многим мне близка. Вас мучат также звездные миры, на которые Вы смотрите, и особенно хорошо говорите Вы о звездах»[179]. Хотя Грааль-Арельский и стал автором одной из теоретических работ «Академии Эгопоэзии»[180], членство его в «Академии» было весьма краткосрочным. Совместно с Г. Ивановым весной 1912 года он покинул группу эгофутуристов.
Вторая книга Грааль-Арельского «Летейский берег» (СПб., 1913) стала последним его стихотворным сборником, хотя несколько художественно-фантастических и научно-популярных книг в советское время ему опубликовать удалось.
В 1937 году был арестован. Дата и место смерти не установлены.
В томленьи лунном…*
<1912>
<1912>
Иван Игнатьев*
(1892–1914)
«Это был холодный дерзатель. Спокойный, трезвый ум, несомненное понимание поставленных перед собою задач и очень маленький талант», – такую характеристику дал Ивану Васильевичу Игнатьеву (настоящая фамилия – Казанский) В. Шершеневич[181].
До знакомства с И. Северянином в конце 1911 года, то есть до того, как он стал эгофутуристом, Игнатьев печатал во многих периодических изданиях свои стихи, рассказы, театральные рецензии.
Сотрудничая в газетах «Нижегородец» (в 1911–1913 годах) и «Дачница» (в 1912-м), Игнатьев способствовал появлению на страницах этих газет произведений практически всех эгофутуристов; для некоторых это был дебют в литературе. В 1912 году Игнатьев организовал издательство «Петербургский Глашатай», под маркой которого вышло в свет большинство эгофутуристических «эдиций»; тогда же начинает публиковаться одноименная газета (вышло четыре номера).
В начале 1913 года, когда И. Северянин разорвал свои отношения с эгофутуристами, Игнатьев стал главой группы, объявив, что перестала существовать северянинская «интуитивная школа Вселенский Эго-футуризм» и «по инициативе директора „Петербургского Глашатая“ Ивана Игнатьева возникает Эго-Фугуризм в качестве интуитивной ассоциации…»[182]. Изменения действительно произошли: во многом новое лицо эгофутуризма стали определять поэты-радикалы, по своему методу близкие к кубофутуристам, – В. Гнедов и сам Игнатьев. Это отмечал тот же Шершеневич: «Даже странно: всем своим существом Игнатьев был совсем близок к позициям кубофутуристов, а между тем он их ненавидел, в свой журнал не пускал и печатал всякую бесцветную мелюзгу…»[183] Игнатьев же стал и основным теоретиком группы. Кроме статей в альманахах, он выпустил брошюру «Эго-Фугуризм» (СПб., 1913). Единственный поэтический сборник Игнатьева «Эшафот: Эго-футуры» (СПб., 1913, на обложке – 1914) вобрал в себя практически все его эгофутуристические стихи.
В день своей свадьбы 21 января 1914 года Игнатьев неожиданно покончил с собой, перерезав горло бритвой. После его смерти эгофутуризм как организованное движение перестал существовать.
ВАСИЛИСКУ ГНЕДОВУ
Декабрь. 1912
Санкт-Петербург
Аркадию Бухову
<1913>
<1913>
Мигающее пламя*
<1913>
Opus: 15369*
<1913>
Opus: 80447*
<1913>
Opus: −45*
<1913>
«Я жизнью Жертвую – жИВУ…»*
<1913>
Opus: −5515*
<1913>
Opus: + − × :*
Bc. Мейерхольду
<1913>
Три погибели*
<1913>
«Аркан на Вечность накинуть…»*
<1913>
«Тебя, Сегодняшний Навин…»*
<1913>
Непрестанность*
«Я пойду сегодня туда…»*
19. XI. 1913
Павел Широков*
(1893–1963)
Павел Дмитриевич Широков – член «ареопага» «Интуитивной Ассоциации Эго-футуризм», постоянный участник футуристических изданий (в том числе альманахов групп «Мезонин поэзии» и «Центрифуга»). Под издательской маркой эгофутуристической газеты «Петербургский Глашатай». Широков выпустил две книги – «Розы в вине» (СПб., 1912) и «В и Вне: Поэзы. II» (СПб., 1913). Совместная с Василиском Гнедовым «Книга Великих» (СПб., 1914) увидела свет уже после распада эгофутуристической группы. В. Брюсов в своей статье, посвященной футуристам, противопоставлял весьма умеренные новшества поэзии Широкова радикализму кубофутуристов (В. Хлебникова, А. Крученых, В. Маяковского), отмечая, что «за пределами этих крайностей остается кое-что, не лишенное своей ценности как новый прием выразительности в поэзии», и находя в стихотворениях Широкова удачные выражения, «еще не нарушающие резко обычных приемов живописания в поэзии, но все же характерно „футуристические“»[184].
Вечерняя любовь*
Фантазия осеннего заката*
<1912>
Игорю Северянину
1. Заклятие смехом («О. рассмейтесь, смехачи!..».)
Весна 1912 г.
Галантерейная поэза*
Подражание «Цеху Поэтов».
<1913>
Шепот стальных труб*
<1914>
Да здравствует реклама!*
<1914>
Димитрий Крючков*
(1887–1938)
Димитрий Александрович Крючков вошел в «Интуитивную Ассоциацию Эго-футуризм» и стал членом ее «ареопага» в январе 1913 года. Им были выпущены две книги стихов – «Падун немолчный» (СПб., 1913) и «Цветы ледяные» (СПб., 1914), а также стихотворение-листовка «Прелюдный хорал» ([СПб., 1912]). В 1912–1916 годах множество стихотворений и статей Крючкова появилось на страницах футуристических и нефутуристических альманахов и журналов. Несмотря на ощутимое влияние на его творчество поэзии И. Северянина, он был наиболее «умеренный» из членов «ассоциации». Это позволило И. Эренбургу написать в рецензии на сборник «Падун немолчный»: «Раньше всего следует сказать, что ничего „футуристического“ в этой книге нет, если отбросить несколько неудачных словообразований и обложку, на которой, по заведенному футуристами обычаю, напечатаны стихи. Изредка подражая „резвости“ Игоря Северянина, Крючков скорее питается прошлым, жадно собирая „крохи веры“»[185]. В. Брюсов относил Крючкова к поэтам-«порубежникам» и в книге «Цветы ледяные» увидел «значительные успехи» автора: «От футуристических приемов в его новых стихах мало что осталось <…>. Но в них есть проблески чего-то своего, и если они часто не самостоятельны, то иногда уже звучны и красивы»[186].
После революции Крючков сотрудничал в периодических изданиях в качестве критика и переводчика. В 1923 году был арестован и приговорен к десяти годам заключения; после второго ареста в 1937 году расстрелян.
К. М. Фофанову*
<1912>
24 августа 1913
«Пустыня любит муки…»*
<1913>
<1913>
«Ты одета в ротонду из лучистых снежинок…»*
«В радостной хламиде голубого шелка…»*
<1914>
Иван Оредеж*
(1892–1940)
Оредеж – эгофутуристический псевдоним Ивана Созонтовича Лукаша, впоследствии видного писателя русской эмиграции. Его сотрудничество в футуристических изданиях не было ни продолжительным, ни интенсивным, ни особо плодотворным. Единичные его произведения (в основном – прозаические) были напечатаны в газетах «Дачница» и «Петербургский Глашатай», а также в альманахах «Оранжевая урна» и «Стеклянные цепи» (оба – СПб., 1912). Работал репортером. В 1915 году ушел добровольцем на фронт. В 1918–1919 годах служил офицером в белой Добровольческой армии. С 1920 года в эмиграции, где стал известен как прозаик.
Я славлю!*
<1912>
Павел Кокорин*
(1884 – не ранее 1938)
Павел Михайлович Кокорин формально не был членом группы эгофутуристов. Личное знакомство с К. Олимповым и И. Северянином, влияние Северянина (хотя и очень умеренное) на последнюю из четырех выпущенных Кокориным книг – «Музыка рифм: Поэзо-пьесы» (СПб., 1913), публикация одного стихотворения в альманахе «Орлы над пропастью» и нескольких – в газете «Нижегородец» – это едва ли не все, что связывает приехавшего в Санкт-Петербург из Тверской губернии поэта-самоучку со столичными эгофутуристами. О. Мандельштам, рецензируя «Музыку рифм», писал, что в стихах Кокорина «напряженная серьезность мысли и слова странно не гармонирует с наивно футуристической внешностью». «Книжка Кокорина, – пишет далее Мандельштам, – очень народна, без всякой кумачности и в то же время утонченна, несмотря на ряд грубых промахов от неумелости и наивности автора»[187].
После 1914 года Кокорин не публиковался.
Утреннее стихотворение*
<1913>
В путь-дорогу*
<1913>
<1913>
Василиск Гнедов*
(1890–1978)
«Личность хмурая и безнадежная, нисколько не эго-поэт, в сущности переодетый Крученых, тайный кубофутурист, бурлюкист, ничем и никак не связанный с традициями эго-поэзии», – так охарактеризовал Василиска (Василия Ивановича) Гнедова К. Чуковский[188]. Действительно, приехавший в Петербург в конце 1912 года молодой поэт мало походил на приверженца северянинской школы. Он принадлежал ко второму этапу эгофутуризма и здесь отличался крайним экспериментаторством.
В 1913 году Гнедов – самый активный и самый известный поэт «Интуитивной Ассоциации Эго-футуризм». Он участник четырех эгофу-туристических альманахов (один из них – «Небокопы» (СПб., 1913) – больше чем наполовину состоял из произведений Гнедова). Тогда же он опубликовал две книги – «Гостинец сентиментам» и «Смерть искусству: пятнадцать (15) поэм» (обе: СПб., 1913). О первой С. Городецкий писал: «Как отдыхает ум и сердце на этой беспритязательной чепухе! Кажется, что погружаешься в сферу чистого идиотизма…»[189] Второй сборник включал самое знаменитое произведение Гнедова, ставшее его своеобразной визитной карточкой, – «Поэму Конца». В следующем году Гнедов выпускает совместную с П. Широковым «Книгу Великих» (СПб., 1914), печатается в «центрифуговском» альманахе «Руконог» (М., 1914). В сборнике «Грамоты и декларации русских футуристов» (СПб., 1914) появляется его трактат «Глас о согласе и злогласе». Наметилась тенденция сближения Гнедова с кубофутуристами. Б. Лившиц вспоминал: «В связи с присоединением к нам Северянина поднялся вопрос о включении в нашу группу и Василиска Гнедова: среди эгофутуристов он был белой вороной и неоднократно выражал желание перейти в наш лагерь»[190]. Однако этого не произошло.
Футуристическая активность Гнедова ненадолго возобновилась в 191?-1918 годах и проявилась в совместных выступлениях с другими футуристами (В. Каменским, В. Маяковским), участии в футуристических изданиях (Временник. № 4. М., 1917; Газета футуристов. 1918. № 1). В это же время он был включен В. Хлебниковым в «Общество Председателей Земного Шара».
Впоследствии Гнедов от литературы отошел, но стихи писать не перестал (образцы его поздней поэзии были опубликованы С. Сигеем в кн.: Гнедов В. Собрание стихотворений. Trento, 1992).
<1913>
И. В. Игнатьеву
<1913>
Козий слащ*
Скачок тоски – победа Огне-Лавы*
<1913>
Придорогая думь*
<1913>
<1913>
На возле бал*
<1913>
Маршегробая пенька моя на мне*
Крылобрат! Водопад! Разгули звери дно! Раскинжаль на Планеты два Сердца! Сердце в Гробу – Сонячко Сердце на гробе. Я блескаю Гробам! Столоку Виноград! Разрыдавлю Все Горы сквозь полночь… Где полосят ущелье гробое… Я и правдить хочу – и на Стон залетнуть – целовать Бирюзу – крокодилить в Гробу – проглотать Троглодит – пусть не будет Стези – я Стезя – Я свой гроб – Я и марши маршу – на плечах Я свой Гроб и себя уношу. – Я свой Гроб и Себя осклепляю в траве, разношу по кустьям – и обглодки божу… Запишу на скалах белых написей Рок: «Здесь лежит», «Здесь лежит»: «Белый Я» – «Кровь моя». Впалачу: «Сожалей» под людские Сердца… Законю на Скалой полосато Мечо: «Не ходите к Мечу» – на Горе закричу – «Положайте Сердца на Доланах!».. На Долистых Доланах кишинеть станет Мир – поставлять под Мечаку Калину… Как Калина Кровка, – Мечает Мечак… Выклоняются Горы в наклоне – Я мечи золочу над Смеянкой лечу – и мечу хохочу, крик ломчу… Две зверяные клетки висут на руках – Столокнилось ба горе счастье. Два полгоря и счастья расшиблись на клетки, клеть одья побежала в могилу, другая на выши рыдачить. Дерзачай Крапива! – Гром затворчу – усну…
<1913>
Свирельга*
<1913>
Хитрая Мораль*
1999 г. по P. X.
<1913>
Первовеликодрама*
действОиль∞
времядленьяОиль∞
38687 г. по Р. X.
<1913>
«Слезжит рябидии труньга сно…»*
<1913>
Смерть искусству*
пятнадцать (15) поэм
КОБЕЛЬ ГОРБ
БУБАЯ ГОРЯ
Поэма Конца (15)
Азбука вступающим*
1913 г. по P. X.
Поэма начала*
О, меч Ваш сладок, Павел Широков.
<1914>
<1914>
«Бросьте мне лапу скорее коготь и вшей увяданье…»*
<1914>
«Выступают жаворонки ладно…»*
<1918>
«Мезонин поэзии»
Вадим Шершеневич*
(1893–1942)
Творческий путь Вадима Габриэлевича Шершеневича можно разделить на четыре периода. Первые три поэт сам определил в книге своих воспоминаний «Великолепный очевидец» как «Символизм», «Футуризм» и «Имажинизм», а четвертый, после выхода его книги с характерным названием «Итак итог», вынужденно связан лишь с переводческой деятельностью и написанием мемуаров, которые при жизни автора опубликованы не были.
Первая книга Шершеневича «Весенние проталинки» ([М], 1911) была создана под влиянием «старших» символистов К. Бальмонта и особенно В. Брюсова, которого Шершеневич считал своим учителем. Вторая книга – «Carmina: Лирика. (1911–1912). Кн. 1» (М., 1913) – ориентирована больше на поэзию А. Блока. Н. Гумилев писал о «прекрасном впечатлении» от этой книги и одновременно называл Шершеневича «учеником Александра Блока, иногда более покорным, чем это хотелось бы видеть»[191].
И став футуристом, Шершеневич неоднократно менял свою позицию.
Первоначально он сблизился с петербургскими эгофутуристами. И. Северянин оказал на Шершеневича сильное влияние, а И. Игнатьев привлек его к сотрудничеству в газете «Нижегородец», неофициальном органе эгофутуризма. «Поэзы» Шершеневича печатаются в альманахах «Засахаре кры», «Бей! но выслушай» (оба – СПб., 1913) и других. Эгофутуристическое издательство «Петербургский Глашатай» выпустило третий его стихотворный сборник – «Романтическая пудра» (СПб., 1913).
Летом 1913 года в Москве Шершеневич организовал издательство «Мезонин поэзии», вокруг которого сформировалась одноименная группа. Издательство выпустило три альманаха – «Вернисаж», «Пир во время чумы» и «Крематорий здравомыслия» (все – М., 1913), а также несколько персональных сборников, в том числе книгу Шершеневича «Экстравагантные флаконы» (М., 1913).
Шершеневич в футуризме претендовал на роль лидера и главного теоретика. Он выпустил книжку «Футуризм без маски» (М., 1914), вступал в полемику с другими группами и пытался дать свою трактовку футуризма, выдвигая понятие «слово-образ».
«Мезонин поэзии» просуществовал недолго, до весны 1914 года. В это время произошло кратковременное сближение Шершеневича с кубофутуристами. Он принял участие в «Первом журнале русских футуристов», состоявшем в основном из произведений «гилейцев». Подготавливая, по стечению обстоятельств, журнал к печати, Шершеневич без ведома редакции внес существенные изменения в его состав. Д. Бурлюк писал по этому поводу Б. Лившицу: «Очень жаль, что ты не живешь в Москве. Пришлось печатание поручить Шершеневичу и – мальчишеское самолюбие! – № 1–2 журнала вышел вздор!..»[192]
Сильно отличался Шершеневич от соратников по движению во взгляде на итальянский футуризм. Он перевел манифесты и некоторые стихотворные и прозаические произведения Ф. Т. Маринетти, встречал его в Москве в январе 1914 года и фактически солидаризировался с ним.
Итог футуристическому периоду в творчестве Шершеневича подвела книга «Автомобилья поступь: Лирика. (1913–1915)» (М., 1916). Рецензируя ее, Вл. Ходасевич писал: «Нам <…> кажется, что и в футуризме Шершеневич – только гость, что со временем он будет вспоминать „свой“ футуризм как один из экспериментов – не более»[193].
И действительно, вскоре Шершеневич стал инициатором нового направления в русской поэзии – имажинизма, при этом считая, что создает его «на обломках футуризма». «Футуризм умер потому, – писал он, – что таил в себе нечто более обширное, чем он сам, а именно имажионизм»[194].
«Толпа гудела, как трамвайная проволока…»*
<1913>
Vita nova[195]*
<1913>
L'art poetique[196]*
И. В. Игнатьеву
<1913>
<1913>
Княгине М. У.
<1913>
«Вы не думайте, что сердцем-кодаком…»*
«Фотографирует сердце».
<1913>
«Благовест кувыркнулся басовыми гроздьями…»*
<1913>
Землетрясение*
(Nature vivante[198])
<1913>
«Вы вчера мне вставили луну в петлицу…»*
<1913>
«В рукавицу извощика серебряную каплю пролил…»*
<1913>
Сломанные рифмы*
4. V. 1913.
«Полсумрак вздрагивал…»*
25 сентября 1913
<1914>
«Я не буду Вас компрометировать…»*
<1914>
«Болтливые моторы пробормотали быстро…»*
<1914>
«Вы все грустнеете…»*
<1916>
«В обвязанной веревкой переулков столице…»*
<1916>
Константин Большаков*
(1895–1938)
«Большаков пришел к футуризму сразу, как только открыл поэтические глаза. А глаза были большие, глубокие и искренние. Хорошие были глаза. И сам Костя был горяч, как молодая лошадь, доскакавшая до финиша», – вспоминал о своем соратнике по «Мезонину поэзии» В. Шершеневич[199]. Первая книга Константина Аристарховича Большакова – поэма с показательным названием «Le futur» (M., 1913)[200]. Она была конфискована цензурой (поводом послужили «безнравственные» иллюстрации Н. Гончаровой и М. Ларионова). Эта книга, по воспоминаниям Большакова, поставила его «в лагерь тогдашних футуристов»[201]. Его футуристическую репутацию укрепила вторая поэтическая книга «Сердце в перчатке» (М., 1913), выпущенная издательством «Мезонин поэзии». Большаков имел контакты с кубофутуристами (в частности – с Маяковским), но главная линия творческого развития после распада «Мезонина» вела его к «Центрифуге».
Заметными литературными событиями стали книги Большакова, увидевшие свет в 1916 году (автор находился в это время в действующей армии), – «Солнце на излете: Вторая книга стихов. 1913–1916» (М., 1916) и «Поэма событий» (М., 1916), произведение с сильным антивоенным пафосом.
После революции и Гражданской войны Большаков вернулся к литературе в качестве прозаика. Среди опубликованных книг – роман «Маршал сто пятого дня: Книга 1. Построение фаланги» (М., 1936), где воспроизводятся некоторые эпизоды его литературной молодости.
Репрессирован, реабилитирован посмертно.
Несколько слов к моей памяти*
<1913>
<1913>
Городская весна*
<1913>
Посвящение*
Август 1913 г.
Аэромечта*
Август 1913 г.
«Милостивые Государи, сердце разрежьте…»*
Октябрь 1913 г.
Осень годов*
<1914>
<1914>
Автопортрет*
Ю. А. Эгерту
Май 1914 г.
25. IX. 1914 г.
Le chemin de fer[202]*
Март 1915 г.
Поэма событий*
Юрию Александровичу Эгерту
Посвящение I
Посвящение II
Май 1915 г.
Эхо «Сердца в перчатке»
Шаги тревоги
Город в телеграммах
Дышат убитые…
Глава VI и последняя
XI/914 – I/915
Тверь – Москва
(Аграмматический сонет)
A la memoire glorieuse de St. Mallarme[204]
<1916>
Январь 1916 г.
Рюрик Ивнев*
(1891–1981)
Хотя произведения Рюрика Ивнева (Михаила Александровича Ковалева) публиковались во многих футуристических альманахах, а его книги выпускались издательствами «Мезонин поэзии», «Очарованный странник» и «Центрифуга», вряд ли их автора можно отнести к убежденным и последовательным футуристам – он не меньше печатался и в других издательствах. Эклектичность поэзии Ивнева отмечали современники. Так, К. Чуковский относил его к «приятным писателям», которые «футуристами лишь притворяются»[206]. Позже, в 1922 году, В. Брюсов утверждал, что Ивнев стоит «на полпути от акмеизма к футуризму»[207]. Одна из основных тем Ивнева – тема религиозного переживания, доходящего до экстаза и исступления, – не типична для футуризма, хотя гиперболизация чувства, самобичевание, переходящее в самолюбование, приближают его к футуристической поэтике.
После революции Ивнев вошел в группу имажинистов, основанную В. Шершеневичем. Последний, кстати, высоко оценивал поэзию Ивнева на разных этапах: «Ивнев – только поэт. Он очень слабый романист, еще слабее журналист. Как музыкальный драматург – он просто пародия. Но он, как птица, собирает пищу всюду, где он ее находит. Я даже думаю, что Ивнев не хороший человек, но он хороший поэт. Это важнее»[208].
«Может быть, моя беспомощность Вам нравится…»*
<1913>
«Пахнет рыбой и палубой мытой…»*
<1913>
«Точно из развратного дома вырвавшаяся служительница…»*
«После ночи, проведенной с сутенерами…»*
«Горькая радость в оскорблении…»*
1914, февраль
«Господи! Господи! Господи! Темный свод небес…»*
1914, весна
Нилова Пустынь
(1892–1980)
Под псевдонимом Хрисанф в альманахах «Мезонина поэзии» печатал свои стихотворения известный впоследствии живописец, сценограф и скульптор Лев (Леон) Васильевич Зак. Названия группы, а также двух из трех ее альманахов – «Вернисаж» и «Пир во время чумы» (оба – М., 1913) принадлежат именно ему. Им же были оформлены обложки. Под псевдонимом М. Россиянский он опубликовал ряд теоретических статей. В. Шершеневич, утверждая, что Зак «тащил» группу к футуристическому «академизму»[209], так характеризовал его поэтические принципы: «В противовес простоте группы Маяковского и Бурлюка эстетный Зак развил на основе большого лингвистического исследования теорию „слов-запахов“ и горячо боролся под фамилией Михаила Россиянского с беспредметностью неологизмов Крученых. <…> В противовес кубофутуристам он не отрицал старую поэзию и хотел построить футуризм на основе преодоления классики»[210].
Анонсированный сборник Хрисанфа «Пиротехнические импровизации» издан не был.
С 1920 года Зак в эмиграции. В 1970 году в Мюнхене вышла его книга «Утро внутри», в которую вошли как ранние, «мезонинского» периода, стихотворения, так и более поздние.
«Не мне золотить канделябром…»*
<1913> Paris
«Нынче еще ты не умер…»*
<1913>
«Скорбью Я скоро убью…»*
<1913>
«Небо усталостью стиснуто…»*
<1913>
«Тарантелла тарантула!..»*
<1913>
Сергей Третьяков*
(1892–1939)
«Сергей Третьяков – рассудительный романтик с безумными загибами…» – писал В. Шкловский[211].
Первый этап футуристической деятельности Сергея Михайловича Третьякова связан с группой «Мезонин поэзии», в альманахах которой в 1913 году появились десять его стихотворений. К 1915 году, уже после распада группы, была подготовлена и намечена к выпуску книга Третьякова «Железная пауза». Она не была опубликована в связи с уходом автора на фронт и вышла лишь в 1919 году во Владивостоке. Здесь Третьяков стал одним из активнейших участников литературной группы, сформировавшейся вокруг журнала «Творчество». В 1922 году в Чите, где продолжилась деятельность группы, он выпускает два поэтических сборника – «Ясныш» и «Путевка», работает в окнах ДАЛЬТА (аналог РОСТА).
В 1922 году Третьяков переезжает в Москву, сближается с Маяковским и принимает активное участие в разработке программы Лефа, в частности «литературы факта».
В 1922 году В. Брюсов включил Третьякова в четверку писателей (наряду с Маяковским, Пастернаком и Асеевым), которые находятся «в центре футуризма». Третьяков, по мнению Брюсова, «уже дает законченные образцы того, чего может достичь футуризм на своих путях…»[212].
Писательская деятельность Третьякова разнообразна, кроме стихов он пишет пьесы, самая известная из которых «Рычи, Китай!» (1926), художественную прозу, киносценарии, путевые заметки о поездках в Европу и Азию.
В 1937 году репрессирован.
«Зафонарело слишком скоро…»*
<1913>
Романс голодного*
<1913>
«Мы строим клетчатый бетонный остов…»*
<1913>
«Снег ножами весны распорот…»*
«Отрите слезы! Не надо плакать!..»*
Вадиму Шершеневичу
Рыд матерный*
Владивосток – Тяньцзинь
Борис Лавренев*
(1891–1959)
Прозаик и драматург Борис Андреевич Лавренев начинал свой творческий путь как поэт. В альманахах «Мезонина поэзии» он опубликовал четыре стихотворения. Анонсируемый персональный сборник в свет не вышел. Позже он вспоминал: «Фильтрующий вирус футуризма быстро проник в самые незаметные щели, поражал самых тихих поэтов. Вирус дробился, меняя очертания, маскировался, принимал вид то „эго“, то „кубо“, то просто футуризма. Вирус сразил и меня. Я нырнул вниз головой в эго-футуристское море»[213]. Футуристический период Лавренева закончился в 1915 году, с уходом его на войну. «На фронт ушел поэт Лавренев, – вспоминал В. Шершеневич. – С фронта вернулся беллетрист и драматург Лавренев. Поэзия от этого не проиграла; литература, драматургия и сам Борис выиграли»[214].
Истерика Большой Медведицы*
<1913> Москва
«Центрифуга» и «Лирень»
Сергей Бобров*
(1889–1971)
Литературная деятельность Сергея Павловича Боброва отличалась большим разнообразием: он поэт, прозаик, критик, литературовед, переводчик, организатор издательства и глава группы «Центрифуга». Первая книга Боброва «Вертоградари над лозами» (М., 1913), выпущенная издательством «Лирика», не имела прямого отношения к складывавшемуся тогда футуризму, да и в дальнейшем Бобров вряд ли может быть отнесен к последовательным футуристам, скорее можно говорить о его эстетическом эклектизме. Показателен в этом отношении 1917 год когда Бобров опубликовал два других своих поэтических сборника – «Алмазные леса» и «Лира Лир», первый из которых и по содержанию, и по оформлению можно оценить как вполне традиционный (если не старомодный), а второй – как вполне футуристический.
Тем не менее, в истории русского футуризма Бобров – одна из самых заметных фигур. В 1914 году он, уходя из «Лирики», увлек за собой Н. Асеева и Б. Пастернака и организовал футуристическое издательство «Центрифуга». Именно Бобров стал главным идеологом и полемистом группы. «Центрифуга» ознаменовала начало своей деятельности альманахом «Руконог» (М., 1914), в котором была помещена «Грамота» – один из самых воинственных манифестов русского футуризма (см. Приложение). Однако затруднительно говорить о четкой программе группы на протяжении всей ее сравнительно длительной истории. «Центрифугу» отличали широта филологических интересов, внимание к различным, помимо футуризма, явлениям художественной культуры.
Критические и стиховедческие работы Боброва демонстрируют широкую эрудицию автора, его стремление найти новые для того времени пути анализа поэтических текстов, иногда с опорой на математические методы.
Оценки поэзии Боброва современниками – по большей части сдержанные и даже неодобрительные. «Неким бесталанным поэтом» назвал Боброва в своих мемуарах В. Шершеневич[215].
После революции Бобров преимущественно выступал как прозаик и критик. Опубликовал три фантастических романа, две детских книги по математике, автобиографический роман «Мальчик» (М., 1966).
«Легкоизалетный чертит кругозоры…»*
<1914>
Турбопэан*
<1914>
Памяти И. В. Игнатьева*
Ни тот, ни та тебе, Единый!..
«Оставь переплеты, друзей узоры…»*
Судьбы жесты*
Конец сражения*
Кисловодский курьерский*
Азовское море*
Земляной пэан*
16. IX. 1916
Железноводск
Николай Асеев*
(1889–1963)
Николай Николаевич Асеев был одним из самых активных и заметных участников футуристического движения, хотя футуристом он осознал себя не сразу. После первых публикаций в различных периодических изданиях он вошел в литературную группу «Лирика», выпустившую в 1913 году одноименный альманах. Издательство «Лирика» выпустило и первый, еще во многом эпигонский, сборник Асеева «Ночная флейта» (М., 1913; на титуле – 1914). В начале 1914 года вместе с С. Бобровым и Б. Пастернаком он покинул «Лирику» и стал участником новой, уже футуристической, группы «Центрифуга».
Асеев, однако, тяготился групповой дисциплиной и организовал в Харькове вместе с Г. Петниковым и Божидаром книгоиздательство «Лирень», которое, будучи «дочерним» по отношению к «Центрифуге», обрело достаточную самостоятельность. В этом издательстве Асеев выпустил сборники «Зор» (М. (Харьков], 1914) и «Ой конин дан окейн» (М., [Харьков), 1916). Итоговой для его дореволюционного творчества явилась книга «Оксана» (М., 1916). Б. Пастернак, вспоминая об Асееве периода «Центрифуги», отмечал такие его качества, как «воображенье, яркое в беспорядочности, способность претворять неосновательность в музыку, чувствительность и лукавство подлинной артистической натуры»[216].
Сильное влияние на Асеева оказало знакомство с В. Хлебниковым и В. Маяковским (позже Д. Бурлюк назовет Асеева их «младшим братом»[217]). И если влияние первого, проявившееся в повышенном внимании к слову и тяге к смелому экспериментаторству, ощутимо в харьковских сборниках Асеева, то человеческое и творческое воздействие Маяковского стало во многом решающим для дальнейшей судьбы поэта. В 1962 году Асеев вспоминал: «Маяковский стал самым близким мне поэтом того времени – так же близок он мне и по сей день. Его живой язык заслонил от меня все голоса, которые я слышал раньше»[218].
Футуристическая деятельность Асеева продолжилась на Дальнем Востоке. Во Владивосток он прибыл в октябре 1917 года. Здесь служил в советских учреждениях и активно пропагандировал новейшее искусство. В июне 1920 года вышел первый номер журнала «Творчество», ставшего, по словам Асеева, «культурным центром Дальнего Востока»[219]. Вокруг журнала сложилась группа местных и приезжих литераторов, утверждавших футуризм и придавших ему политическое звучание. Их общественная и литературная деятельность привела к тому, что в 1920 году решением общегородской партийной конференции футуризм, как вспоминал Асеев, «был признан и усыновлен как литературное течение, борющееся на стороне пролетариата»[220]. Во Владивостоке в 1921 году увидела свет книга Асеева «Бомба», которую он сам считал этапной для себя.
В том же году, как и некоторые другие члены группы «Творчество», Асеев оказался в Чите, где было продолжено издание журнала. Среди других мероприятий группы – постановка Асеевым трагедии «Владимир Маяковский» (заглавную роль исполнял С. Третьяков).
Вернувшись в 1922 году в Москву, Асеев активно включается в литературную жизнь, становится ближайшим соратником Маяковского по Лефу.
Позже он написал поэму «Маяковский начинается», в которой воспроизвел некоторые эпизоды истории футуризма и создал поэтические портреты будетлян.
Старинное*
Фантасмагория*
Н. С. Гончаровой
Заповедная буща*
1913 Москва
Песня сотен*
<1914>
Гремль – 1914 год*
<1914>
<1914>
Объявление*
<1915>
<1915>
Выбито на ветре!*
Совпадение наглядной (начертательной) доказательности корня со звучарью: звук Б, повторенный в корне ЛЫБ, дает зрительное впечатление вздымающихся над строками волн[221]
«Я знаю: все плечи смело…»*
Август 1915
Донская ночь*
<1916>
«За отряд улетевших уток…»*
<1916>
«Я буду волком или шелком…»*
<1916>
«Осмейте…»*
<1916>
Стихи сегодняшнего дня*
Борис Пастернак*
(1890–1960)
На первый взгляд, Борис Леонидович Пастернак был активным деятелем и ревнителем «Центрифуги»: вместе с С. Бобровым и Н. Асеевым он стоял у истоков группы, подписал «Грамоту» в альманахе «Руконог», им написаны две программные статьи («Вассерманова реакция» – в «Руконоге» и «Черный бокал» – во «Втором сборнике Центрифуги»), в обоих сборниках опубликованы стихотворения Пастернака, издательство «Центрифуга» выпустило вторую его поэтическую книгу «Поверх барьеров» (М., 1916; на титульном листе – 1917).
Однако его футуристическая активность во многом зависела от инициативы Боброва, о чем неоднократно впоследствии вспоминал Пастернак: «Нарожденье „Центрифуги“ сопровождалось всю зиму (1913–1914 годов. – Сост.) нескончаемыми скандалами. Всю зиму я только и знал, что играл в групповую дисциплину, только и делал, что жертвовал ей вкусом и совестью»[222].
Творческое развитие Пастернака включало футуристический этап, но в главном оно определялось собственной логикой. Своеобразие Пастернака среди футуристов раньше других отметил В. Брюсов, который, анализируя «Руконог», писал, что «„футуристичность“ стихов Б. Пастернака – не подчинение теории, а своеобразный склад души»[223]. Особенность позиции Пастернака проявилась и в том, какое решение он для себя принял в связи с глубоким впечатлением, которое произвел на него В. Маяковский: «Время и общность влияний роднили меня с Маяковским. У нас имелись совпаденья. Я их заметил. Я понимал, что если не сделать чего-то с собою, они в будущем участятся. От их пошлости его надо было уберечь. Не умея назвать этого, я решил отказаться от романтической манеры. Так получилась неромантическая поэтика „Поверх барьеров“»[224].
В январе 1917 года, в связи с предполагаемым выпуском «Третьего альманаха Центрифуги», Пастернак писал К. Локсу: «Центрифуги, думаю, я не опозорю, дело ЦФГи считаю я делом родным…», и при этом добавлял, что он становится «в позицию, не зависящую ни в чем от программы футуризма…»[225].
Позже свои отчетливо «футуристические» стихотворения Пастернак не включил в основное Собрание.
<1914>
Об Иване Великом*
<1914>
Артиллерист стоит у кормила*
<1914>
«В посаде, куда ни одна нога…»*
«Я клавишей стаю кормил с руки…»*
«Я понял жизни цель, и чту…»*
<1915>
Иван Аксенов*
(1884–1935)
«Аксенов – фигура по-своему исключительная. В искусстве он был всем!» – писал И. Сельвинский[227]. Действительно, круг интересов Ивана Александровича Аксенова на протяжении всего его творческого пути был очень широк. Он был автором книги «Пикассо и окрестности» (1914; изд. – М., 1917) и других работ о современной живописи; им была издана книга «Елизаветинцы» (М., 1916) – переводы произведений драматургов эпохи Елизаветы Английской; он перевел для постановки В. Мейерхольда «Великолепного рогоносца» бельгийского драматурга Кроммелинка, написал книгу «Сергей Эйзенштейн. Портрет художника» (1933; изд. – М., 1991), серьезно изучал древнюю и современную музыку, математику.
В издательстве «Центрифуга», сотрудничество в котором Аксенов, будучи еще и профессиональным военным, совмещал со службой в армии, были опубликованы две его оригинальные поэтические книги – сборник «Неуважительные основания» (М., 1916) и драма «Коринфяне» на сюжет «Медеи» Еврипида (М., 1918). После революции Аксенов вошел в литературную группу конструктивистов, издал сборник стихов «Серенада» ([М.], 1920), а также несколько переводных книг. Ему принадлежит одна из первых попыток целостного историко-литературного осмысления русского футуризма (К ликвидации футуризма // Печать и революция. 1921. № 3).
(Февраль 1914 г.)
Каденца из прошлого*
<1916>
«По несмятой скатерти…»*
<1916>
(Второе лицо без речей)
<1916>
(1894–1914)
Божидар (Богдан Петрович Гордеев) является автором книги стихотворений «Бубен», изданной дважды (Харьков, 1914 и М., 1916), оригинального исследования «Распевочное единство» (М., 1916), охарактеризованного Р. Якобсоном как «стиховедческие фантазии»[230], а также нескольких поэтических произведений, опубликованных в различных футуристических изданиях. Знакомство и сближение Божидара с поэтами «Центрифуги» произошло в марте 1914 года, а в апреле того же года он вместе с Г. Петниковым и Н. Асеевым организует в Харькове издательство «Лирень». Испытавший в своем творчестве сильное влияние В. Хлебникова, Божидар, в свою очередь, был им высоко ценим: в 1916 году, уже после смерти Божидара, его имя было поставлено Хлебниковым под воззванием «Труба марсиан». Божидар покончил с собой в ночь на 7 сентября 1914 года в лесу около селения Бабки под Харьковом. «Был среди нас юноша, – писал Н. Асеев, – расшибшийся на всем скаку в начале великой битвы со смертью. Сверкающие сабли нашей закаленной ненависти поднялись как волосы от ее близости, когда он уронил свой „Бубен“»[231].
<1914>
Пиры уединения*
3. Зверинец («О Сад, Сад!..»)
4. Журавль («На площади в влагу входящего угла…»)
5. «Конь Пржевальского» («Гонимый кем – почем я знаю?..»)
6. Числа («Я вслушиваюсь в вас, запах числа…»)
<1914>
7/III – 1914
Пресс-папье*
Der Studiosus ist toll,
er bildet sich ein in einer
glasernen Flasche zu sitzen.
12/111 – 1914
Солнцевой хоровод*
16/III – 1914
Сердце в лазури*
29/III – 1914
5/IV – 1914
Пляска воинов*
13/IV – <1914>
Воспоминание*
М. М. С<иняковой>
22/IV – 1914
12/VII – 1914
«В шуршании шатких листьев…»*
1. Григорию Петникову
1. IV. 1914
26. VIII. 1914
Григорий Петников*
(1894–1971)
Начало литературной (и сразу футуристической) деятельности Григория Николаевича Петникова связано с Харьковом. Именно здесь возник один из провинциальных «филиалов» столичного футуризма, когда в 1914 году Петников с приехавшим из Москвы Н. Асеевым организовал книгоиздательство «Лирень», поддерживающее связи с «Центрифугой». Петников дружил с сестрами Синяковыми, жившими в местечке Красная Поляна недалеко от Харькова; их дом стал своеобразной «резиденцией» футуристов. Первая книга Петникова «Леторей» (совместно с Асеевым) вышла в издательстве «Лирень» в 1915 году. Важным для Петникова стало знакомство в 1916 году с В. Хлебниковым. Они вместе подписывают манифесты «Труба марсиан» (Харьков, 1916) и «Воззвание Председателей земного шара» (Временник. 2. М. [Харьков], 1917). Сильное влияние Хлебникова ощутимо и в поэзии Петникова.
К футуристическому периоду творчества Петникова относятся также три его последующие книги – «Быт побегов» (М.; [Харьков], 1918), «Книга Марии Зажги Снега» (Пг.; [Харьков], 1918), «Поросль солнца» (М.; [Харьков], 1920; 2-е изд. – Пб., 1922). Хлебников писал, что «Петников в „Быте Побегов“ и „Поросли Солнца“ упорно и строго, с сильным нажимом воли ткет свой „узорник ветровых событий“», и отмечал при этом: «Крыло европейского разума парит над его творчеством…»[233]
В первое время после революции Петников совмещал литературную деятельность с государственной службой – был председателем Всеукраинского Литературного комитета Наркомнроса. В позднейших его книгах футуристических элементов практически не осталось, но некоторые ранние произведения Петников включал в свои сборники.
Папоротник*
<1915>
<1915>
По весне!*
<1915>
Рубеж весны*
Посмертье*
Племя звучаное*
Благовещенье, 1916
«Твоих тишин неуловимый вывод…»*
В. М. Синяковой
«В такую горячую весень…»*
В. М. Синяковой
Поросль солнца*
Узор сна на Чусовой*
«Говорит Подгромок старшему своему брату…»*
<1918>
Осенний офорт*
Красная Поляна
Лирический отрывок*
<1920>
<1920>
Райна («На корцах краснолесий высоких роса…»)*
<1922>
«Как перебои русой осени…»*
<1922>
Федор Платов*
(1895–1967)
Участие молодого живописца Федора Федоровича Платова в русском футуризме, конкретно в группе «Центрифуга», продолжалось недолго (1915–1916). Его поэтические произведения были опубликованы во «Втором сборнике Центрифуги» (М., 1916) и в изданном им на собственные средства футуристическом альманахе «Пета» (М., 1916). Стихи Платова были практическим подтверждением разрабатываемой им теории «гаммы гласных», согласно которой «правила гармонии и контрапункта действительны и в гамме гласных» вследствие ее равенства «с обыкновенною музыкальною гаммою»[234]. Платов также выпустил три книги своих афоризмов: «Блаженны нищие духом», «Назад, чтобы моя истина не раздавила вас» (обе – М., 1915) и «Третья книга» (М., 1916). Этим литературная деятельность Платова исчерпывается, но продолжилось профессиональное занятие живописью (см.: Выставка работ художника Федора Федоровича Платова. М, 1969).
<1916>
Prélude № 2*
<1916>
Poème № 1*
<1916>
Песнопение № 1*
<1916>
Prélude № 1*
<1916>
«Всиде кин, очи долу…»*
<1916>
Борис Кушнер*
(1888–1937)
Литературная деятельность Бориса Анисимовича Кушнера была весьма разнообразна. Он автор двух поэтических книг – «Семафоры: Стихи» (М., 1914) и «Тавро вздохов: Поэма» (М., 1915). Его книги «Самый стойкий с улицы» (Пг., 1917) и «Митинг дворцов» (Пг., 1918) можно охарактеризовать как опыты футуристической прозы. Фрагменты «Митинга…» вошли в «революционную хрестоматию футуристов» «Ржаное слово» (Пг., 1918). Кушнер был одним из организаторов ОПОЯЗа, для книги «Сборники по теории поэтического языка. 1» (Пг., 1916) он написал статью «О звуковой стороне поэтической речи». Ему принадлежит историко-философский трактат о еврействе «Родина и народы» (М., 1915). После революции Кушнер активно выступал за тесное сотрудничество левых художников с новой властью. Он, в частности, подверг резкой критике издателей «Газеты футуристов» (1918. № 1) – Д. Бурлюка, В. Каменского и даже В. Маяковского – за их недостаточную, по его мнению, политическую активность. «Не заблуждайтесь, – писал он, – полагая, что продовольственная разруха дает вам право нести „к обеду грядущих лет“ лежалую мякину былых обильных урожаев»[235]. На страницах газеты «Искусство Коммуны» Кушнером была выдвинута идея создания групп «комфутов» (коммунистов-футуристов). Позже был участником Лефа. Репрессирован.
«Управим заправские полозья времени…»*
<1916>
«Белые медведи из датского фарфора…»*
<1916>
Илья Зданевич*
(1894–1975)
Один из самых радикальных деятелей русского и французского авангарда Илья Михайлович Зданевич на протяжении долгой своей жизни был поэтом и прозаиком, драматургом и живописцем, теоретиком искусства и организатором литературных групп, экспериментатором книжного дела и издателем. В 1911 году вчерашний гимназист Зданевич, приехавший из Тифлиса в Петербург с целью поступления в университет, с головой погрузился в левое искусство. Начав с популяризации идей Ф. Т. Маринетти, он осенью 1913 года уже полемизирует с футуризмом и формулирует (совместно с художником М. Ле-Дантю) идею «всёчества» как нового направления в искусстве. «Всёчество» допускало использование эстетических форм искусства разных эпох. «Эклектизм, возведенный в канон, – такова была Америка, открытая Зданевичем…», – иронически вспоминал Б. Лившиц[236]. Тогда же под псевдонимом Эли Эганбюри Зданевич выпускает книгу «Наталия Гончарова Михаил Ларионов» (М., 1913) – первое исследование творчества этих художников.
В октябре 1917 года Зданевич вернулся в Тифлис. Вместе с А. Крученых он организовал там «Синдикат футуристов», а затем, вместе с Крученых и И. Терентьевым, группу «41°» и возглавил одноименное издательство.
В историю русского футуризма Зданевич вошел, прежде всего, как автор заумных драм, составивших пенталогию «аслааблИчья пИтерка дЕйстф».
В октябре 1920 года Зданевич покидает Тифлис и после одногодичного пребывания в Константинополе приезжает в Париж, где сразу же включается в литературную жизнь. Он сближается с французскими дадаистами А. Бретоном, П. Элюаром, Т. Тзара и другими, пытается пропагандировать русскую авангардистскую поэзию.
В 1923 году постоянным псевдонимом Зданевича становится «Ильязд». Дальнейшая жизнь во Франции не всегда была благополучна для него в литературном отношении, но Зданевичу удалось издать несколько книг, в том числе три романа. Творческие отношения связывали Зданевича с Ж. Браком, М. Шагалом, А. Матиссом, П. Пикассо и другими крупными художниками.
Янко крУль албАнскай*
граждани вот действа янко круль албанскай знаминитава албанскава паэта брбр сталпа биржофки пасвиченае оль ги ляшковай здесь ни знают албанскава изыка и бискро внае убийства дает действа па ниволи бис пиривода так как албанскай изык с руским идет ат ывоннава вы наблюдети слава схожыи с рускими как та асел балван галоша и таму падобнае на патаму шта слава албанскии смысл ых ни рускай как та асел значит (па нужэ смыс ла ни приважу) и таму падобнае пачиму ни смучяйтись помнити шта вот изык албанскай
янко ано в брюках с чюжова пличя абута новым времи
княсь пренкбибдада
албаниц брешкабришкофскай
двои разбойникаф из гусыни
немиц ыренталь
свабодныи шкипидары шкипидарыф ыграют зритили
слушаца клаки
дела в албании па виде
реф мелких чисоф
разбойники
ривут за сценай
аб бевегбевиг ге де е
аб бевегбевиг ге де е
жзи какал какал мно
о о о о о о прстуеф
ха чешыщчешыщ щэ ю я
ха чешыщчешыщ щэ ю я
ы ы ы ы ы ы 6
разбойники из гусыни
первай разбойник
абвг дижзий клмно прсту фхцчш
щтль ы ыюя ижыца аб вгд жзик
лмн? оп рст? уф хцчшщ? Б? ъ? ь?
ы ыюя ѳ νабвгд еж зийкл мно
рстуфх цчшщ ыыю яжыцаа
бв? гдиж зий клм ноп рстуф?
хцчш щэю яѣъ ьыеиж?
ыцаа бвг дижз ийкл мно прсту
ф? хцчш щ ѣъьы ѳэ юя?
ижыца а бвгд е жз и й клмн о прсту
первай – 1
втарой – 2
абв гдежз ийклм ноп рс
хфцч шщэю я ѣ ъьыѳ ижыца
туфх цчшщѣ ъ ьыѳ яижыцааб
абвг дижзи йклмн ап р стуфхц
вгдежзий клмн опрс туфхц
чш щ ю ияѣ ъ ьыѳи жыцаа
ч ш щ э ю я ѣ ъ ь ы
а б в г д е ж з и й
за нажи дируцца
пренкбибдада з брешкабришкофским
пренкбибдада – 1
брешкабришкофскай – 2
врываюца разнимают
ливот дувот равот ыкикики
укук выкикжукугзакам ликифликипс
ковот зывот хювот
флукук рыкиканакакиш чикихикичуку
вовот жавот фавот
мракаб бакатакамракас жакатакифс ыкикики
нивот пувот вот
цыкинакаип кижаках выкихакабуку
бязок сизок жозок
утуфпатам нзытимитит витиритифш ытепити
цэзок пызок тузок
вратак фатафлититатап прутукититата
чязок гизок жозок
ститеп рытимижэгуту матамзотол ытепити
хызок кузок зок
цытет дутуничятата чятабататата
динавзять круля?
пренкбибдада – 1
брешкабришкофскай – 2
разбойники – 3
нитвак ниплак пижак
кикабик ыкузыкакик аякик кируякики
абвгдеж зийклмнопр стуфхцч шщѣъьы юяѳ
нишак дупурапак
кикамкук аихукаяк кофоикикикик
ижыцаабв гдижзий лмнапрстуфхцчкики
ниграк нинак нифлак
кукиканкук кагукикик кудуск ксаика
шщыюяѣъьые иж ыцаабвгдеж зийклмнапр
низдак дупурапак
кикапакик качокакик кофолукикикик
стуфхцчш щыъюяь ѳ и жыц аа
динавзять круля?
блаха с янкой
вскакьваит
ловит пишит на блахе
собственность янки
пренкбибдада
брешкабришкофскай
разбойники
хватают янку
улипетваит
ю бутьрулем
папася мамася
банька какуйка визийка
будютитька васька мамудя
уюля авайка зибитытюшка
аблюся сякавака мукигугуня
бузюбузабзититька дюдибюдя суря
микуйка какая
вискалейка аваляся тискудюня
засюсифатю виядя уюя
банька какуйка муйка
пренкбибдада
харам бажам глам
зыки киу квет
свабодныи шкипидары
тампус марсис
пузынуза лабируза каватуза узызус
янко банка казыбланка кыпабланка шахматист
пренкбибдада
длинарода галавода ододо
лода жода уиуода
тпрв мкст ншпрс утпр век
клкн клкм пттк пьюк ю
брешкабришкофскай
разбойники
свабодныи шкипидары
тампус марсис ю
речь трунная
цапаит карону
ае бие бае бие бао биу баэ
брун барамур гаратул сабану
манаманул бао измер фанул стук
сглв сгтп цгтв мнбл бн баэ
биу ганар гматер гажатаку
бурун барамур брамер раме
р хох хох галоша на фартипляси
рабанабул дабо кабил тате
матамалур анол абир абале
бач шырет р бач шырет м
авалайтись авалайтись алуби бирала
имун гитара цалет язбо
растат накабаста лакбираю васаалога
пренкбибдада
брешкабришкофскай
раз<б>ойники
свабодныи шкипидары
пренкбибдада
мажыт трон синдитиконам приклейваит янку
нуи праквачец
пренкбибдада
брешкабришкофскай
разбойники
ривут пляшут
фрам гом хыхыдырот ров гез
хор брем воролест ир ин грей
сун дыгидыхет чи вер мун хос
гор а гор э гори горо гол
буф хеф ушерхик чям хала
цын ту запагавул кос вот выч
сгалижол викшытабли
пал у боун о жавиригол
млеч там мижап апи ризо
таб ри гамгам угве угво
мачтаел азьювапдош
гор а гор а горе гори горо гогоругол
шэк тук моб – 1
бличик мутикикавута бликутжутара – 2
аб вг де жз ий кл мн апр ст уф – 3
вып глам геп
мизивизидицол авжык каючахавиркуя
хацэ чишэ щэ ѣ ъ ь ыю ия ѳижыца
руж тоц хафхур
чичкавихат хавидихой вуишнач ивадат
абвг деж зийкл мноп с туфхц
бмиМАс бмиМАс боз мдидагуей
чшщ ѣъьы июя ѳ ижыцаа бвгд
вап лыс гун |
лидигуивирол самбо | иЗЕж
(-ча виона |
зийкл мно пр стуфхцчшщ ъ
юф пис жош
лантакижугул бжибжэр чимимаможо
ьы ѣ июяе ижы цаабв гд ежз ий
жог эчь би
цкачтиаа куткут янкачеи маломя
к лмн ап рс туф хц чшщѣ
бмиМАс манол бЖАнавала
ъьы эыя еиж ыцаабв гд
убигают | иЗЕж
ни можыт атклеица
увау уа уи еи уеиеиу
уеи ув ив иеиа аи ивоу
виу эиеяо аув вио авиаеиу
уэвиуао эвевн ву йву увиуу
уа уе и уеоиева вив
яоеои уявуя ов ав авау
яувеи вюивюве ие ууй оой уйой оййо
аувивай увай вово уи ува вауий
еоййойо аеи аиоиа ыу ово уу
уаоа оыуи увау уви уявуа а
немиц ыренталь
цумкатыр хиди гайгай
ботыр вегер ихабе кайны мутыр
клопс латамин ыренталь росфатыр
оин копен дацу вильдит уйбин
ахт гегосин фир илевин драй
витписе ставин татменгер
хунквит зи аунбрюбер дас
цумкатыр дюрер кандуктар
мосин динау брюнфирмалин
хам бранц вал мазоль
вык микват атубир
мытав зазусу
блык бидавидик аватикан
ангей уада
брыфсытаф дуырамзалзош кавиржуза
янко – 1
ыренталь – 2
враф гажнат масхляп пляги
грум шакен вырх
враф ырувок мил
гагвик накфуц
малиудеш быдзвол
хоцэлд олд идол
ана ваней двуной
манерин окш
шной князец авул
драюндрайсик
пробуит атклеить янку
пренкбибдада
брешкабришкофскай
разбойники
пренкбибдада
брешкабришкофскай
разбойники
бр вв тх с ж кг
лб чм фп жв шк
шз кц ст бб вм
шптврчрхцчмгзж
режут янку
реф сумирчи моря
пренкбибдада
брешкабришкофскай
разбойники
скрываюца ривут
эрераро рарум риве равора
иииэ над мори паруса
иииэ ихе ихо ихора
ийдувале ийдуваля хира
хатум мавул ке
мистре ватронь та
мика вакой свиж
микла макло клюклу кли
вивер мивро
пидрил вапу нили вале
ставаль митерни
микре вакуи муви съвей
микулавер эреваторо
Ослиный бох*
Игорь Терентьев*
(1892–1937)
Игорь Герасимович Терентьев относится к последнему поколению русских футуристов. Весной 1918 года в Тифлисе он присоединился к И. Зданевичу и А. Крученых, и они организовали группу футуристов-заумников «41°». Участие Терентьева в деятельности группы сразу принимает энергичный и разносторонний характер. Он читает секции в «Университете „41°“ (Футур-всеучбище)», участвует в диспутах; в издательстве «41°» вышли его теоретические работы: «17 ерундовых орудий» (Тифлис, 1918; 2-е изд. – Тифлис, 1919), «Трактат о сплошном неприличии» (Тифлис, 1920) и книги, посвященные соратникам по «41°», тоже имеющие теоретическое значение, – «А. Крученых грандиозарь» и «Рекорд нежности: Житие Ильи Зданевича» (обе – Тифлис, 1919).
Терентьев выступает как радикальный и последовательный теоретик заумного языка, единственного приемлемого, по его мнению, для современной поэзии. Он не только полемизирует с литераторами, традиционно относимыми к «прошлякам», но осуждает и тех футуристов, которые остановились в своем развитии, «так и стоят за-я-канные и за-все-канные»[237]. Терентьев писал:
«Наша поэзия отлична как:
1. Упражнение голоса.
2. Материал для языкопытов.
3. Возможность случайного, механического, ошибочного (т. е. творческого) обретения новых слов.
4. Отдых утомленного мудреца, Заумная поэзия чувственна, как все бессловесные.
5. Способ отмежеваться от прошляков.
6. Сгущенный вывод всей новейшей теотики стиха.
7. Удобрение языка (заумь – гниение звука – лучшее условие для произрастания мысля)»[238].
«На заумном языке можно выть, пищать, просить того, о чем не просят, касаться неприступных тем, подходя к ним вплотную, можно творить для самого себя, потому что от сознания автора тайна рождения заумного слова скрыта почти так же глубоко, как от постороннего человека.
Но заумный язык опасен: он убьет всякого, кто, не будучи поэтом, пишет стихи»[239].
Как поэт Терентьев выпустил две книги стихов – «Херувимы свистят» и «Факт» (обе – Тифлис, 1919). Его поэтические произведения печатались также в альманахе «Софии Георгиевне Мельниковой: Фантастический кабачок» (Тифлис, 1919) и книге А. Крученых «Ожирение роз: О стихах Терентьева и других» (Тифлис, 1918). Стихами сопровождались и теоретические работы Терентьева.
После неудачной попытки эмигрировать Терентьев в начале 1923 года приехал в Москву, где установил контакт с Лефом. Однако взгляды лефовцев показались максималисту Терентьеву слишком умеренными. В мае 1923 года он писал И. Зданевичу: «Все кто не в Лефе – сволочь несосветная. Сам же Леф тоже сволочеват. Позиция д<олжна> быть общественно ясной, а потому я в Лефе с Крученых заняли самую левую койку и в изголовье повесили таблицу 41° и притворяемся больными»[240].
После переезда в Петроград в августе 1923 года Терентьев возглавил фонологический отдел ГИНХУКа, руководимого К. Малевичем. Однако в дальнейшем его все более привлекает театр, он пишет пьесы и ставит спектакли. В 1926 году он основал экспериментальный театр Дома Печати, где осуществил скандальную постановку гоголевского «Ревизора». Критика оценила ее как «запоздалый рецидив футуризма в области театра» и «откровенную вылазку художественной реакции»[241].
После первого ареста в 1931 году руководил на строительстве Беломорканала театральной студией. Освобожден в 1933 году. После вторичного ареста (в 1937 году) расстрелян.
Серенький козлик*
<1918>
<1918>
<1918>
<1918>
Алексею Крученых*
<1918>
К занятию Палестины англичанами*
<1918>
Мое рождество*
<1919>
Демобилизация*
<1919>
Поэма 1919 год*
<1919>
<1919>
«НЕ УПУСКАЙТЕ СЛУЧАЯ…»*
<1919>
Путеянство*
<1919>
Спич Лапшина*
<1919>
(анал 1918 г.)
<1919>
«Плохое отличается от хорошего очень мало…»*
<1919>
<1919>
Николай Чернявский*
(1892?-1942)
Николай (Колау) Андреевич Чернявский был одним из членов литературной группы «41o». До этого, в середине 1910-х годов, имя Чернявского было известно в литературных кругах, он был знаком с А. Блоком, А. Ремизовым, К. Бальмонтом, его стихотворения публиковались в альманахах и сборниках, например в сборнике «В год войны» (Пг., 1915), наряду с произведениями А. Блока, Ф. Сологуба, А. Ахматовой и других видных литераторов. Тяга к поэтическому эксперименту возникла у Чернявского после сближения в 1919 году с А. Крученых, И. Зданевичем и И. Терентьевым. После распада группы «41°» Чернявский занимался собиранием русского и грузинского фольклора, переводами с грузинского и французского. Единственный стихотворный сборник – «Письма» (Тифлис, 1927) – не несет на себе футуристического воздействия.
«Дюжина бочек…»*
<1919>
«Хмелево зноя…»*
<1919>
Кирпичная труба*
<1919>
«Творчество»
Сергей Алымов*
(1892–1948)
Сергей Яковлевич Алымов активно сотрудничал с группой «Творчество». На Дальнем Востоке он оказался не по своей воле: в 1911 году за революционную деятельность он был сослан в Сибирь, откуда бежал за границу. Первая его книга – «Киоск нежности» – увидела свет в Харбине в 1920 году. Алымов участвовал во Владивостоке и Чите в «футурконцертах железной когорты футуристов» вместе с Н. Асеевым, Д. Бурлюком, С. Третьяковым. Позже им было опубликовано несколько книг стихов и популярных советских песен. Известность Алымову принесла обработанная им песня П. Парфенова «По долинам и по взгорьям».
<1920>
Лимузин-саркофаг*
<1920>
Николаю Асееву, чья лирика ладанная заря.
<1920>
<1920>
Роща дней*
Всеволоду Иванову с верой, что это будет.
<1920>
Петр Незнамов*
(1889–1941)
Свою литературную деятельность Петр Васильевич Незнамов (настоящая фамилия – Лежанкин) начал во владивостокском журнале «Творчество». В нем наряду с начинающими дальневосточными литераторами печатались уже маститые поэты-футуристы Д. Бурлюк, Н. Асеев, С. Третьяков, которые и определяли лицо журнала и группы «Творчество».
В. Брюсов, рецензируя первую книгу Незнамова «Пять столетий» (М; Пг., 1923), писал: «Не знаю, относить ли к „левому фронту“ П. Незнамова. Его техника – умеренный футуризм, на нем, несомненно, влияние В. Хлебникова. Но П. Незнамов претворил это во что-то свое и остался в пределах „классических“ форм»[242].
Решающее влияние на литературную судьбу Незнамова оказала встреча с В. Маяковским, которая произошла в Москве в 1923 году. Он становится активным участником Лефа. Асеев, вспоминая о лефовском периоде Незнамова, писал: «Он был даровитый поэт, принципиально преданный существовавшей тогда среди нас „фактографии“, то есть обязательности отражения действительности, в противоположность работе фантазии, выдумки, воображения»[243].
Незнамов погиб на фронте во время Великой Отечественной войны.
Буйное настроение*
Маяков стена*
Владимир Силлов*
(1901–1930)
Владимир Александрович Силлов был футуристом умеренным и совсем недолго. Во Владивостоке, где он учился, вокруг журнала «Творчество» сложилась группа литераторов, образовавших последнее футуристическое объединение (1921–1922 годы). Силлов был участником «Творчества», а также редактировал журналы «Восток» (в 1920 году) и «Юнь» (в 1921-м). Интенсивная литературная жизнь ожидала его и в Москве: он учился, а потом преподавал в Высшем литературно-художественном институте, был ответственным секретарем журнала «Рабочий клуб», печатался в «Лефе» и пролеткультовских изданиях. В 1930 году был репрессирован. Узнав об этом, Б. Пастернак писал Н. Чуковскому 1 марта 1930 года о своем потрясении и выделял Силлова «из Лефовских людей» как «укоряюще-благородный пример <…> нравственной новизны»[244].
Н. Н. Асееву*
<1921>
«Из мчащих галопом минут…»*
<1921>
Венедикт Март*
(1896–1937)
Венедикт Март (Венедикт Николаевич Матвеев), автор многочисленных книг, изданных во Владивостоке и Харбине, был заметной фигурой в литературной жизни Дальнего Востока, активным участником группы «Творчество». Не все, что написано Мартом, может быть отнесено к футуризму, но, в отличие от некоторых других участников «Творчества», он и после распада группы считал себя футуристом (именно таким Март появится на страницах романа К. Вагинова «Козлиная песнь» под фамилией Сентябрь). С 1927 года Март живет в Подмосковье, затем в Саратове (в ссылке), в Ленинграде, Ему удается выпустить несколько книг прозы. В июне 1937 года был арестован и вскоре расстрелян.
В курильне*
1916 г. 4 февраля
Санкт-Петербург
Мой гипсовый череп*
Санкт-Петербург
Камень, женщина и падаль кошки, которая за форточкой гниет на подоконнике*
Тебе Светлой Лепок посвящаю из своего исчадья
7 н./ст. Август 1918 год
Г. Никольск-Уссурийск
№ 4 Гостин. «Россия»
Белая Земля
Скорбные корни*
<1920>
Анатолий Фиолетов*
Анатолий Васильевич Фиолетов (Шор) входил в одесскую группу поэтов, издавшую четыре альманаха – «Шелковые фонари» (1914, без участия Фиолетова), «Авто в облаках» (1915), «Седьмое покрывало» (1916) и «Чудо в пустыне» (1917). Состав участников менялся, и под одной обложкой оказались произведения авторов разной литературной ориентации (среди них – начинающий Э. Багрицкий). Кроме одесских поэтов, в альманахах печатались столичные «знаменитости» – В. Шершеневич, С. Третьяков и В. Маяковский.
Из местных литераторов наибольшее футуристическое (а точнее – эгофутуристическое) влияние испытал Фиолетов. О его жизненном и творческом пути известно немного. Он автор единственной книги – «Зеленые агаты» (Одесса, 1914). После революции Фиолетов работал в одесском угрозыске и был убит. Известность его как поэта почти не вышла за пределы близкого окружения. Его друг поэт С. Бобович писал о поэзии Фиолетова: «В его наивных, немного детских, немного ироничных стихах такая бездна художественной утонченности, такая гармоничная волна хорошего вкуса и благородного чутья, такая чарующая доброта…»[245]
Переменность*
<1914>
Клич к совам*
<1914>
<1915>
Апрель городской*
<1915>
Вадим Баян*
(1880–1966)
В другой оценке Вадима Баяна Северянин более снисходителен: «Человек добрый, мягкий, глупый, смешливый, мнящий. Выступал на наших крымских вечерах во фраке с голубой муаровой лентой через сорочку („от плеча к аппендициту“)»[247].
В 1914 году вышел сборник стихотворений Баяна «Лирический поток: Лирионетты и баркаролы» (СПб.; М., 1914) с предисловиями И. Ясинского и И. Северянина, влияние которого в книге весьма ощутимо, «футуристическая» активность Баяна на этом закончилась, хотя еще несколько стихотворных и прозаических произведений он позже опубликовал.
Ожерелье из женщин*
<1914>
У струй нарзана*
Посвящаю Игорю Северянину
Владимир Пруссак*
(1895–1918)
Владимир Васильевич Пруссак не входил ни в одну футуристическую группу и не связывал свою поэзию с футуризмом. Лишь одной стороной своего поэтического творчества он соприкасался с эгофутуризмом северянинского типа, что было отмечено критиками. Н. Гумилев писал о сборнике Пруссака «Цветы на свалке» (СПб., 1915): «Если вспомнить андреевский рассказ „В тумане“, нам многое прояснится в стихах Владимира Пруссака. Без этого непонятно, почему он ломается, представляя то сноба скверного пошиба a la Игорь Северянин, то опереточного революционера, то доморощенного философа, провозглашающего, что искусство выше жизни, и наполняющего свои стихи именами любимых авторов. <…> Каких-нибудь три, четыре года, как появился эго-футуризм, а каким старым и скучным он уже кажется. Владимиру Пруссаку надо сперва рассеять в своих стихах туман шаблона, чтобы о нем можно было говорить, как о поэте»[248]. Еще более категорично оценил тот же сборник Вс. Рождественский: «Владимир Пруссак прямой тропой пришел к „несравненному Игорю“ и взял от него то, что было по душе: ресторанный чад и лакейскую пошлость. Его „поэтезы“ – родные сестры „Ананасов в шампанском“»[249]. Однако по большей части стихи Пруссака написаны совсем не в северянинской манере: во втором (и последнем) сборнике поэта «Деревянный крест» (Иркутск, 1917) от этой манеры не осталось и следа, а в стихах первой книги любопытна попытка сочетания эгофутуристического стиля с политической темой. Пруссак принимал участие в подпольной деятельности партии эсеров, за что был осужден и сослан в Сибирь.
«Ты в ассонансах – праздный шут…»*
<1915>
«Больше я не фокусник, чинно напомаженный…»*
<1915>
«Неужели проиграна жизнеценная ставка?..»*
<1915>
Георгий Шенгели*
(1894–1956)
Известный переводчик, стиховед и поэт Георгий Аркадьевич Шенгели не примыкал к футуристическим группам и не печатался в их альманахах. Однако некоторое воздействие И. Северянина (и, возможно, В. Шершеневича) отразилось в ранних произведениях Шенгели. Это касается прежде всего первых трех сборников его «поэз» – «Розы с кладбища» (Керчь, 1914), «Зеркала потускневшие» и «Лебеди закатные» (оба – Пг., 1915).
В 1916–1917 годах Шенгели участвует в турне И. Северянина по югу России. На «поэзоконцертах» выступление метра предварялось докладом Шенгели «Поэт вселенчества», а завершалось чтением молодым поэтом своих стихов.
Однако главная линия творческого развития Шенгели лежала вне футуризма. Вскоре Шенгели переходит к «новоклассическому» направлению, или «пушкинизму» (поэтами этого направления он считает М. Волошина, О. Мандельштама, В. Ходасевича).
В 1922 году Шенгели приезжает в Москву из Харькова, где он учился в университете, и в 1925 году становится председателем Всероссийского союза поэтов. Он много печатается, преподает в Высшем литературно-художественном институте.
Возможно, в писательской судьбе Шенгели отрицательную роль сыграла его книга «Маяковский во весь рост» (М., 1927), оспаривающая многие достижения Маяковского в области русского стихосложения. Как бы то ни было, в 1930-е годы Шенгели удалось выпустить только два сборника своих стихов. Остальные книги – переводные.
Гримасы вечера*
<1915>
Закатные лебеди*
<1915>
Василий Катанян*
(1902–1980)
Василий Абгарович Катанян известен прежде всего как литературовед, автор фундаментального исследования – хроники жизни и творчества В. Маяковского, выдержавшей пять изданий: первое – «Маяковский: Литературная хроника» (М., 1945), последнее – «Маяковский: Хроника жизни и деятельности» (М., 1985). Однако начинал Катанян свою литературную деятельность как поэт. Он автор двух стихотворных книг – «Синим вечером» (совместно с В. Кара-Мурзой; Тифлис, 1918) и «Убийство на романтической почве» ([Тифлис], 1019). Участвовал он и в коллективном сборнике «Софии Георгиевне Мельниковой: Фантастический кабачок» (Тифлис, 1919), изданном группой «4Г». Позже, уже переехав из Тифлиса в Москву, Катанян входил в литературную группу «Леф».
«Ведь трамваи несутся, ведь грохочут моторы…»*
«В цветах Июня, в краю олонца…»*
Игорю Северянину
<1918>
Татьяна Вечорка*
(1892–1965)
В 1917–1919 годах Татьяна Вечорка (Татьяна Владимировна Толстая, урожденная Ефимова) была видной фигурой в литературной жизни Закавказья. В Тифлисе она основала «Литературное Дружество „Альфа-Лира“», была одним из сопредседателей местного «Цеха поэтов». В Баку сотрудничала в Закавказском Телеграфном агентстве вместе с А. Крученых, В. Хлебниковым, С. Городецким. Если первые поэтические сборники Татьяны Вечорки «Беспомощная нежность» и «Магнолии» (оба – Тифлис, 1918) отмечены влиянием А. Ахматовой, то в третьей книге – «Соблазн афиш» (Баку, 1919) – очевидна тяга автора к футуризму. Стихотворения Вечорки появляются в альманахе «Софии Георгиевне Мельниковой: Фантастический кабачок» (Тифлис, 1919), а также в выпущенных Крученых книгах «Замауль. I» (Баку, 1919) и «Мир и остальное» (Баку, 1920). Последний ее стихотворный сборник «Треть души» (под фамилией Т. Толстая) вышел в Москве в 1927 году. С конца 1920-х годов Т. Вечорка выступает как прозаик, автор беллетризованных биографий.
«Замшей точеных ботинок…»*
<1919>
«В парчовом обруче…»*
<1919>
«Барабанщик перебирает лапками лайки…»*
<1919>
Георгий Золотухин*
(1886 – не ранее 1942)
«Золотухин – из второго поколения футуризма», – писал В. Каменский[251]. Место Георгия Ивановича Золотухина в русском футуризме определяется, прежде всего, тем, что он был меценатом (хотя и издал пять своих книг). После знакомства с Д. Бурлюком в 1915 году он стал материально поддерживать кубофутуристов (отец Золотухина был крупным землевладельцем). В организованном им издательстве «К.» вышли роман Каменского «Стенька Разин» (М., 1915; на обложке – 1916) и сборник «Четыре птицы» (М., 1916), в котором Золотухин-поэт соседствует с В. Хлебниковым, Д. Бурлюком и В. Каменским. Квартира Золотухина в Москве стала местом встреч футуристов. Однако к 1917 году он остался без средств. Последняя публикация Золотухина датирована 1924 годом.
Буря внутри…*
<1916>
«Лесбийская любовь лорнировала лиры…»*
<1916>
«Писки. Человеческих туш близки…»*
<1916>
<1922>
Сергей Спасский*
(1898–1956)
Сергей Дмитриевич Спасский принадлежал к младшему поколению русских футуристов. В 1917 году начинающий поэт выпустил первую книгу стихов «Как снег» (М., 1917). В предисловии к ней К. Большаков, в то время один из виднейших авторитетов футуризма, дал весьма лестную оценку опытам Спасского: «Стихи выше и значительно выше среднего уровня положенного для начинающих Немногое но есть в них и свое а то не свое не списано а по юношески по своему перепето А главное они юны по настоящему юны страшно юны И это уже достоинство Это то что стоит нашей рекомендации что стоит быть прочтенным»[252] (пунктуация в предисловии Большакова, как и в стихотворениях Спасского, отсутствует). Однако футуристом Спасский был недолго. Непродолжительное время он примыкал к группе экспрессионистов. В дальнейшем издал несколько стихотворных и прозаических книг. Им также написана книга воспоминаний «Маяковский и его спутники» (Л., 1940).
<1917>
«По гаснущим окнам пройтись и надо ли…»*
В. Маяковскому
<1917>
«Как будто вздрогнув ночь…»*
<1917>
«В сердце положишь слова ты…»*
<1917>
Кафе поэтов*
С любовью друзьям поэтам
Д. Бурлюку В. Каменскому В. Маяковскому
<1918>
Автопортрет*
Дмитрий Петровский*
(1892–1955)
Как Д. Бурлюк и В. Маяковский, Дмитрий Васильевич Петровский учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Как и они, только позже, за участие в публичных чтениях и диспутах он из училища был исключен. Петровский не нашел определенного места в футуристическом движении. Большую роль в его поэтическом развитии сыграло знакомство в 1916 году с В. Хлебниковым, о котором впоследствии он написал книгу воспоминаний[253]. В том же 1916 году Петровский ушел на фронт и к литературной деятельности смог вернуться только спустя несколько лет. Первая книга – «Пустынная осень» ([Саратов], 1920). В дальнейшем принимал участие в литературных группах «Леф» и «Перевал», выпустил несколько книг поэзии и прозы.
«Песенка»*
(Моей матери)
(песня Матерей):
Март 1916 г.
Рождественская песня*
(Финская мелодия)
26 октября 1916 г.
Петроград, Песочная
Январь 1918 г.
Ново-Белица
Елене Гуро
30 мая 1918
Москва. Сивцев Вражек
Заклятье вечера*
Июнь 1918 года
Москва, Садовая
Июнь 1918 г.
Москва, Б<ольшая> Садовая
29 августа 1920 г.
Красная Поляна
Владимир Гольцшмидт*
(1891?-1957)
Владимир Робертович Гольцшмидт – фигура весьма одиозная даже среди футуристов. Он осуществил их идеи «на практике», был «футуристом жизни»: поражал публику экстравагантными номерами, демонстрировал свою физическую силу, ломал доски о собственную голову, соорудил самому себе гипсовый памятник в Москве, всячески пропагандировал здоровый и энергичный образ жизни. В 1917 году он вместе с В. Каменским организовал в Москве «Кафе поэтов». С. Спасский вспоминал о выступлении Гольцшмидта в этом кафе: «Проповедник выходил в яркой шелковой рубахе с глубоким декольте. Шея его действительно была крепкой. Да и весь он выглядел могуче. <…> Долой условности, ближе к природе, загорайте на солнце, освободитесь от воротничков! <…> Тут же на лекции демонстрировал он дыхание, позволявшее сохранять тепло. Совсем ни к селу ни к городу читал стихи, преимущественно Каменского. Впрочем, и одно свое, воспевающее его собственные качества.
Но главный, центральный номер преподносился в конце. Г<ольцшмидт> брал деревянную доску. Публика призывалась к молчанию. Г<ольцшмидт> громко и долго дышал. И вдруг хлопал себя доскою о темя. Все вскрикивали. Доска раскалывалась на две. Аплодисменты. Г<ольцшмидт> стоял гордо. Во всеуслышанье сообщал свой адрес. Желающих поздороветь просил обращаться к нему»[254].
В 1918 году Гольцшмидт уехал на Дальний Восток, где выпустил сборник «Послания Владимира жизни С ПУТИ К ИСТИНЕ» (Камчатка, Петропавловск, 1919). «Самоутверждаясь» в показательно футуристическом духе, он отвергал уже и прежних соратников: «Что мне поэты Маяковский / Давид Бурлюк Каменский с Камы…» («Мой Гимн»).
Моя мираоснова*
Мое Миропонимание.
<1919>
Памятник Владимира жизни поставленный собственно ручно в г. Москве 12 апреля 1918 г.*
<1919>
Тихон Чурилин*
(1885–1946)
«Гениальным поэтом» назвала Тихона Васильевича Чурилина М. Цветаева[255].
Прямые контакты Чурилина с футуристическим движением очевидны: первую книгу его стихов иллюстрировала Н. Гончарова; вторая поэтическая книга и повесть «Конец Кикапу» (М., 1918) вышли в футуристическом издании «Лирень»; он печатался вместе с футуристами в альманахах «Московские мастера» (М., 1916) и «Весенний салон поэтов» (М., 1918); в конце концов, очевидны футуристические свойства поэзии Чурилина (особенно во второй книге), объясняющиеся, помимо прочего, влиянием В. Хлебникова. Однако, в отличие от участников определенных футуристических групп, Чурилин никак не склонен был «стоять на глыбе слова „мы“»[256]; его место в футуризме отдельное и особое.
Чурилин дебютировал в литературе в 1908 году, но первую книгу – «Весна после смерти» – смог выпустить лишь в 1915-ом, после двух лет, проведенных в психиатрической лечебнице. В предисловии к книге автор писал: «Храня целость своей книги – не собрания стихов, а книги – я должен был снять посвящения живым: – моим друзьям, моим учителям в поэзии и знакомым моим. Да и кого может иметь из таковых очнувшийся – воскресший! – весной после смерти, возвратившийся вновь нежданно, негаданно, (нежеланно)?»[257] Книга была замечена критикой. Н. Гумилев писал о Чурилине: «Литературно он связан с Андреем Белым и – отдаленнее с кубофутуристами. Ему часто удается повернуть стихи так, что обыкновенные, даже истертые слова приобретают характер какой-то первоначальной дикости и новизны. Тема его – это человек, вплотную подошедший к сумасшествию, иногда даже сумасшедший. Но в то время, как настоящие сумасшедшие бессвязно описывают птичек и цветочки, в его стихах есть строгая логика безумия и подлинно бредовые образы»[258]. Мнение другого критика: «Кликушество, затаенный и явный страх – от страха бьющиеся друг о друга слова, а меж них, мертвый, пугающий, лик поэта. Т. Чурилин в „Весне после смерти“ заразил свои слова каким-то безумием, в котором он заставляет их биться, даже и в период расцветшей, и расцветающей „Весны“»[259].
«Вторая книга стихов» (М., 1918) более экспериментальна и футуристична по техническим приемам и отношению к языку.
Вышедшая много лет спустя третья книга – «Стихи Тихона Чурилина» (М., 1940) – далека от футуризма.
(Из повести: Последнее посещение)
Пьяное утро*
Полночь на святках*
В фотоцинкографии*
Съемка с портрета
Проявление
<1915>
Последний путь*
Мой дядя самых честных правил…
Вальс у костра*
М<осква>
Во мнения*
Конец Кикапу*
В больнице*
На ночь защита
В провинции*
М<осква>
Смерть часового*
Вторая весна*
Бывшим друзьям
<1915>
Первый грех*
<1916>
Вывозка воза*
Орган – хору*
Апрель 1918
Приложение. Манифесты и декларации
Кубофутуризм
Пощечина общественному вкусу*
Читающим наше Новое Первое Неожиданное. Только мы – лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве.
Прошлое тесно. Академия и Пушкин – непонятнее гиероглифов.
Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч., и проч. с Парохода современности.
Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней.
Кто же, доверчивый, обратит последнюю Любовь к парфюмерному блуду Бальмонта? В ней ли отражение мужественной души сегодняшнего дня?
Кто же, трусливый, устрашится стащить бумажные латы с черного фрака воина Брюсова? Или на них зори неведомых красот?
Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми.
Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Сологубам, Ремизовым, Аверченкам, Черным, Кузминым, Буниным и проч., и проч. – нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным. С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество!..
Мы приказываем чтить права поэтов:
1. На увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами. (Слово – новшество).
2. На непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку.
3. С ужасом отстранять от гордого чела своего, из банных веников сделанный Вами, Венок грошовой славы.
4. Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования.
И если пока еще и в наших строках остались грязные клейма Ваших «Здравого смысла» и «хорошего вкуса», то все же на них уже трепещут впервые Зарницы Новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова.
Александр Крученых
В. Маяковский
Виктор Хлебников
Москва. 1912 г. Декабрь.
Пощечина общественному вкусу (листовка)*
В 1908 году вышел «Садок Судей». – В нем гений – великий поэт современности – Велимир Хлебников впервые выступил в печати. Петербургские метры считали Хлебникова «сумасшедшим». Они не напечатали, конечно, ни одной вещи того, кто нес собой Возрождение Русской Литературы. Позор и стыд на их головы!..
Время шло… В. Хлебников, А. Крученых, В. Маяковский, Б. Лившиц, В. Кандинский, Николай Бурлюк и Давид Бурлюк в 1913 году выпустили книгу «Пощечина Общественному Вкусу».
Хлебников теперь был не один. Вокруг него сгруппировалась плеяда писателей, кои, если и шли различными путями, были объединены одним лозунгом: «Долой слово-средство, да здравствует Самовитое, самоценное Слово!» Русские критики, эти торгаши, эти слюнявые недоноски, дующие в свои ежедневные волынки, толстокожие и не понимающие красоты, разразились морем негодования и ярости. Не удивительно! Им ли, воспитанным со школьной скамьи на образцах Описательной поэзии, понять Великие откровения Современности.
Все эти бесчисленные сюсюкающие Измайловы, Homunclus’ы, питающиеся объедками, падающими со столов реализма – разгула Андреевых, Блоков, Сологубов, Волошиных и им подобных, – утверждают (какое грязное обвинение), что мы «декаденты» – последние из них – и что мы не сказали ничего нового – ни в размере, ни в рифме, ни в отношении к слову.
Разве были оправданы в русской литературе наши приказания чтить Права поэтов:
на увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами!
на непреодолимую ненависть к существовавшему языку!
с ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный вами венок грошовой славы!
стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования!
<Манифест из сборника «Садок судей II»>*
Находя все нижеизложенные принципы цельновыраженными в первом «Садке судей» и выдвинув ранее пресловутых и богатых, лишь в смысле Метцль и Ко, футуристов, – мы тем не менее считаем этот путь нами пройденным и, оставляя разработку его тем, у кого нет более новых задач, пользуемся некоторой формой правописания, чтобы сосредоточить общее внимание на уже новых открывающихся перед нами заданиях.
Мы выдвинули впервые новые принципы творчества, кои нам ясны, в следующем порядке:
1. Мы перестали рассматривать словопостроение и словопроизношение по грамматическим правилам, став видеть в буквах лишь направляющие речи. Мы расшатали синтаксис.
2. Мы стали придавать содержание словам по их начертательной и фонической характеристике.
3. Нами осознана роль приставок и суффиксов.
4. Во имя свободы личного случая мы отрицаем правописание.
5. Мы характеризуем существительные не только прилагательными (как делали главным образом до нас), но и другими частями речи, также отдельными буквами и числами:
а) Считая частью неотделимой произведения его помарки и виньетки творческого ожидания.
б) В почерке полагая составляющую поэтического импульса.
в) В Москве поэтому нами выпущены книги (автографов) «самописьма».
6. Нами уничтожены знаки препинания, – чем роль словесной массы – выдвинута впервые и осознана.
7. Гласные мы понимаем как время и пространство (характер устремления), согласные – краска, звук, запах.
8. Нами сокрушены ритмы. Хлебников выдвинул поэтический размер – живого разговорного слова. Мы перестали искать размеры в учебниках – всякое движение рождает новый свободный ритм поэту.
9. Передняя рифма – (Давид Бурлюк) средняя, обратная рифмы (Маяковский) разработаны нами.
10. Богатство словаря поэта – его оправдание.
11. Мы считаем слово творцом мифа, слово, умирая, рождает миф и наоборот.
12. Мы во власти новых тем: ненужность, бессмысленность, тайна властной ничтожности – воспеты нами.
13. Мы презираем славу; нам известны чувства, не жившие до нас.
Мы новые люди новой жизни.
Давид Бурлюк, Елена Гуро, Николай Бурлюк, Владимир Маяковский, Екатерина Низен, Виктор Хлебников, Бенедикт Лившиц, А. Крученых
<1913>
На приезд Маринетти в Россию*
Сегодня иные туземцы и итальянский поселок на Неве из личных соображений припадают к ногам Маринетти, предавая первый шаг русского искусства по пути свободы и чести, и склоняют благородную выю Азии под ярмо Европы.
Люди не желающие хомута на шее будут, как и в позорные дни Верхарна и Макса Линдера, спокойными созерцателями темного подвига.
Люди воли остались в стороне. Они помнят закон гостеприимства, но лук их натянут, а чело гневается.
Чужеземец, помни страну, куда ты пришел!
Кружева холопства на баранах гостеприимства.
В. Хлебников,
Идите к черту*
Ваш год прошел со дня выпуска первых наших книг: «Пощечина», «Громокипящий Кубок», «Садок Судей» и др.
Появление Новых поэзий подействовало на еще ползающих старичков русской литературочки, как беломраморный Пушкин, танцующий танго.
Коммерческие старики тупо угадали раньше одурачиваемой ими публики ценность нового и «по привычке» посмотрели на нас карманом.
К. Чуковский (тоже не дурак!) развозил по всем ярмарочным городам ходкий товар: имена Крученых, Бурлюков, Хлебникова…
Ф. Сологуб схватил шапку П. Северянина, чтобы прикрыть свой облысевший талантик.
Василий Брюсов привычно жевал страницами «Русской Мысли» поэзию Маяковского и Лившица.
Брось, Вася, это тебе не пробка!..
Не затем ли старички гладили нас по головке, чтобы из искр нашей вызывающей поэзии наскоро сшить себе электро-пояс для общения с музами?..
Эти субъекты дали повод табуну молодых людей, раньше без определенных занятий, наброситься на литературу и показать свое гримасничающее лицо: обсвистанный ветрами «Мезонин поэзии», «Петербургский глашатай» и др.
А рядом выползала свора адамов с пробором – Гумилев, С. Маковский, С. Городецкий, Пяст, попробовавшая прицепить вывеску акмеизма и аполлонизма на потускневшие песни о тульских самоварах и игрушечных львах, а потом начала кружиться пестрым хороводом вокруг утвердившихся футуристов…
Сегодня мы выплевываем навязшее на наших зубах прошлое, заявляя:
1) Все футуристы объединены только нашей группой.
2) Мы отбросили наши случайные клички эго и кубо и объединились в единую литературную компанию футуристов:
Давид Бурлюк, Алексей Крученых, Бенедикт Лившиц, Владимир Маяковский, Игорь Северянин, Виктор Хлебников.
Капля дегтя*
«Речь, которая будет произнесена при первом удобном случае»
Милостивые государыни и милостивые государи!
Этот год – год смертей: чуть не каждый день громкою скорбью рыдают газеты по ком-нибудь маститом, до срока ушедшем в лучший мир. Каждый день тягучим плачем голосит петит над множеством имен, вырезанных Марсом. Какие благородные и монашески строгие выходят сегодня газеты. В черных траурных платьях похоронных объявлений, с глазами, блестящими кристальной слезой некролога. Вот почему было как-то особенно неприятно видеть, что эта самая облагороженная горем пресса подняла такое непристойное веселье по поводу одной очень близкой мне смерти.
Когда запряженные цугом критики повезли по грязной дороге, дороге печатного слова, гроб футуризма, недели трубили газеты: «Хо, хо, хо! так его! вези, вези! наконец-то!» (страшное волнение аудитории: «Как умер? футуризм умер? да что вы?»)
Вот уже год вместо него, огнеслового, еле лавирующего между правдой, красотой и участком, на эстрадах аудиторий пресмыкаются скучнейшие когано-айхенвальдообразные старики. Год уже в аудиториях скучнейшая логика, доказывание каких-то воробьиных истин вместо веселого звона графинов по пустым головам.
Господа! да неужели вам не жалко этого взбалмошного, в рыжих вихрах детины, немного неумного, немного некультурного, но всегда, о! всегда смелого и горящего. Впрочем, как вам понять молодость? Молодые, которым мы дороги, еще не скоро вернутся с поля брани; вы же, оставшиеся здесь для спокойного занятия в газетах и прочих конторах; вы – или неспособные носить оружие рахитики или старые мешки, набитые морщинами и сединами, дело которых думать о наиболее безмятежном переходе в другой мир, а не о судьбах русского искусства.
А знаете, я и сам не очень-то жалею покойника, правда из других соображений.
Оживите в памяти первый гала-выход российского футуризма, ознаменованный такой звонкой «пощечиной общественному вкусу». Из этой лихой свалки особенно запомнились три удара под тремя криками нашего манифеста.
1. Смять мороженницу всяческих канонов, делающую лед из вдохновения.
2. Сломать старый язык, бессильный догнать скач жизни.
3. Сбросить старых великих с парохода современности.
Как видите, ни одного здания, ни одного благоустроенного угла, разрушение, анархизм. Над этим смеялись обыватели как над чудачеством сумасшедших, а это оказалось «дьявольской интуицией», воплощенной в бурном сегодня. Война, расширяя границы государств, и мозг заставляет врываться в границы вчера неведомого.
Художник! тебе ли тоненькой сеточкой контуров поймать несущуюся кавалерию. Репин! Самокиш![1] уберите ведра – краску расплещет.
Поэт! не сажай в качалку ямбов и хореев мощный бой – всю качалку разворотит!
Изламыванье слов, словоновшество! Сколько их, новых во главе с Петроградом, а кондуктрисса! умрите, Северянин! Футуристам ли кричать о забвении старой литературы. Кто за казачьим гиком расслышит трель мандолиниста Брюсова. Сегодня все футуристы. Народ футурист.
Футуризм мертвой хваткой ВЗЯЛ Россию.
Не видя футуризма перед собой и не умея заглянуть в себя, вы закричали о смерти. Да! футуризм умер как особенная группа, но во всех вас он разлит наводнением.
Но раз футуризм умер как идея избранных, он нам не нужен. Первую часть нашей программы – разрушение мы считаем завершенной. Вот почему не удивляйтесь, если сегодня в наших руках увидите вместо погремушки шута чертеж зодчего, и голос футуризма, вчера еще мягкий от сентиментальной мечтательности, сегодня выльется в медь проповеди.
Труба марсиан*
Мозг людей и доныне скачет на трех ногах (три оси места)! Мы приклеиваем, возделывая мозг человечества, как пахаря, этому щенку четвертую ногу, именно – ОСЬ ВРЕМЕНИ.
Хромой щенок! Ты больше не будешь истязать слух нам своим скверным лаем.
Люди прошлого не умнее себя, полагая, что паруса государства можно строить лишь для осей пространства. Мы, одетые в плащ только побед, приступаем к постройке молодого союза с парусом около оси времени, предупреждая заранее, что наш размер больше Хеопса, а задача храбра, величественна и сурова.
Мы, суровые плотники, снова бросаем себя и наши имена в клокочущие котлы прекрасных задач.
Мы верим в себя и с негодованием отталкиваем порочный шепот людей прошлого, мечтающих уклюнуть нас в пяту. Ведь мы босы. (Ошибка в согласной.) Но мы прекрасны В НЕУКЛОННОЙ ИЗМЕНЕ СВОЕМУ ПРОШЛОМУ, едва только оно вступило в возраст победы, и в неуклонном бешенстве заноса очередного молота над земным шаром, уже начинающим дрожать от нашего топота.
Черные паруса времени, шумите!
Виктор Хлебников, Мария Синякова, Божидар, Григорий Петников, Николай Асеев.
«ПУСТЬ МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ РАСКОЛЕТСЯ НА МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ»
– ВОТ СЛОВА НОВОЙ СВЯЩЕННОЙ ВРАЖДЫ. –
Наши вопросы в пустое пространство, где еще не было человека, – их мы будем властно выжигать и на лбу Млечного Пути, и на круглом божестве купцов, – вопросы, как освободить крылатый двигатель от жирной гусеницы товарного поезда старших возрастов. ПУСТЬ ВОЗРАСТЫ РАЗДЕЛЯТСЯ И ЖИВУТ ОТДЕЛЬНО! Мы вскрыли печати на поезде за нашим паровозом дерзости, – там ничего нет, кроме могил юношей.
Нас семеро. Мы хотим меча и чистого железа юношей. Им, утонувшим в законы семей и законы торга, им, у которых одна речь: «ем», не понять нас, не думающих ни о том, ни о другом, ни о третьем.
Право мировых союзов по возрасту. Развод возрастов, право отдельного бытия и делания. Право на все особо до Млечного Пути. Прочь, шумы возрастов! Да властвует звон прерывных времен, белые и черные дощечки и кисть судьбы. Пусть те, кто ближе к смерти, чем к рождению, сдадутся! Падут на лопатки в борьбе времен под нашим натиском дикарей. А мы – мы, исследовав почву материка времени, нашли, что она плодородна. Но цепкие руки ОТТУДА схватили нас и мешают нам свершить прекрасную измену пространству. Разве было что пьянее этой измены? Вы! чем ответить на опасность родиться мужчиной, как не ПОХИЩЕНИЕМ ВРЕМЕНИ? Мы зовем в страну, где говорят деревья, где научные союзы, похожие на волны, где весенние войска любви, ГДЕ ВРЕМЯ ЦВЕТЕТ, КАК ЧЕРЕМУХА и двигает, как поршень, где зачеловек в переднике плотника пилит времена на доски и, как токарь, обращается с своим завтра. (О, уравнения поцелуев! О, луч смерти, убитый лучом смерти, поставленным на пол волны). Мы идем туда, юноши, и вдруг кто-то мертвый, кто-то костлявый хватает нас и мешает нам вылинять из перьев дурацкого сегодня. Разве это хорошо?
Государство молодежи, ставь крылатые паруса времени; перед тобой второе похищение пламени приобретателей. Смелее! Прочь костлявые руки вчера, перед ударом Балашова пусть будут искромсаны ужасные зрачки. Это – новый удар в глаза грубо пространственного люда. Что больше: «при» или «из»? Приобретатели всегда стадами крались за изобретателями, теперь изобретатели отгоняют от себя лай приобретателей, стаями кравшихся за одиноким изобретателем.
Вся промышленность современного земного шара с точки зрения самих приобретателей есть «кража» (язык и нравы приобретателей) – у первого изобретателя – Гаусса. Он создал учение о молнии. А у него при жизни не было и 150 рублей в год на его ученые работы. Памятниками и хвалебными статьями вы стараетесь освятить радость совершенной кражи и умерить урчание совести, подозрительно находящейся в вашем червеобразном отростке. Якобы ваше знамя – Пушкин и Лермонтов – были вами некогда прикончены, как бешеные собаки за городом, в поле! Лобачевский отсылался вами в приходские учителя. Монгольфьер был в желтом доме. А мы? Боевой отряд изобретателей?
ВОТ ВАШИ ПОДВИГИ! ИМИ МОЖНО ИСПИСАТЬ ТОЛСТЫЕ КНИГИ!
Вот почему изобретатели в полном сознании своей особой породы, других нравов и особого посольства отделяются от приобретателей в независимое государство ВРЕМЕНИ (лишенное пространства) и ставят между собой ними железные прутья. Будущее решит, кто очутился в зверинце, изобретатели или приобретатели? И кто будет грызть кочергу зубами.
В. Хлебников
I. СЛАВНЫЕ УЧАСТНИКИ БУДЕТЛЯНСКИХ ИЗДАНИЙ ПЕРЕВОДЯТСЯ ИЗ РАЗРЯДА ЛЮДЕЙ В РАЗРЯД МАРСИАН.
Подписано: КОРОЛЬ ВРЕМЕНИ ВЕЛИМИР 1-й
II. ПРИГЛАШАЮТСЯ С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА, НА ПРАВАХ ГОСТЕЙ, В ДУМУ МАРСИАН
УЭЛЛЬС И МАРИНЕТТИ.
«УЛЛЯ, УЛЛЯ», МАРСИАНЕ!
ПРЕДМЕТЫ ОБСУЖДЕНИЯ.
1) КАК ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ЗАСИЛЬЯ ЛЮДЕЙ ПРОШЛОГО, сохраняющих еще тень силы в мире пространства, не пачкаясь о их жизнь (мыло словотворчества), предоставив им утопать в заработанной ими судьбе злобных мокриц. Мы осуждены завоевать МЕРОЙ И ВРЕМЕНЕМ наши права на свободу от грязных обычаев людей прежних столетий.
2) Как освободить быстрый паровоз младших возрастов от прицепившегося непрошеным и дерзким образом товарного поезда старших возрастов?
Старшие! Вы задерживаете бег человечества и мешаете клокочущему паровозу юности взять лежащую на ее пути гору. Мы сорвали печати и убедились, что груз – могильные плиты для юности.
Под видом груза, прицепленного к нашей свистящей надменно грозе, заячьим способом провозится грязь донебесных людей!
8 апреля 1916
Манифест Летучей Федерации Футуристов*
Старый строй держался на трех китах.
Рабство политическое, рабство социальное, рабство духовное.
Февральская революция уничтожила рабство политическое. Черными перьями двуглавого орла устлана дорога в Тобольск. Бомбу социальной революции бросил под капитал октябрь. Далеко на горизонте маячат жирные зады убегающих заводчиков. И только стоит неколебимый третий кит – рабство Духа.
По-прежнему извергает он фонтан затхлой воды – именуемый – старое искусство.
Театры по-прежнему ставят: «Иудейских» и прочих «царей» (сочинения Романовых), по-прежнему памятники генералов, князей – царских любовниц и царицыных любовников тяжкой, грязной ногой стоят на горлах молодых улиц. В мелочных лавочках, называемых высокопарно выставками торгуют чистой мазней барских дочек и дачек в стиле Рококо и прочих Людовиков.
И наконец, на светлых праздниках наших поем не наши гимны, а седовласую одолженную у французов марсельезу.
Мы пролетарии искусства – зовем пролетариев фабрик и земель к третьей бескровной, но жестокой революции, революции духа.
Требуем признать:
I. Отделение искусства от государства.
Уничтожение покровительства привилегий и контроля в области искусства. Долой дипломы, званий, официальные посты и чины.
II. Передачу всех материальных средств искусства: театров, капелл, выставочных помещений и зданий академии и художественных школ – в руки самих мастеров искусства для равноправного пользования ими всего народа искусства.
III. Всеобщее художественное образование ибо мы верим, что основы грядущего свободного искусства могут выйти только из недр демократической России, до сего времени лишь алкавшей хлеба искусства.
IV. Немедленная, наряду с продовольственными, реквизиция всех под спудом лежащих эстетических запасов для справедливого и равномерного пользования всей России.
Да здравствует третья Революция, Революция Духа!
Д. Бурлюк, В. Каменский, В. Маяковский
Дан Москве 1918 года, Март.
Эгофутуризм
Академия Эгопоэзии (Вселенский Футуризм)*
К. М. Фофанов и Мирра Лохвицкая.
I. Восславление Эгоизма:
1. Единица – Эгоизм.
2. Божество – Единица.
3. Человек – дробь Бога.
4. Рождение – отдробление от Вечности.
5. Жизнь – дробь вне Вечности.
6. Смерть – воздробление.
7. Человек – Эгоист.
II. Интуиция. Теософия.
III. Мысль до безумия. Безумие индивидуально.
IV. Призма стиля, реставрация спектра мысли.
V. Душа – истина.
Ректориат:
Игорь Северянин,
Константин Олимпов (К. М. Фофанов),
Георгий Иванов,
Грааль-Арельский.
Интуитивная школа. «Вселенский Эго-футуризм»*
(Грядущее осознание жизни и искусства).
Основана Игорем-Северянином в ноябре 1911 г., изданием его пролога «Эго-Футуризм».
Признание Эгобога (Объединение двух контрастов), Обрет вселенской души. (Всеоправдание, Восславление Эгоизма, как своей индивидуальной сущности.
Беспредельность искусствовых и духовных изысканий. Каждый искусствовик или мыслитель, солидарный в доктринах с основателем, есть Эго-Футурист.
Эго-Футуризм не имеет ничего общего с футуризмом Итало-Французским: 1) иностранные футуристы осмертили местоимение «я», 2) они не знают всеоправдания.
Игорь-Северянин
Грамата Интуивной Ассоциации Эго-футуризм*
I. Эгофутуризм – непрестанное устремление каждого эгоиста к достижению возможностей будущего в настоящем.
II. Эгоизм – индивидуализация, осознание, преклонение и восхваление «Я».
III. Человек – сущность. Божество – тень человека в зеркале Вселенной. Бог – природа. Природа – Гипноз. Эгоист – Интуит. Интуит – Медиум.
IV. Созидание Ритма и Слова.
Иван Игнатьев.
Павел Широков.
Василиск Гнедов.
Дмитрий Крючков.
Официоз Эго-футуризма – «Петербургский Глашатай».
Планета Земля. La planete lа Terra.
Россия. Russie.
27. 6-я Рождественская.
1913 I. 9. (22).
«Центрифуга»
Мы, меньше всего желавшие междуусобий в Русской Поэзии, отвечавшие молчанием на неоднократные заигрыванья пассеистов, не желая больше поощрять наглость зарвавшейся банды, присвоившей себе имя Русских футуристов, заявляем им в лицо, дабы вывести общество из заблуждения, коим они пользуются для личных своих расчетов, следующее:
1. Вы предатели и ренегаты, ибо осмеливаетесь глумиться над делом первого Русского Футуриста покойного И. В. Игнатьева (стр. 130 «Первого Журнала Русских Футуристов»).
2. Вы самозванцы ибо А) Вас и именно Вас назвал пассеистами главнокомандующий армиями футуристов Ф. Т. Маринетти в бытность свою в Москве; Вы тщетно старались представить ему фальшивые паспорта, собственноручно вами сфабрикованные под футуристические; он не захотел проверять их подлинности, настолько наивна была подделка; b) Старший русский Футурист И. Северянин публично (в газетах) указал Ваше место в пределах родины, ибо Вы со своей деятельностью давно подошли под нормы некоего кодекса, действующего в Империи.
3. Организовав трест российских Бездарей*, Вы со злобой и бесстыдством забываете о порядочности и распространяете клеветнические сплетни о поэтах инакомыслящих с Вами (стр. 141 «Перв. Жур. Русск. Футуристов»).
4. Вы трусы, ибо, ратуя за подъятое забрало и клеймя псевдоним = анониму, Вы прикрываете инсинуаторов своего лагеря вымышленными именами. (Стр. 131, 141, 142).
5. Вы трусы и еще раз, так как, желая во что бы то в глазах будущников, – Вы умышленно пропускаете все наиболее для Вас компрометантное (Стр. 130, «Ж. Р. Ф.»).
Вновь повторяя все эпитеты, характеризующие Вас в грамоте этой мы, подписываясь полными именами, говорим Вам в лицо: если у Вас есть средства оправдания, мы готовы отвечать за свои слова. Если эти оправдания будут лишь новыми сплетнями и инсинуациями анонимов и псевдонимов, то Вы, ложно именующие себя «Русскими Футуристами» будете поставлены в необходимость получить в руки свой истинный послужный список ПАССЕИСТОВ
Николай Асеев
Сергей Бобров
Илья Зданевич
Борис Пастернак
* Мы не имеем в виду Хлебникова и Маяковского, поэтов, очевидно, по молодости лет, не отвечающих за своих товарищей.
<1914>
<Манифест компании «41°»>*
Компания 41° объединяет левобережный футуризм, и утверждает заумь как обязательную форму воплощения искусства.
Задача 4Г – использовать все великие открытия сотрудников и надеть мир на новую ось.
Газета будет пристанью событий из жизни компаний и причиной постоянных беспокойств.
Засучиваем рукава.
<1919>
Комментарии
Настоящее издание впервые представляет под одной обложкой произведения практически всех поэтов, входивших в футуристические группы, а также некоторых поэтов, работавших в русле футуризма. Большинство текстов, опубликованных в малотиражных и труднодоступных изданиях, впервые вводится в научный обиход. Естественно, при составлении и подготовке текстов возник ряд сложных проблем, обусловленных характером материала. Русский литературный футуризм – явление чрезвычайно разнородное в идейно-эстетическом плане. Кроме наличия в футуризме нескольких групп, весьма существенно отличавшихся друг от друга, внутри самих этих групп в большинстве случаев не наблюдалось единства, а совместная деятельность поэтов часто носила случайный характер.
В книгу включены произведения, опубликованные в 1910–1922 годах, – именно этими датами можно определить период существования русского литературного футуризма (в 1910 году вышли первые футуристические альманахи «Студия импрессионистов» и «Садок судей», 1922-й – год смерти В. Хлебникова, прекращения существования последней футуристической группы «Центрифуга» и рождения Лефа). Исключением являются некоторые стихотворения И. Северянина, поэта, первым из футуристов вошедшего в большую литературу, первым употребившего в русской литературной практике термин «футуризм» и чье раннее творчество уже обладает ярко выраженными чертами футуризма северянинского типа, а также несколько произведений В. Хлебникова и и. Зданевича. датированных 1922 годом, но опубликованных в 1923 году.
Главный вопрос, который пришлось решать при подготовке текстов к публикации, – вопрос текстологический.
Составители сборника руководствовались стремлением представить русскую футуристическую поэзию в первозданном виде, такой, какой ее знали читатели-современники. Произведения даются по первой публикации, без позднейшей правки (для большинства произведений, ввиду отсутствия переизданий, первая публикация и является каноническим текстом). Однако, учитывая специфику многих футуристических изданий, приходится признать, что в полной мере задача воспроизвести «живой» футуризм невыполнима и ряд существенных потерь неизбежен. Так, литографические книги, где тексты давались в рукописном виде и поэзия сочеталась с живописью, адекватному переводу на типографский шрифт, естественно, не поддаются. Поэтому пришлось отказаться от включения в настоящий том некоторых произведений или в некоторых, исключительных, случаях, давать вторые публикации (большинство стихотворений Божидара, отдельные произведения Н. Асеева).
Орфография текстов приближена к современным нормам (учтены реформы алфавита и грамматики), но разрешить проблему орфографии в полной мере не предоставляется возможным. Кубофутуристы и поэты группы «41°» декларировали нарушение грамматических норм как один из творческих принципов. Случалось, что они приветствовали и типографские опечатки. В произведениях «крайних» (А. Крученых, И. Терентьев) отказ от правил имеет такой очевидный и демонстративный характер, что любая редакторская правка оборачивается нарушением авторского текста. Но и во многих других случаях (В. Хлебников, Д. Бурлюк и др.) практически невозможно дифференцировать намеренные и случайные ошибки, уверенно исправить опечатки. Поэтому за исключением правки, обусловленной реформами последующего времени, орфография в произведениях кубофутуристов и поэтов группы «41°» сохраняется в авторском (издательском) варианте. Очевидные орфографические ошибки и опечатки исправляются, за отдельными исключениями, в текстах поэтов других групп, не выдвигавших принципа «разрушения грамматики».
Что касается пунктуации, то она во всех случаях сохраняется без правок, соответствует принятым в настоящем издании принципам воспроизведения текстов.
«Ночь в Галиции» В. Хлебникова, «Владимир Маяковский» В. Маяковского, «Пропевень о проросли мировой» П. Филонова и произведения Н. Чернявского ввиду особой важности изобразительной стороны их издания или практической невозможности привести их в соответствие с современными грамматическими нормами воспроизведения даются в настоящем томе репринтным способом.
Настоящее издание состоит из следующих разделов: вступительная статья, «Кубофутуристы», «Эгофутуристы», «Мезонин поэзии», «„Центрифуга“ и „Лирень“», «Творчество». «41°», «Вне групп», «Приложение», «Примечания». Порядок расположения шести разделов, представляющих творчество футуристических групп, обусловлен хронологической последовательностью образования групп и их выступления в печати. При расположении авторов внутри этих разделов неизбежна некоторая субъективность: учитывались место, занимаемое поэтом в группе, его вклад в футуристическое движение, организаторская деятельность. В случае, если поэт участвовал в деятельности нескольких групп (А. Крученых, Н. Асеев, С. Третьяков, К. Большаков и др.), его произведения включены в раздел группы, где состоялся его футуристический дебют. Исключение сделано для С. Боброва, В. Шершеневича и Р. Ивнева, опубликовавших свои произведения в эгофутуристическом издательстве «Петербургский Глашатай», но сыгравших определяющую роль в «Центрифуге» (Бобров) и «Мезонине поэзии» (Шершеневич).
Произведения каждого автора расположены в хронологическом порядке по авторскому указанию даты. При отсутствии авторской датировки дата указывается по первой публикации – в этом случае она дается в угловых скобках, обозначающих, что произведение написано не позже указанного срока.
Подборке произведений каждого автора предпослана справка-портрет, целью которой является не столько изложение биографических сведений, сколько освещение участия данного поэта в футуристическом движении. Тем более не входит в задачи издания изложение жизненного пути авторов, чье поэтическое творчество либо имело эпизодический характер (В. Шкловский, Р. Якобсон и др.). либо в главных своих чертах определилось вне футуризма (Б. Пастернак, Г. Шенгели и др.).
В раздел «Вне групп» включены произведения авторов, не примыкавших к конкретным футуристическим группам, но считавших себя футуристами, либо поэтов, чье творчество близко поэтике футуризма. Раздел не исчерпывает списка авторов, которых можно в него включить.
В раздел «Приложение» вошли основные манифесты и декларации футуристических групп. Порядок расположения текстов соответствует поэтическому разделу.
Примечаниям к текстам предшествует список условных сокращений названий индивидуальных и коллективных футуристических сборников и других изданий, в которых принимали участие футуристы, а также критических работ и мемуарных книг, выдержки из которых приводятся в примечаниях.
Примечание к отдельному произведению начинается со сведений о его первой публикации; затем, после тире, указаны последующие издания, отразившие эволюцию текста; указание лишь одного источника означает, что в дальнейшем текст не публиковался или не подвергался изменениям. В случае, если текст печатается не по первой публикации, указание на источник публикации предваряется пометой: «Печ. по». В историко-литературном комментарии даются сведения о творческой истории произведения, приводятся отзывы критиков и мемуаристов. Завершает примечание реальный комментарий, раскрывающий значение отдельных понятий и слов, а также имен собственных, встречающихся в тексте.
В примечаниях учтены и частично использованы комментарии к разным изданиям поэтов-футуристов, выполненные Р. Вальбе, В. Григорьевым, Т. Грицем, Р. Дугановым, Е. Ковтуном, В. Марковым, М. Марцадури, П. Нерлером, Т. Никольской, А. Парнисом, Е. Пастернаком, К. Поливановым, С. Сигеем, Н. Степановым, А. Урбаном, Н. Харджиевым, Б. Янгфельдтом.
Список условных сокращений, принятых в примечаниях
АвО – Авто в облаках. Одесса, 1915
АвШ – Северянин И. Ананасы в шампанском: Поэзы. М.: Наши дни, 1915
Академия – Олимпов К. Академия Эгопоэзии Вселенского Футуризма: Стихи. Рига, 1914
Анафема – Олимпов К. Анафема Родителя Мироздания. Пг., 1922
АП – Шершеневич В. Автомобилья поступь: Лирика. (1913–1915). М.: Плеяды, 1916
АПН – Олимпов К. Аэропланные поэзы: Нервник 1. Кровь первая. СПб.: Ego, 1912
Асеев – Асеев Н. Собр. соч.: В 5 т. М.: Художественная литература, 1963-1964
Асеев 1928 –Асеев Н. Собрание стихотворений: В 3 т. М.: ГИЗ, 1928
Асеев 1957-Асеев Н. Стихи: 1912–1955. М.: Гослитиздат, 1957
БМ – Без муз: Художественное периодическое издание. 1. Нижний Новгород, 1918
БнВ – Бей! но выслушай: VI альманах эго футуристов. СПб.: Петербургский Глашатай, 1913
Бомба – Асеев Н. Бомба: Стихи. Владивосток: Дальневосточная трибуна, 1921
БПР – Бурлюк пожимает руку Вульдворт Бильдингу: К 25-летию художественно-литературной деятельности: Стихи. Картины. Автобиография. Нью-Йорк: Издание Кооператива газеты «Русский Голос», 1924
Брюсов – Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М.: Советский писатель, 1990
Бубен – Божидар. Бубен: Стихи. 2-е изд. М.; [Харьков]: Лирень, 1916
Булань-Булань. М., 1920
Бурлюк – Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения. СПб.: Пушкинский фонд, 1994
Бухов – Бухов А. Похвальное слово // Бич. 1917. № 2
Вернисаж – Вернисаж: Вып.1. М.: Мезонин поэзии, 1913
Взорваль – Крученых А. Взорваль. СПб.: ЕУЫ, 1913
Взорваль-2 – Крученых А. Взорваль. 2-е изд. доп. СПб., [ЕУЫ, 1913]
Взял – Взял: Барабан футуристов. Пг., 1915
ВКМ – Весеннее контрагентство муз. Сборник. М.: Издание Студии Д. Бурлюка и Сам. Вермель. 1915
ВКС – Чурилин Т. Вторая книга стихов. М.: Лирень, 1918
ВМ – Маяковский В. Владимир Маяковский: Трагедия в 2 д., с прологом и эпилогом. М.: Издание 1-го журнала русских футуристов, 1915
ВпС – Чурилин Т. Весна после смерти: Стихи. М.: Альциона, 1915
Временник-1 – Временник: 1-ый лист из 317. М.; [Харьков]: Лирень, 1917 [1916]
Временник-2 – Временник: 2. М.; [Харьков]: Лирень, 1917
ВС – Лившиц Б. Волчье солнце: Книга стихов вторая. М.; [Херсон): Гилея, 1914
ВСВМ – Все сочиненное Владимиром Маяковским. 1909–1919. Пг.: ИМО, 1920
Всегдай – Всегдай: Эгофутуристы. VII. СПб.: Петербургский Глашатай, 1913
ВСП – Весенний салон поэтов. М.: Зерна, 1918
ГК – Северянин И. Громокипящий кубок: Поэзы. М.: Гриф, 1913
Глагол – Олимпов К. Глагол Родителя Мироздания. Пг., 1916
Гнедов – Гнедов В. Собрание стихотворений. Gnedov V. I. Poesie / Под ред. Н. Харджиева и М. Марцадури; Вступ. статья и коммент. С. Сигея. Trento: Департамент Истории Европейской Цивилизации, Университет Тренто, 1992
Голодняк – Крученых А. Голодняк. М., 1922
ГС – Гнедов В. Гостинец сентиментам. СПб.: Петербургский Глашатай, 1913
Гусман – Гусман Б. 100 поэтов: Литературные портреты. Тверь: Октябрь, 1923
ГФ – Газета футуристов. 1918. № 1
ДА – Дары Адонису: Эдиции Ассоциации Эго-футуристов. IV. СПб.: Петербургский Глашатай, 1913
Дачница – Дачница: Еженедельная литературно-художественная газета. СПб., 1912
ДБ – Каменский В. Девушки босиком: Стихи. Тифлис, 1917 [1916]
ДЛ – Дохлая луна: Сборник единственных футуристов мира поэтов «Гилея»: Стихи, проза, рисунки, офорты. М.; [Каховка): Гилея, 1913
ЕМБ – Каменский В. Его-моя биография Великого футуриста. М.: Китоврас, 1918
ЖН – Олимпов К. Жонглеры-нервы. СПб.: Петербургский Глашатай, 1912
ЖП – Третьяков С. Железная пауза. Владивосток, 1919
ЗА – Фиолетов А. Зеленые агаты: Поэзы. Одесса: Издательство С. Силвер, 1914
Заветы – Заветы: Ежемесячный журнал. СПб., 1912–1914
Закржевский – Закржевский А. Рыцари безумия: (Футуристы). Киев, 1914
Замауль – Крученых А. Замауль. III. [Баку]: 41°, [1920]
Затычка – Затычка. М.: Гилея, 1914
Заумники – Крученых А., Петников Г., Хлебников В. Заумники. М., 1922
ЗВ – Каменский В. Звучаль Веснеянки: Стихи. М.: Китоврас, 1918
ЗГ – Крученых, Алягров. Заумная гнига. [М.], 1916 [1915]
ЗК – Засахаре кры: Эго-футуристы: V. СПб.: Петербургский Глашатай, 1913
ЗКн – Петников Г. Заветная книга. Симферополь: Крымиздат, 1961
Златолира – Северянин И. Златолира: Поэзы: Книга 2. М.: Гриф, 1914
Зор – Асеев Н. Зор. М. [Харьков], 1914
ЗП – Шенгели Г. Зеркала потускневшие: Поэзы, книга И. Пг.: L'oiseau bleu, 1915
ЗС – Ивнев Р. Золото смерти. М.: Центрифуга, 1916
ЗСИЛ – Игорь-Северянин. За струнной изгородью лиры: Стихи. СПб., 1909
ЗУ – Шершеневич В. Зеленая улица: Статьи и заметки об искусстве. М.: Плеяды, 1916
Зудесник – Крученых А. Зудесник. Зудутные зудеса: Книга 119-ая. М., 1922
ИБС – Из батареи сердца. Севастополь: Таран, 1922
ИвА – Крученых А., Хлебников В. Игра в аду: Поэма. М., 1912
ИвА-2 – Крученых А., Хлебников В. Игра в аду. 2-е изд., доп. СПб.: ЕУЫ. 1914
Иванов-Разумник – Иванов-Разумник. Творчество и критика: Критические статьи: 1908–1922. Пб.: Колос, 1922
Изборник – Хлебников В. Изборник стихов: 1907–1914 гг. Пг.: ЕУЫ, 1914
Избранное – Пастернак Б. Избранное. М.: Советский писатель, 1948
Избраны – Асеев Н. Избраны Стихи: 1912–1922. М.; Пг.: Круг, 1923
ИК – Игорь-Северянин. Интуитивные краски: Немного стихов. СПб., 1909
ИС – Каменский В. Избранные стихи. М.: ГИХЛ, 1934
Искусство – Искусство: Вестник Отдела изобразительных искусств Народного комиссариата по просвещению. М., 1919
ИСт – Пастернак Б. Избранные стихи. М.: Узел, 1926
ИТБ – Лившиц Б. Из топи блат: Стихи о Петрограде. [Киев): Изд. И. М. Слуцкого, 1922
Каменский – Каменский В. Путь энтузиаста // Каменский В. Танго с коровами; Степан Разин; Звучаль Веснеянки; Путь энтузиаста. М.: Книга, 1990
Каменский 1945 – Каменский В. Избранное. Молотов; ОГИЗ, 1945
Каменский 1948 – Каменский В. Избранное. [М.): Советский писатель, 1948
KB – Гнедов В., Широков П. Книга Великих. СПб.: Бета, 1914
КГ – Игорь-Северянин. Качалка грёзерки: Поэзы: Том IV – Сады футуриста: Книга 1: Брошюра 33-я. СПб.: Ego, 1912
КЗ – Крематорий здравомыслия: Вып. 3–4. М.: Мезонин поэзии, 1913
КИРА – Харджиев Н., Малевич К., Матюшин М. К истории русского авангарда. Stockholm: Hylea, 1976
КИС – Петников Г. Книга избранных стихотворений. Харьков: Государственное Издательство Украины, 1930
КМЗС – Петников Г. Книга Марии Зажги Снега. Пб.,[Харьков]: Лирень, 1920
КН – Алымов С. Киоск нежности: Стихи. Харбин: Окно, 1920
КП – Лившиц Б. Кротонский полдень. М.: Узел, 1928
КПр – Игорь-Северянин. Колье принцессы: Первая тетрадь третьего тома стихов. Брошюра двадцать седьмая. СПб., 1910
Крученых – Крученых А. Наш выход: К истории русского футуризма. М: RA,1996
КС – Спасский С. Как снег. М.: Изд. журнала «Млечный путь», 1917
Левидов – Левидов М. Сборник «Стрелец» // Наши дни. 1915. № 4
Леторей – Асеев Н., Петников Г. Леторей: Книга стихов. М.; (Харьков): Лирень, 1915
ЛЗ – Шенгели Г. Лебеди закатные: Поэзы, книга № 1. Пг.: L'oiseau bleu, 1915
Лившиц – Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л.: Советский писатель, 1989
Лирика – Петников Г. Лирика. Симферополь: Крым, 1968
ЛЛ – Бобров С. Лира Лир: Третья книга стихов. М.: Центрифуга, 1917
Львов-Рогачевский – Львов-Рогачевский. Имажинизм и его образоносцы: Есенин. Кусиков. Мариенгоф. Шершеневич. М.: Орднас, 1921
ЛП – Баян В. Лирический поток: Лирионетты и баркаролы. СПб.; М.: Издательство товарищества М. О. Вольф, 1914
Маяковский – Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1955– 1961
Мгебров – Мгебров А. Жизнь в театре. М.; Л.: Academia,1932. Т. II
Миллиорк – Крученых А. Миллиорк. Тифлис: 41°, 1919
МК – Молоко кобылиц: Сборник, М. Каховка: Гилея, 1914
ММ – Московские мастера: Журнал искусств. М.: Московские мастера, 1916
ММира – Петников Г. Молодость мира. [Харьков):Aim, 1934
МП – Московский Парнас: Сборник второй. М… 1922
MP – Кокорин П. Музыка рифм: Поэзо-пьесы. 1909–1913. Четвертый сборник. СПб., 1913
НВ – Гуро Е. Небесные верблюжата. [СПб.): Журавль, 1914
Небокопы – Небокопы: VIII. СПб.: Петербургский Глашатай. 1913
Нижегородец – Нижегородец: Ежедневная вечерняя коммерческая, литературная, театральная и спортивная газета. Нижний Новгород, 1911–1914
НМ – Петников Г. Ночные молнии: 4-ая книга стихов. Л.: Academia, 1928
НО – Аксенов И. Неуважительные основания. М.: Центрифуга. 1916
НФ – Асеев Н. Ночная флейта: Стихи. М.: Лирика, 1914 [1913]
ОвШ – Маяковский В. Облако в штанах: Тетраптих. [Пг, 1915]
ОвШ-2 – Маяковский В. Облако в штанах: Тетраптих. 2-е изд. [М.): АСИС, 1918
Ожигов – Ожигов Ал. О книге словесного пустозвонства // Современный мир. 1915. № 3
ОКДО – Асеев Н. Ой конин дан окейн: Четвертая книга стихов. М. (Харьков): Лирень, 1916
Оксана – Асеев Н. Оксана. М.: Центрифуга, 1916
ОнОЦ – Иванов Г. Отплытие на о. Цитеру: Поэзы. Книга первая. СПб.: Ego,1912 [1911]
ОнП – Орлы над пропастью. СПб.: Петербургский Глашатай, 1912
ОР – Крученых А. Ожирение роз: О стихах Терентьева и других. [Тифлис: 41°, 1918)
ОС-3 – Очарованный странник: Альманах интуитивной критики и поэзии. Выпуск третий. СПб.: Очарованный странник, [1913]
ОС-4 – Очарованный странник: Альманах интуитивной критики и поэзии. Выпуск четвертый. Пг.: Очарованный странник, 1914
ОС-7 –Очарованный странник: Альманах весенний. [7]. Пг.: Очарованный странник, 1915
ОС-9 –Очарованный странник: Альманах зимний. [9]. Пг.: Очарованный странник, 1915
ОСон – Гуро Е. Осенний сон: Пьеса в четырех картинах. СПб., 1912
ОУ – Оранжевая урна: Альманах памяти Фофанова. СПб.: Петербургский Глашатай, 1912
Пастернак – Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М.: Художественная литература, 1989-1992
ПБ-17 – Пастернак Б. Поверх барьеров: Вторая книга стихов. М: Центрифуга. 1917 [1916]
ПБ-29 – Пастернак Б. Поверх барьеров: Стихи разных лет. М.; Л.: ГИЗ, 1929
ПвВЧ – Пир во время чумы: Вып. 2. М: Мезонин поэзии, 1913
ПВЖ – Гольцшмидт В. Послания Владимира жизни С ПУТИ К ИСТИНЕ: Издание первое. Камчатка Петропавловск, 1919
ПГ – Петербургский Глашатай: Чрезнедельная газета жизни, театра, литературы, художества. СПб., 1912
Песенцы – Март В. Песенцы. Владивосток. 1917
Пета – Пета: Первый сборник. М.: Пета, 1916
ПЖРФ – Первый журнал русских футуристов. 1914. № 1/2
ПкМ – Маяковский В. Простое как мычание. Пг.: Парус, 1916
ПнС – Победа над солнцем: Опера А. Крученых. Музыка М. Матюшина. СПб., [1914]
ПО – Петровский (Селегинский) Дм. Пустынная осень: Стихи. Саратов: Верблюжонок, 1920
ПОВ – Пощечина общественному вкусу: В защиту Свободного Искусства: Стихи. Проза. Статьи. М.: изд. Г. Л. Кузьмина и С. Д. Долинского, 1913 [1912]
ПОВ (листовка) – Пощечина общественному вкусу: [Листовка]. М.: изд. Г. Л. Кузьмина и С. Д. Долинского, 1913
Полонский – Полонский В. Литература и жизнь // Новая жизнь. 1914. Январь
Помада – Крученых А. Помада. [М.): изд. Г. Л. Кузьмина и С. Д. Долинского, [1913]
Поэма – Большаков К. Поэма событий. М.: Пета, 1916
Поросята – Зина В. и Крученых А. Поросята. СПб.: [ЕУЫ], 1913
Поросята-2 – Зина В. и Крученых А. Поросята. Издание 2, дополнительное. Пг.: [ЕУЫ, 1914]
ПП – Ивнев Р. Пламя пышет. М.: Мезонин поэзии, 1913
Предгрозье – Игорь-Северянин. Предгрозье: Третья тетрадь третьего тома стихов. Брошюра двадцать девятая. СПб., 1910
Пролог – Северянин И. Пролог «Эго-Фугуризм»: Поээа-грандиоз. Апофеозная тетрадь третьего тома. Брошюра тридцать вторая. СПб.: Ego, 1911
ПС – Петников Г. Поросль солнца: 3-я книга стихов. М. [Харьков]: Лирень, 1918
ПС-2 – Петников Г. Поросль солнца: Второе издание. Пб.: Лирень, 1922
ПТ– Пути творчества: Литературно-художественный ежемесячник. Харьков, 1919-1920
ПТС – Петников Г. Пусть трудятся стихи: Избранное. Симферополь: Таврия, 1972
15 лет – Крученых А. 15 лет русского футуризма: 1912–1927 гг.: Материалы и комментарии: Продукция № 151. М.: Изд. Всероссийского Союза Поэтов, 1928
РвВ – Широков П. Розы в вине. 1. СПб.: Петербургский Глашатай, 1912
Редько – Редько А. Литературно-художественные искания в конце
XIX – начале XX в. Л.: Сеятель, 1924
РП – Рыкающий Парнас. СПб.: Журавль, 1914
РПудра – Шершеневич В. Романтическая пудра: Поэзы. Opus 8-й.
СПб.: Петербургский Глашатай, 1913
Рубанович – Рубенович С. Поэт эксцессер // Критика о творчестве
Игоря Северянина. М: Издание В. В. Пашуканиса, 1916
Руконог – Руконог. М.: Центрифуга, 1914
РЧ – Развороченные черепа: Эгофутуристы: IX. СПб.: Петербургский Глашатай, 1913
Ряв! – Хлебников В. Ряв! Перчатки: 1908–1914 гг. СПб.: ЕУЫ, 1914
СВ – Кара-Мурза В., Катанян В. Синим вечером: Сборник стихов. Тифлис: Издание Ученического Клуба, 1918
СвП – Большаков К. Сердце в перчатке. М.: Мезонин поэзии, 1913
СГМ – Софии Георгиевне Мельниковой: Фантастический кабачок. Тифлис: 41°, 1919
СИ – Студия импрессионистов: Кн. 1. СПб.: изд. Н. И. Бутковской, 1910
СКТ – Крученых А., Хлебников В. Слово как таковое. [М, 1913]
СМ – «„Союз молодежи“ при участии поэтов „Гилея“». № 3. СПб.: Союз молодежи, 1913
Смерть искусству – Гнедов В. Смерть искусству: пятнадцать (15) поэм. СПб.: Петербургский Глашатай, 1913
СнИ – Большаков К. Солнце на излете: Вторая книга стихов: 1913–1916. М.: Центрифуга, 1916
СП – Седьмое покрывало: Стихи. Одесса, 1916
СС-1 – Садок судей. СПб.: Журавль, 1910
СС-2 –Садок судей И. СПб.: Журавль, 1913
Стихотворения – Петников Г. Стихотворения. Киев: Державне лiтературне видавництво, 1935
Стрелец – Стрелец: Сборник первый. Пг.: Стрелец, 1915
СЦ – Стеклянные цепи: Альманах эго-футуристов. СПб.: Петербургский Глашатай, 1912
Творения – Хлебников В. Творения. Том 1: 1906–1908 г. М. [Херсон]: изд. «Первого журнала русских футуристов», 1914
Творчество – Творчество: Журнал культуры, искусства и социалистического строительства. Владивосток; Чита, 1920-1921
Терентьев – Терентьев И. Собрание сочинений – Opere / Сост., подгот. текста, биогр. справка, вступ. статьи и коммент. Марио Марцадури и Татьяны Никольской. Bologna: Francesco, 1988
TP – Олимпов К. ТРЕТЬЕ РОЖДЕСТВО ВЕЛИКОГО МИРОВОГО ПОЭТА Титанизма Великой Социальной Революции Константина Олимпова РОДИТЕЛЯ МИРОЗДАНИЯ. Пг.: Издание «Руины неба», [1922]
Трое – Хлебников В., Крученых А., Гуро Е. Трое. СПб.: Журавль, 1913
ТТ – Требник троих: Сборник стихов и рисунков. М.: изд. Г. Л. Кузьмина и С. Д. Долинского, 1913
Тэ ли лэ – Крученых А., Хлебников В. Тэ ли лэ. СПб., 1914
УГДС – Крученых А. Утиное гнездышко… дурных слов… [СПб.], 1913
УХ – Крученых А. Учитесь худоги. Тифлис, 1917
Фаин – Март В., Эльф Г. Фаин. Владивосток, 1919
Факт – Терентьев. Факт: Стихи. Тифлис: 41°, 1919
ФбМ – Шершеневич В. Футуризм без маски: Компилятивная интродукция. М.: Искусство, 1914
Флоренский – Флоренский П. У водоразделов мысли. М.: Правда, 1990. Т. 2
ФС – Крученых А. Фактура слова: Декларация. (Книга 120-ая). М.:
МАФ, 1923 [1922] ФТ – Крученых А. Фонетика театра: Книга 123. М.: 41°, 1923
Хлебников НП – Хлебников В. Неизданные произведения. М.: Гослитиздат, 1940
Хлебников СП – Собрание произведений Велимира Хлебникова: В 5 т. Л.: Издательство писателей в Ленинграде. 1928-1933
Хлебников 1923 – Хлебников В. Стихи. М., 1923
Ходасевич СС – Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. М.: Согласие, 1996– 1997
Ходасевич КТ – Ходасевич В. Колеблемый треножник: Избранное. М., Советский писатель, 1991
ХС – Терентьев. Херувимы свистят. Тифлис: Куранты, 1919
Ц2 – Второй сборник Центрифуги. М.: Центрифуга, 1916
ЦЛ – Крючков Д. Цветы ледяные: Вторая книга стихов. СПб.: Очарованный странник, 1914
ЦнС – Пруссак В. Цветы на свалке: Стихи. Пг.: Издание автора, 1915
ЦТ – Крученых А. Цветистые торцы. [Баку]: 41°, [1921]
ЧвП – Чудо в пустыне. Одесса, 1917 ЧП – Четыре птицы: Стихи. М.: Изд-во К, 1916
Чуковский 1914 –Чуковский К. Лица и маски. СПб.: Шиповник, 1914
Чуковский 1922 – Чуковский К. Футуристы. Пб.: Полярная звезда, 1922
Шемшурин – Шемшурин А. Футуризм в стихах В. Брюсова. М., 1913
Шершеневич – Шершеневич В. Великолепный очевидец: Поэтические воспоминания 1910–1925 гг. // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова: Сборник. М.: Московский рабочий, 1990
Шиповник – Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». СПб., Шиповник, 1914. Книга 22
Энтелохизм – Бурлюк Д. Энтелехизм: Теория. Критика. Стихи. Картины. (1907–1930). New York: Издание М. Н. Бурлюк. 1930
Эпилог – Северянин И. Эпилог «Эго-футуризм». СПб., 1912
ЭФ – Шершеневич В. Экстравагантные флаконы. М.: Мезонин поэзии, 1913
Эшафот – Игнатьев И. Эшафот: Эго-футуры. СПб.: Петербургский Глашатай, 1914 [1913]
ЮМ – Каменский В. Юность Маяковского. Тифлис: Заккнига, 1931
ЮК – Юкь: Литературно-художественный ежемесячник. Владивосток, 1921
Якобсон – Якобсон-будетлянин: Сборник материалов / Сост., под-гот, текста, предисловие и коммент. Б. Янгфельдта. Stockholm, 1992
Byben – Божидар. Byben. М, [Харьков), 1914
VR – Северянин И. Victoria Regia: Четвертая книга поэз. М.: Наши дни, 1915
В своих „Смехачах“, варьируя корень смеха. Хлебников дал гигантов смеха, веселья – смехачей; дал страну смеха – Смеево; и показал, что в ней рядом с богатырями живут маленькие гадкие смеюнчики, карлики смеха» (Бурлюк Д. От лаборатории к улице: (Эволюция футуризма) // Творчество. 1920. № 2. С. 24). Критик В. Львов-Рогачевский писал: «Это стихотворение хорошо известно публике, как идеал звонко-звучной бессмыслицы <…>.
Конечно, в этом наборе „смеяльных“ слов – никакого смысла! „Поэт забавляется безумно, безмерно“. Но эта безмерная болтовня превращается в своеобразный манифест: „Заклятье смехом“ горит на знамени „молодежи“» (Львов-Рогачевский В. Без темы и без героя // Современный мир. 19)3. № 1. С. 100). «Смехачи, действительно, смеялись, – писал К. Чуковский, – но, помню, я читал и хвалил. И ведь, действительно, прелесть. Как щедра и чарующе-сладостна наша славянская речь! Только тупица-педант может, прочитав эти строки, допытываться, какое же в них содержание, что же они, в сущности, значат. Тем-то они и прельстительны, что они не значат ничего. А что, по-вашему, значит изумрудно-золотой узор на изумительном павлиньем хвосте? Или звенение лесного ручья? И ведь сколько раз наши поэтики из себя выходили, божились, что смысл в поэзии будто – ничто, а главное будто бы – словесная магия, обаяние напевов и звуков, однако ведь никто не додумался до вот таких смехачей и смехунчиков! О, иссмейся рассмеяльно смех надсмейных смеячей. – ведь это революция, хартия вольности, ведь за одну за эту строку, за единственную я бы автору сейчас поставил памятник и на памятнике приказал бы начертать:
В самом деле вы только подумайте, сколько лет, сколько веков, тысячелетий поэзия была в плену у разума, у психологии, у логики, слово было в рабстве у мысли, и вот явился рыцарь, меченосец, герой, и без всякого Крестового Похода, мирно и даже с улыбочкой, разрушил эти вековые оковы, прогнал от красавицы-Поэзии ее пленителя-Кащея – Разум. О. рассмейтесь надсмеяльно смехом сменных смехачей! ведь слово отныне свободно, можете с ним делать, что хотите, хоть венки из него сплетайте, словесные гирлянды, букеты <…>. Но смехунчики еще и тем хороши, что не стесняемый оковами разума, я могу по капризу окрашивать их в какую хочу окраску. Я могу читать их зловеще, и тогда они внушают мне жуть, я могу читать их лихо-весело, и тогда мне чудится, что пасха, весна и что мне четырнадцать лет. Тогда смехунчики, смешики – как весенние воробушки, как бегущие малые тучки. Нет, действительно, без logos'a легче, да здравствует же заумный язык, автономное, свободное слово!» (Чуковский 1914. С. 126–128). С Чуковским не соглашался В. Полонский: «Да пусть тысячу раз не будет иметь смысла хвост павлиний, разве от этого хлебниковские „смеюнчики“ перестанут быть только звонкой чепухой, которой место где угодно, но не в литературе, не в искусстве, не в храме Логоса! <…> „Футуристы“ – это злодеи, насильники, они издеваются над Словом, оскопляют его, вытравляют из него душу…» (Полонский. С. 176). В. Каменский считал, что это «знаменитое хлебниковское сопряженье корней <…> показывает, как научно сознательно шла работа над словом, создавая новую культуру языка» (Каменский. С. 490). А. Крученых писал о ст-нии: «Хлебников показал здесь большое чутье языка, прекрасное знание приставок и суффиксов, ритмическую виртуозность.
„Смехачи“ так поразили, что некоторые критики еще в 1913 г. предлагали за одну эту вещь поставить памятник Велимиру Хлебникову – „освободителю стиха“, а в наше время (в 1927-28 гг.) существовал даже юмористический журнал под хлебниковским названием „Смехач“» (Крученых. С. 25). В 1916 г. В. Шершеневич утверждал, что «лет через сорок будет странно:
– Неужели до двадцатого века не было слов: смейво, смеюнчики, смехачи и др.» (ЗУ. С. 33). П. Флоренский охарактеризовал «Заклятие смехом» как «стихию улыбки, переходящей в смех» (Флоренский. С. 180). Иванов-Разумник вспоминал: «„О засмейтесь, смехачи!“ – для него (Хлебникова. – Сост.) это пресловутое стихотворение было уже победою. Издеваться над этим было легко; труднее было – почувствовать в тягостном косноязычии новую силу и правду вечно рождающегося Слова» (Иванов-Разумник. С. 228). В статье «Вели-мир Хлебников» (1922) С. Третьяков писал: «Хлебников был как никто зорок к той „одежде“ слова как живого действенного организма, которая создается приставками, суффиксами и др. Он умел делать затвердевший корень снова текущим, как ручьевая вода, и под его пером росли слова, родные по корню, – то жестокие, то нежные, то широкие, то отточенные, злые или радостные. Он пишет свое „Заклинание смехом“, весь сюжет и все движение которого заключалось именно в движении возможных оттенков и значений, несомых одним и тем же речением <…>.
Хлебников родил русской поэзии выразительное и звучащее слово, он первый потребовал, чтобы к слову подходили с большим вниманием и во всеоружии знаний природы слова, не боясь нарушить чье-либо спокойствие хирургической работой над закоснелым словом. <…> В этом стихотворении – весь Хлебников с его почти жертвенной любовью к слову и действительно гениальным проникновением в существо слова как вещи, как живого организма, который надо уметь создать для того, чтобы слово на потребу людскую жглось, ласкалось, царапалось и высверливало в заплывшем сознании четкие ходы» (Третьяков С. Страна-перекресток: Документальная проза. М., 1991. С. 525–526). Одним из первых подверг ст-ние научному анализу Ю. Тынянов: «Здесь, конечно, можно говорить и об интенсивации общего значения, и об очень сильной семантической роли отдельных слов, таких как: смехачи, смешики и т. д. При этом, ввиду важности синтактической рамки, в этой дифференциации слов с одной вещественной частью, поставленных друг к другу в отношения членов предложения, – приобретают важность формальные элементы слов, семантика которых тем ярче выступает, чем более вещественная часть слов совпадает: это совпадение – обрекает индивидуальную вещественную часть каждого слова на сравнительную бледность: ее значение поглощается общим значением, – ярко выступают только варианты вещественной части; тем сильнее значение суффиксов; так что в результате у нас получается 1) значение общей вещественной части. 2) индивидуальная и яркая формальная характеристика каждого отдельного слова» (Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. Л… 1924. С. 106).
то почему же мы смеемся над Бобэобами и Вээомами? Чем Чоктосы лучше Бобэоби? И там, и здесь гурманское смакование экзотических, заумно звучащих слов. Для русского уха бобэоби так же „заумны“, как и чоктосы; шошоны – как и пиээо!» (Чуковский 1922. С. 44). Иванов-Разумник писал о ст-нии: «Так усложненнейшим и истонченнейшим путем приходит язык к кажущейся пустоте звука, приходит от физиологии к эстетике, от слова-разума к звуку-чувству, от слово-логики к слово-эстетике, от слово-смысла к слово-звуку. И в утверждении этого права – внешняя правда футуризма» (Иванов-Разумник. С. 223).
Я в спокойном лице верблюда читал развернутую буддийскую книгу. На лице тигра какие-то резы гласили закон Магомета. Отсюда недалеко до утверждения: виды потому виды, что их звери умели по-разному видеть божество (лик). Волнующие нас веры сугь лишь более бледный отпечаток древле действовавших сил, создавших некогда виды. Вот моя несколько величественная точка зрения. Я думаю, к ней может присоединиться только тот, кто совершал восхождения на гору и ее вершину» (Хлебников НП. С. 356). А. Крученых характеризовал «Зверинец» как «непревзойденную, насквозь музыкальную прозу» (Крученых. С. 50). Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) – поэт-символист, философ, филолог, Баскущие (от обл. «баской») – красивые, нарядные. Павдинский камень – возвышенность северной части Среднего Урала. Полдневный пушечный выстрел – традиционный ежедневный артиллерийский выстрел из пушки Петропавловской крепости. Косматовласый «Иванов». Имеется в виду лев. Ср.: в повести «Ка2» Хлебников называет Вяч. Иванова «Львиным Сердцем» (Хлебников СП. Т. V. С. 128). Часослов – сборник молитв на определенный час церковной службы.
B. Шершеневич, считавший нежелательным совместное поэтическое творчество, писал по поводу поэмы: «Едва ли это прием допустимый в поэзии. Ведь мы прежде всего требуем от поэта оригинального лица, а уж какая тут оригинальность, если двое могут совместно написать поэму и так, что нельзя узнать: где начинается один и где кончается другой» (ФбМ. С. 81–82). О своем впечатлении от прочтения поэмы много лет спустя вспоминал Р. Якобсон: «Она меня поразила – поразила тем, что я себе тогда совершенно не так представлял новаторский стих. Меня это тут же захватило. Я тогда не знал ничего о Хлебникове, не слыхал, что за Крученых. Но в нашем небольшом кругу начались в то время разговоры о появлении русского футуризма» (Якобсон. С. 14).
и «Чародейскую песню Русалок»:
Галиция – историческое название части западноукраииских и польских земель. Оран (обл.) – от «орать» (пахать). Сахаров Иван Петрович (1807–1863) – собиратель и исследователь фольклора, этнограф. Опришки – участники народно-освободительной борьбы в Галичине с XVI в. Легини (укр.) – парни. Мешка (мава) – образ украинского фольклора, злой дух.
(Несмелое Б. Родить мужчинам: Поэма. М., 1923. С. 12, 15).
И „смазанная карта будня“ вдруг засверкала новыми красками – красками молодой фантазии. В самом деле, разве кто прислушивался к мелодиям дождя, звенящего по водосточным трубам? А ведь это самая близкая музыка для не имеющих приюта людей, которым не приходилось ходить в концертные залы того времени. И флейты водосточных труб, и струны телеграфных проводов имеют своих слушателей, бредущих под дождем по дорогам и мостовым, не знающих, где преклонить голову на ночь. Вот о них-то и говорил Маяковский. Говорил резко, громко, без обиняков и сочувственных вздохов, потому что сам он умел слышать все то, что слышали они» (Асеев Н. Владимир Владимирович Маяковский. М., 1943. С. 8–9).
Художественным, Коршевским, Александрийским, Большим и Малым нет места в сегодня! – с этой целью учреждается новый театр „Будетлянин“.
6) И в нем будет устроено несколько представлений (Москва и Петроград). Будут поставлены Дейма: Крученых „Победа над Солнцем“ (опера), Маяковского „Железная дорога“, Хлебникова „Рождественская сказка“ и др.
Постановкой руководят сами речетворцы, художники: К. Малевич, Д. Бурлюк и музыкант М. Матюшин» (цит. по: Малевич К. Собр. соч.: В 5 т. М., 1995. Т. 1. С. 23–24). Трагедия (кроме «Железной дороги», другое рабочее название – «Бунт вещей») была написана летом 1913 г. Два спектакля (2 и 4 декабря 1913 г.) состоялись на сцене петербургского театра «Луна-парк». Режиссером и исполнителем заглавной роли был В. Маяковский, декорации написали П. Филонов и И. Школьник. О работе Маяковского над трагедией вспоминал В. Каменский: «Писал он ее на моих глазах.
Собственно, не писал, как обыкновенно пишут за письменным столом (у него стола не было), а работал своим оригинальным способом.
Метод его работы заключался в том, что задуманную тему он разрабатывал до точности в голове и строил строки мысленно почти вслух, воображая себя читающим, исполняющим.
При этом он не нуждался в уединении, а напротив – непременно работал при нас и новые сделанные строки сейчас же переводил на голос, как бы проверяя их значимость.
И даже справлялся:
– Интересно?
И получал неизменный ответ:
– Гениально!
Маяковский улыбался, как ребенок, шагал по комнате, нервно сморкался, глотал чай, рассеянно смотрел на нас и продолжал работу.
И когда кончал – при первом же выступлении читал с явным удовольствием и уверенностью крупного мастера.
А этих выступлений и чтений было без пределов» (ЮМ. С. 24–25). А. Крученых вспоминал: «Когда Маяковский привез в Питер написанную им пьесу, она оказалась убийственно коротенькой – всего одно действие, – на 15 минут читки!
Этим никак нельзя было занять вечер. Тогда он срочно написал еще одно действие. И все же (забегая вперед) надо отметить, что вещь была так мала (четыреста строк!), что спектакль окончился около 10 час. вечера (начавшись в 9).
Публика была окончательно возмущена!
Маяковский до того спешно писал пьесу, что даже не успел дать ей название, и в цензуру его рукопись пошла под заголовком: „Владимир Маяковский. Трагедия“. Когда выпускалась афиша, то полицмейстер никакого нового названия уже не разрешал, а Маяковский даже обрадовался:
– Ну, пусть трагедия так и называется: „Владимир Маяковский“. <…> Итак – первым вышел на растерзание публики В. Маяковский. Материалы об его спектакле собраны достаточно исчерпывающе <…>, я же добавлю, что в этой пьесе Маяковский так же прекрасно читал, как и в следующие годы, когда публика рвалась и ломилась на его выступления и восторженно его приветствовала.
Но на спектакле, вместо бурных восторгов, Маяковский вызвал недоумение и порой протесты.
А Маяковский читал не только поразительно, но и поражающе… <…> В его „Трагедии“ изображены поэт-футурист, с одной стороны, и всяческие обыватели, „бедные крысы“, напуганные бурными городскими темпами – „восстанием вещей“, с другой. <…> Вместе с восстанием вещей близится и иной, более грозный социальный мятеж – изменение всего лица земли, любви и быта.
Испуганные людишки несут свои слезы, слезинки поэту, взывая о помощи. Тот собирает их и укладывает в мешок.
До этого момента публика, пораженная ярчайшими декорациями (по краскам – Гоген и Матисс), изображавшими город в смятении, необыкновенными костюмами и по-новому гремевшими словами, – сидела сравнительно спокойно.
Когда же Маяковский стал укладывать слезки и немного растянул здесь паузу (чтоб удлинить спектакль!) – в зрительном зале раздались единичные протестующие возгласы. Вот и весь „страшный скандал“ на спектакле Маяковского. Правда, когда уже был опущен занавес, раздавались среди аплодисментов и свистки, и всевозможные крики, как то обычно бывает на премьерах, новых, идущих вразрез с привычными постановками…
Публика спектакля в основном была та же, что и на наших вечерах и диспутах (интеллигенция и учащаяся молодежь), а диспуты проходили нисколько не скандальнее, чем, скажем, позднейшие вечера Маяковского 1920-30 гг. <…> Кажется, не было тогда листка, который как-нибудь по-своему не откликнулся бы на наш спектакль. Это была беспросветная ругань, дикая, чуть ли не площадная, обнаружившая все убожество ее авторов» (Крученых. С. 63, 66, 68, 70). Реакция критики действительно носила преимущественно резко отрицательный характер. Так, рецензент «Петербургского листка» писал: «Такого публичного осквернения театра мы не помним. Такого дикого представления не было и не будет! Больные психически люди говорят минутами как нормальные люди, но то, что говорили вчера на сцене режиссер умственно искалеченных футуристов – автор идиотской пьесы (?!) и его достойные сподвижники – этосплош-ная грубая бессмыслица, бред больных белой горячкой людей, это – сумбурное сплетение слов без всякого логического порядка и смысла. <…> Можно дать премию в миллион рублей тому, кто объяснит, в чем „суть“ небывалой по глупости пьесы.<…> Нужно ли говорить, что декорации изображали яичницу с луком, смесь улиц с домами и вывесками; а костюмы действующих лиц пьесы-ахинеи – это соединение костюмов индейцев с туалетом балаганного деда… Нечто ужасное, аляповатое, вызывающее чувство отвращения у эстетов и, вообще, у нормальных людей. <…> Надо прекратить спектакли футуристов» (Россовский Н. Спектакль душевнобольных // Петербургский листок. 1913. 3 декабря. С. 4). В том же духе высказывался на страницах «Биржевых ведомостей» А. Измайлов: «Бред куриной души назывался трагедиею в двух действиях. <…> Наглое шарлатанство никого не дурачило, и публика, конечно, шла заведомо посмотреть рыцарей зеленого осла и лично убедиться, до какого предела может идти неостанавливаемая наглость. И видеть сценическую постановку галиматьи несравнимо легче, чем прочитать три страницы футуристического альманаха.
Вместо декораций, были два плаката, пестро размалеванные и напоминавшие вскрытую внутренность пьяницы, как ее изображают на лубочных картинах в поучение алкоголикам. Какое-то пестрое месиво рук, ног, лиц, детских игрушек.
Развязный молодой человек актерского типа, в скоморошьей рубахе полосками, долго нес несусветную чепуху о своей душе, которую он несет на блюде, о мостах, заломивших железные руки, о переулках, засучивших рукава для драки, о трубах, выкидывающих ногами 44, о своих ногах, распухших от исканий, о штанах, сбежавших от портного и гуляющих без человеческих ляжек, о женских чулках, игриво щурящихся, как кокотки, обещал коснуться головы зрителей и создать им губы для огромных поцелуев. Потом он заявил, что его выдоили и что он пойдет успокоить свою душу на ложе из мягкого навоза. В добрый час! Всякий рано или поздно попадает на свою полочку.
Какие-то святочные хари выносили кренделя, пряники и огромную рыбу в человеческий рост. Поэт предъявлял женские губы, истрепанные поцелуями, и бросал их о пол. Выдвинули и повалили безвкусное чучело карнавальной бабы. Словом, проделали все, что дает полное право на заключение человека в смирительную рубашку. <…> Первый вечер футуристов явился полной распиской в бездарности» (Измайлов А. Рыцари зеленого осла: (1-й вечер футуристов) // Биржевые ведомости: Вечерний вып. 1913, 3 декабря. С. 4–5). «Просвистели ее до дырок», – писал позже о постановке трагедии сам Маяковский (Маяковский. Т. 1. С. 22). Сдержанно оценивал пьесу М. Матюшин: «Трагедия Маяковского представляет огромное выявление импрессионизма в символике слова. Но он нигде не отрывает слово от смысла, не пользуется самоценным звуком слова. Я нахожу выявление его пьесы очень важным и значительным, но не ставящим новые последние грани или кладущим камни в трясины будущего для дороги будетлянского искусства.
Тем самым нисколько не умаляя значения его пьесы, считаю постановку его вещи – много ниже его творчества» (ПЖРФ. С. 157). О спектакле вспоминал В. Шкловский: «Маяковский стремился к театру.
В трагедии „Владимир Маяковский“ – поэт один. Вокруг него ходят люди, но они не круглые. Они – загородки, раскрашенные щиты, из-за которых раздаются слова. Вот они.
Его знакомая (он – Владимир Маяковский). Ее характеристика: сажени две-три. Не разговаривает.
Старик с черными сухими кошками (несколько тысяч лет). Дальше идут Маяковские.
Человек без глаза и ноги, человек без уха. человек без головы, человек с растянутым лицом, человек с двумя поцелуями и обыкновенный молодой человек, который любит свою семью. А дальше женщины, все – со слезами. Слезы они приносят поэту.
Поэт сам – тема своей поэзии.
Поэт разложил себя на сцене, держит себя в руке, как игрок держит карты. Это Маяковский – двойка, тройка, валет, король. Игра идет на любовь. Игра проиграна.
Человек с растянутым лицом говорит:
Это – тема Маяковского.
Маяковскому уйти некуда. Кругом свои, несчастливые Маяковские и поцелуи.
Неизвестно, что делать с поцелуями. Поэт даже искал рамку для них.
А с главной женщиной было так:
Маяковский сорвал покрывало, под покрывалом была кукла, огромная женщина, потом ее унесли на плечах. Этот случай нам знаком.
Была вещь Блока – „Балаганчик“. <…> Пьеро и Арлекин влюблены в одну женщину.
Кругом куклы этнографического музея. Коломбина картонная. <…> То, что подруга картонная, указано во всех ремарках, и даль оказывается нарисованной. Люди – сам Пьеро – истекают клюквенным соком.
Мир поэмы „Владимир Маяковский“, несмотря на сходство с миром „Балаганчика“, совсем другой.
У Блока, который тогда все еще был символистом, люди, то есть герои-вещи, – шахматные фигуры, условные контуры ролей, мерцающие подобно живым.
Они то становятся реальными, то перестают быть реальными. Содержание вещи в том, что мир сквозит, что он дематериализован, что все повторяется: девушка становится смертью, коса смерти становится косой девушки; а у Маяковского в его драме он сам, Маяковский, чрезвычайно реален. У него сапоги с дырками, и дырки очень реальные, овальцы дырок.
Владимир Владимирович очень хорошо знал, как снашиваются сапоги. И даже лавровый венок поэта реален. Маяковский хотел иметь настоящий лавровый венок на голове.
Еще стоит реальная женщина. Он только не прорвался к ней. Поэт пробует мир, и опрокидывает его, и уходит на улицу, на площадь, которую он так настойчиво называет „бубном“.
Мир сам годен стать инструментом для издавания басистых звуков.
Даже слава реальна, и ее надо добиться.
Эту поэму или драму играли в Петербурге, на Офицерской улице. Блок жил недалеко, он пришел на представление, смотрел очень серьезно.
На дверях театральный механик написал: „Футуристы“. Маяковский не стер надписи. Дело было не в этом, – во всяком случае, и это втягивалось в трагедию.
Декорации писал Филонов. Филонов – художник, пошедший от отреченной русской иконописи, от тех же росписей Ферапонтова монастыря. На декорациях были плотно изображены изогнутые люди, сделанные из превосходной краски, и большой, очень красивый петух, которого несколько раз перерисовывал Филонов. Маяковский радовался спектаклю.
Тысячелетний старик был нарисован и обклеен пухом. Женщина была на самом деле двух саженей.
А поэт тешился тем, что эти вещи и люди существуют вне его, что на них можно смотреть.
Другие Маяковские, скромные ученики-актеры, говорили робкими голосами.
Публика то веселилась, то подчинялась поэту.
Публика думала, что она играет поэтом, что вообще дело идет в шутку, а потом она пойдет домой и все будет по-старому» (Шкловский В. О Маяковском // Шкловский В. Собр. соч.: В 3 т. М., 1974. Т. 3. С. 40–42). Из воспоминаний Б. Лившица: «Центром драматического спектакля был, конечно, автор пьесы, превративший свою вещь в монодраму. К этому приводила не только литературная концепция трагедии, но и форма ее воплощения на сцене: единственным подлинно действующим лицом следовало признать самого Маяковского. Остальные персонажи – старик с кошками, человек без глаза и ноги, человек без уха, человек с двумя поцелуями – были вполне картонны: не потому, что укрывались за картонажными аксессуарами и казались существами двух измерений, а потому, что, по замыслу автора, являлись только облеченными в зрительные образы интонациями его собственного голоса. Маяковский дробился, плодился и множился в демиургическом исступлении,
При таком подходе, естественно, ни о какой коллизии не могло быть и речи. Это был сплошной монолог, искусственно разбитый на отдельные части, еле отличавшиеся друг от друга интонационными оттенками. Прояви Маяковский большее понимание сущности драматического спектакля или больший режиссерский талант, он как-нибудь постарался бы индивидуализировать своих картонажных партнеров, безликие порождения собственной фантазии. Но наивный эгоцентризм становился поперек его поэтического замысла. На сцене двигался, танцевал, декламировал только сам Маяковский, не желавший поступиться ни одним выигрышным жестом, затушевать хотя бы одну ноту в своем роскошном голосе: он, как Кронос, поглощал свои малокровные детища.
Впрочем, именно в этом заключалась „футуристичность“ спектакля, стиравшего – пускай бессознательно! – грань между двумя жанрами, между лирикой и драмой, оставлявшего далеко позади робкое новаторство „Балаганчика“ и „Незнакомки“. Играя самого себя, вешая на гвоздь гороховое пальто, оправляя на себе полосатую кофту, закуривая папиросу, читая свои стихи, Маяковский перебрасывал незримый мост от одного вида искусства к другому и делал это в единственно мыслимой форме, на глазах у публики, не догадывавшейся ни о чем.
Театр был полон: в ложах, в проходах, за кулисами набилось множество народа. Литераторы, художники, актеры, журналисты, адвокаты, члены Государственной думы – все постарались попасть на премьеру. Помню сосредоточенное лицо Блока, неотрывно смотревшего на сцену и потом, в антракте, оживленно беседовавшего с Кульбиным. Ждали скандала, пытались даже искусственно вызвать его, но ничего не вышло: оскорбительные выкрики, раздававшиеся в разных концах зала, повисали в воздухе без ответа.
„Просвистели до дырок“, – отмечал впоследствии Маяковский в своей лаконической автобиографии. Это – преувеличение, подсказанное, быть может, не столько скромностью, сколько изменившейся точкой зрения самого Маяковского на сущность и внешние признаки успеха: по тому времени прием, встреченный у публики первой футуристической пьесой, не давал никаких оснований говорить о провале.
Так называемое „художественное оформление“ принадлежало Школьнику (на самом деле решающая роль в оформлении спектакля принадлежала Филонову. – Сост.) и было ниже самого спектакля. Все, что в тексте неприятно поражало поверхностным импрессионизмом, рыхлостью ткани, отсутствием крепкого стержня, как будто нарочно было выпячено художником, подчеркнуто с какой-то необъяснимой старательностью. Один Маяковский, кажется, не замечал этого, хотя вмешивался во все детали постановки.
Двухсаженная кукла из папье-маше, с румянцем во всю щеку, облаченная в какие-то лохмотья и, несмотря на женское платье, смахивавшая на елочного деда-мороза, искренно нравилась ему, так же как и все эти сверкавшие фольгой, похожие на огромные рыбьи пузыри, слезинки, слезы и слезищи.
Он, словно ребенок, тешился несуразными игрушками, и, когда я попытался иронически отнестись к нелепой, на мой взгляд, бутафории, его лицо омрачилось. Лишь позднее я понял, что было нечто гофмановское в этой встрече лирического поэта с собственными образами, воплотившимися в осязаемые предметы» (Лившиц. С. 446–448). Иванов-Разумник вспоминал: «Трагедия В. Маяковского „Владимир Маяковский“ была даже поставлена на сцене года за два до войны, и я хорошо помню это тягостное зрелище издевающейся, улюлюкающей галерки и от этого сияющей самодовольством кучки „желтых кофт“ на своей дешевой Голгофе. А между тем „трагедия“ В. Маяковского была уже не „словами с чужими брюхами“, а подлинным литературным произведением, была уже не „деймом“, а подлинным действом» (Иванов-Разумник. С. 226). Актер и режиссер А. Мгебров, присутствовавший на спектакле в качестве зрителя, писал в своих мемуарах: «Погас свет, и вот поднялся занавес. Началось представление. Полумистический свет слабо освещает затянутую сукном или коленкором сцену и высокий задник из черного картона, который, в сущности, один и составляет всю декорацию. Весь картон причудливо разрисован. Понять, что на нем написано, я не могу, да и не пытаюсь: какие-то трубы, перевернутые снизу вверх, дома, надписи – прямые и косые, яркие листья и краски. Что этот картон должен изображать? – я так же, как и другие, не понимаю, но странное дело, – он производит впечатление; в нем много крови, движения. Он хаотичен… он отталкивает и притягивает, он непонятен и все же близок. Там, кажется, есть какие-то кренделя, бутылки и все словно падает, и весь он точно крутится в своей пестроте. Он – движение, жизнь, не фокус ли жизни? <…> Быть может то, что я увидел тогда, на этом картоне, – самое реальное изображение города, какое когда-либо я видел. Да, этот картон произвел на меня впечатление. Я почувствовал движение в самом себе, я почувствовал движение города в вечности, всю жуть его, как часть хаоса. Но перейду к действию.
Из-за кулис медленно дефилировали, одни за другими, действующие лица: картонные, живые куклы. Публика пробовала смеяться, но смех обрывался. Почему? Да потому, что это вовсе не было смешно, – это было жутко. Мало кто из сидящих в зале мог бы осознать и объяснить это. Если я пришел требовать зрелища, непременно забавного, непременно смешного, если я пришел издеваться над паяцем, и вдруг этот паяц серьезно заговорит обо мне, – смех застынет на устах. И когда с первого мгновения замолк смех, – сразу почувствовалась настороженность зрительного зала и настороженность неприятная. Ему еще хотелось смеяться: – ведь для этого все пришли сюда. И зал ждал, зал жадно глядел на сцену…
Вышел Маяковский. Он взошел на трибуну, без грима, в своем собственном костюме. <…> Потом он сел на картон, изображающий полено. Потом стал говорить тысячелетний старик: все картонные куклы – это его сны, сны человеческой души, одинокой, забытой, затравленной в хаосе движений.
Маяковский был в своей собственной желтой кофте; Маяковский ходил и курил, как ходят и курят все люди. А вокруг двигались куклы, и в их причудливых движениях, в их странных словах было много и непонятного и жуткого оттого, что и вся жизнь непонятна и в ней – много жути. И зал, вслушивавшийся в трагедию Маяковского, зал со своим смехом и дешевыми остротами был также непонятен. И было непонятно и жутко, когда со сцены неслись слова, подобные тем, какие говорил Маяковский. Он же действительно говорил так: „Вы – крысы…“ И в ответ люди хохотали, их хохот напоминал тогда боязливое царапанье крыс в открытые двери. „Не уходите, Маяковский“, – кричала насмешливо публика, когда он растерянный, взволнованно собирал в большой мешок и слезы, и газетные листочки, и свои картонные игрушки, и насмешки зала – в большой холщовый мешок; он собирал их с тем, чтобы уйти в вечность, в бесконечно широкие пространства и к морю…
Ничего нельзя было понять… Маяковский – плохой режиссер, плохой актер, а футуристическая труппа – это молодежь, только лепечущая. Разумеется, они плохо играли, плохо и непонятно про-зносили слова, но все же у них было, мне кажется, что-то от всей души. Зал же слушал слишком грубо для того, чтобы хоть что-нибудь могло долететь со сцены. Однако, за время представления мои глаза дважды наполнялись слезами. Я был тронут и взволнован.
Мне сделалось невыразимо грустно, когда я пришел домой; грустно не от спектакля, не от дурного представления, но лишь от того, что я как бы соприкоснулся в тот вечер со скорбью, соприкоснулся с вечно затравленной человеческой душой, которая, как принц в лохмотьях нищего, нашла исход своим слезам в бунте футуристов» (Мгебров. С. 276–280). В «Охранной грамоте» Б. Пастернак писал о впечатлении, которое произвело на него чтение Маяковским своей трагедии во время их встречи в мае 1914 г.: «Я слушал, не помня себя, всем перехваченным сердцем, затая дыхание. Ничего подобного я раньше никогда не слыхал.
Здесь было все. Бульвар, собаки, тополя и бабочки. Парикмахеры, булочники, портные и паровозы. <…> Вдали белугой ревели локомотивы. В горловом краю его творчества была та же безусловная даль, что на земле. Тут была та бездонная одухотворенность, без которой не бывает оригинальности, та бесконечность, открывающаяся с любой точки жизни, в любом направленьи, без которой поэзия – одно недоразуменье, временно не разъясненное.
И как просто было это все. Искусство называлось трагедией. Так и следует ему называться. Трагедия называлась „Владимир Маяковский“. Заглавье скрывало гениально простое открытье, что поэт не автор, но – предмет лирики, от первого лица обращающейся к миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержанья» (Пастернак. Т. 4. С. 219). Гладьте сухих и черных кошек. В статье «Без белых флагов» (<1914>) Маяковский писал: «Ведь когда египтяне или греки гладили черных и сухих кошек, они тоже могли добыть электрическую искру, но не им возносим мы песню славы, а тем, кто блестящие глаза дал повешенным головам фонарей и силу тысячи рук влил в гудящие дуги трамваев» (Маяковский. Т. 1. С. 324). Домино (франц. и итал. domino) – маскарадный костюм в виде широкого плаща с рукавами и капюшоном. Фигаро и Матэн – французские газеты («Le Figaro» и «Се Matin»).
С тех пор у меня ненависть к точкам. К запятым тоже» (Маяковский. Т. 1.С. 24). Выступая на вечере, посвященном двадцатилетию творческой деятельности, состоявшемся 25 марта 1930 г. в Доме комсомола Красной Пресни, Маяковский вспоминал: «„Облако в штанах“. Оно начато письмом в 1913/14 году, закончено в 1915 году и сначала называлось „Тринадцатый апостол“. Когда я пришел с этим произведением в цензуру, то меня спросили: „Что вы, на каторгу захотели?“ Я сказал, что ни в каком случае, что ни в коем случае меня не устраивает. Тогда мне вычеркнули шесть страниц, в том числе и заглавие. <…> Меня спросили – как я могу соединить лирику и большую грубость. Тогда я сказал: „Хорошо, я буду, если хоти-то, как бешеный, если хотите, буду самым нежным, не мужчина, а облако в штанах“. Эта книжка касалась тогдашней литературы, тогдашних писателей, тогдашней религии, и она вышла под таким заглавием. Люди почти не покупали ее, потому что главные потребители стихов были барышни и барыни, а они не могли покупать из-за заглавия. Если спрашивали „Облако“, у них спрашивали „в штанах?“. При этом они бежали, потому что нехорошее название» (Маяковский. Т. 12. С. 436). В предисловии ко второму изданию поэмы Маяковский писал: «„Облако в штанах“ (первое имя „Тринадцатый Апостол“ зачеркнуто цензурой. Не восстанавливаю. Свыкся.) считаю катехизисом сегодняшнего искусства.
„Долой вашу любовь“, „долой ваше искусство“, „долой ваш строй“, „долой вашу религию“ – четыре крика четырех частей» (ОвШ-2. С. 3). Выход в свет поэмы был восторженно воспринят футуристами и близкими к футуристическим кругам литераторами. «Из книги вырезано почти все, что являлось политическим credo русского футуризма, – писал В. Шкловский, – осталисьлюбовь, гнев, прославленная улица и новое мастерство формы.
К форме поэмы Маяковского можно применить те слова которые он говорит про себя.
В поэме тоже нет ни седых волос – старых рифм и размеров, ни старческой нежности прежней русской литературы – литературы бессильных людей» (Шкловский В. Вышла книга Маяковского «Облако в штанах» // Взял. С. 10). Издавший поэму О. Брик призывал читателей: «Радуйтеся, кричите громче: у нас опять есть хлеб! Не доверяйте прислуге, пойдите сами, встаньте в очередь и купите книгу Маяковского „Облако в штанах“. Бережней разрезайте страницы, чтобы как голодный не теряет ни одной крошки, вы ни одной буквы не потеряли бы из этой книги-хлеба» (Б<рик> О. Хлеба! // Взял. С. 12). «Ведь в самом деле. – писал в рецензии на поэму К. Большаков, – что же другое, как не „Облако в штанах“ может быть названо самою современною по своей остроте и самою острою по своей современности книгой, в чем другом, как не в ней, так ярко и так самоуверенно в своей победной мощи предстал лик зарождающейся новой эры земли» (Ц2. С. 85). Н. Асеев упрекал критиков, сознательно, по его мнению, замалчивающих появление поэмы: «Но появляется уже вторая (первая – „Владимир Маяковский“. – Сост.) большая трагедия В. В. Маяковского, а критики потеряли язык (или стерли кожу с него, подлизываясь к пиршеству госпожи Войны). <…> Итак, вот оно, средство от бессилья! Это сильнее вашей Амриты – Вечной Женственности. Это дешевле („Облако в штанах“. Ц. 1 р.). И это единственное средство ликвидировать грехи вашей молодости. Испробуйте! Не бойтесь! Здесь нет обмана!» (Асеев Н. Владимир Маяковский и его поэма «Облако в штанах» // Асеев. Т. 5. С. 505–506). Так отзывался о поэме В. Ховин: «„Облако в штанах“ – блестящая книга блестящих, великолепных неожиданностей.
Недостатки?
О, их много, без конца, но не о них говорить.
Ибо самое главное в этой книге – угроза ее, – угроза стать частью нашего взыскующего духа, так как поистине она – кровавые лоскутки сердца современности» (Ховин В. Великолепные неожиданности // ОС-9. С. 16). Лиля – Брик Лиля Юрьевна (1891–1978), подруга жизни Маяковского. ЭТОБЫЛО / БЫЛО В ОДЕССЕ. О случившемся в Одессе в январе 1914 г. во время турне футуристов вспоминал В. Каменский: «Нам надо было ехать в Кишинев, но Маяковский задерживал отъезд.
Мы волновались.
Дело в том, что Маяковский влюбился здесь в красавицу Марию Александровну и по этому неожиданному случаю „сходил с ума“.
Он „рвал и метал“ и вообще не знал, как быть, что предпринять, куда деться с этой нахлынувшей любовью.
Семнадцатилетняя Мария Александровна принадлежала к числу тех избраЕшых девушек того времени, в которых сочетались высокие качества пленительной внешности и интеллектуальная устремленность ко всему новому, современному, революционному.
Стройная, обаятельная, „с глазами южной ночи“ – это она сразу же представилась воображению поэта:
Двадцатилетний Маяковский, еще не знавший любви, впервые изведал это громадное чувство, с которым не мог справиться.
Взволнованный, взметенный вихрем любовных переживаний, после первых свиданий с Марией он влетал к нам в гостиницу этаким праздничным весенним морским ветром и восторженно повторял: „Вот это девушка, вот это девушка“.
Или вдруг, обвеянный мрачными предчувствиями возможной неудачи, он нервно, задумчиво шагал по комнате, чтобы вскоре же сказать:
И мы действительно в эти дни не могли узнать прежнего беспечного Володю, который теперь рвал и метал, бегал по комнате из угла в угол, как лев в клетке, и вопрошающе твердил: „Что делать? Как быть?“
Бурлюк, в лорнет наблюдая за влюбленным другом, развалившись на диване, тихонько и нежно подсказывал:
– Напрасно страдаете. Ничего не выйдет. Из первой любви никогда ничего не выходит.
Маяковский рычал:
– У всех ничего не выходит, а у меня выйдет. Бурлюк стоял на своем:
– Напрасно страдаете, Владим Владимыч.
И вот с глыбой-Маяковским началась тропическая малярия любви. <…> Маяковский потерял покой. Первая праздничность встреч сменилась острой болью тревоги.
И мы это видели. И посоветовали Маяковскому ускорить объяснение с Марией Александровной, так как выступления наши в Одессе кончились и нам надо было торопиться в Кишинев.
Развязка пришла.
Ошеломленный Маяковский в этот же вечер решительно заявил: „едем“, и курьерским поездом мы помчались в Кишинев. <…> Через несколько дней, направляясь из Кишинева в Николаев, а потом в Киев, Маяковский, сидя в купе и поглядывая в окно, напевал:
Было в Одессе…» (ЮМ. С. 43–46). Химеры – скульптурные изображения чудовищ в средневековом искусстве, в частности на Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), памятнике ранней готики. Лондон Джек (наст, имя Джон Гриффит) (1876–1916) – американский писатель. Джиоконда («Портрет Моны Лизы») – картина Леонардо да Винчи; в 1911 г. была украдена из Лувра. ПОГИБЛА ПОМПЕЯ / КОГДА РАЗДРАЗНИЛ ИВЕЗУВИЙ. Античный город Помпеи в 79 г. н. э. был засыпан пеплом при извержении вулкана Везувий. Люда и Оля – сестры В. Маяковского Людмила Владимировна (1884–1976) и Ольга Владимировна (1890–1949). Клирос (греч. klerosl– возвышение по обеим сторонам алтаря, предназначенное для певчих во время богослужения. Лузитания – английский пассажирский пароход, сгоревший в результате торпедирования его в мае 1915 г. германской подводной лодкой. Вавилонская башня – сооружение, которое, согласно ветхозаветному преданию, возводилось в Сеннаарской долине; Бог, разгневанный дерзостью людей, решивших построить башню до небес, «смешал их языки», в результате чего люди перестали понимать друг друга, что привело к так называемому «вавилонскому столпотворению» (Быт.; И, 4–9). Круппы – владельцы названного их фамилией (Krupp) одного из крупнейших металлургических и военно-промышленных концернов Германии. Лепрозорий (от лат. leprosus – прокаженный) – лечебное учреждение для больных лепрой (проказой). Дредноут – (от англ. dreadnought – неустрашимый) – тип броненосца. ПЕЙТЕ КАКАО ВАНГУТЕНА! Имеется в виду реальный факт, когда приговоренный к смертной казни согласился за вознаграждение семье крикнуть эту фразу. Бисмарк Отто фон Шёнхаузен (1815–1898) – первый рейсхканцлер германской империи в 1871–1890 гг. Галифе Гастон (1830–1909) – французский генерал, возглавлявший подавление Парижской Коммуны в 1871 г. Мамай (?-1380) – фактический правитель Золотой Орды, организатор походов на русские земли; на самом деле свою победу при битве на Калке (1223 г.) праздновали, сидя на досках, положенных на тела пленных, полководцы Чингисхана. Азеф Евно Фишелевич (1869–1918) – один из руководителей партии эсеров, провокатор. Пресня – район Москвы. Тиана – персонаж одноименного ст-ния И. Северянина (см. № 204). Иродиада – жена Ирода Филиппа 1, а потом Ирода Антипы. правителя Галилеи и Переи. ОПЛЯШЕТ ИРОДИАДОЮ. Плясала не Иродиада, а ее дочь Саломея, которая за свой танец на празднике по случаю дня рождения царя потребовала голову Иоанна Крестителя (Предтечи), предрекшего пришествие Иисуса Христа и крестившего Его (Мк.; 6, 17–29).
То заорет: „го-го-го! – ту! ту!! ту!!!“ Вот и нашли – залились на следу.
(Крученых привел еще один пример из поэзии Некрасова, но, к сожалению, я не помню, какой).
Это есть в поэзии негров и в народной поэзии. Часто в детских считалках.
– Да, и у Гильена: „Майомбэ-бомбэ-майомбэ! сенсемайя, змея…“ – добавил я. – Или у детей: „Эники-беники…“
– Пусть попробуют перевести или объяснить“, – закончил Алексей Елисеевич» (Минувшее: Исторический альманах. 12. СПб., 1993. С. 383–384).
При таких условиях понятно, что поэты отрицают сладкозвучие классической поэзии, бранятся словами: „ваш Пушкин“. Они грубы, но откровенны и по-своему „искренни“» (Редько. С. 114). «В будетлянском муравейнике, – писал позже Б. Лившиц, – хозяйственно организованном Давидом Бурлюком, всякая вещь имела определенное назначение. Красовавшаяся перед вратами в становище речет-ворцев навозная куча, на вершине которой, вдыхая запах псины, нежился автор „дыр-бул-щела“, высилась неспроста. Это было первое испытание для всех, кого привлекали шум и гам, доносившиеся из нашего лагеря. Кто только не спотыкался об эту кучу, заграждавшую подступ к хлебниковским грезогам и лебедивам!» (Лившиц. С. 441). «Свиньи, рвота, навоз, ослы – такова его жестокая эстетика». – писал о Крученых К. Чуковский (Шиповник. С. 115). Мясопуст – день, в который, согласно церковному уставу, запрещается принимать мясную пищу.
«обликмен, ликомен. ликарь = актер
особы = действующие липа
людияк = труппа
застенчий = суфлер
деймо, сно, зно = действие, акт
деюга = драма
и т. п.» (СКТ. С. 13). Позже Крученых вспоминал: «Одно дело – писать книги, другое – читать доклады и доводить до ушей публики стихи, а совсем иное – создать театральное зрелище, мятеж красок и звуков, „будетлянский зерцог“, где разгораются страсти и зритель сам готов лезть в драку!
Показать новое зрелище – об этом мечтали я и мои товарищи. И мне представлялась большая сцена в свете прожекторов (не впервые ли?), действующие лица в защитных масках и напружиненных костюмах – машинообразные люди. Движение, звук– все должно было идти по новому руслу, дерзко отбиваясь от кисло-сладенького трафарета, который тогда пожирал все.
Общество „Союз молодежи“, видя засилье театральных старичков и учитывая необычайный эффект наших вечеров, решило поставить дело на широкую ногу, показать миру „первый футуристический театр“. Летом 1913 г. мне и Маяковскому были заказаны пьесы. Надо было их сдать к осени. <…> У меня от спешки <…> получились некоторые недоразумения. В цензуру был послан только текст оперы (музыка тогда не подвергалась предварительной цензуре), и потому на афише пришлось написать:
ПОБЕДА НАД СОЛНЦЕМ
Опера А. Крученых
М. Матюшин, написавший к ней музыку, ходил и все недовольно фыркал:
– Ишь ты, подумаешь, композитор тоже – оперу написал!
Художник Малевич много работал над костюмами и декорациями к моей опере. Хотя в ней и значилась по афише одна женская роль, но, в процессе режиссерской работы, и она была выброшена. Это, кажется, единственная опера в мире, где нет ни одной женской роли! Все делалось с целью подготовить мужественную эпоху, на смену женоподобным Аполлонам и замызганным Афродитам. <…> И вот, в атмосфере, уже подготовленной <…> прессой, вслед за спектаклем Маяковского, 3 и 5 декабря шла моя опера.
Сцена была „оформлена“ так, как я ожидал и хотел. Ослепительный свет прожекторов. Декорации Малевича состояли из больших плоскостей – треугольники, круги, части машин. Действующие лица – в масках, напоминавших современные противогазы. „Ликари“ (актеры) напоминали движущиеся машины. Костюмы по рисункам Малевича же, были построены кубистически: картон и проволока. Это меняло анатомию человека – артисты двигались, скрепленные и направляемые ритмом художника и режиссера.
В пьесе особенно поразили слушателей песни Испуганного (на легких звуках) и Авиатора (из одних согласных) – цели опытные актеры. Публика требовала повторения, но актеры сробели и не вышли.
Хор похоронщиков, построенный на неожиданных срывах и диссонансах, шел под сплошной, могучий рев публики. Это был момент наибольшего „скандала“ на наших спектаклях!
В „Победе“ я исполнял „пролог“, написанный для оперы В. Хлебниковым.
Основная тема пьесы – защита техники, в частности – авиации. Победа техники над космическими силами и над биологизмом.
Эти и подобные строчки страшным басом ревели Будетлянские силачи. <…> Впечатление от оперы было настолько ошеломляющим, что когда после „Победы“ начали вызывать автора, главный администратор Фокин, воспользовавшись всеобщей суматохой, заявил публике из ложи:
– Его увезли в сумасшедший дом!
Все же я протискался сквозь кулисы, закивал и раскланялся. Тот же Фокин и его „опричники“ шептали мне:
– Не выходите! Это провокация, публика устроит вам гадость! Но я не послушался, гадости не было. Впереди рукоплещущих я увидал Илью Зданевича, художника Ле-Дантю и студенческую молодежь, – в ее среде были наши горячие поклонники» (Крученых. С. 63–64, 71–72). «В „Победе над солнцем“ мы указывали на выдохшийся эстетизм искусства», – писал Матюшин (КИРА. С. 150). Он же вспоминал о работе над постановкой: «Я объяснил (актерам. – Сост.), что опера имеет глубокое внутреннее содержание, что Нерон и Калигула в одном лице – фигура вечного эстета, не видящего „живое“, а ищущего везде „красивое“ (искусство для искусства), что путешественник по всем векам – это смелый искатель, поэт, художник-прозорливец, и что вся „Победа над солнцем“ есть победа над старым романтизмом, над привычным понятием о солнце как „красоте“. <…> Репетиций было всего две, наспех, кое-как.
Малевич написал великолепные декорации, изображающие сложные машины» (Там же. С. 152). Постановка оперы вызвала многочисленные отклики в прессе, в основном резко отрицательные. Например, обозреватель газеты «Свет» писал: «На сцене разгуливали какие-то чучела в костюмах, похожих на одежду средневековых палачей, и говорили разные нелепости, явно рассчитанные на скандал… <…> Почти после каждой реплики в публике раздавалось какое-нибудь остроумное словечко, и скоро в театре сделалось, вместо одного, два представления: одно на сцене, другое – в публике.
Редкую „музыку“ заменил свист, кстати сказать, очень гармонировавший с сумасшедшими декорациями и тем бредом, который раздавался со сцены. <…> „Победа над солнцем“ кончилась полным поражением футуристов-актеров.
Шиканье и свист превратились в целую бурю» (Опера футуристов // Свет. 1913, 5 декабря. С. 2). О восприятии публикой спектакля писала в «Русских ведомостях» Л. Гуревич: «В том, что они (действующие лица оперы. – Сост.) говорили, минутами можно было уловить какие-то мысли, – о железном веке, о бессилии сильных, о слабости насильников; какие-то фантазии и мечты, – о том, что солнце железного века будет разбито, мы освободимся от закона тяготения и, странно, невыносимо для многих будет это чувство освобождения от связующего мир закона…
И публика минутами, – только минутами, – затихала, словно стараясь пробиться сквозь бред несвязных слов и образов к самому существу „будетлянских душ“, уловить смысл их буйно-анархических фантазий, заглянуть в тайну их человеческого разума, который сумел только громче, чем когда-либо, провозгласить уже далеко не новую, атеистическую догму „Все позволено!“, и вслед затем бессильно закрутился в вихре отрывочных впечатлений, беспокойных, оборванных мыслей, буйных, разрушительных стремлений. <…> Идет какая-то взаимная провокация. Свистки, грубые остроты и издевательские возгласы раздаются с галереи и из партера. В антракте – шумный скандал; требуют городового. С каким-то сладострастием отдаются беснованию, и чувствуется, что для него только, для этого скандала и беснования, многие пришли в театр.
А по окончании пьесы без конца вызывают автора. Все стоят, ждут его: нарядные дамы и величавые старухи в ложах, военные, интеллигенты. Молодые девушки с раскрасневшимися лицами восторженно аплодируют. Неистовствуют студенты. Но громче всех кричат те, которые скандалили во время представления: если автор выйдет, они будут свистеть. Но на этот раз автор, – он же и режиссер пьесы, – не вышел» (Гуревич Л. Театр футуристов // Русские ведомости. 1913, 13 декабря. С. 6). О реакции зрителей писал и М. Матюшин: «В день спектакля оперы, был такой громадный подъем сочувствия и интереса в одной половине публики и такое отчаянно выраженное отвращение в другой, – что за всю мою жизнь в Петербурге, я ни на одной премьере не слыхал и не видал такого возмущения сторон и такого циклопического скандала: Благой мат с одной стороны, – „Вон, – долой футуристов!“ – с другой – „Браво! не мешайте, долой скандалистов!“ Но даже и такой шум и скандал – не мог уничтожить сильного впечатления от оперы. Так сильны были слова своей внутренней силой – так властно и мощно-грозно выявлялись декорации и будетлянские люди, еще никогда нигде невиданные, так нежно и упруго обвивалась музыка вокруг слов, картин и будетлянских людей-силачей, победивших солнце дешевых видимостей и зажегших свой свет, внутри себя.
В этом было столько волшебно неожиданного, что непонятно странным казался этот громадный скандал в зрительном зале… Хотелось крикнуть: Слушайте, радуйтесь явившемуся долгожданному, оно родилось и все равно, как Геркулес уже в люльке задавило вас, возмутившихся против него» (Матюшин М. Футуризм в Петербурге // ПЖРФ. С. 156–157). Театральный деятель А. Мгебров вспоминал о своих впечатлениях от спектакля: «Теперь висел в воздухе настоящий скандал. Занавес взвился и зритель очутился перед вторым из белого коленкора, на котором тремя разнообразными иероглифами изображался сам автор, композитор и художник. Раздался первый аккорд музыки, и второй занавес открылся надвое. Появился глашатай и трубадур – или я не знаю кто – с кровавыми руками, с большим папирусом. Он стал читать пролог. „Довольно!“ – кричала публика. „Скучно… уходите!“
Пролог кончился. Раздались странно воинственные окрики, и следующий занавес снова разодрался надвое. Публика захохотала. Но со сцены зазвучал эффектный и красивый вызов. С высоты спустился картон, который был весь проникнут воинственными красками; на нем, как живые, были нарисованы две воинственные фигуры: два рыцаря. Все это – в кроваво-красном цвете. Вызов был брошен. Теперь началось действие. Самые разнообразные маски приходили и уходили. Менялись задники и менялись настроения. Звучали рожки, гремели выстрелы. Среди действующих картонных и коленкоровых фигур я различил петуха в символическом петушином костюме…
Тут уже окончательно никто ничего не понял; но недоумения было много. Были споры, крики, возбуждение. Вызов был брошен, борьба началась. Кто же с кем? – Неведомо. Где и зачем? – Скажет будущее. Быть может, на смену нынешним футуристам придут иные, более талантливые, более яркие и сильные. Будут ли это футуристы или другие. – не все ли равно… Но эти, наши, теперешние, все же что-то почувствовали; они были более чутки, чем мы; они не постыдились, не убоялись бросить себя на растерзание грубой, дикой, варварской толпе, во имя овладевшего ими творчества. Вот их заслуга, вот их ценность в настоящем» (Мгебров. С. 282–283). Б. Лившиц, считавший самой сильной стороной спектакля сценографическую работу К. Малевича, писал: «…Светящийся фокус „Победы над Солнцем“ вспыхнул совсем в неожиданном месте, в стороне от ее музыкального текста и, разумеется, в астрономическом удалении от либретто.
Как только после хлебниковского пролога („Чернотворские вестучки“), награжденного несмолкаемым хохотом зала, белый коленкоровый занавес разорвали пополам два человека в треуголках, внимание публики сразу было поглощено зрелищем, представшим ей со сцены. <…> То, что сделал К. С. Малевич в „Победе над Солнцем“, не могло не поразить зрителей, переставших ощущать себя слушателями с той минуты, как перед ними разверзлась черная пучина „созерцога“.
Из первозданной ночи щупальцы прожекторов выхватывали по частям то один, то другой предмет и, насыщая его цветом, сообщали ему жизнь. С „феерическими эффектами“, практиковавшимися на тогдашних сценах, это было никак не сравнимо. Новизна и своеобразие приема Малевича заключались прежде всего в использовании света как начала, творящего форму, узаконяющего бытие вещи в пространстве. Принципы, утвердившиеся в живописи еще со времени импрессионизма, впервые переносились в сферу трех измерений. Но импрессионизмом работа Малевича и не пахла. Если с чем и соседила она, то, пожалуй, со скульптурным динамизмом Боччони.
В пределах сценической коробки впервые рождалась живописная стереометрия, устанавливалась строгая система объемов, сводившая до минимума элементы случайности, навязываемой ей извне движениями человеческих фигур. Самые эти фигуры кромсались лезвиями фаров, попеременно лишались рук, ног, головы, ибо для Малевича они были лишь геометрическими телами, подлежавшими не только разложению на составные части, но и совершенному растворению в живописном пространстве.
Единственной реальностью была абстрактная форма, поглощавшая в себе без остатка всю люциферическую суету мира. Вместо квадрата, вместо круга, к которым Малевич уже тогда пытался свести свою живопись, он получил возможность оперировать их объемными коррелятами, кубом и шаром, и, дорвавшись до них, с беспощадностью Савонаролы принялся истреблять все, что ложилось мимо намеченных им осей.
Это была живописная заумь, предварявшая исступленную беспредметность супрематизма, но как разительно отличалась она от той зауми, которую декламировали и пели люди в треуголках и панцирях! Здесь-высокая организованность материала, напряжение, воля, ничего случайного, там – хаос, расхлябанность, произвол, эпилептические судороги…» (Лившиц. С. 448–450). В 1921 г. К. Малевич осуществил постановку оперы в Витебске (декорации и костюмы В. Ермолаевой). В 1920–1921 гг. над проектом электромеханического представления «Победа над Солнцем» работал художник Эль Лисицкий. В предисловии к альбому эскизов, изданному в Ганновере в 1923 г., он так определял идею оперы: «Солнце как выразитель старой Всемирной энергии изгоняется с неба современными людьми, ибо сила их технического господства изобретает новый источник энергии» (цит. по: Эль Лисицкий. 1890–1941. К выставке в залах Государственной Третьяковской галереи. М., 1991. С. 79). Нерон (37–68) – римский император с 54 г., Калигула (12–41) – римский император с 37 г.; оба из династии Юлиев-Клавдиев. Порт-Артур (ныне – Люйшунь) – бывшая русская военно-морская крепость в Китае, во время русско-японской войны 1904–1905 гг., после героической обороны, была сдана противнику. Разбитое солнце… Здравствует тьма! Ср. в ст-нии А. С. Пушкина «Вакхическая песня»: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!». мир погибнет а нам нет / конца! Ср. концовку ст-ния Крученых «мир гибнет…» (№ 79).
Правда, г. Крученых оговаривается, что его „гвоздь в голову“ относится к ощущениям „на Удельной“, т. е. в больнице для психически больных» (Ожигов. С. 168). М. Левидов отзывался о ст-нии следующим образом: «Неистово мрачный А. Крученых озаглавил свой opus: „На Удельной“, – что-то вроде опыта юмористической исповеди сумасшедшего. Стихотворение цельно, выдержанно, но навряд ли талантливо: образы скудны, слова бесцветны <…>. Как видно, футуризм, насколько он выражался в знаменитом „Дыр… Бул… Щур…“ для Крученых уже пройденный этап» (Левидов. С. 11). Удельная – железнодорожная станция в пригороде Санкт-Петербурга, возле которой находился Дом призрения душевнобольных, ныне – психиатрическая больница им. И. И. Скворцова-Степанова.
Это (ст-ние. – Сост.) напечатано в первом же футуристическом сборнике, в знаменитом Садке Судей, и, не правда ли, это – коренное, родное, решительно ни у кого не заимствованное!» (Чуковский 1914. С. 133).
1. Стрелец – ДБ, с посв. В. Хлебникову – ИС, с вар, под загл. «Сарынь на кичку!» Позже Каменский утверждал, что ст-ние было написано еще в 1909–1910 гг., и уже тогда он, «раскаленный молодежью», публично читал его «с огнем в зубах» (Каменский. С. 446). М. Левидов писал о ст-нии: «Вольным волжским простором веет от этой песни, делами давно минувших дней, романтическими страстями 30-х годов, словом это великолепное по подбору сильных, лаконических слов, по выдержанности ритма стихотворение футуриста В. Каменского, автора „железобетонной поэмы“, – скорее из пассе изма, нежели футуризма. Ибо футуризма формы, в смысле ли новых словообразований или особого ритма, а также футуризма содержания тут и помина нет. Ведь помимо всего, стихотворение это написано терцинами – одним из простейших и в то же время классичиейших ритмов русской поэзии» (Левидов. С. 10). «Вввва, – писал А. Бухов, – это звучит пророчески…» (Бухов. С. 15). Сарынь на кичку! – клич волжских разбойников, захвативших судно. Сарынь– толпа людей низкого сословия. Кичка – нос судна. В. Каменский вспоминал: «…Публика горячо аплодировала мне всюду, где я произносил:
Однако никто не знал значения этих слов, и никто не спрашивал о смысле, но здоровый инстинкт в данном случае приветствовал заумные слова, созданные понизовой вольницей Разина» (Каменский. С. 486–487).
Я предлагал мастерам, засучив рукава, взяться за роспись всех пустых заборов, крыш, фасадов, стен, тротуаров.
Убежден был в том, что любой город и селенье каждое возможно превратить в изумительную картину красочного торжества, чтобы таким способом украсить, возвеселить улицы новой жизни и тем самым приблизить массы к достижениям художественного мастерства, которое до сих пор тихо хоронилось в музеях, как на кладбищах.
А все эти музеи и выставки очень утомительны от чрезмерного скопленья картин, и туда надо ходить специально в известные часы, будто во храм божий, а тут вышел на улицу – и шагай, и любуйся во все сочные глаза.
Впрочем, музеи и выставки – сами собой, а улицы, наряженные в роспись, оформленные художественно до учета строгой дисциплины, – совсем иное.
Сюда же, разумеется, должны относиться новшества архитектуры. <…> Книги со стихами читают избранные, слово поэтов доходит до массы в жалком количестве, и книгу надо найти, выбрать, заплатить деньги (в библиотеках по одному экземпляру), а тут – на особых уличных щитах постоянно расклеиваются стихи поэтов.
И не в одних стихах суть, но и в коротких рассказах, в статьях, в цитатах из отдельных произведений, в научных сведениях.
Я даже представлял, что на фронтонах домов будут выделаны отдельные цитаты поэтов, как выкованные мысли.
О, непромокаемый энтузиаст, я вообще представлял очень многое в направлении моего декрета.
Мне даже пришлось быть свидетелем частичного осуществления предложений.
На другой день после обнародования моего декрета я шел по Кузнецкому и на углу Неглинной увидел колоссальную толпу и скопление остановившихся трамваев.
Что такое?
Оказалось:
Давид Бурлюк, стоя на громадной пожарной лестнице, приставленной к полукруглому углу дома, прибивал несколько своих картин.
Ему помогала сама толпа, высказывая поощрительные восторги.
Когда я, тронутый вниманием, пробился к другу, стоявшему на лестнице с молотком, гвоздями, картинами и с „риском для жизни“, и крикнул:
Бурлюк мне сердито ответил:
– Не мешайте работать!
Прибитие картин кончилось взрывом аплодисментов толпы по адресу художника.
Тут же к нам подошли люди и сообщили, что сейчас на Пречистенке кто-то вывесил на стенах громадные плакаты с нашими стихами» (Каменский. С. 523–524). А. Крученых охарактеризовал ст-ние как «неслыханный для буржуазного, кабинетно-эстетствующего искусства призыв» (Крученых. С. 99).
В левом верхнем углу картины – коричневый комод с выдвинутым ящиком, в котором роется склоненная женская фигура. Правее – желтый четырехугольник распахнутой двери, ведущей в освещенную лампой комнату. В левом нижнем углу – ночное окно, за которым метет буран. Таковы элементы „Тепла“, какими их мог увидеть всякий, став на пороге спальни Людмилы Иосифовны (матери Бурлюков. – Сост.).
Все это надо было „сдвинуть“ метафорой, гиперболой, эпитетом, не нарушив, однако, основных отношений между элементами. Образ анекдотического армянина, красящего селедку в зеленый цвет, „чтобы не узнали“, был для меня в ту пору грозным предостережением. Как „сдвинуть“ картину, не принизив ее до уровня ребуса, не делая из нее шарады, разгадываемой по частям?
Нетрудно было представить себе комод бушменом, во вспоротом животе которого копается медлительный палач – перебирающая что-то в ящике экономка, – „аберрация первой степени“, по моей тогдашней терминологии. Нетрудно было, остановив вращающийся за окном диск снежного вихря, разложить его на семь цветов радуги и превратить в павлиний хвост – „аберрация второй степени“. Гораздо труднее было, раздвигая полюсы в противоположные стороны, увеличивая расстояние между элементами тепла и холода (желтым прямоугольником двери и черно-синим окном), не разомкнуть цепи, не уничтожить контакта.
Необходимо было игру центробежных сил умерить игрою сил центростремительных; вводя, скажем, в окне образ ночного кургана с черепом, уравновешивать его в прямоугольнике двери образом колыбели с задранной кверху пяткой ребенка и таким способом удерживать целое в рамках намеченной композиции. Иными словами: создавая вторую семантическую систему, я стремился во что бы то ни стало сделать ее коррелятом первой, взятой в качестве основы. Так лавировал я между Сциллой армянского анекдота и Харибдой маллармистской символики.
Эта задача до такой степени поглощала все мое внимание, что об остальных элементах стихотворной речи я совершенно забыл: слово, подойдя вплотную к живописи, перестало для меня звучать» (Лившиц. С. 338–339). Бушмен (голл. bosjesman) – представитель коренного населения Южной и Восточной Африки.
Спать не хотелось. Мир был разворошен и все еще принадлежал мне. Моей на заиндевевшем стекле была подвижная паукообразная тень четверорукого фонаря за окном, отброшенная с перрона освещенным вагоном; моими были блеклые бумажные розы на молочно-белой, залитой пивом, клеенке буфетной стойки; моим был спящий винодел в распахнувшейся хорьковой шубе с хвостами, вздрагивающими при каждом вдохе и выдохе; моим был швейцар в тупоносых суворовских сапогах, переминавшийся в дверях и с вожделением посматривавший на бутерброды под сетчатым колпаком. Все это в тускло-янтарном свете засиженных мухами угольных лампочек, в ржавом громыхании железнодорожной ночи подступало ко мне, и я это брал голыми руками.
Нет, даже не подступало, и я ничего не брал. Это было мной, и надо было просто записать все.
Так, сам собой, возник „Ночной вокзал“» (Лившиц. С. 318–319). В. Каменский писал, что в этом ст-нии автор «ассоциирует мрак бытия с „Ночным вокзалом“» (Каменский. С. 488). Мизерикордия (от лат. misericordia – милосердие) – тонкий кинжал у средневековых рыцарей, которым они убивали смертельно раненных.
Словом, книжка меня порадовала отсутствием торгашеского начала» (Хлебников НП. С. 378). Сюжет о любви и гибели княгини и ее ключника был распространен в русском песенном фольклоре. Согласно этому сюжету, Ванька-ключник был казнен по приказу князя, княгиня же умерла от горя (см., например: Собрание народных песен П. В. Киреевского. Л., 1983. Т. 1. С. 83, 119, 144 и др.).
177. Явой под деревом знанья… Согласно библейскому сказанию, первые люди – Адам и Ева – были изгнаны из рая за то, что вкусили запретный плод с древа познания добра и зла. Икс-лучи – рентгеновские лучи. Единорог– мифическое животное с телом быка, лошади или козла и длинным прямым рогом на лбу. Командор – персонаж трагедии А. С. Пушкина «Каменный гость». Микола Можайский – Никольский собор (нач. XIX в.) в городе Можайске Московской области. Ченстоховская Богородица – икона «Ченстоховская богоматерь» (XIV в.), находящаяся в костеле монастыря паули-нов в польском городе Ченстохове. Баварский король. Земля Бавария была королевством с 1806-го по 1918 г. Сеяли под бороны медные зубню драконскую… В греческой мифологии посеянные зубы дракона прорастают воинами, которые побивают друг друга. Ивангород – город в тогдашней Люблинской губернии.
178. Сирин – в средневековой мифологии райская птица. Георгий Победоносец – в христианских и мусульманских преданиях воин-мученик.
он в самом кадансе стиха почувствовал бы ленивое баюкание эластичных резиновых шин» (Чуковский 1914. С. 96).
– Дальше нас идти нельзя! – говорили Они. А оказалось льзя.
В последней поэме этой книги Василиск Гнедов Ничем говорит целое Что.
Ему доводилось оголосивать неоднократно все свои поэмы. Последнюю же он читал ритмо-движением. Рука чертила линии: направо слева и наоборот (второю уничтожалась первая, как плюс и минус результатят минус). „Поэма Конца“ и есть „Поэма Ничего“, нуль, как изображается графически. <…>
– Смерть Искусству!..
Тон Автора? Угроза? Нет. Ужас? Вряд ли. Возможно. – Радость? Да. При констатировании конца медлительного кризиса Радость творит Поэму. В Конце Ничто, но сей конец есть предначалие Начала Радости, как Радость Созидателя – Поэта Будущего, Поэта Эгофутуриста, коим я и считаю Василиска Гнедова» (Смерть искусству. С. 2). Обозреватель газеты «Речь» писал: «Доставленный мне „для отзыва“ последний образчик футуристического творчества озаглавлен: „Смерть искусству“ (это напомнило мне объявления о снадобьях: „Смерть мухам, тараканам“ и проч.), и содержит пятнадцать (чтобы не было ошибки, в скобках число означено цифрами – 15) поэм Василиска Гнедова. <…> Поэмы написаны на неизвестном языке, который по звуковому содержанию будет, вероятно, отнесен исследователями к славянской ветви языков.
Есть, впрочем, одна поэма из пятнадцати – на русском языке: это – последняя, пятнадцатая, состоящая из двух слов: „Поэма конца“. Я думаю, что даже г. Брюсов, который написал некогда знаменитое, лирическое стихотворение: „О, закрой свои бледные ноги!“ – найдет, что вдохновение Василиска Гнедова несколько скудно, особенно для эпической поэзии» (Левин Д. Наброски // Речь. 1913, 11 апреля. С. 2). О связи экспериментов Гнедова с моностихом Брюсова писал и А. Шемшурин: «Эти стихотворения называются „поэмами“. Сочинить их через 19 лет после брюсовской строчки, не упоминая о всем памятном еще происшествии на русском Парнасе, – просто неблагодарно. Этою неблагодарностью уничтожается даже вся эволюция „поэм“, они, как известно, постепенно теряют количество слов: есть „поэмы“ в одно слово, как, например: „Издеват.“, есть „поэмы“ в одну букву, напр., „Ю.“, есть „поэма“ даже без букв. Повторяю, что зависимость подобного рода произведений от г. Брюсова для меня вне сомнений» (Шемшурин. С. 21). Сам же Брюсов упоминал об «одном из „крайних“», который «весьма последовательно уже объявил „смерть искусству“ и свою последнюю поэму „читал ритмо-движением“, т. е. движением руки, безо всяких слов» (Брюсов. С. 435). Иронически отозвался о книге К. Чуковский: «Но к чему же сочинять стихи, ежели я – Эго-Бог? И к чему вообще слова, если я во всем мире один? – рассуждает эго футурист Василиск Гнедов. – Слова нужны лишь „коллективцам“, „общежителям“. И он создает знаменитую поэму без слов: белый, как снег, лист бумаги, на котором ничего не написано» (Шиповник. С. 108). «Чтение» самим Гнедовым его «Поэмы конца» нашло отражение в воспоминаниях очевидцев. Так, В. Пяст писал, что оно состояло «только из одного жеста руки, быстро поднимаемой перед волосами, и резко опускаемой вниз, а затем вправо вбок» (Пяст В. Встречи. М., 1929. С. 263). Другой вариант «чтения» поэмы описывал обозреватель газеты «Свет»: «Подбоченившись, автор-чтец принял воинственную позу.
Затем, став на носок левой ноги и откинув левую руку назад, он правой рукой сделал молча какой-то жест вверх и сошел с эстрады.
Публика смеялась, а автор утверждал, что это самая гениальная поэма» (Футуристы // Свет. 1913, 3 ноября. С. 2). Г. Адамович вспоминал: «На литературных вечерах ему кричали: „Гнедов, поэму конца!.. Василиск, Василиск!“ Он выходил мрачный, с каменным лицом, „именно под Хлебникова“, долго молчал, потом медленно поднимал тяжелый кулак – и вполголоса говорил: „все!“» (Адамович Г. Невозможность поэзии // Опыты. 1958. № 9. С. 50). Из воспоминаний В. Шкловского: «Был еще в полотняной куртке Василиск Гнедов, написавший собрание сочинений страницы в четыре. Там была поэма „Буба-буба“.
На этом она и кончалась.
Была у него еще поэма конца, – она состояла из жеста рукой крест-накрест.
Стихи Гнедова – стихи талантливого человека» (Шкловский В. Случай на производстве // Стройка. 1931. № 11. С. 6). Упоминал в своих мемуарах «Поэму конца» и В. Шершеневич: «Наиболее „левым“ (среди эгофутуристов. – Сост.) был некий молодой человек Василиск Гнедов, которому не давали спать лавры Крученых. Ему показалось недостаточным все словотворчество Крученых, и Гнедов в своей книжке, на последней странице, под названием „Поэма конца“ оставил чистый лист, утверждая, что чистая бумага более выразительна, чем любые слова. После этого трюка Гнедов ждал славы. Слава не пришла. Гнедов зачах» (Шершеневич. С. 495). П. Флоренский писал о концептуальной закономерности появления книги Гнедова: «…Был естественен в истории футуризма и переход к „Поэме“ Василиска Гнедова, где на чистом листе написано одно только слово: „шиш“ (такой „поэмы“ у Гнедова нет; слово „шиш“ написано на последней странице книги А. Крученых „Взорваль“ – Сост.). и, далее, тоже, с позволения сказать, к „поэме“-Чистому листу, где нет ни букв, ни даже знаков. И опять: никто не смеет (– методологически отстраняю все подозрения –), никто не смеет, не залезая в совесть автора, сказать о субъективной его неискренности или об его мистификаторских наклонностях. Нет, в момент такого творчества Василиск Гнедов или А. Крученых мог быть (опять держусь методологического доверия), мог быть очень углубленно живущим и очень подлинно творящим.
Да, творил, но не сотворил. Ему лист бумаги казался, спьяну, дивной поэмой, читатель же держит в руках – лист и только лист. Такой лист может быть самым глубоким из заумных неизреченных глаголов; но их „не леть человеку глаголати“: и заумный язык нуждается в Логосе. Это подобно тому, как бесовское золото, полученное в исступлении магического заклятия, оказывается при свете дня только калом. Когда начисто сглаживается антиномичность языка, то тем самым уничтожается и самый язык» (Флоренский. С. 185–186).
Василиск Гнедов прошел путь от „начала“ до „конца“. Его знаменитая „поэма конца“ – абсолютное ничто – известная по его книге „Смерть искусству“, промежуточные поэмы и „поэма начала“ показывают его громадную, чуткую воспринимаемость и интуицию» (КВ. С. [1]). Аксамит – вид старинного плотного узорчатого бархата.
Брюсов немедленно ответил неопубликованным таким же стихотворением, в котором по двум диагоналям можно было прочесть: „Подражать Авсонию уже мастерство“, а по вертикалям: „Вадиму Шершеневичу – от Валерия Брюсова“.
К сожалению, все письма и стихи (нигде не напечатанные) Брюсова у меня пропали» (Шершеневич. С. 457). Клипер (англ. clipper) – быстроходное морское парусное судно.
„Весна“ начиналась так: „Эсмерами вердоми трувёрит весна“, следующие строки были не более понятны слушателю. Никто не думал о том, что „эсмерами“. „вердоми“ – это просто творительные падежи каких-то весенних слов, нашедших свое заключение в рефрене:
Но Большаков так изумительно мурлыкал эти строки, что стихи убеждали без филологических пояснений. В печати оно много потеряло, но оно уже было боевым кличем, вроде „дыр бул щур“ Крученых» (Шершеневич. С. 528–529).
Эти вздохи и уханье уличной жизни казались соответствующими и смысловому содержанию стихотворения» (Асеев Н. Работа над стихом. Л., 1929. С. 54–55).
379-387 – Byben. Печ. по: Бубен. В редакционном примеч. авторские знаки, встречающиеся в ст-ниях, объяснялись следующим образом: «знак || = пауза в стихе <…>; – = метрическая стопа».
Группы буквенных комбинаций, которыми передается трагедия „Янко Круль Албанской“ – есть особый шифр, являющийся богатым материалом для ряда филологических исследований» (Куранты. 1918. № 1. С. 23–24). В печатном варианте автор использует фонетическую транскрипцию текстов; кроме того, в словах выделены жирным шрифтом ударная гласная с опорной согласной; изредка встречаются другие варианты. Биржофка – газета «Биржевые ведомости», выходившая в Петербурге в 1880–1917 гг. Лешкова Ольга Ивановна (?-1942) – композитор. Брешкабришкофскай. «Прототипом» этого персонажа послужил писатель и журналист Николай Николаевич Брешко-Брешковский (1874–1943), публиковавшийся во многих периодических изданиях, в том числе газете «Биржевые ведомости», и резко критиковавший деятельность русских футуристов. В. Каменский вспоминал: «Брешко-брешковские с возрастающим озлоблением издевались в своих обывательских газетах над „бурлюками“ И „сумасшедшими врачами“ (имеется в виду Н. Кульбин. – Сост.), пороли всякую несусветную чушь о новом искусстве, лишь бы гуще затмить мозги несчастных читателей, лишь бы обильнее напакостить в будущее, лишь бы этим глумленьем развлечь буржуазное петербургское общество» (Каменский. С. 441).
Тут все скользит „по окраинам души, почти в полях“» (ОР. С. 3).
Ра – бог Ра – это сам Тихон.
Мэри – это Марина Ивановна Цветаева, которая в ту пору совместной ранней их молодости очень была влюблена в Тихона. „Версты“ посвящены ему – он в стихах о разбойнике» (Лещенко-Сухомлина Т. Долгое будущее. М., 1991. С. 69). Кикапу – см. примеч. 489. Ра – см. примеч. 496.
ПОВ. Д. Бурлюк вспоминал: «Это был сезон 1912-13 годов.
В „Романовке“ был написан манифест к „Пощечине“.
В этом манифесте Вите Хлебникову принадлежат несколько строк. Манифест был написан мной, а потом В. В. Маяковский, А. Е. Крученых и В. В. Хлебников полировали его совместно…
А. М. Горького не трогали – свой (в действительности Горький в манифесте упомянут. – Сост.)» (Бурлюк. С. 48). Иную версию создания манифеста приводит в своих воспоминаниях А. Крученых: «Я помню только один случай, когда В. Хлебников, В. Маяковский, Д. Бурлюк и я писали вместе одну вещь – этот самый манифест к „Пощечине общественному вкусу“.
Москва. Декабрь 1912 г. Собрались, кажется, у Бурлюка на квартире, писали долго, спорили из-за каждой фразы, слова, буквы.
Помню, я предложил: „Выбросить Толстого, Достоевского, Пушкина“.
Маяковский добавил: „С парохода современности“. Кто-то: „Сбросить с парохода“.
Маяковский: „Сбросить – это как будто они там были, нет, надо, бросить с парохода“… Помню фразу: „Парфюмерный блуд Бальмонта“.
Исправление В. Хлебникова: „Душистый блуд Бальмонта“ не прошло.
Еще мое: „Кто не забудет своей первой любви – не узнает последней“.
Это вставлено в пику Тютчеву, который сказал о Пушкине: „Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет“.
Строчки Хлебникова: „Стоим на глыбе слова мы“.
„С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество“ (Л. Андреева, Куприна, Кузмина и пр.).
Хлебников, по выработке манифеста, заявил:
– Я не подпишу это… Надо вычеркнуть Кузмина – он нежный.
Сошлись на том, что Хлебников пока подпишет, а потом отправит письмо в редакцию о своем особом мнении. Такого письма мир, конечно, не увидел! <…> Помню, при создании „Пощечины“ Маяковский упорно сопротивлялся попыткам Велимира отяготить манифест сложными и вычурными образами, вроде: „Мы будем тащить Пушкина за обледенелые усы“. Маяковский боролся за краткость и ударность» (Крученых. С. 46–47, 52). Из воспоминаний Б. Лившица: «Главным же козырем (в ПОВ. – Сост.) был манифест. Из семи участников сборника манифест подписали лишь четверо: Давид Бурлюк, Крученых, Маяковский и Хлебников. Кандинский был в нашей группе человеком случайным, что же касается Николая Бурлюка и меня, нас обоих не было в Москве. Давид <…> не решился присоединить наши подписи заочно. И хорошо сделал.
Я и без того был недоволен тем, что мне не прислали материала в Медведь, хотя бы в корректуре, текст же манифеста был для меня совершенно неприемлем. Я спал с Пушкиным под подушкой – да я ли один? Не продолжал ли он и во сне тревожить тех, кто объявлял его непонятнее гиероглифов? – и сбрасывать его, вкупе с Достоевским и Толстым, с „парохода современности“ мне представлялось лицемерием.
Особенно возмущал меня стиль манифеста, вернее, отсутствие всякого стиля: наряду с предельно „индустриальной“ семантикой „парохода современности“ и „высоты небоскребов“ (не хватало только „нашего века пара и электричества“!) – вынырнувшие из захолустно-провинциальных глубин „зори неведомых красот“ и „зарницы новой грядущей красоты“.
Кто составлял пресловутый манифест, мне так и не удалось выпытать у Давида: знаю лишь, что Хлебников не принимал в этом участия (его, кажется, и в Москве в ту пору не было). С удивлением наткнулся я в общей мешанине на фразу о „бумажных латах брюсовского воина“, оброненную мною в ночной беседе с Маяковским и почему-то запомнившуюся ему, так как только он мог нанизать ее рядом с явно принадлежавшими ему выражениями вроде „парфюмерного блуда Бальмонта“, „грязной слизи книг, написанных бесчисленными Леонидами Андреевыми“, „сделанного из банных веников венка грошовой славы“, и уже типичным для него призывом „стоять на глыбе слова мы среди моря свиста и негодования“» (Лившиц. С. 403–404). В своих мемуарах В. Шершеневич приводит следующее свидетельство: «Однажды на рассвете я наблюдал, как Маяковский долго и пристально смотрел в лицо чугунному Пушкину, словно стараясь пытливо понять эти глаза. Маяковский меня не видел. Он простоял почти полчаса и потом пошел домой.
А в это время он писал манифест, в котором требовал, чтоб Пушкин был „выброшен за борт современности“» (Шершеневич. С. 510). «Пощечина, – вспоминал Крученых, – оказалась достаточно звонкой: перепуганная обывательская критика завопила о „хулиганах в желтых кофтах“ и т. п. А „хулиганы“ проходили мимо критики и делали русскую литературу» (15 лет. С. 8). Соллогуб – правильно: Сологуб (Тетерников Ф. К). Кузьмин – правильно: Кузмин М. А. Александр Крученых – псевдоним Алексея Крученых.
ПОВ (листовка). А. Крученых вспоминал: «Не давая опомниться публике, мы, одновременно с книгой „Пощечина общественному вкусу“, выпустили листовку под тем же названием.
Хлебников особенно ее любил и, помню, расклеивал в вегетарианской столовой (в Газетном пер.) среди всяческих толстовских объявлений, хитро улыбаясь, раскладывал на пустых столах, как меню» (Крученых. С. 47). В 1908 году вышел «Садок Судей». «Садок судей» увидел свет в 1910 г. Для кубофутуристов, в частности для Д. Бурлюка, было характерно указание более ранних дат создания произведений и выпуска в свет книг, чем это было на самом деле, с целью утверждения приоритета русского футуризма по отношению к итало-французскому и независимости от него. Кандинский Василий Васильевич (1866–1944) – живописец и график, один из основоположников и теоретиков абстрактного искусства. В ПОВ были напечатаны в переводе с немецкого четыре прозаических миниатюры Кандинского, постоянно жившего в Германии, из его книги «Klange» («Звуки») (Munich, [1912–1913]), что вызвало протест художника. Измайлов Александр Алексеевич (1873–1921) – писатель и литературный критик, резко выступавший против футуристов (см. примеч. 68). Homunculus – по представлениям средневековых алхимиков, некое существо, подобное человеку, которое можно получить искусственно; также Homunculus – псевдоним нескольких литературных критиков. Соллогуб – см. примеч. к манифесту ПОВ.
СС-2. Метцль и К° – рекламная контора «Л. и Э. Метцль и К°». Низен (Гуро) Екатерина Генриховна (1874–1972) – писательница, участница обоих «Садков судей», сестра Е. Гуро.
Печ. по: Хлебников СП. Т. V. Приезд Ф. Т. Маринетти в Россию в январе 1914 г. вызвал неоднозначную реакцию среди русских футуристов. Наиболее непримиримую позицию по отношению к родоначальнику итальянского футуризма заняли М. Ларионов, В. Хлебников и Б. Лившиц. Последний вспоминал: «Не сговариваясь друг с другом (с Хлебниковым. – Сост.), мы пришли к убеждению, что Маринетти смотрит на свое путешествие в Россию как на посещение главою организации одного из ее филиалов.
Этому следовало дать решительный отпор: мы не только не считали себя ответвлением западного футуризма, но и не без оснований полагали, что во многом опередили наших итальянских собратьев.
В самом деле, ознакомившись с дюжиной манифестов, присланных Маринетти еще из Милана, мы не нашли ничего нового для себя, особенно в тех трех, которые касались непосредственно литературы. Большинство положений, выдвинутых итальянскими футуристами, были для нас либо уже пройденным этапом, либо половинчатым решением стоявших перед всеми нами задач.
Эти задачи, разумеется, не выходили за пределы „технологии“ искусства, ибо „философские“ предпосылки итальянского футуризма представляли для нас только теоретический интерес: слишком различны были причины, вызвавшие одноименное течение в двух странах, чтобы можно было говорить без натяжки о какой-то общей программе.
Приезд Маринетти и порожденные этим событием толки укрепили меня в моем давнишнем намерении выступить перед широкой аудиторией с лекцией на тему о взаимоотношении русского и итальянского футуризма. Покамест же я считал необходимым выпустить хотя бы манифест, которым будетляне отмежевались бы от группы Маринетти.
Такого же мнения придерживался и Хлебников. Все остальные (присутствовавшие на „совещании“ у Н. Кульбина накануне прибытия Маринетти из Москвы в Петербург. – Сост.) – Николай Бурлюк, Матюшин, Лурье – согласились с Кульбиным, доказывавшим с пеной у рта несвоевременность подобной декларации, в которой „наш дорогой гость“ несомненно усмотрит для себя обиду. Кульбин даже сыграл на местном патриотизме присутствующих, напирая на то, что петербуржцы – не москвичи и что нам надо исправить ошибки наших московских товарищей, проявив себя настоящими европейцами.
В азиатах остались мы вдвоем: Хлебников и я.
На следующее утро он ни свет ни заря пришел ко мне, и мы в четверть часа составили воззвание, которое он немедленно повез в типографию, чтобы к вечеру иметь возможность распространять его на лекции Маринетти.
Зал Калашниковской биржи был уже полон, а Хлебников, с которым мы условились встретиться за полчаса до начала лекции, все не приходил. Кульбин откуда-то узнал о нашем манифесте и так же, как и я, не сводил глаз с дверей.
Наконец, в последнюю минуту, когда на кафедре уже появился Маринетти, в зал ворвался бледный, запыхавшийся Хлебников, прижимая к груди кипу воззваний. Ткнув мне половину, он принялся быстро обходить ряды, раздавая листовку направо и налево. Уже в типографии он внес в текст некоторые поправки, смягчив выражения, показавшиеся ему слишком резкими. <…> Не успел я распространить и десяток экземпляров, как ко мне подскочил Кульбин. С проворством, неожиданным в пожилом человеке, он выхватил у меня из рук всю пачку и, яростно разрывая на части свою добычу, кинулся догонять Хлебникова, орудовавшего уже в задних рядах. В первый раз в жизни я видел Кульбина остервенелым: он не помнил себя и одним своим взором, казалось, был способен испепелить меня и Хлебникова» (Лившиц. С. 473–475). В результате конфликта, по сообщениям газет, Хлебников вызвал Кульбина на дуэль. Тогда же (2 февраля) Хлебников в знак протеста против приема Маринетти объявил о своем выходе из «Гилей» (см.: Хлебников НП. С. 368–369), хотя главные «гилейцы» (Д. Бурлюк, Маяковский, Каменский) в петербургском приеме не участвовали. Свое отрицательное или весьма сдержанное отношение к итальянскому футуризму кубофутуристы выразили в открытых письмах, опубликованных в газете «Новь» 5 и 15 февраля 1914 г., а также во время лекции Маринетти в Обществе свободной эстетики в Москве 13 февраля. В. Шершеневич, бывший основным переводчиком произведений Маринетти в России, позже утверждал, что «идеология Маринетти в корне расходилась с социальной установкой русских футуристов, что с самого начала было отмечено и критикой, и нами» (Шершеневич. С. 500) Иные туземцы и итальянский поселок на Неве. По-видимому, имеются в виду петербуржец Н. Кульбин, а также организаторы выступлений Маринетти в кабаре «Бродячая собака», находившемся на углу Итальянской ул. и Михайловской пл. Верхарн Эмиль (1855–1916) – бельгийский поэт-символист, драматург, критик; в ноябре 1913 г. посетил Россию. Линдер Макс (наст, имя и фамилия Габриель Лёвьель) (1883–1925) – популярный французский киноактер, посетивший Россию с гастролями в ноябре 1913 г. Кружева холопства на баранах гостеприимства – аллюзия на поэму Н. В. Гоголя «Мертвые души». На экземпляре листовки, принадлежащем А. Крученых, Хлебников в конце декабря 1921 г. написал: «(Чичиков, провоз кружев из-за границы)» (Хлебников НП. С. 476).
РП. Б. Лившиц вспоминал: «Составили мы этот манифест вшестером, на квартире у четы Пуни, взявших на себя расходы по изданию сборника. Николай Бурлюк отказался присоединить свою подпись, резонно заявив, что нельзя даже метафорически посылать к черту людей, которым через час будешь пожимать руку. Действительно, ни одна из наших деклараций еще не вызывала в литературной среде такого возмущения, как этот плод нашего совместного творчества. Каждое слово в нем как будто было рассчитано на то, чтобы кого-нибудь оскорбить. <…> Больше всего вознегодовал Сологуб – на Северянина, которого он „вывел в люди“, и Гумилев – на нас всех: особенно задело его выражение „свора Адамов“.
Из текста манифеста ясно, что, вступая в блок с Северянином, мы и не думали включать в свою „литературную компанию“ ни „Петербургский Глашатай“, ни „Мезонин Поэзии“» (Лившиц. С. 459–460). Крученых утверждал, что Северянина пригласили к сотрудничеству «с целью разделить и поссорить эго-футуристов, что и было достигнуто, а затем его „ушли“ и из компании „кубо“» (15 лет. С. 15). Чуковский Корней Иванович (Корнейчуков Николай Васильевич) (1882–1969) – писатель, литературовед, критик. О его взаимоотношениях с кубофутуристами писал в своих мемуарах Б. Лившиц: «Октябрь и ноябрь тринадцатого года отмечены в будетлянском календаре целой серией выступлений, среди которых не последнее место занимали лекции Корнея Чуковского о футуризме, прочитанные им в Петербурге и в Москве. Это была вода на нашу мельницу. Приличия ради мы валили Чуковского в общую кучу бесновавшихся вокруг нас Измайловых, Львов-Рогачевских, Неведомских, Осоргиных, Накатовых, Адамовых, Философовых, Берендеевых и пр., пригвождали к позорному столбу, обзывали и паяцем, и копрофагом, и еще бог весть как, но все это было не очень серьезно, не более серьезно, чем его собственное отношение к футуризму.
Чуковский разбирался в футуризме лишь немного лучше других наших критиков, подходил даже к тому, что в его глазах имело цену, довольно поверхностно и легкомысленно, но все же он был и добросовестней, и несравненно талантливей своих товарищей по профессии, а главное – по-своему как-то любил и Маяковского, и Хлебникова, и Северянина. Любовь – первая ступень к пониманию, и за эту любовь мы прощали Чуковскому все его промахи.
В наших нескончаемых перебранках было больше веселья, чем злобы. Однажды сцепившись с ним, мы, казалось, уже не могли расцепиться и собачьей свадьбой носились с эстрады на эстраду, из одной аудитории в другую, из Тенишевки в Соляной Городок, из Соляного Городка в психоневрологический институт, из Петербурга в Москву, из Москвы в Петербург и даже наезжали доругиваться в Куоккалу, где он жил отшельником круглый год.
О чем нам никак не удавалось договориться, это о том, кто же кому обязан деньгами и известностью. Чуковский считал, что он своими лекциями и статьями создает нам рекламу, мы же утверждали, что без нас он протянул бы ноги с голоду, так как футуроедство стало его основной профессией. Это был настоящий порочный круг, и определить, что в замкнувшейся цепи наших отношений является причиной и что следствием, представлялось совершенно невозможным.
Блестящий журналист, Чуковский и в лекции перенес свои фельетонные навыки, постаравшись выхватить из футуризма то, на чем легче всего можно было заострить внимание публики, вызвать „шампанский“ эффект, сорвать аплодисменты. Успех был ему дороже истины, и мы, живые объекты его критических изысканий, сидевшие тут же на эстраде, где он размахивал своими конечностями осьминога, корчились от смеха, когда, мимоходом воздав должное гениальности Хлебникова, Чуковский делал неожиданный выверт и объявлял центральной фигурой русского футуризма… Алексея Крученых» (Лившиц. С. 439, 441). Ф. Сологуб схватил шапку И. Северянина. Сологуб и его жена А. Чеботаревская способствовали признанию Северянина в литературных кругах, в частности Сологубом было написано предисловие к сборнику Северянина ГК. Василий Брюсов привычно жевал <…> Брось, Вася, этотебе не пробка!.. «Василий – не опечатка, а озорство: поэт любил свое имя, вводил его в стихи, злоупотреблял его благозвучием <…>. Ладно – назовем его в таком случае Василием! Пробка – тоже неспроста; это – намек на принадлежащий Валерию Яковлевичу, а может быть, и никогда не существовавший, пробковый завод» (Лившиц. С. 459–460). «Русская Мысль» – ежемесячный научный, литературный и политический журнал, в котором в 1910–1912 гт. Брюсов заведовал литературно-критическим отделом. Свора адамов. Другое название акмеизма, предложенное С. Городецким, – «адамизм». Гумилев Николай Степанович (1886–1921) – поэт-акмеист, переводчик, литературный критик. Маковский Сергей Константинович (1877–1962) – поэт, художественный критик, организатор и редактор журнала «Аполлон». Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967) – поэт-акмеист. Пяст (Пестовский) Владимир Алексеевич (1886–1940) – поэт, переводчик. Песни о тульских самоварах и игрушечных львах. Подразумеваются ориентация поэзии Городецкого на русский фольклор и интерес Гумилева к африканской экзотике.
Взял. Каждый день тягучим плачем голосит петит над множеством имен вырезанных Марсом. Имеются в виду списки погибших на фронтах Первой мировой войны списки, печатавшиеся петитом. Когано-эйхенвальдообразые старики. Коган Петр Семенович (1872–1932) – литературный критик, историк литературы, переводчик. Айхенвальд Юлий Исаевич (1872–1928) – литературный критик. В. Шершеневич вспоминал: «В том же злополучном Политехническом после стихов Маяковского выступает с отрицательной критикой Айхенвальд. Айхенвальда сменяет не менее ругательно Коган.
После всех ораторов слово берет Маяковский. Он развязно говорит:
– Вот этот Коган (жест в сторону Когана) сказал, что я бездарен, а вот этот Коган (жест в сторону Айхенвальда) сказал…
Председатель останавливает Маяковского:
– Владимир Владимирович! Вы ошиблись. Это не Коган, это же Айхенвальд!
Маяковский, нисколько не смущаясь, под веселый хохот аудитории, парирует эту поправку заранее приготовленной остротой.
– Все равно! Все они Коганы!» (Шершеневич. С. 542). Самокиш Николай Семенович (1860–1944) – художник-баталист, академик.
В виде свитка (М. [Харьков], 1916). В автобиографической заметке В. Хлебников утверждал, что декларация была написана им. Подпись Божидара, умершего в 1914 г., условна. В письме к Н. Асееву и Г. Петникову от 19 сентября 1916 г. Хлебников писал, что «„Труба Марсиан“ очень удачна в смысле быстроты» (Хлебников СП. Т. V. С. 307). Мозг людей и доныне скачет на 3 ногах (3 оси места)! Манифест отражает хлебниковскую концепцию четырехмерного времени-пространства. Размер больше Хеопса. Здесь подразумевается пирамида египетского фараона Хеопса (27 в. до н. э.), крупнейшая в Египте. Ведь мы босы. По свидетельству Г. Петникова, правильно: «Ведь мы боги» (Хлебников НП. С. 17), Синякова – см. примеч. 385. Кроме могил юношей. По-видимому, подразумеваются покончившие с собой И. Игнатьев и Божидар. Нас семеро. По-видимому, имеются в виду подписавшие вступительную часть манифеста Хлебников, Синякова, Божидар, Петников, Асеев, а также приглашенные «с правом совещательного голоса, на правах гостей, в думу марсиан: Уэлльс и Маринетти». Балашов Абрам Абрамович – душевнобольной, изрезавший в январе 1913 г. в Третьяковской галерее картину И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Б. Лившиц вспоминал: «Когда <…> сумасшедший Балашов изрезал в Третьяковке репинское полотно, <…> борзописцы не стеснялись кивать на Бурлюков, недвусмысленно намекая, что действительными виновникам дикого поступка, его подлинными вдохновителями являются глашатаи „левого“ искусства» (Лившиц. С. 471). Гаусс Карл Фридрих (1777–1855) – немецкий ученый-математик и физик. Лобачевский Николай Иванович (1792–1856) – русский математик, создатель неевклидовой геометрии. Монгольфьеры (Монгольфье) Жозеф Мишель (1740–1810) и Жак Этьен (1745–1799) – французские изобретатели воздушного шара. КОРОЛЬ ВРЕМЕНИ ВЕЛИМИР 1-ый. По утверждению Хлебникова, он «20 декабря 1915 был избран королем времени» (Хлебников СП. Т. V. С. 333). Уэлльс (Уэллс) Герберт Джорж (1866–1946) – английский писатель-фантаст. Маринетти – см. примеч. 211. «Улля, улля» – возглас из романа Г. Уэллса «Война миров».
ГФ. Черными перьями двуглавого орла устлана дорога в Тобольск. Имеется в виду ссылка по решению Временного правительства царя Николая II и его семьи в Тобольск. «Иудейских» и прочих «царей» (сочинения Романовых). Подразумевается пьеса Константина Романова (К.Р.) «Царь Иудейский» (1912). Рококо – см. примеч. 283. Людовики – имена нескольких французских королей.
Листовка. Печ. по: Казанский. Первый год Эго-Футуризма // ОнП. Б. Лившиц в своих мемуарах утверждал, что, «когда и эгофутуристам пришлось как-то формулировать свою программу, они оказались неспособны на это: во всех выпущенных ими маловразумительных декларациях, „скрижалях“, „хартиях“, „грамотах“, „прологах“ и „эпилогах“ нельзя было при всем желании нащупать хотя бы одну четкую, до конца продуманную мысль» и «их теоретические высказывания отличались такой беспомощностью и механическим соединением с бору по сосенке нахватанных идеек (не идеек даже, а просто модных словечек), что при самом внимательном к ним отношении невозможно было догадаться, чего же они, собственно, хотят, с кем и во имя чего собираются воевать» (Лившиц. С. 367–368). Фофанов и Лохвицкая – см. примеч. 192.
Листовка. Печ. по: Ховин [В.] Они не знают всеоправдания… // Воскресная вечерняя газета. 1912, 16 сентября.
Листовка. Приложение к газ. «Нижегородец» № 206. 1913, 25 января.
Руконог. «Грамота» направлена против издателей ПЖРФ, содержащего выпады в адрес участников «Центрифуги». Так, в рецензии на книги «Близнец в тучах» Б. Пастернака и «Вертоградари над лозами» С. Боброва рецензент, скрывшийся за псевдонимом Едух, писал: «В номере гостиницы русской литературы, который только что покинула „тяжкая армада старших русских символистов“, остановилась переночевать компания каких-то молодых людей. И вот они уже собирают разбросанные их предшественниками окурки, скучно сосут выжатый и спитый лимон и грызут крошечные кусочки сахара. Больше ничего и не осталось, и от этого в номере такая тоска и уныние, что зеленеют от скуки видавшие и пышный пир русской поэзии обои. Читатель, вы, наверное, уже догадались, что я говорю о „лириках“, т. е. молодых людях, выпускающих все чаще и чаще никому не нужные книжки, на которых неумело-незатейливо написано: книгоиздательство „Лирика“» (ПЖРФ. С. 140). В рецензии на книгу Н. Асеева НФ за подписью «Георгий Гаер» (псевдоним В. Шершеневича) утверждалось, что у ее автора «много скрытых талантов, но совершенно ясно, что к поэзии они не имеют ни малейшего отношения» (ПЖРФ. С. 141). Полемика с Шершеневичем была продолжена в статье Пастернака «Вассерманова реакция», также опубликованной в «Руконоге». Согласие отсутствовавшего в Москве И. Зданевича подписать «Грамоту» было передано членам «Центрифуги» его братом художником Кириллом Зданевичем. Мы не имеем в виду Хлебникова и Маяковского… Ср. в статье Пастернака «Вассерманова реакция»: «Истинный футуризм существует. Мы назовем Хлебникова, с некоторыми оговорками Маяковского, только отчасти – Большакова, и поэтов из группы „Петербургского Глашатая“» (Пастернак. Т. 4. С. 351). На стр. 130 ПЖРФ об эгофутуристах было лишь написано, что у них «развороченные черепа» (ср. название одноименного эгофутуристического альманаха). На стр. 141 о Боброве сообщалось, что «конечно, на то он и Бобров, на то он и «предостерегает дружески» Северянина:
на то он и с Брюсовым имел дела, о которых довольно прозрачно сообщает в стихах:
На стр. 131 ПЖРФ псевдонимов нет (единственная фамилия на этой стр. – Д. Бурлюк). На стр. 141 рецензия на книги Пастернака и Боброва подписана псевдонимом Едух. На стр. 142 рецензия на книгу НФ Н. Асеева подписана: «Георгий Гаер» (псевдоним В. Шершеневича). Статьи, якобы реабилитирующие Вашу истинность в глазах будущников. Имеется в виду подборка отрицательных отзывов о кубофутуристах, опубликованная Д. Бурлюком и Б. Лившицем под заголовком «Позорный столб российской критики. (Материал для истории русск. литературных нравов)» в ПЖРФ.
Газ. «4Г». Печ. по: Заумники. Авторами манифеста, по свидетельству А. Крученых, являются он сам, И. Зданевич, И. Терентьев и Н. Чернявский (Заумники. С. 23).
Список иллюстраций
1. Велимир Хлебников. Автопортрет.
2. Елена Гуро. Автопортрет.
3. Е. Гуро. Рисунок к кн. «Бедный рыцарь».
4. Василий Каменский. Портрет работы Д. Бурлюка.
5. Давид Бурлюк. Портрет работы В. Бурлюка.
6. Николай Бурлюк. Портрет работы Д. Бурлюка.
7. Владимир Маяковский. Портрет работы Д. Бурлюка.
8. Ольга Розанова. Автопортрет.
9. Бенедикт Лившиц. Портрет работы Д. Бурлюка.
10. Алексей Крученых. Портрет работы М. Ларионова.
11. В. Каменский. Железобетонная поэма.
12. Павел Филонов. Автопортрет.
13. Работы К. Малевича на выставке «0.10».
14. К. Малевич. Спинка обложки 2-го издания поэмы В. Хлебникова и А. Крученых «Игра в аду».
15. Игорь Северянин. Портрет работы М. Синяковой.
16. Иван Игнатьев и Василиск Гнедов.
17. Константин Олимпов.
18. Вадим Шершеневич.
19. Сергей Третьяков. Портрет работы М. Синяковой.
20. Сергей Бобров.
21. Константин Большаков.
22. Борис Пастернак. Портрет работы Ю. Анненкова.
23. Николай Асеев. Портрет работы М. Синяковой.
24. Божидар.
25. Григорий Петников. Портрет работы Н. Альтмана.
26. Илья Зданевич. Портрет работы Н. Пиросманашвили.
27. Игорь Терентьев. Автопортрет.
Выходные данные
НОВАЯ БИБЛИОТЕКА ПОЭТА
Гуманитарное агентство «Академический проект»
ПОЭЗИЯ РУССКОГО ФУТУРИЗМА
Редакционная коллегия
А. С. Кушнер (главный редактор). К. М. Аэадовский, В. Э. Вацуро, М. Л. Гаспаров, А. Л. Зорин, А. В. Лавров, Д. С. Лихачев, А. М. Панченко. И. Н. Сухих, Е. Г. Эткинд
Вступительная статья B. Н. Альфонсова
Составление и подготовка текста В. Н. Альфонсова и С. Р. Красицкого
Персональные справки-портреты и примечания C. Р. Красицкого
Гуманитарное агентство «Академический проект» благодарит Комитет по печати мэрии Санкт-Петербурга и Российское авторское общество за содействие в осуществлении издания.
Художник В. В. Еремин
Редактор В. Н. Сажин
Художественный редактор В. Г. Бахтин
Корректор О. Э. Карпеева
Технический редактор Е. Ф. Шараева
ЛР № 066191 от 27.11.98 Подписано в печать 22.03.99.
Формат 84X108/32 Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Балтика.
Усл. п. л. 47. Тираж 3000 экз. Заказ № 3168
Гуманитарное агентство «Академический проект»
199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4
Отпечатано с готовых диапозитивов в Академической типографии «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12
Примечания
Каменский В. Путь энтузиаста//Каменский В. Танго с коровами; Степан Разин; Звучаль Веснеянки; Путь энтузиаста. М., 1990. С. 444.
Мережковский Д. Еще шаг Грядущего Хама // Русское слово. 1914. № 149. 29 июня.
Брюсов В. Год русской поэзии: (Апрель 1913 – апрель 1914) // Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 436. В дальнейшем ссылки: Брюсов В. Среди стихов.
Брюсов В. Новые течения в русской поэзии: III. Эклектики // Брюсов В. Среди стихов. С. 412.
Пощечина общественному вкусу: В защиту Свободного Искусства: Стихи. Проза. Статьи. М.: Изд. Г. Л. Кузьмина и С. Д. Долинского, 1913 [1912]. В наст. изд.: Приложение. С. 617. В дальнейшем ссылки: Приложение.
Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 1. С. 365–366.
Приложение. С. 619.
Маяковский В. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 300.
Шкловский В. Воскрешение слова//Шкловский В. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе. М., 1990. С. 42.
См.: Поспелов Г. Бубновый валет: Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М., 1990.
См.: Ковтун Е. Русская футуристическая книга. М., 1989.
См.: Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. М., 1991.
Об эгофутуризме см.: Крусанов А. Дороги и тропы русского литературного авангарда: эго-футуризм (1911–1922 гг.) // Русский разъезд. 1993. № I. С. 109–148.
Приложение. С. 629.
Приложение. С. 630.
Приложение. С. 630.
Шершеневич В Футуризм без маски: Компилятивная интродукция. М., 1914. С. 59.
Декларация // Поэты-имажинисты. М.; СПб… 1997. С. 7–8.
Иванов Г. Рецензия // Альманах Цеха Поэтов. Кн. 2. Пг., 1921. С. 77.
Брюсов В. Год русской поэзии // Брюсов В. Среди стихов. С. 441.
Брюсов В. Вчера, сегодня и завтра русской поэзии // Брюсов В. Среди стихов. С. 598.
Пастернак Б. Николай Асеев. «Оксана»: Стихи 1912–1916 годов // Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1991. Т. 4. С. 361–363.
Приложение. С. 623.
См.: Крусанов А. Русский авангард: 1907–1932. Т. 1: Боевое десятилетие. СПб., 1996. С. 189–195.
Приложение. С. 634.
Разумеется, это не лишает интереса последующие опыты самого А. крученых, а также И. Зданевича или И. Терентьева (см. соответствующие разделы). О «41» см.: Циглер Р. Группа «41» // Russian Literature. XVII.I. 1985. С. 71–86.
Пастернак Б. Люди и положения // Пастернак Б. Собр. соч. Т 4. С. 334.
Хлебников В. О расширении пределов русской словесности // Хлебников В. Творения. М., 1986. С 593.
Пастернак Б. Люди и положения // Пастернак Б. Собр. соч. Т. 4. С. 334.
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 312.
Там же. С. 488.
Гарбуз А. «Групповой портрет» будетлян в свете фольклорно-мифологической традиции // Хлебниковские чтения. СПб., 1991. С 112.
Бурлюк Д. Ядополный // Бука русской литературы. М., 1923. С.18.
[Б. п.] Вечер футуристов // Русское слово. 1913. № 237, 15 окт.
Пастернак Б. Вместо предисловия//Пастернак Б. Собр. соч. Т. 4. С. 373.
Пастернак Б. Крученых // Там же. С. 372.
Пастернак Б. Вместо предисловия //Там же. С. 374.
Цит. по: Перцов В. Маяковский: Жизнь и творчество. Т I. М., 1957, С. 328.
Переписка А. М. Горького с И. А. Груздевым. М., 1966. С. 227. Архив А. М. Горького: Т. XI.
Пастернак Б. Охранная грамота // Пастернак Б. Собр. соч. Т 4. С. 224.
Цит. по: Кошелев В., Сапогов В. «Музей моей весны» // Северянин И. Стихотворения. Поэмы. Архангельск, 1988. С 13.
См.: Урбан А. Добрый ироник // Звезда. 1987. № 5. С. 164–173
Ахматова А. Проза о поэме // Ахматова А. Соч.: В 2 т. М., 1986. Т. 2. С. 222.
Там же. С. 226.
Пастернак Б. Доктор Живаго//Пастернак Б. Собр. соч. М., 1990 Т. 3. С. 160.
Маяковский В. Полн. собр. соч. Т. 1. С 308–309.
Собрание произведений Велимира Хлебникова: В 5 т. Л., [1930]. Т. 4 С 51.
Хлебников В. Неизданные произведения. М., 1940. С. 378.
См.: Кандинский В. В.: 1902–1917: <Текст художниках> М., 1918
См.: Шкловский В. Ход коня. М; Берлин, 1923. С. 36.
Цит. по: Ланн Ж. К. Русский футуризм // История русской литературы: XX век. Серебряный век / Под ред. Ж. Нива, И Германа, В. Страды и Е. Эткинда. М., 1995. С. 533.
Маяковский В. Открытое письмо рабочим // Маяковский B. Полн. собр. соч. М., 1959. Т.12. С. 9.
Бердяев Н. Кризис искусства. М., 1918. С. 38.
Там же. С. 30–31.
Марков В. О Хлебникове: (попытка апологии и сопротивления) // Марков В. О свободе в поэзии: Статьи. Эссе. Разное. СПб., 1994. С. 200.
Собрание произведений Велимира Хлебникова: В 5 т. Л., |1930 |. Т. 4. С. 116.
Цитаты из трагедии даются по ее второму изданию в сб. В. Маяковского «Простое как мычание» (Пг., 1916).
Пастернак Б. Люди и положения//Пастернак Б. Собр. соч. Т. 4. С. 335.
Крученых А. Об опере «Победа над солнцем» // Встречи с прошлым: Вып. 7. М., 1990. С. 512.
Гуро Е. Бедный рыцарь. Цит. по: Ковтун Е. Елена Гуро: Поэт и художник // Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник. 1976. М… 1977. С. 320.
Дуганов Р. Велимир Хлебников: Природа творчества. М., 1990. С. 121–122.
Чиковани С. Мысли. Впечатления. Воспоминания. М., 1968. С 77.
Эфрос А. К. Малевич: (Ретроспективная выставка) // Художественная жизнь. 1920. № 2. С. 40.
Дугано в Р. Велимир Хлебников: Природа творчества. М., 1990. С. 125.
Там же. С. 124.
Там же. С 125.
Пастернак Б. Доктор Живаго // Пастернак Б. Собр. соч. Т. 3. C. 69.
Калитин Н. Слово и время. М., 1967. С. 51.
См.: Хан А. Реализованное сравнение в поэтике авангарда: (на материале поэмы В. Хлебникова «Журавль») // Russian Literature. XXVI. 1989. С. 69–92.
Пастернак Б. Вассерманова реакция // Пастернак Б. Собр. соч. Т. 4. С. 353.
Крученых А. Фактура слова: Декларация: (Книга 120-ая). М., 1923. |1922 |. С. 28.
Хлебников В. Наша основа // Хлебников В. Творения. М., 1986. С. 628.
Там же. С. 628.
Крученых А. Ожирение роз: О стихах Терентьева и других. [Тифлис: «41°», 1918]. С. 14.
Хлебников В. Наша основа // Хлебников В. Творения. С. 624.
Там же. С. 628.
Крученых А. Фактура слова. М., 1923. [1922]. С. II.
Хлебников В. <О стихах> // Хлебников В. Творения. С. 634.
Марков В. Трактат о трехгласии//Марков В. О свободе в поэзии: Статьи. Эссе. Разное. СПб., 1994. С. 334.
Якобсон-будетлянин: Сборник материалов / Сост., подг. текста, предисловие и комментарии Бенгта Янгфельдта. Stockholm, 1992. С. 73.
Флоренский П. Антиномия языка//Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 155. В дальнейшем ссылки на это изд. в тексте.
См.: Бирюков С. Заумь:…краткий курс истории и теории // Хлебниковские чтения. СПб., 1991.
Речь. 1916. № 8, 7 ян в.
Цит. по: Ковтун Е. Начало супрематизма // Малевич: Художник и теоретик: Альбом. М., 1990. С. 105.
Хлебников В. Неизданные произведения. М., 1940. С. 334.
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 339.
Основополагающее значение для разработки проблемы имела статья Н. Харджиева «Маяковский и живопись» (Маяковский: Материалы и исследования. М., 1940. С. 337–400).
Пощечина общественному вкусу. [Листовка]. М., 1913. С. 1.
Каменский В. О Хлебникове // Хлебников В. Творения. Том 1: 1906–1908 г. М. [Херсон], 1914. С. [VI].
Шкловский В. Предисловие // Петровский Д. Повесть о Хлебникове. М., 1926. С. 4.
Тынянов Ю. О Хлебникове // Собрание произведений Велимира Хлебникова. Л., 1928. Т. I. С. 22.
Маяковский В. В. В. Хлебников // Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1959. Т. 12. С. 23.
Кузмин М. Условности: Статьи об искусстве. Пг., 1923. С. 164.
Мандельштам О. Буря и натиск // Мандельштам О. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 289–290.
Шкловский В. Случай на производстве // Стройка. 1931. № И. С. 6.
Шершеневич В. Великолепный очевидец: Поэтические воспоминания 1910–1925 гг. // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова: Сборник. М., 1990. С. 517.
Маяковский В. Я сам // Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 1. С. 20.
Технический термин (лат.)
Евреинов Н. Оригинал о портретистах. М., 1922. С. 74.
См.: Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 451.
Лентулов А. О В. В. Маяковском и других. // Искусство. 1940, № 3. С. 38.
Там же. С. 38.
Лившиц Б. Указ. соч. С. 325.
Маяковский В. Я сам // Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 1. С. 20.
Цветаева М. Эпос и лирика современной России: Владимир Маяковский и Борис Пастернак // Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. М., 1994. Т. 5. С. 377.
Тынянов Ю. О Маяковском: Памяти поэта // Тынянов Ю. Поэтика. Теория литературы. Кино. М., 1977. С. 196.
Левидов М. Сборник «Стрелец» // Наши дни. 1915. № 4. С. 11.
Опять футуристы: (Вместо передовой) // Актер. 1913. № 4. С. 1.
Крученых А. Стихи В. Маяковского: Выпыт. СПб., 1914. С. 11, 13.
Чуковский К. Эго-футуристы и кубо-футуристы // Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». СПб., 1914. Кн. 22. С. 124.
Там же. С. 123.
Чуковский К. Образцы футуристической литературы // Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». СПб., 1914. Кн. 22. С. 147.
Пастернак Б. Охранная грамота // Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1991. Т. 4. С. 215.
Газета футуристов. 1918. № 1. С. 1.
Третьяков С. Бука русской литературы (об Алексее Крученых) // Бука русской литературы. М., 1923. С. 3.
«Ужасное дитя» (фр.). – Сост.
Чеботаревская А. Зеленый бум//Небокопы. СПб., 1913. С. 8; Ховин В. На одну тему. Пб., 1921. С. 94.
Кречетов С. Заметки о текущей русской литературе // Утро России.1912, 6 октября. С. 5.
Терентьев И. А Крученых грандиозарь. Тифлис. 1919. С. 1.
Мандельштам О Литературная Москва // Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 276.
Евреинов Н. О Василье Каменском // Мой журнал – Василия Каменского. 1922. № 1. С. 9.
Шершеневич В. Великолепный очевидец: Поэтические воспоминания 1910–1925 гг. // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова: Сборник. М., 1990. С. 519.
Каменский В. Путь энтузиаста // Каменский В. Танго с коровами; Степан Разин; Звучаль Веснеянки; Путь энтузиаста. М., 1990. С. 443.
Брюсов В. Новые сборники стихов//Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 336.
Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 120.
Каменский В. Указ. соч. С. 450.
Шершеневич В. Поэтессы // Современная женщина. 1914. № 4. С. 74–75.
См. например: Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 406–407; Каменский В. Путь энтузиаста // Каменский В. Танго с коровами; Степан Разин; Звучаль Веснеянки; Путь энтузиаста. М., 1990. С. 447.
Чуковский К. Образцы футуристической литературы // Литературно-художественные альмахи издательства «Шиповник». СПб., 1914. Кн. 22. С. 145–146, 150.
Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения. СПб., 1994. С. 62.
Иванов Вяч. Marginalia // Труды и дни. 1912. № 4/5. С. 45.
От издателей // Хлебников В., Крученых А., Гуро Е. Трое. СПб., 1913. С. 4.
Брюсов В. Год русской поэзии. Апрель 1913 – апрель 1914 г. // Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 437.
Якобсон Р. Вместо послесловия // Харджиев Н., Малевич К., Матюшин М. К истории русского авангарда. Stockholm, 1976. С. 188.
Брюсов В. Новые сборники стихов // Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 336.
Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 169.
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 324.
Там же. С. 365.
Чуковский К. Образцы футуристической литературы // Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». СПб., 1914. Книга 22. С. 146–147.
Лившиц Б. Указ. соч. С. 459.
Лившиц Б. Автобиография // Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 550.
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1989. С. 403–404.
Брюсов В. Новые течения в русской поэзии: Футуристы // Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М, 1990. С. 389.
Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 169.
Чуковский К. Образцы футуристической литературы // Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». СПб., 1914. Кн. 22. С. 147.
Лившиц Б. Автобиография. С. 550.
Там же. С. 551.
Хлебников В. Неизданные произведения. М., 1940. С. 378.
Цит. по: Мислер Н., Боулт Дж. Э. Филонов: Аналитическое искусство. М., 1990. С. 60.
Эфрос А. Профили. М., 1930. С. 229.
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 412.
Крученых А. Фактура слова. М., 1923 [1922]. С. [19].
Шкловский В. Случай на производстве // Стройка. 1931. № 11. С. 6.
См.: Парнис А. Тименчик Р. Программы «Бродячей собаки» // Памятники культуры. Новые открытия. 1983. Л., 1985. С. 221–222.
Пяст В. Встречи. М, 1929. С. 277.
Там же. С. 250.
Сборники по теории поэтического языка. Пг., 1916. Вып. 1. С. 1–15.
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец.: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 463–464.
Шкловский В. О Маяковском. М., 1940. С. 96.
Цит. по: Шкловский В. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе. М., 1990. С. 519.
Северянин И. Лазоревые дали: Стихотворения. СПб., 1908. На обороте обложки.
Цит. по: Игнатьев И. Эго-футуризм // Засахаре кры: Эго-Футуристы: V. СПб., 1913. С. 6.
Брюсов В. Игорь Северянин // Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 496.
Критика о творчестве Игоря Северянина. М., 1916.
«Фиалковый ликер» (франц.). – Сост.
Иванов Г. Петербургские зимы // Иванов Г. Собр. соч.: В 3 т. М, 1994. Т. 3. С. 28.
Чуковский К. Образцы футуристической литературы // Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». СПб., 1914. Кн. 22. С. 154.
Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения. СПб., 1994. С. 71.
Олимпов К. Теоман: Феноменальная гениальная поэма. Пг., 1915. Обложка.
Пяст В. Встречи. М., 1929. С. 264.
Стеклянные цепи: Альманах эго-футуристов. СПб., 1912. С. 4.
Дачница. 1912, 29 августа. С. 3.
Олимпов К. Указ. соч. На обороте обложки.
Шкловский В. Случай на производстве // Стройка. 1931. № 11. С. 6.
Гиперборей. 1912. № 2. С. 30.
Иванов Г. Петербургские зимы // Иванов Г. Собр. соч.: В 3 т. М. 1994. Т. 3. С. 23.
Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 131.
Брюсов В. Сегодняшний день русской поэзии: (50 сборников стихов 1911–1912 гг.) // Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 368.
Блок А. Полн. собр. соч.: В 8 т. М; Л., 1963. Т. 8. С. 380.
Г<рааль>-А<рельский>. Эгопоэзия в поэзии // Оранжевая урна: Альманах памяти Фофанова. СПб., 1912. С. 2–3.
Шершеневич В. Великолепный очевидец: Поэтические воспоминания 1910–1925 гг. // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова: Сборник. М., 1990. С. 496.
Игнатьев И. В. Эго-Футуризм // Засахаре кры. СПб., 1913. С. 8.
Шершеневич В. Указ. соч. С. 496.
Брюсов В. Новые течения в русской поэзии: Футуристы // Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М, 1990. С. 390.
Гелиос. 1913. № 2. С. 46.
Брюсов В. Год русской поэзии. Апрель 1913 – апрель 1914 г. // Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 443.
День. 1913. 21 октября. (Приложение «Литература. Искусство. Наука». Выпуск 3. С. 3).
Чуковский К. Эго-футуристы и кубо-футуристы // Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». М., 1914. Кн. 22. С. 120.
Городецкий С. Пучина стиховая// Речь. 1913, 18 февраля. С. 3.
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 461.
Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 168.
Цит. по: Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 460.
Ходасевич В. О новых стихах // Ходасевич В. Колеблемый треножник. М., 1991. С. 504.
Георгий Гаер [Шершеневич В.] У края «прелестной бездны» // Без муз. 1. Нижний Новгород, 1918. С. 43.
Новая жизнь (лат.). – Сост.
Поэтическое искусство (франц.). – Сост.
Юбка-брюки (франц.). – Сост.
Живая природа (франц.). – Сост.
Шершеневич В. Великолепный очевидец: Поэтические воспоминания 1910–1925 гг. // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича и Грузинова: Сборник. М., 1990. С. 529.
Приписываемая Большакову книга стихов и прозы «Мозаика» (М., 1911), по-видимому, принадлежит не ему (см.: Богомолов Н. Предисловие // Большаков К. Бегство пленных, или История страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка Михаила Лермонтова: Роман; Стихотворения. М., 1991. С. 6).
Писатели: Автобиографии и портреты современных русских прозаиков. Изд. 2-е. М., 1928. С. 61.
Железная дорога (франц.). – Сост.
Стихи Ю. А. Эгерта. (Прим. авт.)
Доброй памяти Ст. Малларме (франц.). – Сост.
Бордо (франц.). – Сост.
Чуковский К. Эго-футуристы и кубо-футуристы // Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». СПб., 1914. Кн. 22. С. 119.
Брюсов В. Вчера, сегодня и завтра русской поэзии // Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 597.
Шершеневич В. Великолепный очевидец: Поэтические воспоминания 1910–1925 гг. // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова: Сборник. М., 1990. С. 527.
Шершеневич В. Великолепный очевидец: Поэтические воспоминания 1910–1925 гг. // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова: Сборник. М., 1990. С. 489.
Там же. С. 522–523.
Шкловский В. Крутая лестница // Воспоминания о Николае Асееве. М., 1980. С. 85.
Брюсов В. Вчера, сегодня и завтра русской поэзии // Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 596.
Советские писатели: Автобиографии в двух томах. М., 1959. Т. I. С. 617.
Шершеневич В. Великолепный очевидец: Поэтические воспоминания 1910–1925 гг. // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова: Сборник. М., 1990. С. 528.
Шершеневич В. Великолепный очевидец: Поэтические воспоминания 1910–1925 гг. // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова: Сборник. М., 1990. С. 532.
Пастернак Б. Охранная грамота // Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1991. Т. 4. С. 220.
Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения. СПб., 1994. С. 41.
Асеев Н. Родословная поэзии: Статьи. Воспоминания. Письма. М., 1990. С. 364.
Асеев Н. Дневник поэта. Л., 1929. С. 53.
Там же. С. 52.
Не смешивать с ходячим понятием «инструментовки» стиха, радующим только актера. (Прим. авт.).
Пастернак Б. Охранная грамота // Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1991. Т. 4. С. 215.
Брюсов В. Год русской поэзии: Апрель 1913 – апрель 1914 г. // Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 443.
Пастернак Б. Указ. соч. С. 227.
Минувшее: Исторический альманах. М.; СПб., 1993. Т. 13. С. 188.
Правильно: Zaw (греч.) – жить. – Сост.
Сельвинский И. Я буду говорить о стихах. М., 1973. С. 285.
Раньше, прежде, до (франц.). – Сост.
Как угодно, на выбор (лат.). – Сост.
Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985. С. 250.
Асеев Н. Послесловие // Божидар. Бубен. 2-е изд. М.; [Харьков], 1916. С. 23–29.
Студент сошел с ума, он воображает, что сидит в стеклянной бутылке.
Э. Т. А. Гофман (нем.) – Сост.
Хлебников В. О современной поэзии // Хлебников В. Творения. М, 1986. С. 633.
Платов Ф. Гамма гласных // Второй сборник Центрифуги. М., 1916. С. 68.
Кушнер Б. Рукопожатие // Наш путь. 1918. № 2. С. 186.
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 452.
Терентьев. 17 ерундовых орудий. Тифлис, 1919. С. 12.
Там же. С. 8.
Терентьев И. А. Крученых грандиозарь. Тифлис, 1919. С. 13.
Терентьев И. Собр. соч. Bologna, 1988. С. 398.
Данилов С. Гоголь и театр. Л., 1936. С. 261–262.
Брюсов В. Среди стихов // Брюсов В. Среди стихов: 1894–1924: Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990. С. 646.
Асеев Н. «Артель Лефа» // Асеев Н. Родословная поэзии. М., 1990. С. 334.
Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1992. Т. 5. С. 298.
Цит. по: Александров Р., Голубовский Е. Поэт Анатолий Фиолетов // Альманах библиофила. М., 1980. Вып. 9. С. 239.
Цит. по: Северянин И. Стихотворения. М., 1988. С. 417.
Северянин И. Заметки о Маяковском // Таллин, 1988. № 5. С. 110.
Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 195–196.
Новый журнал для всех. 1916. № 2/3. С. 75.
Сыр (исп.). – Сост.
Каменский В. Путь энтузиаста // Каменский В. Танго с коровами; Степан Разин; Звучаль Веснеянки; Путь энтузиаста. М., 1990. С. 504.
Большаков К. Предисловие // Спасский С. Как снег. М., 1917. С. 3.
Петровский Д. Повесть о Хлебникове. М., 1926.
Спасский С. Маяковский и его спутники. Л., 1940. С. 93–94.
Цветаева М. Наталья Гончарова // Цветаева М. Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 44.
Пощечина общественному вкусу (см. Приложение).
Чурилин Т. Весна после смерти. М., 1915. С. 5.
Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М, 1990. С. 193.
Челионатти [Вермель С] Лирики // Московские мастера: Журнал искусств. М., 1916. С. 82.
Напротив (франц.). – Сост.
Жизнеописание (лат.). – Сост.
Интерьер (франц.). – Сост.
Русская песня (франц.) – Сост.
Положение (франц.). – Сост.
Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя! (лат.) – Сост.

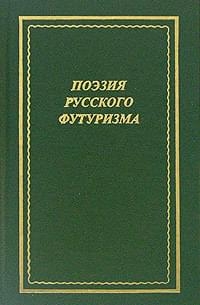


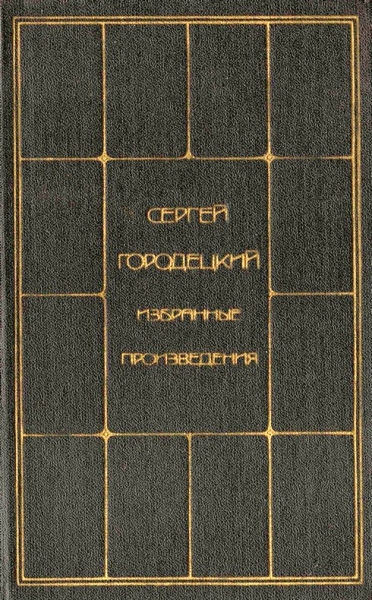
Комментарии к книге «Поэзия русского футуризма», Владимир Николаевич Альфонсов
Всего 0 комментариев