Спектр эмоций Ольста Баслер
Корректор Марианна Краминова
Оформление обложки Алексей Краминов
© Ольста Баслер, 2020
ISBN 978-5-4498-6187-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ВОЛНА (рассказ)
В детстве все мечтали кто о чём. Я же мечтала о телеге с белой лошадью. Уж не знаю, откуда в моей головёнке родилась такая идея, но я вдруг захотела потихоньку ехать в дальние дали, пошевеливать вожжами и рассматривать стоящие вдоль дороги достопримечательности. Такое никогда не наскучит. Ведь, если надоест глазеть по сторонам, то всегда можно с задумчивым видом уставиться на помахивающий лошадиный хвост и сидеть себе в телеге, покачиваясь от пробегающих под колесами кочек. А то и вовсе отпустить поводья и полностью довериться самой доброй и умной придуманной лошади на свете, Волне! Как только она прибегала в мои фантазии, мы сразу же отправлялись в путь. И никакие трудности нас не пугали. Если припекало солнышко, то надевали панамки. Если шёл сильный дождик, то прятались под разлапистой елью и стояли, дыша полезным лесным воздухом. Вечерами оставляли телегу на дороге и бежали на речку купаться и громко фыркать. Потом Волна сияла в бликах луны и щипала сочную травку. А я сидела рядом, нюхала лесные фиалки и смотрела на яркие звезды. А утром мы ехали дальше и держали путь на необитаемый остров. Потому что на этом острове сидят кот и пёс. И только тем и занимаются, что вглядываются в даль, ожидая, когда это мы с Волной соизволим появиться на их горизонте. А заодно стерегут шалаш, в котором лежит настоящий топор, ножик и удочка.
Особенно часто я отправлялась в такие «путешествия» летом, на даче. Мне делалось тоскливо, когда вся местная ребятня разъезжалась по пионерским лагерям и оставалась только голопузая малышня. И тогда я звала свою Волну. Она прибегала и увозила меня в другой мир, из которого, однако, меня сразу же начинали бесцеремонно выдергивать. То на прополку клубники, то на чтение книги вслух, то на променад вдоль соседских участков с обязательным обсуждением цвета, красоты и строения домиков. Оно и понятно. Ведь ни бабушка, ни дедушка не могли увидеть ни моей телеги, ни моей лошади, ни моего путешествия. Со стороны им казалось, что бедный ребёнок просто сидит и смотрит в одну точку.
«Ах, если бы здесь был мой красный пластмассовый конь на колесах. Тот, который с колечком-пищалкой! Или хотя бы фанерная Утя, которую мне сделал дедуля, чтобы качаться. Я бы возилась с ними, и никто бы меня не трогал», — думала я с горечью. Но, увы, вспоминать об этом и не стоило. Как только я выросла из этих игрушек, их тут же отдали другим детям.
Так и продолжались эти мои мучения, пока одно событие не изменило всё в лучшую сторону. У дедушки, наконец-то, заработала изобретенная им система полива огородных грядок. Свободного времени стало побольше, и он начал делать гамак для красивого, комфортного отдыха. Работы шли примерно неделю. Когда все основные труды были закончены, дедушка увенчал своё детище основной деталью и позвал нас на открытие «культурного объекта». Бабушка как глянула, так всплеснула руками, рассмеялась в ладонь и ушла в дом. А я заверещала от радости! Потому что получилась телега моей мечты! Нет, ну конечно же, никто не планировал делать ничего подобного, это вышло совершенно случайно. Просто в нашей сарайке не нашлось изысканных материалов для чего-то чуть более утончённого, чем древняя повозка. Сооружение выглядело надёжным, как и задумывалось. Состояло оно из двух столбов, вкопанных в землю, с верхушек которых свисали крепкие собачьи поводки, удерживающие на весу грубое брезентовое полотно, распёртое вставленными в него дрынами. Сердечко мое радостно запрыгало в груди от нетерпения. И как только дедушка зашел в дом, чтобы узнать точную причину бабушкиного веселья, я с восторженным визгом прыгнула в «телегу», подражая движениям главной героини из фильма «Кубанские казаки». Брезентуха перевернулась, и я шлепнулась на землю. Бабуля с дедулей увидели, испугались, подбежали ко мне: «Наказание ты наше!» А я встала и громко запыхтела от боли. Впрочем, совсем скоро все успокоились.
За чаем дедушка объявил, что нужно переделать конструкцию и убрать из полотна распорки. Вот тут-то я и заныла. Размазывая по щекам горючие слезы и всхлипывая, я начала доказывать, что если убрать палки, то это будет уже не телега, а тряпочный капкан, из которого ни в жизнь не выбраться, если в него попадешь! Мои рассуждения вызвали смешки и многочисленные вопросы. Пришлось рассказывать про Волну. К этому отнеслись серьёзно. Этим же вечером дедушка нашёл пару веревок и привязал их к одному из столбов.
На следующее утро я вышла из дома во двор в праздничном настроении. Осторожно села в «телегу», потянула за «вожжи», гамак качнулся, и мы «поехали»! От восторга я заорала изо всех сил:
— Но, но, Волна! Нас уже заждались! Давай, поворачивайся!…
Конечно же, я видела, что Волны нет. Но я была полностью уверена, что если орать погромче, она устыдится и обязательно прибежит.
Так продолжалось все оставшееся лето. Каждое утро, сразу после завтрака, я отправлялась в дорогу, громко совещаясь с лошадью, в какую сторону нам сегодня надо повернуть. Соседи по дачным участкам поглядывали на источник шума с нескрываемой ненавистью. А мне тогда казалось, что они просто завидовали маленькой шестилетней девочке, которая смогла запросто взять, да и уехать на ровном месте туда, куда хотела. Соседи злились, но молчали. Видимо, потому, что мой дедушка любил дарить им вкусный пчелиный мед.
Лето ушло. Пришла осень, а с ней и осознание того, что я не попала на свой остров. Потому что моя Волна так ко мне и не прибежала. Видимо, из-за того, что телега оказалась самодельным гамаком, а вожжи — простыми веревками. И как же горько я заплакала, когда узнала, что дача будет продана. Ведь там, на песчаном берегу, нас с Волной ждали, но так и не дождались кот и пёс! Наверное, скулили и мявкали, вглядываясь в даль и жалуясь друг другу на жизнь. А потом всё поняли. Чего-то засуетились, вроде бы как по хозяйству, да потихоньку и перестали упоминать про наше существование.
С тех пор прошло много лет. Я живу в домике, который в шутку называю кораблем. А мой сад — настоящий остров. Для того чтобы меня окружал «океан», я купила занавесочки с морскими рисунками и повесила их на окошки. Со мной живут три кота, пёс алабай и маленькая собачка. Есть настоящий топор, ножик и удочка. Есть и «телега». Но нет Волны. Наверное, ходит где-то там, по чужим дачам, ищет меня, глупая. Надо бы её позвать. Громко-громко! Чтобы услышала и прискакала. Пожалуй, так и сделаю. В Новый год. Чтобы за хлопками петард не услышали соседи. А Волна услышит, она такая. Обязательно услышит и прибежит. Я знаю.
КОЗЛАЙТИНГ (фельетон)
Примерно в двенадцать часов ночи наступила долгожданная суббота. Козлов-старший вылез из кровати и в одних трусах, крадучись, пошёл к холодильнику. После вчерашнего семейного скандала, закончившегося ничьей, хотелось пивасика. И подумать, что опять было не так. И чтобы в одиночестве.
Но одиночества не получилось. Впрочем, как и всегда. На маленькой, тесной кухне, слабо освещаемой уличным фонарём, сидели в интернете и столовались Козлов-малой, Козлов-мелкий и Козлова-жена. Все в спальных костюмах.
— Чего свет не зажигаете? — подозрительно спросил глава семейства и щёлкнул включателем.
Жующие зажмурились. Мелкий тут же воспользовался моментом — схватил материн планшет и шустро уполз под стол, от греха подальше.
На прошлогодней газете, между остатками воблы, лежали неровные заветренные куски вчерашней колбасы. Козлов-старший криво поморщился, с тоской вспомнил маменькины пироги и неожиданно для себя ласково произнёс, сглатывая потёкшую слюну:
— А давайте приготовим что-нибудь дома-а-а-шненькое.
— Это вы про меня? — выглянул из-под стола Козлов-мелкий.
— Нет! — шикнул на него Козлов-малой и выразительно показал кулак.
Мелкий привычно спрятался.
— А давайте, а приготовим! — ехидно подхватила тему Козлова-жена.
Она хитро прищурилась, королевским жестом указала мужу на холодильник и певуче произнесла фразу из известного всем соцсетям анекдота:
— Вот ку-сок мя-са, пожарь!
— На всех, — бормотнул Козлов-малой, не отрывая глаз от смартфона.
Козлов-старший был интернетам не обучен, но от природы догадлив. Он всё понял. Но нарочно начал делать вид, что попался на удочку: быковато кивнул головой, брезгливо, двумя пальцами, вытащил из кучи грязной посуды сковородку и поставил её на газ. Затем, открыв холодильник, внимательно осмотрел все полки, почесал затылок, закрыл холодильник и хмуро спросил:
— Водка где?
Жена радостно потёрла сухие ладошки, сделала удивлённо-загадочное лицо и вкрадчиво спросила:
— Какая-такая водка? У тебя с головкой-то всё нормально?
— «С головкой»… — хмыкнул малой.
— Поговори мне! — взвизгнула в его сторону Козлова-мать.
— Ты из меня дурака-то не строй! — тем временем взвился Козлов-старший соколом, — ты только что сказала что?!
— Ты сказала: «Водку, сок и мясо пожарь сам!»
— Я говорила не так!
— Я сказала: «Вот кусок мяса, пожарь!» Мяса-а, мяса-а! «А» на конце, понимаешь?! Умный человек бы догадался!
— А какая разница?
— Один скребёт, а другой драз-ни-ца!
— Это вы про меня? — вынырнул откуда-то снизу Козлов-мелкий.
— Нет!!! — заорали на него заведённые домочадцы.
Мелкий скрылся.
— Так во-от, — завыл на повышенных тонах Козлов-старший, — мясо вижу, сок есть, а водки нет! Как я её буду жарить, если её нет?! Как?!
— Жарь только сок и мясо, обойдёмся без водки, — подлил маслица в огонь малой, продолжая тыкать пальцами в мерцающий пластик. — И мам, хватит спаивать отца, он и так тупой…
— Поговори мне ещё! — в один голос заорали оба Козловы-старшие и отвесили малому смачный двойной подзатыльник. — Ты уроки сделал?!
— Каникулы! — огрызнулся тот.
— Это вы про меня? — высунулся откуда-то из угла мелкий.
— Нет!!! — заорали на него все.
Малой успел схватить со стола ложку и врезать мелкому по лбу. Мелкий исчез. И тут кухня разом наполнилась едким дымом. Козлов-малой вскочил, открыл форточку, включил камеру на смартфоне и начал вести прямую трансляцию происходящего в интернет.
— Сковородка! — завопила Козлова-жена, вскочила, потянулась за прихваткой, но опоздала, — Козлов-старший уже схватил покрасневший металл голой рукой и запрыгал на одной ноге, держась пальцами за мочку уха.
Раскалённая посудина, выпущенная из рук, покатилась по полу, нашла Козлова-мелкого и прилипла к верхней части его ноги. Несчастный мелкий, не выпуская из рук планшета, выполз на середину кухни, начал кататься по полу и кричать:
— Это вы про меня?! Это вы про меня?!
— Да!!! — заорали Козловы-старшие и начали отлавливать мелкого, чтобы оторвать от него сковородку, облить холодной водой и намазать йодом.
Действовали впопыхах и без прихваток. От не успевшей остыть сковородки досталось всем.
— Ну, сколько можно среди ночи?! — заходились в крике соседи за стеной. — Мы сейчас милицию вызовем!
— Милиция в «совке» осталась, вызывайте полицию! — орали им в ответ Козловы.
— Уже десять тысяч просмотров! — заходился от восторга малой.
Потом действительно были полицейские. Козлов-старший показал им задницу, не открывая двери, и они уехали. Приехала «скорая помощь». Мелкого, вцепившегося в планшет, увезли в больницу, и всё утихло.
Забинтованные и уставшие, Козловы прилегли отдохнуть. Дремать не получалось. Козлов-малой периодически выкрикивал растущую цифру просмотров и вслух читал комменты:
— Предки! Вам тут один фильмец посмотреть советуют!
— Что ещё за фильмец? — вяло поинтересовался глава семейства, сталкивая голову жены со своего обожжённого плеча.
— Ну, там… про газлайтинг. Короче, это смотреть надо. Пишут, что вам понравится.
— Ставь, может, отвлечёмся … — Козлова-жена примерилась, хлопнулась затылком обратно на мужнин ожог и поёрзала.
Старший сморщился от боли, но стерпел. Потянулся за зажигалкой и, как бы нечаянно, облокотился локтем на её грудь. Она взвизгнула и с размаху дала кулаком по сигарете, которую её муж уже успел засунуть в рот. Поняв, что переборщила, Козлова-жена гаркнула во всё горло:
— Хватит курить при ребёнке!
К тому времени, как старший откашлялся, малой наладил фильм и приготовился снимать очередное видео из жизни своей семьи. А на экране, тем временем, начали показывать, как муж пытается свести с ума жену: то передвигает вещички с места на место, то свет делает потемнее-поярче…
Козловы-старшие заржали как лошади на выгуле и стали громко комментировали происходящее.
— Во дура-ак! — кричал Козлов, тыкая пальцем себе в висок и трясясь от смеха, — Не так надо! Разве так сводят с ума? Эх, меня бы туда, я бы там разгулялся! Я бы ей показал, где раки зимуют!
— И эта курица, глянь на неё, пуга-ается она, глаза пу-учит! — вторила мужу Козлова-жена. — Чего, спрашивается, страшного? Мне кажется, что она его просто дёшево троллит!
Когда фильм закончился, Козловы-старшие крепко поцеловались. И Козлова-жена, укусив мужа до крови, радостно воскликнула:
— Их газлайтингу до нашего козлайтинга как до Китая на карачках, правда, дорогой?
— Правда, любимая! — утерся тот рукавом. — Малой, спасибо тебе за фильм! Классная комедия! Давно так не смеялись!
Козлов-малой кивнул головой, закончил съемку и выложил в интернет еще одно видео. Светало. Семья Козловых крепко спала. Количество просмотров перевалило за три миллиона. Где-то на небесах завистливо плакали Патрик, два Джона и один Вальтер — автор и сценаристы фильма «Газлайт».
ОСКОЛКИ (рассказ)
Старый дедушкин сервант вздрогнул как от испуга, качнулся, хрустнул передними ножками, сильно накренился и на мгновение завис. Громоздкие хрустальные вазы, похожие на короны, начали неохотно и вразнобой скатываться со своих насиженных мест и падать на пол, лопаясь на части и разлетаясь. С массивных стеклянных полок с устрашающим звоном посыпалось всё, что на них стояло. А следом и сами полки выехали вперёд, развалились на большие куски и упёрлись было в пол, подпирая шкаф, но не выдержали веса и сломались. Сервант обречённо и горестно крякнул как человек, осознавший перед смертью бессмысленность всей своей жизни, и рухнул на пол, «лицом» в битую посуду, осколки которой с новой силой брызнули по всей комнате.
Была мысль подбежать, поддержать и удержать. Была… Но инстинкт самосохранения всё же сработал, и я юркнула в сторону буквально за секунду до хрустального фейерверка. Воздух моментально наполнился сверкающей пылью, которая весело заклубилась по всей квартире. На мгновение я окаменела, оглохла и ослепла.
Всё вдребезги, всё! И медведица с тремя медвежатами, подаренная дедушкой моей бабушке, и хрустальные ладьи для лада в доме, и разноцветные чешские фужеры, и фарфоровые фигурки, и чайные чашечки из свадебного сервиза, вазоны и вазочки, керамика, чайнички — всё.
В голове моей плавал густой и тяжёлый звон. Как будто бы били в набат. «Оживать» я начала только через несколько секунд. Первым включился слух. Телевизор сразу обрадовался и голосом Михаила Сергеевича нравоучительно мне сказал, глухо так, как из-под подушки: «…все мы с вами, товарищи, не научились ещё пользоваться обретенной свободой.….»*
Я помотала головой, сделала пару сильных зевков, чтобы освободились заложенные уши, усмехнулась и ответила телевизору:
— Да я уж поняла! Учусь изо всей своей дурацкой мочи. К примеру, только что обрела свободу от собственной утвари. И выпустила на волю много опаснейших элементов, отбывавших наказание в монолитных классических формах. Сейчас немножко приду в себя и буду выгребать всё это за границы своей жилой площади старыми, пожелтевшими от времени средствами массовой информации. Больше нечем — совок-то сломался!
Телевизор обиженно заморгал и тут же перегорел. Он всегда так делает, когда не может меня в чём-то убедить. Ламповый, что с него взять…
— Да когда же это закончится?! Сколько можно издеваться?! — вдруг завопили из-за стены и застучали по батареям злобно и гулко.
— Представления не имею, когда всё это закончится и сколько можно издеваться, — тихо прошептала я в ответ. — Но вы должны быть терпеливы, мы в самом начале пути. Перестройка только начинается, а вы уже ноете. Так нельзя.
Чувства включались постепенно. По моей ноге что-то поползло. Муха, наверное. Я потянулась чтобы согнать её и вляпалась в кровь. Это была не муха — в ноге торчал довольно внушительный хрустальный осколок! И никого рядом… Господи, да чего же я стою? Надо же что-то делать, надо срочно спасать свою жизнь! И я рванула в ванную комнату за аптечкой. После лихорадочных манипуляций с пинцетом, перекисью и бинтами, выполненных трясущимися руками, я стала похожа на молодую, начинающую мумию. Доскакала на одной ноге до дивана, трусливо, двумя пальчиками, свернула и сбросила с него покрывало, усеянное стеклянным крошевом, устроилась на подушках и задрала раненную ногу на стену.
Нужно было как-то успокоиться. Искоса поглядывая на пол, который очень эффектно сверкал в лучах заходящего летнего солнца, я лежала и вспоминала, как все мои подружки в детстве делали «секретики». Брали осколок стекла, подкладывали под него фантик или золотинку от конфетки. И закапывали эту нехитрую конструкцию в землю. Неглубоко. А потом происходило таинство: осторожно, одним пальчиком, делали над закладкой ровную круглую ямку, добирались до стеклышка, сдували с него последние песчинки и сидели на корточках, разглядывали. И шептали: «Вот, смотри, что у меня есть! Только никому больше не говори, ладно?» «Секретик» можно было показывать только очень верным друзьям. А обладательница нескольких таких кладов считалась во дворе настоящей богатейкой. Потому что в то время осколки, валяющиеся на улице, были исключительной редкостью.
Все девчонки делали «секретики». Все, кроме меня. Потому что мою няньку, Лариску Архипову, очень ответственную соседскую девочку лет двенадцати, кто-то напугал тем, что её подопечная малявка может запросто найти и проглотить стекло. Мол, так уже в одном дворе было. Лариска испугалась. И как только её снова попросили за мной приглядеть, она схватила меня за плечи и очень подробно стала рассказывать, как именно осколок, до которого только пальцем дотронешься, залезает под кожу. «А потом будет в тебе ходить, ходить и как-нибудь дойдёт до самого сердца! И будет колоть, и будет очень и очень больно! Даже можно умереть!» — вещала Лариска, делая круглые страшные глаза.
Итак, я лежала на диване, вспоминала вот это вот «…даже можно умереть!» и решала, что я буду делать с внезапно свалившимся мне на голову «богатством». Почему-то представилось огромное переливающееся панно. А что? Было бы здорово наклеить все осколки на стену. Да вот, хотя бы сюда — между кухней и прихожей. Вечерами в них отражалось бы солнышко. Да и на память. Буду рассматривать и угадывать, от какой вазы или фигурки тот или иной кусок. И вспоминать всё, что связано с этой вещицей. Да, но для этого нужно будет собрать все стекляшки. И по крайней мере обточить их, чтобы они не были острыми.
«Острыми!» — по всему телу снова пробежали мурашки. Нет, я всё-таки переборю свой детский страх! Сделаю из них панно и посмеюсь сама над собой! И переборю, и сделаю! Сделаю-сделаю, да! …Но не сейчас.
Тот вечер получился длинным. Перевязав покрепче рану на ноге, потея и трясясь от страха, я собрала и завернула все осколки в диванное покрывало и спрятала этот свёрток в кладовку. На потом. Сервант и разбитые полки пришлось выкинуть. Помог сосед, возвращающийся с работы. Генеральная уборка продлилась до полуночи.
Прошла неделя. Каждый вечер, укладываясь спать, я натыкалась взглядом на кладовку, из которой немым укором торчало свёрнутое покрывало. И вспоминала о панно. А ночами мне снились осколки, путешествующие по моему телу и протыкающие моё сердце.
Ещё через неделю я не выдержала пыток и пригласила дворника, который после непродолжительной торговли вынес покрывало с осколками вон из моих мыслей за трояк. Я вздохнула с явным облегчением и промыла всю кладовку холодной водой с уксусом. Как же я радовалась тому, что в моей квартире нет больше битого стекла!
Я тогда и не знала, насколько коварны осколки. Оказывается, их нельзя взять и просто так выбросить. Эти остались во мне навсегда. И затаились до поры до времени. Прошли годы, прежде чем первый из них добрался до моего сердца. Это был хвост от разбитого фарфорового зайчика.
В тот день, когда это случилось, я расслабленно сидела в кресле и краешком глаза поглядывала в телевизор. Показывали что-то из жизни лопоухих. На экране мелькнул заячий хвост, и тут же в моей груди что-то сильно кольнуло.
— У меня же был фарфоровый зайчик, гладенький такой, мне моя бабушка подарила, где он?.. — забормотала я и сделала движение в сторону того места, где раньше стоял сервант.
«Боже мой, зайчик же погиб, когда все рухнуло! А ведь он был последним оставшимся „в живых“ из тех самых, сражающихся фарфоровых семеек!» — пронеслось в моей голове.
Волнами мыслей меня отбросило назад, в то время, когда мне только-только исполнилось шесть. Я жила у бабушки с дедушкой, которые воспитывали во мне чувство прекрасного приобретая дорогие игрушки, импортные наборы фарфоровых зверят. Одна семейка из папы, мамы и двух детишек стоила рубль с копейками. Там были и олени, и бегемоты, и киты, и медведи, и зайцы. Идея покупать ребенку миниатюрные произведения искусства принадлежала моей бабушке.
Делала она это на свою пенсию. День, когда должны были принести деньги, считался чуть ли не праздничным. Бабушка вставала очень рано, провожала дедушку на работу и бежала на рынок за молоком. А потом, пока я спала, тщательно и почти бесшумно прибиралась в квартире. Вешались чистые занавесочки, менялась скатёрка на столе. Но поверх скатёрки — обязательная клеёнка, очищенная моими руками от моих же каракуль обычными спичечными головками. Кстати, каракули были сделаны новомодной тогда шариковой ручкой. Ложились на свои места свежие половички, разноцветные китайские полотенчики, отглаженные салфеточки и всякие другие уютные тряпочки. Матово блестели и пахли мастикой паркетные полы, ещё со вчерашнего вечера натёртые вручную и доведённые затем «до ума» жутко воющим полотёром с серой треугольной головой. Я его боялась и затыкала уши. Ну, чистый дракон!
Итак, когда всё было готово к приёму работника почты, бабушка будила меня. Я вскакивала и бежала умываться. Затем выпивала кружку молока на завтрак, и мы начинали ждать, по очереди поглядывая на старинные механические часы, бьющие по своим струнам молоточками каждую четверть часа. Почтальонша могла прийти когда угодно. Поэтому мы никуда не отлучались. Наконец раздавался звонок в дверь, бабушка бежала открывать, и в квартиру влетала долгожданная гостья с брезентовой сумкой через плечо. Женщины быстро садились за стол. Доставались какие-то бумаги, ставились подписи, и считались деньги. Сорок один рубль шестьдесят копеек. И каждый раз повторялся один и тот же диалог. Почтальонша строго спрашивала бабушку:
— Дам сорок два рубля. У вас сдача будет? Сорок копеек у вас есть?
А бабушка, даже не заглянув в свой кошелёк, взволнованным голосом ей отвечала:
— Да не сообразилась я как-то опять… Каждый раз все забываю и забываю, голова-то дурная уже, старая. Давайте без мелочи.
— В следующий раз обязательно мне напомните, я отдам. И имейте размен.
Но в следующий раз вся история с отсутствующей сдачей повторялась как под копирку. Как будто бы это была игра для взрослых, с очень строгими правилами.
Довольная почтальонша вылетала из квартиры, а бабушка ещё раз пересчитывала деньги, прятала большую их часть в комод под полотенца и говорила мне:
— Вот они, трудодни-то колхозные, сказались: сорок один рупь. Палочки на стене коровника рисовали. День отработала — палочка. Вот и пенсия такая.
После этого бабушка собиралась и уходила. Я знала, что она принесёт сегодня в дом: обязательную пачку соли, кусок хозяйственного мыла и, возможно, очередную белую коробочку, которую она достанет из сумки почти с порога, даже не сняв пальто. Я подбегала, целовала ее в щеку и спрашивала:
— А кто там, бабушка?
— А ты открой и посмотри. Только осторожнее, не разбей. Береги, это настоящий фарфор. Будет тебе память о бабушке.
— Я не разобью, я знаю, осколки могут залезть под кожу! Даже можно умереть! — деловито отвечала я и бежала скорее в комнату.
Ставила коробочку на стол, развязывала тугой узел бумажной бечёвки неловкими детскими пальчиками, открывала крышечку — и ах! — доставала завёрнутые в бумажки фигурки новых зверушек.
Как же я им радовалась! Все они были беленькие, но разные: и матовые — тёплые, и шершавые, и блестящие — прохладные, и просто гладкие. Я могла часами разглядывать их нарисованные золотом или синью глазки и ушки. Выпускала их гулять в волшебный лес, состоящий из трёх маленьких пластмассовых ёлочек. Я кормила их из тарелочек, сделанных из фольги разноцветных молочных крышечек. Я рисовала для своих фарфоровых друзей моря и дворцы на грубых, ворсистых альбомных листах… Так пролетело почти полгода. Я думала, что это будет длиться всегда. Но вскоре произошло событие, которое разрушило этот нежный и чистый сказочный мир.
В тот день к нам из Ленинграда приехал фронтовик Ваня. Дедушка встретил своего родного брата очень тепло, но почти сразу ушёл на работу, в ночную смену. Так толком и не поговорили, чуть посидели за столом, обнявшись, и тут же расстались. А бабушка проводила мужа и осталась с гостем, чтобы вспомнить «те годы» и поведать о том, как было голодно и холодно:
— Да почти как в Финскую и было, когда Фёдор погиб, мой первый муж, отец моей старшей дочери.
Потом рассказывала, как они ждали каждой сводки и, затаив дыхание, слушали Левитана, у которого был богатырский голос. Как еле дождались Победы. Как в сорок пятом же году родилась «вон, ее мать». Как в сорок седьмом, зимой, их обокрали и вынесли из тесной бараковской комнатёнки буквально всё, вплоть до ящика с обувью.
— А я чего, — вздыхала бабушка, — зашла, все поняла. Как не понять, когда пусто. «Ах, ах» — и в роддом.
И поэтому сынок родился недоношенным и слабым. Он умирал, а врачи советовали не кормить мальчика грудью. Она не поверила. И понесла малыша к медицинскому светиле. В тот день было очень холодно, несла его в отрезанном от старого полушубка рукаве. Отдала профессору припрятанную на черный день золотую «николашку». И все для того, чтобы услышать то, что она и безо всяких профессоров знала. Что материнское молоко — это спасение для ребенка.
— Шла обратно, уж ругала себя, ругала. А что толку? Своими руками отдала деньгу, не вернешь. Выжил мой мальчик, слава тебе господи. Молоком его кормила, молоком же ему и в нос, и в глаза прыскала…
Дед Ваня молчал.
А я возилась под столом со своими игрушками и делала вид, что ничего не слышу. Потому что на самом деле это был не стол, а самая настоящая сказочная пещера. Самая надежная изо всех пещер. И в ней можно было прятаться от злых фашистских колдунов, чтобы потом выбегать и помогать добрым партизанским волшебникам.
Бабушка устала вспоминать и замолчала. И тогда заговорил дед Ваня. Он начал рассказывать о своём первом бое без предисловий, срывающимся на фальцет голосом:
— Понимаешь, Денисовна, только мы пошли, ещё и «ура!» не успели крикнуть, а тут снаряд визжит — сссзззждых! — и прямо в ротного! И на куски его! А он перед самым боем-то хорохорился, что его ни пуля, ни штык не берут. Он же опытный уже был, участвовал уже. Финскую прошел. Мы же к нему как к отцу… мы же на него перед этим боем молиться готовы были, понимаешь ты? Как на икону молиться! А он — раз! — и весь на кусочки… На наших глазах!
— Тши ты, ребёнок же … — прошептала бабушка, заглядывая ко мне под стол.
Дед Ваня тоже приподнял скатерть, посмотрел на меня и попытался успокоить бабушку:
— Да играет. Она все равно ничего не поймет. Да и слава богу, что так. Дети наши пусть другими интересами живут. А мы… Мы уже свое отжили. Я же и говорить больше ни о чем не могу, кроме как об этом. Не могу, и всё. Ты уж меня прости, у меня в голове только про войну и вертится. Ведь сколько же погибло людей. И простых, и сложных. Да что там ротный! Не от таких летели клочья!.. А нам что делать было? На меня ошмёток ротного упал, я и побёг как заяц. А за мной — остальные. Всё оружие побросали и побёгли. Другие — в бой, а мы — в кусты…
Мне стало до слёз жаль деда Ваню. Я вылезла из своего укрытия, подползла к нему, потянула снизу за брючину и сочувственно спросила:
— Страшно тебе было, деда?
— Очень страшно, — ответил он, весь как-то сгорбился, затрясся и стыдливо закрыл тёмными грубыми ладонями морщинистое лицо.
И так мне вдруг захотелось, чтобы он победил в своем первом бою и больше никогда не плакал… всё равно как дышать! Я судорожно всхлипнула, быстро нырнула под стол, собрала своих фарфоровых зверушек, завернула их в платок и шепнула им, что нужно срочно спасать одного доброго человека. Выползла с этим узелком и расставила игрушки у всех на виду стройными рядами.
— Что это у тебя? — спросил дед, сполз со стула и сел рядом со мною, поспешно утирая слёзы.
Бабушка засуетилась:
— Иван, ну что ты в самом деле на пол-то, как ребёнок…
Тот махнул на неё рукой:
— Да погодь! Не видишь что ли? У нас тут интересное намечается.
Я нервно вздохнула, настроилась и начала говорить, показывая руками:
— Деда, это фашистское войско. Смотри, оно уже идёт на тебя войной, защищайся скорее! Ты обязательно должен их победить! Слушай, они уже бьют в барабаны! Трын-ды-ды-дын, трын-ды-ды-дын!
И началась странная игра.
— Смотри! — кричала я деду. — Вот они, они уже близко!
А он, сидя рядом со мной на полу и утирая слёзы, с криком «А мы их сейчас вот так!» — смахивал фарфоровые фигурки обеими руками в сторону. И в голосе его звучало всё то, что не прозвучало тогда, в его первом бою: и «За Родину!», и «Ура!»
Игрушки бились насмерть. Я, заходясь от безумного страха, убирала острые осколки в платок прямо руками, выстраивала оставшихся фарфориков в строй, и всё начиналось заново: игрушечные враги наступали, а наш воин побеждал их снова и снова. До тех пор, пока не разбил их в пух и прах. Целым остался лишь один маленький зайчик. С ним дед отказался сражаться и приказал ему уходить и передать там всем, чтобы на нашу страну никто и никогда больше не нападал.
Бабушка смотрела на нас каким-то пронзительно-странным понимающим взглядом. И не прерывала игру.
На следующий день дед Ваня уехал обратно в Ленинград. А через неделю он пошёл на почту и разослал всем своим братьям и сёстрам телеграммы, чтобы приезжали на его похороны. Взволнованные родственники звонили ему целый день, убеждались в том, что он жив, и ругали его за плохую шутку. Переговорив со всеми, дед Ваня лёг в кровать и умер. Так к нему никто и не приехал.
Тот последний фарфоровый зайчик остался мне на память. И погиб, когда упал дедушкин сервант…
Да, напрасно я думала, что навсегда избавилась от осколков, когда выбросила свёрток с разбитыми сувенирами. Все они остались во мне. И колют, колют… Права была Лариска Архипова, когда говорила, что любой осколок, до которого дотронешься хоть пальцем, не заметишь как, но обязательно залезет к тебе под кожу и будет в тебе ходить, ходить и когда-нибудь обязательно дойдёт до самого сердца! Ох, как права.
— — — — — — — — — — —
*Из выступления М.С.Горбачева на XXVIII съезде КПСС (10 июля 1990 года).
КАНИСТРА (фельетон)
Жил-был и работал в сельскохозяйственном комбайне один очень хороший, пламенный мотор. А тут, как на грех, приехал в колхоз какой-то мелкий чиновник и захотел наглядно доказать, что работать деревенским механиком очень даже легко и просто. Взял в руки первую попавшуюся канистру и прямо на глазах у изумленной публики плеснул из канистры в комбайн. Заметьте, в единственный комбайн. Во все дыры залил, в нужные и ненужные. Михеич, которому давным-давно было сказано эту канистру утилизировать, аж в штаны подпустил. А повариха Люська всхлипнула: «Непутевый!» При этих словах председателя колхоза чуть не хватила кондрашка, и он упал на руки своей секретарши. Ну как кто-то может быть непутевым в колхозе под названием «Верный путь»?
А пламенный мотор чихнул, стуканул и заглох. Всё, капут.
Как она попала в гараж, эта канистра, никто не помнил. Канистра была красивая. С какой-то иностранной надписью даже. Вот и стояла в гараже на самом видном месте. Украшала. А так-то гаражный люд в нее всякие осколки собирал, металлическую стружку. Кто-то харкнул на днях. Кто по-маленькому не добежал, кто по-большому — всё туда. Повариха Люська вчерась слила в нее третье масло из-под блинов. А тракторист Петруха прямо перед приездом чиновника долил канистру доверху отработкой.
Надо было выбросить, надо. Но уж больно красивая, щука. Жалко.
Чиновник ничего не заметил и уехал довольным. Отчитался, небось, что сельское хозяйство поднял. И по карьерной лестнице, небось, взлетел. Этого никто теперь не узнает. Значит, и нечего рассуждать. Повариху Люську уволили. Сразу же после прощального банкета, разумеется. Ибо, нефиг на рабочем месте жрать блины. На рабочем месте надо работать. Михеича тоже хотели «уйти на пенсию». Но как раз в тот момент, когда это решение созревало, председателю позвонил тот самый чиновник с проверкой. И спросил, как там его собственноручно починенный комбайн. Председатель, держа одной рукой телефонную трубку, второй — схватил проходившего мимо Михеича и злобным шепотом приказал изображать звук пламенного мотора. Что Михеич, обладавший изумительным басом и большими щеками, с удовольствием и исполнил. И его оставили. Виноват — отрабатывай. Правда, оформили всего на полставочки. Потому что чиновник звонил довольно редко. Впоследствии председатель хотел заменить Михеича на молодого специалиста Ваську, своего племяша. И даже один раз дал Ваське порычать и потрясти щеками в телефонную трубку. Но ушлый чинуша сразу же распознал подмену и спросил, почему пламенный мотор работает вполсилы и неровно.
Вот и вся история. Ах, нет, не вся. Повариха Люська пыталась устроиться обратно. Приходила в кадры, кукарекала, мычала, квохтала, блеяла. Не взяли. За неактуальностью. Ещё по всему колхозу было объявлено, что слово «непутевый» запрещено к употреблению в общественных местах. Ах, да! И конечно же, утилизировали ту самую канистру. Михеич плакал. Красивая же, щука. Жалко.
Я заснувшая, я медведица,
Не хочу гулять в гололедицу,
Сплю и вижу сон: песню в унисон
Птицы разныя стали разом петь.
Запою и я, как поёт медведь.
СОБАКА ЛИЗА (рассказ)
Было это очень давно. Так давно, что время это никто уже и не помнит, а записи какие, если кто и вёл, — так те записи давно уж истлели, как и кости самих писавших. Так вот, именно тогда, поздним летом, по дороге, ведущей из Калужской губернии в Москву, шёл молодой крестьянин. Был он ростом мал, худ и измождён трудной дорогой. Одежда на нём была справная, но слегка потрёпанная временем, что говорило о его былой зажиточности. Чёрные кудри, буйно торчащие из-под головного убора, выдавали в нём человека весёлого нрава, а в остром взгляде тёмно-зелёных близко посаженных глаз сквозили быстрый ум и целеустремлённость. Звали юношу Константином.
Родовое гнездо своё наш путник покинул по причине полного уничтожения такового вследствие событий чисто политических, на которых мы пока не будем заострять внимание читателя, и направлялся он в большой город, чтобы жить, трудиться и учиться, если на то будет воля Божия.
Время шло к вечеру, погода начала портиться, и на дорогу, которая привела нашего путника в лес, упали первые крупные капли дождя, пахнувшего ранней осенью и грибами. Юноша ускорил шаги, но усиливающийся дождь и сгущающаяся тьма застили путь, быстро заполняя собой окружающее пространство.
Дело его величества случая! Если бы Константин не потерял один сапог, который был захвачен топкой грязью, да не обернулся за ним именно в тот момент, когда сверкнула молния, то так и не заметил бы заброшенную, разорённую усадьбу, представшую перед его глазами лишь на миг. Вытащив свою обувку из вязкого месива, молодой человек, творя молитвы, бросился скорее к парадному крыльцу, чтобы укрыться от грозы, всё набирающей силу, и устроиться в доме на ночлег.
Барская усадьба, пожелавшая приютить нашего героя, напоминала собою большую испуганную птицу, летящую куда-то, раскинувши два крыла по обе стороны от своей груди — круглой центральной залы, украшенной со входа высокими белыми колоннами. По-крестьянски сноровисто Константин, привыкший ко всевозможным лишениям, очистил сапоги от прилипшей грязи, хлопнул о колено картуз, чтобы сбить с него капли дождя, вошёл внутрь помещения и внимательно огляделся.
Он находился в большой сырой и тёмной комнате, освещаемой лишь кратковременными вспышками уже уходящей грозы. Повсюду были разбросаны какие-то обломки и сор, у дальней стены стоял давно нетопленный камин, а перед камином, словно в бальном танце, застыли два колченогих кресла.
Юноша, запомнив расположение предметов, не обращая внимания на кромешную темень, уверенно подошёл к камину и провёл рукою по правой стороне кирпичной кладки. Нащупав маленькую нишу, он сунул в неё руку и вытащил то, что там и должно было находиться: кремень, кресало и трут. Крошечное пламя, высеченное из кремня и перенесённое на трут, позволило обнаружить подсвечник с тремя почти целыми свечами и сухие дрова, заботливо сложенные кем-то возле стены. Вскоре в камине запылал спасительный огонь, распространяя долгожданное тепло и мягкий, мерцающий свет.
Наш герой запахнул чудом уцелевшие окна и затворил все двери. Вернувшись к камину, расставил кресла и на одно из них скинул со своих плеч дорожный мешок и верхнюю одежду. На сиденье упала торба со скромным скарбом в тощем брюхе, а на торбу, тылом к огню, легла влажная от дождя сермяга толстого сукна, рукава которой свесились плетьми как натруженные руки. Широкий и толстый пояс, свернувшийся на спинке так, как будто это чья-то голова, внезапно сделал окружающую обстановку странной и несколько пугающей. Константин снял с себя картуз и нахлобучил его на получившееся чучело. И тут же тени, отброшенные жарким полыхающим огнём, заиграли по-новому — стало казаться, что рядом спокойно дремлет кто-то очень родной.
Константин сел в соседнее кресло и крепко задумался, подперев голову кулаком, лишь изредка отвлекаясь от своих дум для того, чтобы подкормить изголодавшийся очаг, ловко орудуя в самом его сердце кочергою, найденной вместе с дровами.
Читатель, которого никогда не мучили тяжкие воспоминания, может пропустить несколько следующих абзацев полностью.
Константин был седьмым, самым младшим ребёнком в семье, которая вела простую, деревенскую жизнь: держали скотину, сеяли хлеб, просо, вику, пряли шерсть, работали не покладая рук. Справляли всё сами, нанимая работников только на сбор урожая, да и то лишь затем, чтобы дать им на прокорм.
Но грянуло. Их, простых деревенских тружеников, объявили кулаками и раскулачили, а родителей и вовсе убили. Осиротевших детей забрал к себе архимандрит Пётр, родной брат отца, и воспитывал как своих. Но грянуло снова.
Тёмной ночью Пётр разбудил детей, сказал напутственное слово, раздал пояса с зашитыми в них золотыми николаевскими монетами, строго-настрого запретил держаться вместе, упоминать свою фамилию и происхождение, да повелел уходить из его дома тихо, быстро и по одному. Ослушаться не посмели. Сёстры даже не заголосили. Старшие дети, не проронив ни слова, приняли благословение названного батюшки, обнялись со всеми на прощание и ушли в темноту, в разные стороны, молча, крадучись как воры.
Младшие же, Ванька да Костя, залегли в кустах до рассвета и видели, как за батюшкой приехали, видели, как он держался из последних сил и творил молитвы, еле шевеля посиневшими губами. Видели, как из хаты начали выносить добро и распихивать его по подводам большими комами, торопясь и ругаясь между собой. Видели, как выгоняли на безлюдную, как вымершую, улицу испуганно кричащий скот. Видели, как увозили батюшку и поджигали опустевшую, расхристанную избу. Огонь вспыхнул, поднялся до самых небес и загудел страшно, как голодный волк: «Гу-у-у, гу-у-у…»
Ванька заплакал, уткнувшись в траву, потом повернул мокрое от слёз и росы лицо своё к Косте и посмотрел ему прямо в глаза. Во взгляде его был немой укор. Костя обнял брата и прошептал жарко и сдавленно:
— Ты вспомнил, как мы играли в пожар?
Тот молча кивнул.
— Я тоже это вспомнил. Но вот в этом, — Костя кивнул на пылающий дом, — нашей вины нету! Мы были маленькие и просто играли, понял? Ты меня понял?! Скажи «да»! Иначе получится, что это мы призвали этого сатану! Да?
— Да, — прошелестело в ответ.
Но картинка из подзабытого прошлого, уже вот она, стоит прямо перед глазами, усмехается и не прогнать её никак из головы, и повторяется, и повторяется, словно заезженная пластинка на граммофоне. На картинке смешной Костя-маленький, отрок годов семи от роду. Он сделал факел, поджёг его и шагает по горницам с самого раннего утра, будит и пугает своих старших братьев и сестёр огнём и задорной сочинилкой, состоящей из одной лишь фразы: «Скоро хата загорится! Скоро хата загорится!» В глазах проснувшихся — испуг, а потом звучит дружный громкий смех: «Вот выдумщик, попадёт же тебе, когда батюшка вернётся от бабки Ефросиньи!» Минута-две, и уже за Костей ходят все старшие и с хохотом поют: «Скоро хата загорится!..»
Вот она и загорелась… Константин сжал кулаки. В одну руку попал белый камень-кругляш. «Бери и помни!» — почему-то прозвучало в голове. Сунул его в карман. Когда обвалилась крыша, подняв сноп искр и пыли, братья зашевелились в кустах, поднялись, обнялись на прощание и по примеру старших, осенив себя крестным знамением, молча расстались.
Вот какие воспоминания роились и жалили, как дикие пчёлы, сердце нашего героя почти до полуночи. Наконец Константина сморил спасительный сон, который добрые люди называют мёртвым: спит человек как бревно бесчувственное, ни снов не видит, ни жары, ни холода, ни времени не осознаёт.
Так и спал наш юный герой до тех пор, пока его что-то не толкнуло. Юноша сильно вздрогнул всем телом и открыл глаза. То, что он увидел, буквально сковало его и лишило дара речи! Во втором кресле, совсем рядом с ним, в бликах ещё не потухшего камина сидела старая крупная чуть облезлая рыжая собака и… вслух считала петли на вязании, внимательно рассматривая и перебирая их на спицах длинными и крепкими когтями. Голос её был несколько скрипуч, но приятен на слух. На собаке ладно сидело платье из светлой тафты, подбитое чёрным гризетом, столь длинное, что туфель, о наличии которых нетрудно было догадаться по их носам, проступающим из-под лёгкой ткани, колеблющейся в такт счёту, не было видно вовсе. Голову её украшал кипенно-белый шёлковый чепец, из-под него торчали чуть согнутые чуткие уши, одно из которых было повёрнуто к Константину.
Досчитав петли, собака слегка кивнула головой, соглашаясь с тем, что у неё всё сложилось, повернулась к нашему герою, рискующему сломать подлокотники кресла, которые он сжал так, что побелели костяшки пальцев, глянула на него строго и приказным тоном стала вопрошать:
— Что за человек? Чьих? Величать меня должно Елизаветой Даниловной, я хозяйка сей усадьбы.
В ответ молодой человек издал странный звук горлом и вместо того, чтобы представиться почтенной даме, невольным движением выдал свои истинные намерения: бежать сломя голову, куда глаза глядят и скорее забыть всё как ужасный сон! Это не ускользнуло от внимательного взгляда холодных голубых глаз Елизаветы Даниловны, она неодобрительно покачала головой и укоризненно произнесла:
— Ну, полноте, сударь, карличать. Нешто так боязно?
Не желая обидеть пожилую собаку своим молчанием и чудом преодолев странное оцепенение, сковавшее всё его тело, юноша произнёс каким-то не своим, совершенно чужим для себя голосом:
— Боязно… мне… Костя… я.
Смутившись, кашлянул, прикрыв рот рукою, еле отцепившейся от подлокотника кресла, и добавил уже вполне степенно, так как успел уговорить самого себя, что сон этот не такой уж и страшный, а просто чудной:
— Из крестьян мы…
— А не беглый ли ты, часом? Нонче всяк бежит, — подозрительно прищурилась собака, слегка обнажив при этом подёрнутые желтизной зубы.
— Не можно такое. Я ни от кого не бегу, я в Масковию иду — учиться желаю, — чуть покривил душою Константин, решивший, что во сне не возбраняется немного вильнуть в сторону, тем более что с утренней молитвой всё отмолится.
Елизавета Даниловна слегка улыбнулась и посмотрела на Константина острым изучающим взглядом, от которого у того побежали мурашки по всему телу, затем внезапно смягчилась и предложила ему испить с дороги горячего чаю. Он не смог отказаться и выразил своё согласие неуверенным наклоном головы.
Собака отложила вязание, медленно поднялась с кресла, обнаружив довольно полный стан, и тихо ступая, ушла на задних лапах куда-то в темноту необыкновенно царственной походкой. Впрочем, вернулась она довольно скоро, неся в передних лапах серебряный поднос с двумя дымящимися чашками.
Затем поставила поднос на маленький столик, незаметно затесавшийся между кресел, заняла своё место, взяла в лапу чашку, с шумом отхлебнула и заговорила:
— Одолели дожди. Сыро в усадьбе стало, совсем сыро. Как бы не погнила моя усадьба, как те шнявы. Указывала, чтобы щели зачиняли и мазали, — никто не слышит. Да и то верно — стара я совсем. Были бы дети — меня бы не решились ослушаться. Да Бог детей не дал…
Константин подумал было, что во сне можно и не поддерживать беседу, но собака посмотрела на него вдруг так жалобно, что смолчать в этот момент мог разве только какой-нибудь придорожный камень. Представив себе, что он просто разговаривает с дальней родственницей, юноша осторожно глотнул предложенного чаю и сочувственно вымолвил:
— Оно, конечно, хозяйство вести надобно завсегда с умом и строгостью. И хоромы блюсти в сухости и чистоте. А тех, кто забижает или ослушаться посмел, — сечь милосердно, чтобы ум через все места в голову входил.
Елизавета Даниловна грустно вздохнула:
— Про милосердие никогда не забываю. Наташка Балкша, вон, собакой меня кликала, пока при регентше Аннушке сидела. «Лизка-собака, — кричала, — собака, собака!» И язык высовывала далеко. Пришлось отрезать.
— Язык? — ужаснулся Константин и поспешно перекрестился.
— Его самый, — важно кивнула Елизавета Даниловна и добавила: — Нельзя было сей её ядовитый орган являть на улицу. Да и к лучшему всё — зело тихо в окружении стало. А то, придумала тоже — «собака»! Какая я ей собака?! А я помилосердствовала — не колесовала её, курляндскую подпевалу!.. А могла бы.
— А после языка-то что? — не сдержал своего любопытства напуганный до дрожи в коленях собеседник.
— А после языка уж тогда и высекла. Да и в Сибирь её, матушку, — пущай охолонится. Ништо ей, дуре! — злобно оскалилась собака, немного помолчала и произнесла уже гораздо спокойнее:
— Померла уж, небось. А я всё живу… За верность не умираю, — она чуть пошевелила губами и осенила крестом свои внезапно проявившиеся сквозь шерсть человеческие черты.
Изумлённый юноша заметил перемену, которая всего лишь на миг произошла с его собеседницей, и подумал: «Вот как оно, оказывается, чудно бывает: за иные человечьи проступки и диким псом можно стать, а за собачью верность — человеком. А это ведь отчего всё? А это всё оттого, что напридумывали себе люди мирских законов, да сами же в них и запутались. Есть закон Божий, живи по нему и всегда будешь тем, кем тебя Господь создал».
Елизавета Даниловна и Константин пили чай и наблюдали, как завораживающе мерцали обугленные дрова. Они безнадёжно рассохлись от жара и, как будто бы втайне надеясь приноровиться к пожирающему их огню, изредка вспыхивали с новой силой и тотчас затухали, но неизбежно распадались на куски и постепенно обращались в пепел…
За окнами чуть посветлело — едва заметно, наивно и по-ангельски розово. Елизавета Даниловна достала из складок платья старинный брегет, надавила сверху на пуговку, часы мелодично прозвонили четыре раза, а спустя мгновение — ещё раз.
— Время ещё есть, но оно уходит, — произнесла она тихо, затем встрепенулась и, повернувшись к Константину, как будто бы невзначай, поинтересовалась: — А ты, сударь мой, веришь ли в сны?
Вопрос о других снах показался в такой ситуации комичным, но Константин не решился усмехнуться и ответил, пожав плечами:
— Снится иной раз всякое. И что же, надо верить?
— Да нет же, непонятливый какой! Я про говорящие, вещие сны спрашиваю. Про те, которые предупреждают о чём-то.
Не дождавшись ответа, Елизавета Даниловна продолжила:
— Вот снилось мне давеча, будто царя мужики убили, да всю его семью под корень извели. Страшно как! И грех большой!
Константин вздрогнул всем телом и закрыл лицо обеими руками, как спрятался от чего-то. В голове его крутилось только одно: «За грехи наши, за грехи!» Елизавета Даниловна посмотрела на него с любопытством, замолкла на мгновение, а потом продолжила свой рассказ:
— И вот, будто смотрю я на них, на мёртвых, а лика царя убиенного не вижу. Как нет его, лика-то, совсем. Портрет его висит — и на портрете его лика тоже нет, одно белое пятно какое-то. А мне бы надо посмотреть на его лик! Ой, как надо!
— Да за чем же дело стало, Елизавета Даниловна? — чуть приподнялся с места Константин. — Надо, значит, прямо сейчас и добудем! А нуте-ка, головушку свою чуть в сторону, вот так!
Достав из-под картуза, лежащего на спинке кресла, где восседала Елизавета Даниловна, свой пояс, Константин сел обратно, поудобнее взял его двумя руками и чуть нажал на шов, который тут же стал расползаться под давлением крепких пальцев.
Через образовавшуюся прореху он вытащил несколько золотых червонцев и подал их своей собеседнице. Та взяла их с некоторым внутренним трепетом и, ещё даже не взглянув на монеты, спросила:
— А ежели и теперь не увижу лика? Тогда что?
— А вы глядите, глядите! Вот, сейчас ещё дров подкину, чтобы посветлее было, и обязательно увидите!
Константин встал, чтобы подбросить дров, а заодно размять занемевшую от непривычно долгого сидения поясницу. Распрямился, выпил остатки чая, заглушив внезапно усилившееся чувство голода, и пошёл за щепой, пробормотав при этом: «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи», выразив этими словами свою готовность только к тем делам, которые освещаемы разумом.
Огонь в камине вспыхнул с новой силой. Ах, камин, камин! Это воистину лучшее изобретение человечества! Уютно потрескивает дровами, дышит жаром и сверкает бликами, успокаивает и завораживает, но особо задумываться не даёт. Крак! — и посыпались искры! Это камин отогнал плохие мысли, которые вот-вот должны были у вас появиться. Если в прохладную погоду укутаться в плед, сесть подле камина и взять в руки чашечку горячего чая, то можно долго смотреть на огонь, вдыхая аромат трав, огня и ещё чего-то, чего уже нельзя описать как запах. И безмолвствовать, наслаждаясь покоем…
Елизавета Даниловна долго рассматривала червонцы с двух сторон и задумчиво качала головой.
— Это русский царь? — спросила она, после того как убедилась, что видит лик на каждой монете.
— Да, это русский царь, — подтвердил Константин.
— Не наших кровей — брауншвейгских, — ревниво произнесла собака, придирчиво рассматривая профиль Николая Второго, выбитый на монетах. — Но… русский царь, самодержец!.. И его посмели убить?! И детей, и супругу?
Константин угрюмо кивнул головой.
Елизавета Даниловна, получив этот немой ответ, вскочила с места, сунула монеты Константину в руки и тяжело заходила по зале, держась передними лапами за голову и приговаривая:
— Как такое возможно?! Грех-то какой, грех! Не отмолить никогда и никому! Что же теперь будет? Как всё будет?
И вдруг, резко остановившись, повернулась к Константину, наблюдающему за нею и не знающему, как поступают люди в таком случае. Спросила, глядя на него в упор:
— За что его лишили жизни?
— Никто точно не знает за что, — ещё больше помрачнел наш герой, явно скрывая свои собственные мысли по этому поводу. — Кто чего говорит. Люди много бают неподходящего, может, и нарочно лгут, а может, и сами верят в то, что говорят.
— И как Господь допустил такое? — Елизавета Даниловна устало села обратно в кресло, немного успокоилась и сурово промолвила, глядя юноше прямо в глаза:
— А эти золотые монеты с ликами царя, откуда они у тебя, кто их тебе дал?
Просто так ответить на этот вопрос не получалось, и Константину пришлось рассказать всю свою печальную историю с самого начала. Елизавета Даниловна слушала его повествование очень внимательно, иногда качала головой и вздрагивала, приговаривая:
— Бедный отрок! И за чьи прегрешения такие испытания?
Наконец, горестный рассказ Константина подошёл к концу. Описав, как он попал под дождь, потерял в грязи сапог и увидел эту усадьбу, юноша слегка замялся, но решил говорить правду до самого что ни на есть конца, как бы она ни выглядела для собеседницы:
— Я нашёл огниво, сотворил огонь в камине, разложил свою одежду, чтобы она просохла, и крепко уснул, потому что очень устал… — Константин, сделал паузу и вопросительно глянул на Елизавету Даниловну.
Та молчала и смотрела на огонь. Тогда Константин решительно добавил:
— Вот, сплю сейчас — и вижу во сне… вас!
Елизавета Даниловна повернулась к юноше, широко раскрыла свои ясные глаза, развела лапами в крайнем удивлении и произнесла:
— Ты говоришь так, как будто сие — твой сон?!
— Так и есть, это мой сон. И вы мне снитесь, и вязание ваше, и чай… Сон, он и есть сон…
— Ты просто голоден и очень устал, сударь мой. Сейчас я налью тебе ещё одну чашку, и тебе придётся меня очень внимательно выслушать и крепко-накрепко запомнить всё, что я скажу.
После того, как ароматный и горячий напиток был разлит по чашкам, из походной торбы Константина были извлечены две краюхи хлеба и два куска колотого сахара. Елизавета Даниловна села в своё кресло и, даже не откушав, начала говорить, сопровождая почти каждое своё слово указательным жестом в сторону юноши:
— Слушай же меня, сударь, и запоминай! Эти золотые монеты с ликами убиенного царя должны быть употреблены только на богоугодное дело и никуда больше!
После этих слов собачий образ собеседницы, временами то проявляющийся, то исчезающий вовсе, окончательно растаял, и перед изумлённым взором нашего путешественника предстала холёная дама довольно молодых лет.
— А какое дело можно считать богоугодным? — спросил поражённый Константин, переместив непрожёванный кусок хлеба за щеку. — Угодно ли Богу, ежели в свою семью вложиться, к примеру?
— А ты философ, сударь! — усмехнулась Елизавета Даниловна. — А вот спрошу тебя так — а коли потом из этой семьи выйдет кто богохульником, татем или кровопийцей? Ну-ну, не заходись, не кашляй!.. Думай сам — этот вопрос не ко мне. Я твёрдо знаю лишь одно — ежели монеты с ликами будут потрачены на зло — даже случайно! — то того, кто поспособствовал этому, постигнет горькая участь и лишения, которые перейдут на его потомков.
После этих слов Елизавета Даниловна перекрестилась размашисто и принялась за чай с сахаром и хлебом, нахваливая еду:
— Ах, какой ароматный хлебец, да горячий чай, да сладкий сахар. Прямо душа радуется.
Это было больше похоже на завтрак, чем на ужин — уже совсем светало, и начинали заливисто щебетать птицы. После бессонной ночи, да после чашки горячего чая с сахаром и хлебом нашего героя снова потянуло в сон. Извинившись перед Елизаветой Даниловной, Константин испросил у неё высочайшего позволения поудобнее устроился в своём кресле и крепко заснул. Он знал, что будет делать завтра, когда проснётся. Золотые лики надо спрятать в камине — сделать в топке, в самом низу, глубокую нишу, положить в нишу пояс и заложить каменьями, перемешанными с песком, с глиной и водой. А затем отправиться в путь, туда, в большой город, в Масковию. Когда же наступит время — а оно обязательно наступит, — он вернётся за золотыми ликами и пустит их только на богоугодное дело.
Цесаревна Елизавета Петровна очнулась от тяжкого сна вся в поту. Утёрлась маленькой подушкой-думкой, поискала духмяной ручкой кубок с питьём, не нашла и откинулась обратно в постель.
Цесаревну била лёгкая лихорадка. Она лежала и думала: «Надо бы вызвать Лестока, в сём виновен вчерашний куртаг у герцогини Брауншвейгской — видать, просквозило. Да ещё этот говорящий сон… Необразованный крестьянин Константин и я сама рядом с ним — подаю чаи старою облезлою собакою! Да еще и вяжу попонку из своей собственной шерсти!» — Елизавета Петровна приподнялась и села в подушках, мысли потекли чуть ровнее: «Любимая, верная собака Петра Великого, моего батюшки, — Лизетта Даниловна, как он её называл! Нынче чучело её стоит на палочке в Кунсткамере. Наташка Лопухина — головастая, вся неровная, из бочаров, а туда же — статс-дама… Вчера, на куртаге, когда проходила мимо неё, издала звук, как лает маленькая собачка, все засмеялись… и я тоже! Они смеялись надо мною вместе со мною! Как это гадко, гадко!»
Цесаревна хотела было встать, но её вновь одолела слабость, она прилегла и зарылась в подушки, мысли пугали её, растекались в разные стороны и путались. Елизавета сделала над собою усилие и попыталась привести их в порядок. Вдруг в её голове как-то всё перевернулось и стало ясным, но от сделанного ею вывода Елизавета Петровна чуть не лишилась чувств: «Они смеялись не надо мною, они смеялись как обманом победившие Петра Великого, славные дела его и потомков! А это, ведь, отчего всё? А это всё оттого, что погружены в глубину невежества и указов писанных не соблюдают! В Москве надобно учредить университет, да две гимназии для дворян и разночинцев, дабы искоренить полностью тьму неведения на Руси среди всякого звания людей, кроме крепостных! Пусть такие, как Константин, свободно наукой пользуются!.. И этот приснившийся, неведомый мне русский царь, убиенный со своею женою и детьми! Вот, к чему приведёт моё попустительство! Мой сон — это знак, Лесток прав, ждать и сомневаться больше нельзя. И дитя у них заберу, Ивана Антоновича! И язык Наташке вырву! Будет вам Петрова собака, коли так!»
Голубые глаза Елизаветы внезапно вспыхнули диким огнём, как бывало у её батюшки, Петра Великого, она уверенно приподнялась на локтях и решительно крикнула в затворённую дверь своей опочивальни:
— Лестока ко мне, тотчас же!
За дверью послышалось скорое шевеление и быстрый топот удаляющихся ног, как будто за дверью давно и нетерпеливо ожидали именно этого её указания.
РАБСКАЯ СУЩНОСТЬ (байка)
Выдавил человек из себя раба. Глядь — там уже холоп сидит, картоху с огурцами трескает! Свято место пусто не бывает. А раб пошел прочь и заплакал от обиды. Пошто, мол, выдавили, где теперь ночевать, что делать? Жалко. Голодный, холодный. Вернул человек раба обратно. Сидят раб да холоп вдвоем, бьют баклуши. Много набили. И не знают, что с ними дальше делать. Хотели, было, сжечь их, да, слава Богу, не смогли сложить ни печки, ни камина. Человек посмотрел-посмотрел на это дело, да и подкинул им мастерового. Мастеровой обрадовался рабу и холопу, они ему тоже. Взял мастеровой кривые баклуши и давай из них прямые ложки резать. А рабу с холопом интересно стало. Они и присоединились. Ах, как хорошо-то! Мастеровой ложки режет, раб их золотом расписывает, а холоп их по размеру и форме раскладывает. Ложек получилось много. А едоков мало. Пришлось подкинуть в эту компанию ложкаря-музыканта. Ох, что тут началось! Ложек переломали, пока научились играть, немеряно! Зато потом — сплошные песни и пляски! И на душе у человека стало весело! И тепло! — камин же сподобились, сложили! А где же, по-вашему, сломанные ложки жечь?
ФЕЯ-ДВОЕЧНИЦА (рассказ)
Полупустой вагон московской подземки мерно постукивал колесами. Я обняла свой мягкий пухлый рюкзачок обеими руками, опустила на него голову и почти задремала. Но вдруг меня как будто толкнуло нечто. Или укололо. Или даже обожгло. Я не поняла что произошло, вздрогнула, распрямилась, открыла глаза и увидела напротив себя девочку лет восьми. Чумазенькая такая, вся растрёпанная, с замурзанными пальчиками и с некрасивым личиком, она скрючилась на краешке сиденья как от озноба. Рядом с ней валялся небрежно брошенный рваный портфельчик, от которого так и веяло страной невыученных уроков. Малышка покачивалась от движения поезда и смотрела на меня таким знакомым взглядом, что мне стало не по себе и я отвернулась. Где-то я уже видела это выражение лица. Было, было. Я посмотрела на свою спутницу ещё раз и чуть повнимательней. Да, вот так же брови взлетающей птицей. Наморщенный лобик. И рот изогнут почти как хомут. Где же, где…
— Осторожно, двери закрываются, следующая станция «Новослободская», — гулко раздалось из динамиков.
И сразу всё вспомнилось! Это же я сама в детстве смотрела так на незнакомых людей, от которых ждала чуда! Мне тогда втемяшилось, что если пронзительно-обиженно посмотреть на доброго человека, то он прочитает мысли, взмахнёт палочкой и всё исправит. Всё-всё.
А сейчас на меня точно так же смотрит эта крошка. Или я ошибаюсь? Я снова подняла глаза и опять увидела этот взгляд, острый и умоляющий, такой взрослый и вместе с тем по-детски наивный. Ошибки быть не может, девчушка ждёт от меня волшебного тепла. И надо её как-то поддержать. Но как это делается, я не знала.
Не научили меня этому взрослые «тётьки и дядьки», от которых я когда-то ждала хотя бы намёка на то, что я тоже часть их общества. Уловив мои вот такие посылы, они начинали взирать на меня кто с откровенной брезгливостью, кто с нарочитым недоумением, кто с показным равнодушием. И тогда я понимала, что снова ошиблась и не нашла свою фею, сжимала зубы и опять закрывалась от всего мира створками, как устрица. А ведь я пыталась установить контакт не с первым встречным, я выбирала! А сделать это было очень и очень непросто. Мой волшебный человек всегда должен был смотреть только в себя и выглядеть очень растерянным и уставшим. А сейчас выбрали… меня! Неужели я так выгляжу. И чего я сижу? Мне надо срочно что-то сделать! Я суетливо поёрзала на сиденье. Девочка терпеливо ждала.
— Осторожно, двери закрываются…
Дальше я не слушала, я знала, что это моя станция! Резко сорвавшись с места, я в один прыжок очутилась рядом с малышкой, подмигнула ей, улыбнулась, пригладила её непослушные волосы и выскочила из вагона вон, успев увидеть, как потеплели её удивлённые глаза.
Потом, конечно, же шла и проигрывала эту картину раз за разом. Хороша же я была! Интересно, как это выглядело со стороны? Здоровая тётка прыгает по вагону…
Но если честно, то да и хрен с ним, с этим «как это выглядело». Главное то, что я смогла поддержать эту ангельскую мятущуюся душу! И теперь я настоящая фея! Правда, какая-то не очень ловкая, без крыльев и без палочки. Двоечница, наверное. Училась плохо, но экзамен сдала.
ОНА (миниатюра)
Я нашла её сама. Она жила в странном доме, увитом густым плющом так сильно, что в комнатах было темно. Отовсюду, изо всех прокопчённых углов, доносились тихие жалобные стоны невидимых людей. А возле старинного камина сидела мумия. Вся в морщинах помятого вида старуха внимательно посмотрела на меня острыми глазками, прищурилась и почти пропела на удивление молодым, никак не сочетающимся с её внешностью, голосом:
— Ну, здравствуй, здравствуй. Заходи, присаживайся. Сейчас будем обедать…
Я отрицательно замотала головой и почти крикнула:
— Нет, я не хочу есть, спасибо!
Хозяйка дома криво усмехнулась:
— Брезгуешь?
Я промолчала.
Присев на уголок стула, на который мне было указано скрюченной рукой, я воткнулась взглядом в середину столешницы. Но меня хватило ненадолго, и я осмотрелась. Боже, лучше бы я этого не делала! Повсюду на стенах висели портреты мучеников, старательно изображающих счастье и радость.
Тем временем, старая карга налила себе тарелку супа из дымящегося чугунка стоящего на печке, и прошаркала к столу. Кряхтя и охая уселась, достала из кармана фартука кусок чёрного хлеба завёрнутого в тряпицу, зачерпнула большой ложкой из тарелки и с хлюпаньем втянула в себя блёклое варево.
«Гадость какая! Бородавка, вон, на носу. И чавкает!» — пронеслось в моей голове.
Но это было ещё не всё. Мне преподали урок, как можно без особого труда вызывать у собеседника рвотные позывы.
— Я там… — она сделала паузу, шумно проглотила пищу, рыгнула и подняла глаза кверху, показывая мне, где именно «там», — сказала, что ты ничего ещё не заплатила…
— Ну, правильно, правильно, — пробормотала я, осознавая себя полной идиоткой, бесхребетной и вялой как червяк.
— Теперь, ты нам должна … — пробулькала страшная старуха, — за всё заплатишь сполна. Мне. А я распоряжусь по своему усмотрению. Я же твоя…
По её подбородку потекла жижа.
— Пожалуйста, не надо, не надо, я знаю кто вы! — перебила её я, с трудом преодолевая спазмы в горле. — Можно, я не буду вас никак называть? И вы не называйте меня никак! Ну, пожалуйста-пожалуйста! — меня затрясло от страха, и всё это лепетание вырывалось из меня совершенно непроизвольно, как кудахтанье из курицы, которую несут за лапы на задний двор, чтобы зарубить.
Она вдруг расхохоталась, кривляясь и трясясь всем своим обрюзгшим телом:
— Боисся? Аха-ха! Бойся-бойся! Страх — это всегда весело! Страх — это хорошо! Я люблю, когда люди боятся! Они начинают делать ошибки! Возьми его, свой страх, возьми поскорее и прижми к груди, он только твой, смотри, не теряй!
Мне стало не по себе. Я вскочила с места и очертя голову рванула к выходу! В мозгах пульсировала всего одна мысль: «Бежать, как можно скорее и дальше!»
В спину мне нёсся её истерический хохот и выкрики:
— Беги, беги! От себя не убежишь! Ты же знаешь, кто я!
От полученного стресса я потеряла память.
Прошло много лет. Однажды, блуждая по городу в поисках работы, я наткнулась на объявление, в котором было написано следующее: «Требуется домработница с проживанием в загородном доме. Приветствуется умение обращаться со старинными вещами. Зарплата по итогам собеседования. Тамара».
Через несколько дней я уже приступила к своим обязанностям. Тамара была ужасной хозяйкой и ещё более ужасным человеком. Но ко мне она прониклась какой-то особенной любовью, граничащей с безумием. И если я отсутствовала рядом с нею более двадцати минут, её начинала бить лихорадка. Она вскакивала с места и с жалобными криками начинала разыскивать меня по всем закоулкам. Постоянно делиться своими мыслями именно со мной было для неё, казалось, жизненно необходимым. Это делало мою жизнь адом. Мне приходилось всё бросать, садиться рядом и делать вид, что я внимательно слушаю. В такие моменты я боялась сделать лишнее движение, чтобы не вызвать нового потока её слёз. Возможность заниматься делами появлялась лишь тогда, когда Тамара засыпала.
Совсем скоро её не стало. Скоротечный рак. Копаясь в бумагах, я с удивлением я узнала, что этот дом был переоформлен Тамарой на моё имя в первый же день моего пребывания в нем. Решив завести в усадьбе свои порядки, я принялась действовать. Для начала, надо было везде вытереть пыль и убрать паутину. Однако, снять со стен портреты бывшей хозяйки мне не удалось. Как только я протягивала к ним руки, картины начинали стонать, плакать и голосом Тамары рассказывать страшные вещи. Я повесила рядом с ними свои фотографии и махнула на всё рукой. А в первую же весну посадила возле восточной стены дома красивый плющ, который за несколько лет разросся и заполонил собою всё пространство, скрыв от посторонних глаз и окна, и двери.
МЫШКА ПОЛИНА (рассказка)
У мышки Полины пропала мысль. Случайно открылась форточка, и белую ажурную идею выдуло ветром. А она была самая любимая. Полина очень расстроилась. И даже немного всплакнула. Но затем она достала из шкафчика ночной колпак, натянула его на пяльцы для вышивания и прикрепила всё это к длинной хворостине. Получился странный предмет, с которым мышка вышла на улицу, поднялась на Умную горку и сказала:
— Обруч, палка, колпачок — у меня в руках сачок! Буду мысли я ловить, чтобы веселее жить!
Хоп! — что-то попало в колпак и забарахталось. Полина заглянула внутрь и увидела чью-то лохматую чёрную думку, которая махала лапами и ворчала:
— Бука-бяка, забияка!
— Ну, уж нет! Никаких «бук-бяк» я не допущу! Это не культурно! — Полина достала вредину из сачка, прижала к себе и стала гладить её по голове, лаково приговаривая:
— Ты скорее успокойся, ничего сейчас не бойся, вспомни радостные дни, а печали все гони! Ты не бука и не бяка, и совсем не забияка!
Думка сразу же подобрела, завиляла хвостиком, расправила крылья и… стала салатовой!
— Ну, вот, — обрадовалась мышка и подбросила её кверху. — Теперь всё в порядке, можешь лететь к своему хозяину!
И думка улетела. А мышка Полина пошла домой. Там её ожидал приятный сюрприз: на кроватной подушечке сидела её любимая белая ажурная идея и пила горячий чай с баранками.
С этих пор мышка Полина занимается тем, что воспитывает все вредные мысли, попавшие к ней в сачок. И все-все, у кого завелись такие, несут их на Умную горку. Особенно в ветреную погоду.
ДЕВОЧКА (миниатюра)
— Эй, ты! Я к кому обращаюсь? Ты меня слышишь или нет?..
Девочке твердили эту фразу с самого её раннего детства. А она слышала, слышала! Но почему-то не отвечала. И не потому, что не умела говорить. Дело в том, что понимать сказанное взрослыми ей было легче, когда она занималась своими детскими делами: возилась в песке, играла с крысой Тяпой или с ёжиком, у которого не было имени… Неизвестно почему, но это было именно так: лучше всего она «слушала» спиной.
— Повернись ко мне сейчас же! Я кому говорю? Так, терпение моё лопнуло, я иду за ремнём!
От последней фразы всё сжималось, и в груди девочки образовывался холодный болезненный ком. Бежать что-то исполнять — поздно. Наказание всегда было неизбежным. В воздухе начинала витать обречённость, пахнущая почему-то горькой ванилью.
— Убери руки, я тебя буду бить! Убери руки, я сказала! По ру-кам, по ру-кам, на тебе, на тебе, дрянь такая, гадость такая! Ремень вешаю на дверь! Ходи, смотри на него и помни! Ты меня поняла?! Смотри мне в глаза! Я тебе что сейчас сказала? Я что те-бе сей-час ска-за-ла? Повтори!.. Ты меня поняла?! У-у, отцовское отродье! Крокодил узкоглазый! Прибью я тебя когда-нибудь! Насмерть прибью! Я тебя высрала, понимаешь? Ты — моё говно! Смотри на меня сейчас же! Настырная дебилка!
Девочку хватали за подбородок и задирали её голову вверх, чтобы она смотрела в глаза говорящему. Девочка отводила взгляд, чувствуя себя виноватой за то, что не может ничего произнести. И тут же получала зуботычину, от которой отлетала в угол и сворачивалась в клубок. В маленькой головке пищал и бился девочкин дрожащий голосок: «Я всё понимаю,.. я не натыр… сная…» Но сказать это вслух она не могла. Не могла, и всё. И не потому, что не умела говорить.
ОБЫКНОВЕННОЕ ВОЛШЕБСТВО (рассказка)
Девочка Аня была самой обыкновенной волшебницей. Однажды, когда наступило лето и начались школьные каникулы, Аня и медвежонок Плюш отправились в лес на поиски ромашки, аромат которой приносит добрые сны. Плюш рвал цветы, на которые садились пчелы и бабочки, и спрашивал Аню:
Девочка отрицательно качала головой, и они шли дальше.
Но совсем скоро Плюш залез под куст и начал капризничать как маленький:
— У меня устали ножки, не пойду я по дорожке! Ты возьми меня на ручки, вон, уже собрались тучки! Скоро мокрый дождик хлынет, мишка маленький простынет.
Он всегда говорил стихами, когда хотел, чтобы его пожалели.
— Горе ты моё луковое, ну иди сюда, — сказала девочка, вытащила медвежонка из-под куста и превратила его в рюкзачок, чтобы отнести домой.
А дождь и на самом деле собирался, надо было возвращаться.
Дома Плюш вытащил из-за пазухи все цветы, собранные им на прогулке. Девочка поставила их в вазу и заметила, что из букета выглядывает волшебная ромашка!
— Я её нашёл сам! — скромно сказал медвежонок.
На ночь они выпили по кружке тёплого молока и улеглись спать, чтобы посмотреть добрые ромашковые сны.
БЕЗБОЖНЫЙ (отрывок из повести)
Верка появилась на свет до срока и ножками вперёд.
— Тьфу, ты… как покойницу вынесли, а не родили! — сказала толстая акушерка, приняв синее тщедушное тельце своими мясистыми руками.
И оказалась недалека от истины. Новорождённая была похожа на анемичного супового курёнка, жизнью не интересовалась, лежала себе кульком и угасала.
Старая педиатриха, закаленная в боях Великой Отечественной и повидавшая разные виды, не стала охать и ахать. Она с пристрастием осмотрела получившееся вялое недоразумение и на немой вопрос обессиленной молодой мамочки авторитетно заявила прокуренным голосом:
— Удивляться тут нечему. Потому что это не ребёнок, а плод. Будем выхаживать, гражданочка, не волнуйтесь.
И новорожденной прописали капельницы, которые нужно было делать через день. Каждая такая процедура превращалась для всех её участников в натуральную пытку. Поскольку внутривенные инъекции делали под кожу родничка, голову младенца приходилось крепко держать руками. Медсёстры потели от сочувствия и ответственности, а туго спелёнутая крошечная малышка слабенько и жалобно хрипела от страха и боли.
Но ничего не помогало. И замелькали больницы: Русаковская, Морозовская, Филатовская. На три дня домой, а потом опять Русаковская. И снова Морозовская. Разные врачи и разные диагнозы. К единому мнению медики так и не пришли. И девочка продолжала тяжело болеть. Но почему-то не умирала.
Родственники, изредка навещавшие роженицу, кричали в окна палат:
— Татьяна! Как там твоя эта-то? Жива ещё? Может, ей что-нибудь нужно?
Всё «эта», да «эта». Ведь имени так никто и не дал. Это же плод, разве плоду положено имя. Так бы и путешествовала малютка от врача к врачу по документам своей матери, если бы не её бабушка. В очередное свое посещение она подозвала санитарку, сунула ей в карман рубль и объяснила, что надо сказать. Та внимательно выслушала робкие рассуждения про невинную ангельскую душку, взяла авоську с передачей и отправилась в палату. Бросила продукты на кровать к Татьяне под бок и сердито сказала:
— Ты девку-то свою когда называть собираешься? Документы должны быть оформлены вовремя. Даже если помрет, и в бумагах, и на могиле нужно будет что-то написать. А то родственники твои, вон, волнуются, ходют и ходют.
Потом посмотрела на побледневшую Татьяну, всплеснула руками и добавила:
— Ой, какие мы все нежные! Верить надо в лучшее. Верь давай, и все образуется.
И ушла, с силой закрыв за собой дверь.
— Верь,.. верь, — повторила Татьяна как эхо.
Вот так Верка и стала Веркой. А от родного отца ей в наследство досталась звучная фамилия.
Прошло несколько месяцев. Мама с дочкой опять попали на стационарное лечение. В палату впорхнула молоденькая медичка со шприцем в руке и радостно воскликнула:
— Ой, это снова вы? Меня не было, прихожу, смотрю — фамилия знакомая. Значит, думаю, жива наша Безнадёжная! Смотри-ка, и головку держит! Ну что же, мамочка, готовимся?
Как только малютка увидела шприц, она вцепилась ручонками в мамин халат и вдруг отчётливо произнесла:
— Она заговорила! — удивилась Татьяна.
— Да, милая, вот и первое твоё слово, сказанное этому миру, — покачала головой медсестра, сжала губы и приказным тоном добавила: — Держим голову ребёнка, мамаша!
После года больничных мучений маленькая Верка совершенно неожиданно для всех пошла на поправку! И к двум годам стала немножко походить на обычного ребёнка — появились какие-то кудряшки, жизнеутверждающие ямочки и складочки.
Но к этому моменту в душе молодой матери что-то сломалось. Она не хотела замечать положительных изменений и разговаривала с дочерью так, как будто сидела на кладбищенской скамеечке, — сама спрашивала, сама же отвечала.
И как только девочку стало можно оставлять дома одну, с головой ушла в работу. На полторы ставки в хирургии. А после смены бегом бежала прибирать-готовить для родни знаменитого писателя. Она была готова работать и до упаду, лишь бы оттянуть момент возвращения домой, чтобы не видеть заискивающей, почти собачьей радости в глазах своей дочери, которую она начинала недолюбливать всё больше и больше.
Впрочем, в этой семье все тяжело работали. А «недетсадовскую» запирали дома, строго-настрого запрещая баловаться спичками. И девочка привыкла молчать и часами стоять на коленях на подоконнике, высунув кудрявую головку в форточку, ожидая чуть пораньше увидеть того, кто первым откроет входную дверь и выпустит малышку в песочный мир Безбожного переулка. Туда, где ходит трамвай, который умеет плющить гвозди и копейки, превращая их в крошечные мечи и щиты. Туда, где на заборе висит шкура убитого соседом медведя. Туда, где маленький палисадник, в котором можно долго сидеть в одиночестве, любуясь огромными цветами, похожими на золотые шары. И ждать жёлтую собаку Белку, которая придёт порычать на медвежью шкуру и угоститься мясной котлеткой из сковородки, стоящей на полу в тамбуре барака. Туда, где стоит новый дом, возле которого положили асфальт, как на настоящей дороге для автобусов. А из его окон иногда доносятся обрывки песни:
Всем соседям по старому двухэтажному дому, стоящему на Безбожном переулке, было откровенно наплевать, кто там ещё родился в семье Морозов, — хватало и своих забот. Только пожилая глуховатая Карповна, изредка выходившая посидеть на табуретке возле палисадника, остановила как-то раз взмахом клюки идущую с работы Татьяну и, приложив грубую морщинистую ладонь к торчащему из-под платка уху, громко и хрипловато спросила:
— А кто ж из вас родил-то? Маша опять, аль ты ужо?
— Я, — зарделась та.
— Ась? — переспросила старушка.
— Я! — раздражённо гаркнула в ответ молодуха.
— А Маша с сыном где? Я их давно не вижу!
— Да квартиру они с мужем получили! — не сумев скрыть зависти в голосе, произнесла Татьяна.
— А твой муж где? — упирая на «твой», с пристрастием допрашивала старая карга, постукивая клюшкой по песку.
— Да груш объелся, баба Люба! Я пойду, ладно? — чуть не расплакалась от досады собеседница, так и не догадавшаяся подойти поближе, чтобы не перекрикиваться на весь двор.
— А что же, вы все на работу уходите, а малая ваша так одна и сидит? — продолжала громко любопытствовать старушка.
— Так и сидит, в садик нельзя, больная она у нас, — подтвердила Татьяна, начиная злиться и понимая, что пока из неё всё не выспросят, не отпустят.
— А скуль ей ужо? — не отставала старая.
— Да четыре с небольшим! Пойду я! — собеседница демонстративно отвернулась от Карповны и направилась к подъезду.
— Большенькая уж. Вы бы ей кошку какую в сиделки наняли, чтобы руки занять. А то до беды недолго. Ну, ступай, иди, — махнула клюкой и вдогонку уже крикнула: — И спички от неё прячьте, дом-то деревянный! Не ровен час, займётся, и погорим все!.. Ишь ты, четыре уж минуло…
И вот тогда-то у Веры появились кролики. Их было два. Маленькие такие, как бабушкины варежки. И такие же серые. За ними нужно было ухаживать — класть сухарики, менять воду в поилке и смотреть, чтобы они не убегали из клетки, которую поместили под столом в нише ванной комнаты. Кролики стали первыми Вериными друзьями, которые оставались рядом с нею на всё время заточения в квартире.
Черная кошка Марта не считается. Она была рядом только тогда, когда Вера болела. Но как только взрослые закрывали за собой дверь, разбредаясь по работам, Марта тут же ускользала из рук девочки в узкую форточку и была такова.
Ушастые зверьки смешно жевали пожухлую травку, хрустели сухим хлебом и, подкидывая толстые задики, перемещались по клетке. Верка садилась на корточки перед ними и строго спрашивала:
— А вы сегодня достойны гулять? Как вы себя вели, пока меня не было? Ну-ка, я сейчас проверю, как вы себя вели! Так, тарелку опрокинули, все газетки испачкали и разорвали.
Кролики испуганно замирали, косили глаза и молчали, смешно дёргая носиками вверх-вниз.
Верке становилось их жаль, она открывала дверцу и заговорщицки шептала:
— Ну, да ладно, бегите, погуляйте! Только, чур, никому не говорите, что я вас выпускала! Хорошо? Ну, идите-идите, пока никто не видит!
Кролики выбегали из клетки и носились по комнатам, пока Вера ловкими ручками меняла им подстилку и наливала воду в обливную мисочку. Загонять их обратно в клетку было сложно.
Прошло лето, наступила поздняя осень. И всё шло своим чередом — утром взрослые уходили на работу, а Верка оставалась сидеть дома, чтобы ждать вечера. И играть с основательно подросшими лопоухими любимцами, от которых она научилась задорно прыгать на четвереньках, косить глаза и забавно шевелить носом.
Поздней осенью, когда выпал первый снег, в гости приехала тётя Мария с мужем-профессором и сыном Михаилом. И в доме началась нервозность и суета. Бабушка громко, чтобы все соседи слышали, стала восхищаться старшей дочерью, зятем и внуком. Дедушка долго не мог сообразить, куда их усадить, и постоянно переносил новые стулья, купленные специально по этому случаю, из комнаты в комнату и обратно на кухню. Все мужчины то и дело бегали во двор курить. Мама весь день стояла у плиты. А Верка была просто счастлива! Она бегала по квартире и, поскольку её никто не слушал, сама себе вслух звонко говорила:
— А сколько нас много! А тётя Мария красивая и пахнет как варенье! А профессор как диктор в телевизоре! А Михаил — нарядный, в «матроске».
Татьяна подозвала дочь к себе и раздражённо прошептала ей на ухо:
— Ты свои восторженные завизгивания-то прибери. Потише себя веди, потише. Покультурней будь. Лучше подумай, что ты скажешь, если тебя про кроликов спросят. Как их зовут? Ты придумала?
— Нет, — тихо прошептала опечаленная девочка.
— Скажи, что их зовут Машка и Мишка. Скажи, что придумала им имена сама. Тёте будет приятно. Поняла?
Верка радостно кивнула и тут же побежала к брату, начисто позабыв, что кричать от радости нельзя:
— Михаил! Пойдём, что я тебе сейчас покажу!
Схватила мальчика за руку и потянула в ванную.
— Куда это она его повела? — настороженно спросила Мария.
— Да, кролики у неё там. Наверное, хочет показать напоследок, — ответила ей сестра с нарочитым равнодушием и как бы невзначай добавила: — Сейчас резать их к ужину будем.
Дети вернулись. Вера подбежала к тёте Марии со счастливыми глазами, протянула к ней руки с растопыренными пальчиками и радостно заверещала:
— Это мои кролики! Их зовут Мишка и Машка, это… я, я придумала им имена!
Девочке очень хотелось понравиться гостям. Но у тёти Марии вдруг вытянулось и побелело лицо, а глаза расширились и стали страшные. Она оттолкнула от себя племянницу и сдавленно крикнула:
— «Мишка и Машка»?! «Резать к ужину»?! Да вы тут все с ума посходили в своём бараке, дикари! Михаил, Юрий! Собирайтесь, мы уезжаем!
И в этот же момент в дом вернулись мужчины, выходившие во двор, чтобы в очередной раз покурить. Первым шёл мамин муж, дядя Коля, в руках у него был остро наточенный нож.
Тётя Мария издала пронзительный визг, и разразился страшный скандал.
Бабушка заголосила:
— Ой, Костя, пойдём отсюда! Господи милостливый, когда же мы разъедемся, наконец?
И утащила опешившего дедушку в дальнюю комнату. Дядька Вовка плюнул в угол, развернулся прямо в дверях и вышел. Долгожданные гости вылетели из квартиры, как ошпаренные. Татьяна выскочила вслед за ними и долго кричала на всю улицу:
— Эй, стыдобень! На ребёнка неразумного обиделись они, гляньте на них! Позорище! С высшими образованиями они стали! А за чей счёт, спрашивается, вы в университетах-то обучались, пока некоторые полы чужим людям мыли, да с ребёнком вашим сидели?!
Разъярённая, взлохмаченная, вернулась она домой и приказала своему мужу, так и оставшемуся стоять у плиты с ножом в руках:
— Чего стоишь как истукан, Коль? Режь обоих!.. Только сними с себя всё, чтобы не забрызгаться!
Тот взял нож и ушёл к кроликам.
Верка не понимала, что происходит, но чувствовала, что происходит нехорошее. Она тихо сидела на кухне и смотрела в одну точку. Кролики за закрытой дверью вдруг отчаянно запищали и как-то страшно заколотились.
— Верк, ну ты что? — мать подошла и обняла за плечи, кивнув головой в сторону ванной: — Пойдём, посмотрим, что там, а?
Девочка испуганно замотала головой, но мать уже тащила её туда за руку и сюсюкала, как маленькая:
— Я боюсь, а ты не боисся! Но ты зе у нас хлаблая, ты зе не блосись меня одну! Посли давай, посли вместе…
Схватив дочь за плечи, толкая её впереди себя, женщина распахнула дверь в ванную и впихнула остолбеневшую Верку вперёд. Из-за узкой спины орудующего ножом мужчины, стоявшего в одних семейных трусах, были видны разбросанные по столу части тел Мишки и Машки. Отрубленные головы с выпученными остекленевшими глазами, поникшие уши, сине-серые кишочки с розовыми прожилками и чёрными горошинками внутри. И кровь…
А в спину толкала пригнувшаяся мать, повисшая на плечах у дочери. То ли охая, то ли похахатывая, переминаясь с ноги на ногу, она шептала окаменевшей от ужаса девочке на ухо:
— Ну, чего там, Верка? Видно тебе чего-нибудь? Всё уже или нет? Ох, ужас-то какой! Ох, смотри, хвост на пол упал!
На полу действительно лежал отрезанный кроличий хвостик. Мишкин или Машкин — было уже не важно.
Потом был ужин. Вера застыла над тарелкой, в которой давно остыл кусочек мяса, воткнутый в картофельное пюре. Её мать, не переставая жевать, задорно пихнула дочь локтём, подмигнула и спросила:
— Чего не ешь-то?
— Пусть не ест, — сказала вдруг расстроенная бабушка. — Надо же такое удумать — назвать животину, которую резать собрались, именами тёти и брата! А Юрий? Он аж позеленел, бедный! Они заслуженные люди, у них высшее образование! — повернулась она к девочке. — Ты уже взрослая, должна понимать такие вещи! Кто ж скотину людскими именами называет? Эх, ничего толкового из тебя не выйдет — неприметливая.
— Бестолочь, чего с неё взять-то? — с готовностью поддакнула Татьяна, заискивающе глядя на мать. — Пусть голодная ложится, нам больше достанется, ведь правда, да?
Мужчины ели молча и хмурились.
Вечером у Верки подскочила температура, и пришла кошка Марта, устроилась под одеялом, замурчала. Как в бреду — кислый чай, горькие порошки из бумажек и женский разговор через приоткрытую дверь:
— Опять заболела. Ну не девка, а развалюха какая-то растёт!
— Простыла. Полы холодные, возилась со своими кроликами целыми днями, вот и простыла.
Верка лежала и думала: «Надо уснуть от этого всего! Ну, быстрее же, быстрее!» — как будто уговаривала она кого-то. И проваливалась в небытие, в котором прыгали кролики с отрубленными головами и эхом звучал бабушкин голос: «Назови их „Неприметливый“ и „Неприметливая“… Маме будет приятно…»
Из кровати Верке разрешили вставать только через две недели. Чем она болела, так никто и не понял. Но мамин дядя Коля сказал, что заразился. И остался дома. Как только все ушли на работу, он сразу же встал с кровати и пошёл на кухню. Достал воблу и пиво, разложил это всё на столе, немного постоял и начал задумчиво шаркать по всем комнатам. Верка сидела в своём углу, перебирала матрёшек и настороженно наблюдала за сутулым худым человеком в белой майке и в чёрных трениках с вытянутыми коленками. Без присутствия родных, он ей сразу показался очень чужим и опасным. Да и не привыкла она, чтобы в это время кто-нибудь был дома.
Вернувшись на кухню и немного постояв над пивом с воблой, дядя Коля решительно вернулся в свою комнату, лёг в постель и позвал осипшим от волнения голосом:
— Верочка, поди сюда!
Верка вылезла из своего угла и пошла на зов. Она же слышала, что дядя Коля заболел, значит, ему нужно помогать. Подойдя к кровати, девочка остановилась и вопросительно посмотрела на лежащего мужчину. Он протянул к ней руки и сказал каким-то странным, натужно-высоким голосом:
— Тебе же скучно? И мне скучно. Давай поиграем в лошадки!
Верку немного напугал его изменившийся голос, но она вспомнила, что сама не могла говорить, когда заболела. И подошла поближе, не зная, что ей делать дальше.
А он подхватил девочку под мышки. В этот момент, в дверном замке заскрежетал ключ. Дядя Коля бросил девочку на пол как куклу, и моментально завернулся в одеяло, притворившись, что он спит. В комнату вошла Татьяна и сходу накинулась на дочь:
— Ты чего это на полу валяешься, а ну-ка марш к себе!
«К себе» — это в другую комнату, в угол с матрёшками и старым поролоновым медведем без одного глаза. Девочка поднялась и вышла, потирая ушибленную голову и локоть. Татьяна посопела, потопталась на месте и пропела, как на паперти:
— Ко-оль, что случилось? А, Ко-оль?
— М-ну? — мыкнул Коля, имитируя просыпание.
Татьяна заговорила как маленькая, заискивающе и толком не зная что говорят в таких случаях другие:
— А тиво это на кухне лазлозено у тебя? Пива-вобла?…
— Захотел — расхотел. Чего вернулась? — злобно буркнул мужчина.
— Ну, не злись позалуйста, я халатик зябыла.
Верка села в угол и обняла мишку. Хлопнула закрывающаяся дверь и из соседней комнаты донеслось довольное сюсюканье и скрип кровати… Девочка сидела и прислушивалась к новым для неё звукам. А когда услышала довольный смех, то подумала, что её просто выкинули из какой-то интересной незнакомой ей игры, и горько заплакала от обиды, к которой примешивался неясный страх, доходящей до икоты. Она взяла в руки самую маленькую матрёшку и с силой швырнула её об стену.
— Вот так он меня об пол, вот так! — пожаловалась она поролоновому мишке.
На следующее утро дядя Коля ушёл на работу и домой не вернулся. Дядька Вовка собрал его вещи и увёз, чтобы отдать. Больше в семье про него не вспоминали, как будто бы его и не было никогда. Только мама начала тихонько плакать вечерами, пряча лицо в подушку. Верка услышав приглушённые всхлипывания в первый раз, вылезла из своей кроватки, подошла к матери, долго не знала, что ей делать, наконец, решилась и погладила рукой по голове:
— Мамочка, ну не плачь. Хочешь, я тебе своего мишку принесу?
— Уйди от меня… Опять без тапок ходишь? Простыть захотела? Марш в кровать, я сказала! — неожиданно озлобилась женщина.
Дочка, не ожидавшая такой реакции, испуганно вжала голову в плечи, отвернулась от матери, на цыпочках убежала к себе и больше не подходила
Под конец зимы, когда Вере исполнилось пять лет, ей подарили настоящего щенка. Все горести были тут же забыты! Родной брат матери приехал с работы домой, потопал ногами в предбаннике, освобождаясь от налипшего на ботинки снега, и внёс на кухню толстого собачьего медвежонка. Вытащил его из-за пазухи пальто и посадил на пол. На Веру из комка меха серьёзно смотрели блестящие круглые глазки!
— Ну, пельмешка, держись, это немецкая овчарка! Её зовут Динга, она теперь твоя и моя! Вместо кроликов тебе, чтобы никто не мог съесть! — весело сказал дядька Вовка, освобождаясь от верхней одежды и впрыгивая в домашние тапочки.
Вера протянула руки к мохнатому существу и восхищённо произнесла:
— Динка! Моя! Настоящая!
Выговорить кличку правильно не получилось. Ну Динка, так Динка.
— Ну-у, за-авёл себе недоросток бо-ольшую соба-аку! — недовольно затянула вышедшая из комнат Татьяна, мать девочки. — Зачем приволок?!
— Тебя не спросил, килька грёбанная! — привычно огрызнулся её брат.
— А ты, Верка, во-от, давай с малолетства приучайся вытирать за всеми ссаные лужи и убирать вонючие кучи! — продолжала ехидничать женщина.
— Да уберём, не боись! Правда, пельмешк? — озорно подмигнул дядька племяннице.
— Нюф! — серьёзно сказала Динка.
Девочка добродушно улыбнулась и побежала за половой тряпкой. Потому что первая лужа уже появилась, и её надо было срочно убирать.
С Динкой дело пошло веселее! Пока взрослые были на работе, запертые дома девочка и щенок играли и бегали по всем комнатам. Верка показывала Динке, как правильно надо жечь спички, разжигая крошечные костры прямо в кухонной раковине, чтобы не спалить старый деревянный дом вместе с соседями. Динка показывала Верке, как надо грызть бабушкины скалки и пачкать полы. Когда обеих наконец-то выпускали из заточения, они весело вылетали на улицу и начинали бестолково носиться по двору, сбивая друг друга с ног.
К середине лета Динка уже подросла, а Верка не очень.
Как-то вечером, когда мать крепко взяла дочь за ухо, чтобы буквы у неё начали складываться в слоги, всегда добродушная Динка грозно зарычала. Прямо как взрослая. И зубы у неё такие острые, страшные! Женщина от неожиданности отдёрнула руку от ребёнка. Верка удивлённо хохотнула:
— Смотри, защищает!
— Ах, вот ты как, стервозина. Ну, попомнишь… обе попомните у меня! — зло прошептала Татьяна. — Я вас научу, как родину любить!
Этим же вечером женщина обмакнула в Динкину лужу половую тряпку и положила её на лицо дочери, которая уже лежала в кроватке и засыпала.
— Ма, зачем? — полусонная девочка попыталась снять себя мокрое.
— Не снимать! Лежать и нюхать! Будешь знать, сучка, как менять родную мать на чужую собаку!
Вышла из комнаты и рассмеялась тихо, рассыпчато — как манку в пустую кастрюлю кто-то сыпал. Уже из кухни строго прикрикнула:
— Дверь открыта, я всё вижу!
Верка тоже хихикнула. Наверное, это смешно. Жижа щипала глаза, стекала с лица на шею и щекотала, но девочка не смела и шелохнуться. Раз сказано не снимать, значит, так оно и надо. Лежала, терпела, как компресс, и принюхивалась. Ничем противным не пахло: моча как моча. «Ну, ничего, — думала она, — скоро высохнет же! Лишь бы Динке не попало! Интересно, зарычала бы она, если бы увидела, как меня до крови носом в книжку ткнули? Весь рисунок с лебедями и утками тогда залила, распустёха».
Динку мать не тронула. И на следующий день всё пошло своим чередом, как обычно.
Но к началу осени к старому, деревянному дому подъехал грузовик. Дедушка, бабушка, дядька Вовка и мама вдруг разом засуетились, стали выносить из квартиры узлы, мебель и складывать их в кузов. Все ходили, толкали друг друга и смеялись. Ничего не понимающая Верка стояла возле забора и грызла ногти.
— Переезжаете? — подошла к ней Лариска.
Она была лет на пять постарше, жила в этом же дворе, считалась хорошей девочкой и со всей малышней разговаривала на равных.
Верка в ответ растерянно пожала плечами. Она не знала, что означает это слово, при ней такого не говорили.
— Переезжа-аете! Это насовсем, поняла, Безнадёга? — соседка встала рядом и с интересом наблюдала, как носят вещи.
Она потирала предплечье, на котором красовался свежий след от прута. Верка мотнула в сторону ссадины головой и нарочито безразлично спросила:
— Да нет, в последний раз сегодня в войнушку гонялись. Я, Таська и Серёга были фашистами. Наша очередь настала, вот и были. А партизаны нас изловили и отхлестали, — не поворачиваясь, ответила та.
— На виселицу водили? — спросила Верка.
Ей почему-то именно сегодня захотелось озвучить свою осведомленность в этом вопросе.
— Не-а, сегодня обошлось. Старшие против виселицы стали, как и родичи. Алёшка обещался научить «Казакам-разбойникам», так там вообще без пыток. Он рассказывал, там мел нужен, чтобы на асфальте стрелки рисовать, и всё.
— Асфальт только у нового дома. И на дороге, где бегать нельзя, — выдала Верка с умным видом.
— Мы уже придумали палками по песку рисовать. — кивнула головой Лариска.
— Жаль, я больше не поиграю с вами …, — Верка судожно вздохнула.
— Да, жаль.
Лариска вдруг посмотрела на Верку как на отрезанный ломоть, засуетилась, сделала вид что вспомнила о срочных делах и не попрощавшись убежала в соседний двор.
Когда грузовик отъехал, во двор вкатилась легковая машина с какими-то людьми. Из дома вывели Динку на поводке и… отдали им. Отдавал сам дядька Вовка. Сунул поводок в руки чужому человеку и ушёл куда-то во дворы, схватившись за голову обеими руками. Собака стала рваться, но ее укротили. И тогда она все поняла и заплакала самыми настоящими слезами, которые потекли по несчастной морде крупными каплями. Её повели. Она скулила на весь двор, поворачивалась и искала взглядом родные глаза! Но все домочадцы старательно отворачивались и делали вид, что заняты. Верка рванулась к своей лохматой подружке, чтобы предотвратить страшную трагедию, показавшуюся ей случайной ошибкой:
— Не берите! Это же Динка! Она моя!
Но грозный окрик матери остановил её:
— А ну-ка, стоять! Чего это здесь твоё?! Ишь, хозяйка какая нашлась!
За долю секунды женщина оказалась рядом и схватила девочку чуть повыше локтя, чтобы удержать. В это время собаку уже засунули в машину и повезли. Было видно, как Динка пытается выбраться и скребёт передними лапами стекло. Татьяна провожала удаляющуюся овчарку торжествующим взглядом. А Верка тихо и хрипленько плакала, ужасно стесняясь своих слёз. Когда машина скрылась из виду, мать отпустила посиневшую руку девочки:
— Уйди с глаз долой, чёртов нытик!
Прощай, Динка! Прощай, Безбожный! Прощай, детство.
ЛЕТУН И ПОЛЗУН (подражание)
Рождённый Ползать возился в Грязях, когда туда же свалился некто. Упавший с неба, пытаясь вылезть, так измарался, что не узнаешь! Летун смешался с песком и с глиной, обильно сдобрился простым навозом, устал барахтаться бесплодно и вдруг повёл такие речи:
— Вот, понимаешь, летел я к свету, но по дороге случился казус! Хотя, кому я тут распинаюсь? Ведь, ты не знаешь, как славно в Небе!
Кобряк-Ползун проникся чувством и захотелось ему полёта! Ведь капюшон, что за плечами, похож на крылья, что носят в Небо, когда раздуешь его от злобы, перед броском на тело жертвы. И поборовши — не без усилий — желание сожрать добычу, упавшую, да так удачно, Ползун сказал, глотая слюни:
— Ну что ж, милейший, давай-ка взмоем! Но нужно рассчитать ресурсы, необходимые для взлёта. И траекторию полёта. Возврата точку. И — для счастья — проценты каждого участья.
Летун на это ответил смехом, что называется в театрах по имени писца Гомера:
— Чего считать-то? Ты от Грязи меня сейчас освобождаешь, довозишь на себе к вершине той пирамиды что у леса, а я тебя несу уж дальше! Всего делов-то, право слово!
Ползун ничтоже сомневался — уж больно полетать хотелось!
И вот, они уже на вершине! Ползун дрожит от возбужденья, оглядывая Грязи сверху. Летун же разминает когти, уставшие держать за глотку. И вот он, славный миг полёта! Толчок, рывок и… — камнем в море, на удивленье там живущим, Рождённым Плавать в океане!
Никто не вспомнил, что усохли от грязи слипшиеся перья!
СВИНЬЯ (фельетон)
Шёл один молодой человек на службу. А дорога возьми, да разбейся от дождя. Куда ни ступи, всюду грязь. Но нашлись добрые люди и подсказали, как пройти. Мол, вон там, под теми окнами, попроще будет. Он, дурак, и попёрся. А на него из этих окон помоями — хабах! И смеются. И те, кто облил, хохочут, и те, кто подсказал. Свиньёй называют. Ага.
Наш герой сопротивляться давай, доказывать, что он человек! Стоит, орёт, руками машет. А у самого гнилая капуста и макароны со лба свисают. Да и запахи от одежды идут такие, что хоть святых выноси. Весельчаки ему и говорят: «Ты на себя посмотри! Как же ты не свинья, ежели весь в помоях и в запахах?»
Логично. Побежал облитый домой. Отмылся, отчистился, побрился даже! Вернулся обратно и кричит обидчикам, мол, я не свинья, гляньте! А те в ответ: «Мы со свиньями не разговариваем!» А из окон не выглядывают и хихикают.
Плюнул тогда он на обидчиков, да и пошёл туда, куда в первый раз не дошёл, на службу то есть. Идёт себе, идёт. А слух о происшествии впереди него бежит.
Начальнику уже и доложили всё. Тот в кабинет облитого вызвал, брови насупил и говорит:
— Ты что же это, братец, на работу опаздываешь? Да и в непотребном виде по улицам разгуливаешь, говорят! Ну, чистая свинья!
— Увольте, Никифор Митрофанович, какая же чистая?! Весь в помоях был…
— Ну, ежели сам просишь уволить, так уволю. Пиши по собственному желанию заявление.
— Никифор Митрофанович, как же так?! Я же не по своей воле…
— Могу уволить за прогул, если не хочешь по своей воле!
Вот и поговорили. Выпнули облитого на улицу, и будь здоров, не кашляй. Молодой человек вышел из конторки понурый, да так до сих пор и ходит, не поднимая головы к небу. Теперь уж точно, как свинья.
Годы-лошади (К 50-летию моего друга)
РЫБЫ (байка)
Вначале было две Рыбы. И они расстались. Со скандалом, конечно. Первая Рыба плюнула, расслабилась, и её понесло течением. И на душе у неё стало радостно. Ей даже показалось, будто она стоит на месте, а города, люди и памятники проплывают мимо нее как на параде. И она начала их приветствовать, важно помахивая то одним плавником, то другим. Впрочем, это ей быстро надоело. Путешественница наслаждалась чистой водой, питалась разнообразной мелюзгой, заглядывающей ей в рот, командовала плавунцами, напросившимися к ней в свиту. В итоге лентяйка попала в устье реки, а затем её вынесло в море! И вот тут-то перед ней открылись огромные пространства и широкие возможности! Но увы, за время путешествия она отвыкла шевелить плавниками. И головой тоже. Да и порядком разжирела. И её… просто съела Акула. В первый же день! Представляете? Даже не дала полюбоваться закатом и островами, скотина такая. Морские обитатели, ставшие невольными зрителями этого чудовищного преступления, долго и истерично аплодировали. А кровожадина раскланивалась, раскланивалась…
Вторая Рыба после расставания пошла против течения и начала мужественно бороться. И было с чем! В рыло* ей полетело всё: песок, ил, водоросли, острые ракушки и другие рыбы. Времени на покушать при таком режиме иногда совсем не оставалось. Так, истрёпанная и полуослепшая, она дошла до истока реки. По каменному мелководью из последних сил допрыгала до маленькой дырочки, из которой сочилась вода, заглянула в неё и умерла с выражением чрезвычайного удивления на лице. В потускневших глазах застыли два вопроса: «И это то, ради чего я билась головой? Вот эта крошечная чёрная дырочка?!»
Рыбу нашли и похоронили Раки. Ведь, всё это произошло на территории их родового поместья, куда им было деваться?
С этих самых пор так и повелось у Рыб — держаться попарно. Одна из них всегда прёт против, другая — за. Это помогает им развивать бурную деятельность на одном месте. Благодаря чему они долго остаются живыми.
— — — — — — — — — — — — — — — — —
*Рыло — так называется часть рыбной головы, которая находится впереди глаз. Ничего ругательного
К моему другу
Весь класс замер. Секретарь комсомольской организации стоял у доски, не отвечал на вопросы русички, тыкал в неё пальцем, ржал, кривлялся и нёс какую-то пургу. Я была уверена, что сейчас она влепит ему «пару», вызовет его родителей к директору школы, пообещает ему разбор полётов на собрании у комсюков… Но она уронила голову на свой стол и расплакалась. А наш лидер продолжал издеваться. И комсомольцы молчали. Впрочем, как всегда. Произошло это уже под конец урока. Прозвенел звонок, все похватали портфели и выскочили из кабинета как ошпаренные. А я осталась. Дождалась, пока все выйдут, подошла к рыдающей учительнице и с сердцем сказала:
— Это нельзя так оставлять! Он же нахамил! Как он мог с вами так поступить?! Он же ваш ученик!
Русичка медленно подняла на меня несчастное зарёванное лицо и взглянула на меня… с такой злобой и ненавистью, что я опешила! Потом как-то некрасиво скривила губы и зашипела переходя на крик:
— Не твоё дело! Выйди вон отсюда! … Вооон!!!
Я вылетела пробкой. Возле кабинета меня поджидала ехидная Лариска, которая тут же спросила:
— Ты совсем дура?
— Нет, — почему-то ответила я с перепугу.
— Ты куда полезла? Они же с ним спят!
— Как спят? Кто спит? … В каком смысле «спят»? — залопотала я, хлопая глазами.
— В самом прямом! Это все знают. Ну, кроме тебя, конечно.
«Фига се…» — мелькнуло у меня в голове и тут же исчезло. Меня не интересовали сплетни.
Но каким-то образом, эта история просочилась в школьные кулуары. И когда я проходила по коридору, за моей спиной шептались: «Дура, дура…» И тыкали в меня пальцем. Это было очень странно и не логично. Я чувствовала себя инопланетянкой. Русичка стала вызывала меня к доске каждый день и «валить» дополнительными вопросами, заискивающе поглядывая при этом на своего любимчика. Они помирились дня через два. И все это сразу поняли.
Близился выпускной. Комсомольские активисты решили оставить учителям память о нашем классе и записать на магнитофонную кассету наши таланты. Кто-то читал стихи, кто-то рассказывал анекдоты. Позвали и меня, чтобы спела. Светка играла на фортепиано, а я выводила сложнейшие рулады и думала: «Интересно, приятно ли будет русичке слышать мой голос рядом с голосом её фаворита?»
Своими сомнениями я поделилась с ехидной Лариской. Лариска сказала, что когда я пою, у меня совершенно другой тембр и русичка не поймёт кто это. Потом посмотрела на меня повнимательнее и начала успокаивать:
— Ой, да кто ты такая? Кому ты нужна? Ты никто, и звать тебя никак. Мышь серая, кошка драная. Ты простая дура. Про тебя все забудут буквально через два дня после выпускного. Ну, может, только англичанка будет тебя вспоминать. Ты же для неё делала вечер на английском и пела песенку такую классную, как это там?..
— You know better, — сказала я каким-то замороженным голосом.
— Да, точно, «юнот бета», — кивнула ехидная Лариска и, поковырявшись в кармане, протянула мне «Взлётную» конфетку.
ПОРТАЛ (рассказ)
— Ну, как внук, Римма, всё пишет? — Маслиха, кудрявенькая блондинка предпенсионного возраста, поудобнее устроилась за кухонным столом в предвкушении душещипательных новостей и вопросительно мотнула головой в сторону детской комнаты.
— Ох, пишет… — ответила ей больным голосом моложавая женщина, ловко повязывая на себе кухонный фартук и наскоро пряча волосы под белый старушичий платок.
Затем хозяйка поставила чайник на газ, прикрыла дверь на кухню, прижимая её как можно плотнее, и добавила:
— Каждый день пишет. Я уже не читаю, бросила это дело. Пишет одно и то же в каждом письме — «Дед Вовка, найдись… Дед Вовка, найдись…» А после письма весь на судороги исходит. Ох, устала я от всего этого, не могу больше! Сколько же это будет длиться?
Римма обречённо махнула рукой куда-то вниз и в сторону и села за стол рядом с Маслихой.
— Ну, а врачи чего говорят? — незамедлительно поинтересовалась та.
— А что они умного скажут, врачи-то? Говорят, пока не тревожить его. Пусть переживёт потерю. Говорят, что время лечит. А я думаю, что оно не лечит, а только уходит. Ему уже семь, осенью бы в школу, а он у меня всё по врачам.
— Была бы потеря велика! Подумаешь, седьмая вода на киселе! Кто он ему? Дед двоюродный! За мать бы свою лучше так переживал, не просыхает она у вас совсем, дочь-то! — ехидно подначила соседка.
— Да уж, наказал меня господь, только не знаю за что! Каждый день звоню ей — каждый день она «в умат». Там разговаривать не с кем, спилась окончательно, вся в своего отца, такая же пьянь. Хорошо, что я вовремя развелась, а то бы ещё и с ним мучилась.
— Да я её, вроде, видела на днях, дочь-то вашу, выглядит хорошо…
— Когда ты её видела?! — взвилась Римма, но тут же схватилась за сердце, взяла себя в руки, достала из кармана фартука витаминку, выпила её, помолчала, сморщившись как от горечи, и опять заговорила тихо и болезненно: — Ты перепутала, она сюда не ездит…
— Да вроде бы, это она была. Напротив подъезда стояла…
— Да говорю тебе, что не она это была, ты ошиблась! Она пьяная валяется, ей ни до чего!
Маслиха недоумённо дёрнула жиденькими бровками и ненадолго смолкла.
На столе появились незамысловатые сладости и простенькие чашки. На кухню, как кот-гуляка, тихонько и виновато прокрался серый вечер, разлегся на всех полочках и стал прислушиваться к разговору. Женщины начали пить чай безо всякого удовольствия. После первого же глотка гостья не выдержала и заговорила опять, на этот раз почему-то громче обычного:
— Ты знаешь, ты уж внуку посоветовала бы написать как-то по-другому, чтобы эти его инопланетяне услышали, поняли, наконец.
— Это как? — изумилась молодая бабушка, подозрительно разглядывая странный блеск, появившийся в глазах собеседницы.
— Ну, сама подумай, они же не знают фамилии его деда, имя его не знают, адрес не знают, по которому его надо привезти…
— Кто «они»?.. Ой… Ну, ты-то ещё с ума не сходи! Всё равно в помойку всю эту писанятину выбрасываю!
— Но он же маленький, он-то верит! Понимаешь? Верит! И потом, надо сделать так, чтобы хоть что-то изменилось, хоть что-то сейчас стало в его жизни другим, хоть письмо это проклятущее! В помойку — не в помойку — он-то верит, что информация уходит в портал к инопланетянам, которые обязательно вернут его деда!
— Господи, вот наказание-то, родной брат пропал без вести, дочь пьёт, больного ребёнка родила и бросила на мою голову — он же почти не разговаривает, всё путает, отца нет, хотя, наверное, такая же пьянь. А кто может родиться от двух пьяниц?.. Ну, не музыкант же! Вот, думаю — инвалидность ему что ли сделать. Хоть копейку какую буду получать. Ох, если бы не мой муж, то хоть в петлю лезь.
— А где твой Михаил-то, кстати?
— Да вон, телевизор опять свой смотрит! — В глазах Риммы мелькнуло презрение.
— И как он к этому всему относится?
— Плохо он к этому всему относится. Ему разве это нужно? Он на пенсии, ему отдых нужен, а он возится тут с нами, — рассудительно сказала хозяйка, подливая в чашки чай.
— И зачем ты ребёнка забрала? — задумчиво произнесла Маслиха, больше обращаясь к самой себе, нежели к собеседнице. — Сейчас бы жили со своим мужем припеваючи и беды бы не знали! А она пусть сама бы кувыркалась со своими проблемами.
— Ребё-ё-нка жа-алко-о, — почти пропела бабушка Римма, растягивая слова с такой интонацией, чтобы даже дуракам стало ясно, почему она так поступила, — родная кро-овь всё-таки!
— А в милицию обращались, что брата нет? Человек пропал, не собака.
— Ты чего городишь-то, Юль? Конечно обращались. Заявление писали, вон, с мужем вместе ходили. И недавно ещё ходили, они там говорят, что ещё пять с половиной лет ждать надо, чтобы… ну, там для чего-то, не знаю… Ой, телефон что ли? Подожди, сейчас возьму.
Хозяйка поднялась с места и прошла в коридор, тщательно захлопнув за собой дверь. Из коридора послышались обрывки разговора, переходящие из слабого импотэнте в яростное импэрьйозо:
— Ну, привет… Ничего, нормально… Ну, ладно, мне некогда… Ничего, лучше стало, сейчас таблетки пьём, а тебе-то чего?.. Я сама врач!.. Не лезь туда, где ни черта не понимаешь!.. Нет, не нашёлся… Да на черта он мне сдался? — разыскивать его… Хочешь, сама ищи, ты такая же родственница… страдает она… И что, что прописан?.. И что, что родная кровь?.. Да что ты привязалась-то ко мне?.. Да, ничего не хочу… Не позову!.. Нет, я сказала!.. Только попробуй, пожалеешь… Мы завтра уезжаем на дачу… Нет, я сказала! Всё, давай.
Женщина с грохотом бросила телефонную трубку на рычаги и вернулась на кухню, немного посуетилась, как будто чего-то искала, махнула рукой и села на место:
— Сестра звонила. Всё спрашивает, спрашивает — надоела, хуже горькой редьки.
— Римма, а ты разве врач?
— Да это я так сказала, просто так! Тссс…
Обе женщины замолчали.
Кухонная дверь подёргалась и потихоньку отворилась, через образовавшийся проём робко, как-то боком, вошёл худенький мальчик ангельской внешности — голову его обрамляли светлые кудри, ярко-синие глаза были широко раскрыты и смотрели на женщин с некоторым испугом. Одет он был в светлые шортики и маечку, на ножках болтались безразмерные тапки. В руках он держал серебристый двойной квадратик фольги небольшого размера. Бабушка погладила внука по голове, засуетилась и замурлыкала:
— Написал, мой золотой? Сейчас мы с тобой таблеточки выпьем, открывай ротик, да-а… вот так, хорошо! Давай-ка сюда письмо, тётя Юля его обязательно отнесёт куда надо — да, тётя Юля?
И повернувшись к соседке, Римма передала ей блестящий квадратик и подмигнула.
Соседка кивнула головой и серьёзно спросила, обращаясь к ребёнку:
— Ты всё написал, можно отправлять?
В ответ лицо малыша исказилось страшной гримасой, тут же изуродовавшей его черты лица до неузнаваемости.
— Вот, видишь, что делается? — кивнула бабушка головой в сторону внука. — А ты говоришь…
— Пойду я, — поднялась с места Юлия. — Вам спать уже надо ложиться…
— Иди, иди. Я тебя хотела попросить, — хозяйка засуетилась, выпроводила свою гостью в коридор и зашептала ей в ухо, — выбрось его сама, ладно? Не хочу выходить в подъезд, знобит меня сегодня. Прямо в мусоропровод сунь, да и сбрось. Потряси ящик только, чтобы точно провалилось, а то, не дай Бог, кто найдёт — стыда не оберёшься!
— Хорошо, — пообещала соседка и вышла из квартиры вон.
Остановившись перед мусоропроводом, невольная почтальонша, движимая любопытством, попыталась развернуть конверт, но он никак не поддавался, так как весь был заботливо обмотан прозрачной клейкой лентой. Потом она подумала, что хорошо бы отнести этот конверт в милицию, но представив себе, как на неё там посмотрят и что скажут, сразу отогнала от себя эту мысль. Повозившись ещё немного, она передумала вскрывать, дёрнула плечами, как от холода, и выполнила своё обещание без вольностей.
Проходя мимо квартиры, где она только что была, Маслиха услышала, как Римма говорит кому-то по телефону: «…да соседка была. Всё спрашивает, спрашивает — надоела, хуже горькой редьки».
Маслиха неодобрительно покачала головой и в очередной раз пообещала себе, что больше к Римме ни ногой.
Маленький Дениска лежал в своей кроватке и вспоминал, как дед Вовка однажды прочитал ему рассказ, который назывался «Арно». Так звали голубя, который всегда прилетал домой, невзирая ни на какие сложности. В конце рассказа голубь погиб. Дениска тогда уткнулся в подушку и заплакал. Дед Вовка, сам не ожидавший такого конца, тоже расстроился, но виду не подал, подоткнул одеяльце, погладил мальчонку по голове и вышел из комнаты. А на следующий день, чтобы порадовать кровиночку, принёс домой двух канареек в клетке, которых тут же съела соседская кошка, забежавшая в раскрытую дверь…
Потом было какое-то семейное торжество, и все собравшиеся родственники начали просить Дениску спеть про крошку-енота. Малыша поставили на табуретку и выжидающе начали на него смотреть. Нимало не смущаясь, Дениска набрал в лёгкие побольше воздуха и запел: «От улыбки солнечной Арной…» Его тут же подняли на смех, а бабушка сказала: «Это какая-такая Арна? Не кривляйся и не выдумывай, пой, как следует!» Дениска пытался рассказать, что такое Арна, это же должно быть ясно всем, что Арна — нечто чистое, светлое и верное — как душа голубя, — льющееся рекой прямо с неба в самое сердце! Кто его слушал? — только дед Вовка, он принёс листочек с ручкой и стал записывать песню со слов Дениски. Но вездесущая бабушка тут же вмешалась, сказала, что нечего поддерживать странные фантазии ребёнка, отобрала листочек и выбросила его в помойное ведро…
«Дед Вовка, вспомни про Арно, вспомни и лети домой! — шептал мальчик, лёжа в полной темноте. — Ты не погибнешь как он, ты сильнее!»
Под красно-жёлтым небом раскинулось почти безжизненное пространство. Вот он, параллельный мир! Куда ни кинь взор — повсюду только разноцветные горы.
Горы, горы… Ни кустика, ни травиночки, ни деревца. Только эти горы и резко вскрикивающие птицы, кружащие и шарахающиеся от ядрёных испарений, которые вырываются из-под земли совершенно внезапно, устремляются к небу и отравляют на своём пути всё живое! Поражающая воображение мёртвая мощь!
Но что это? Там, вдалеке, прыгает фигурка какого-то существа. Так и есть! Здесь явно кто-то живёт! Размахивая всеми своими конечностями и лохмотьями, по горам прыгало нечто лохматое, радостно-беззубое с красно-коричневой кожей, распространяя вокруг себя ужасные ароматы, от которых бы задохнулся даже скунс, вырыгнутый крокодилом.
Хрыщ танцевал! Он опять нашёл доказательство того, что на других планетах есть жизнь! Надо скорее всем показать! И тогда на Вечернем Огне, после того как это послание будет расшифровано, все опять будут весело смеяться и тыкать в него, Хрыща, пальцами, кормить его сладким и поить горьким! А после этого Хрыщ снова улетит на другую планету, туда, где он будет счастлив некоторое время, аж до самого следующего утра, и у него не будут болеть суставы! Надо отдать послание, скорее отдать! Пусть Волк прочитает его всем! Пусть опять будет праздник!..
Несколько неопрятных особей мужского пола стояли над лежащим без сознания существом, похожим на кучу тряпья, и растерянно рассуждали:
— Слышь ты, чего это с Волком?
— Да Хрыщ,.. притащил опять бумажку,.. вот эту,.. ну, которые мальчонка всё какой-то пишет… Ну, которые этот, как его там… ну…
— Ну, понял, понял!.. Ну?
— «Ну, ну»! А там фотография. А Волк посмотрел и как закричит прямо вот так: «Ыы-ы, ыы-ы»! А потом сказал, что всё вспомнил, упал и так и лежит! Вот и не знаем, что с ним делать.
— Дай сюда! Посмотреть надо, что там. А потом и решать, — изрёк подошедший в это время Старшой и рывком забрал у Тыкомки бумажный комок.
Заскорузлые пальцы осторожно развернули измятый лист бумаги с остатками приклеенной фольги, от которого отделилась согнутая фотография. Старшой присел на перевёрнутое ведро, услужливо вытащенное из ближайшей мусорной кучи ничего не понимающим Хрыщом, достал из кармана бесформенные непонятного цвета стёклышки на верёвочках, нацепил их себе на нос, заведя верёвочки за уши, разгладил обе бумаги на коленке, внимательно рассмотрел фотографию и начал читать вслух, едва разбирая детский почерк:
«Здравствуйте, дорогие планетяне. Я тоже планетянин. Вот он я, как я выгляжу на этой фотографии. Высылаю её вам, чтобы вы мне помогли найти моего деда Вовку среди вас. Он хороший. Он ничего не боится. И вас тоже. Он тоже планетянин по фамилии Мороз. Мы живём на улице Старый Гай все вместе, его надо туда, к нам. Дом рядом со школой. Моя планета настоящая, она рядом с вашей, у нас есть друзья. Раньше я не так писал, а сейчас написал так. Потому, что мне в школу скоро. А дед Вовка обещал проводить, а его всё нет и нет. А мама пьёт. А бабушка наговорила на деда Вовку, чтобы просто выгнать. Она всегда так делает просто. А дед Миша его просто больно по голове ударил и прогнал. Но они добрые, так и знайте. Деду Вовке скажите, что я всё видел, но я никому не сказал. Я верю, что вы его вернёте, я очень жду. Дениска»
— О! Дениска! — изрёк Старшой, подняв крючковатый указательный палец кверху, затем повернулся к Хрыщу и скомандовал, — а ну, беги за Дурындой!
Хрыщ как будто ждал этого приказа, весело подпрыгивая и размахивая лохмотьями, он довольно быстро побежал куда-то за гору, откуда появился через некоторое время со странного вида женщиной, одетой в грязно-белые одежды, она несла в своих руках коробку, на которой был нарисован красный крест, а Хрыщ прыгал вокруг неё и что-то рассказывал, размахивая длинными руками.
Подойдя к Волку, который так ещё и не пришёл в себя, Дурында наклонилась над ним, убрала с его лица грязные слипшиеся седые кудри, молча достала из коробки пузырёк, открыла его и поднесла к носу Волка. Тот сильно дёрнулся, сморщился, закрылся рукой, закашлялся и открыл глаза.
Мужики довольно заржали, начали толкать друг друга в бока и радостно вопить, перебивая друг друга:
— Ну, вставай, Волк Дед Мороз!.. Ты подарки нам принёс?.. Вставай, едрит тебя в корень, тебя нашли!.. В капусте?.. На свалке!.. Вставай, давай, разлёгся тут…
Тут Старшой встал с ведра и авторитетно заявил:
— А ну цыц! Орёте тут на всю свалку, как на свадьбе!
Все сразу замолчали и уставились на него, ожидая, что он скажет.
Старшой кашлянул и продолжил свою речь:
— Надо бы приодеть Волка, да найти на дорогу денег. Дурында, займись-ка этим! Там мусоровоз с Рублёвки приехал, давай, возьми мужиков и ступайте. И чтобы к вечеру уже было всё готово! А вы чего стоите, планетяне? Непонятно говорю? А ну, марш!
Молчаливая Дурында кивнула, развернулась и пошла выполнять приказание, за ней толпой двинулись поскучневшие мужики, замыкал это шествие радостно подпрыгивающий Хрыщ.
Волк сидел прямо на мусорной куче и смотрел в небо, чтобы слёзы не оставляли следов на грязных щеках. Пусть лучше льются в уши. Почему-то вспомнилось, как шли они с Дениской по улице и разговаривали о жизни. Дениска держался за руку и весело подпрыгивал на ходу, внимательно слушая рассказ деда о том, как из-за слишком маленького роста его нигде не хотели брать. Один раз предложили быть клоуном, но он отказался, потому что не хотел, чтобы над ним смеялись его друзья. Это сейчас понятно, что клоун — лицо цирка, а тогда это было стыдно что ли.
— Ну, вот, скажи мне, — говорил дед Вовка, — где может найти себя человек маленького роста, кроме как в цирке?
— Да ясно где, — ничуть не задумываясь, произнёс Дениска, — на лошадках, которые ездят, их по телевизору показывали! Ты же любишь лошадок, сам говорил!
Дед Вовка остановился и посмотрел на Дениску так, как будто тот ему сообщил нечто очень важное, такое важное, что и не передать словами, прямо жизненно важное! Только опоздал с этим сообщением лет этак на сорок.
— Жокей… конечно же, жокей… — растерянно произнёс он тогда.
Старшой похлопал Волка по плечу и сказал, пряча своё сочувствие за грубыми интонациями:
— Ну, хорош-хорош. Пришёл в себя? Давай, подымайся, айда в контору, будем тебя к дембелю готовить, солдатик!
Цветы, шарики, первое сентября. Накричавшаяся с самого утра бабушка, вывела Дениску в первый раз в первый класс. Со всех сторон на первую свою школьную линейку стекались нарядные первоклашки, сопровождаемые папами, мамами, дедушками и бабушками. Дениске было всё равно. Школа была прямо рядом с домом, типичное такое, четырёхэтажное здание белого цвета, обсыпанное с торцов разноцветной крошкой, которую можно было сколупывать и заряжать ею рогатки, что довольно часто практиковалось дошколятами, проникающими в школьный двор после первого же звонка на урок.
Бабушке Римме было некогда, у неё болела голова, и с самого утра было высокое давление. Она сказала Дениске, чтобы шёл вместе со всеми, когда поведут в классы и торопливо покинула школьный двор. Что-то кричали в рупор, играла какая-то музыка, Дениска топтался на одном месте с огромным букетом и с тяжёлым ранцем за спиной, терпеливо ожидая, когда же наконец вся эта шумиха закончится. Вдруг сзади него раздался знакомый голос:
— Ранец-то сними, да поставь на землю, чего его на себе держать? Тяжёлый, небось!
Дениска резко обернулся и увидел деда Вовку! Но узнал не сразу, поскольку дед Вовка, как и все планетяне, отрастил себе большую пушистую бороду, узнал только по узким смеющимся жёлтым, как у волка, глазам! Мальчик вскрикнул от радости, кинул букет на асфальт и бросился в объятья к деду! Растроганный до слёз мужчина, поднял мальчишку от земли, прижал к своей груди и прошептал Дениске на ухо:
— Мы теперь с тобой будем всегда рядом! Я теперь в твоей школе работаю дворником, а живу у тёти Юли, которая этажом выше, знаешь где?
Мальчик закивал головой и громко сказал, чуть не крикнул:
— Ты пришёл!
— Я же обещал! Как же я мог не прийти? Я получил твоё письмо и пришёл.
— Бабушка на тебя всё свалила, а сама монетки в своё пальто зашила, я видел, но не сказал тебе, прости! — зашептал Дениска.
— Забудь, забудь это, это всё ерунда, все эти монетки! Знаешь, что не ерунда?
— Помнишь? — «От улыбки солнечной Арной»…
Дениска громко и нервно засмеялся. Дед Вовка поставил мальчика на асфальт, серьёзно посмотрел ему в глаза и сказал:
— Я теперь знаю, что такое Арна, Дениска, она существует! Мне там объяснили.
— Планетяне?! — изумился мальчик.
— Планетяне, родной, планетяне.
БАНКА (миниатюра)
У хомячка в трёхлитровой банке есть ватный домик, поилка и кормушка. Но он пытается вылезти. И целыми днями скребётся в стекло. Распахнув лапки для объятий, зверёк с разбегу прыгает в чудесный мир. Но ударяется о прозрачную преграду и падает к себе в стружку. Поднимается и, задрав разбитую мордочку кверху, начинает сучить крохотными пальчиками по скользкой поверхности так яростно, будто готов процарапать ее насквозь. Ему хочется на свободу, туда, где вольный ветер колышет море и пальмы! Хомячок не понимает, что он смотрит из своей банки в монитор ноутбука.
Иногда сверху появляется большое лицо и громко шевелит ртом. По банке идёт гул. Крошечный грызун пугается, прячется и затихает на какое-то время. А немного погодя начинает бесцельно таскать из угла в угол кусочки подстилки. Но вскоре инстинкт берёт своё. И «бунтарь» снова начинает скрестись и прыгать до изнеможения. А время уходит. И однажды в горстке несвежих опилок найдут окоченевший трупик с замурзанными лапками, протянутыми к свободе. Долго разбираться не будут, потыкают в бездыханное тельце карандашиком, пожмут плечами, вздохнут стыдливо-облегчённо, да и выбросят на помойку. Вместе с банкой.
ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДВОРНИКА-ФИЛОСОФА ДЯДИ ФЕДИ (отрывок из повести)
Однажды дворник-философ дядя Федя всерьёз заинтересовался искусством. Произошло это не случайно — он любил прогуливался в центре и приобщаться к культурной жизни столицы. Делал это частенько и с удовольствием. А стеклотару собирал так, заодно. Это не возбраняется.
В тот особенный день дядя Федя выбрал новый маршрут, пошел другим путем и наткнулся на выставку фотографий. Но не успел он и глазом моргнуть, как из-за угла выскочила целая куча орущих и машущих руками интеллигентов. Его, здоровущего мужика, зацепило этой стихией, пронесло мимо контролёров, да и впихнуло в выставочный зал. Дядя Федя, гремя собранными бутылками, дистанцировался от сплоченных масс и отскочил в сторону, чтобы бежать. Но выход тут же был заблокирован неизвестными. Философ решил не бузить, а расслабиться и совершенно забесплатно рассмотреть повнимательнее, что же так взволновало всех этих людей.
На стенах зала висели огромные фотографии «18—». Но на баннере выставки было ясно написано «18+», это философ запомнил совершенно точно. Такое несоответствие дядю Федю очень возмутило. Раз снаружи написано «18+», так пусть и внутри висит «18+»! Иначе — обман!
Обидно же будет, если, к примеру, на пиве снаружи напишут, что его крепость девять процентов, а внутри будет всего три. Обидно? Ещё как! Так и тут — на фотках, сплошь и рядом, были изображены худосочные обнажённые подростки, которые не вытаскивали из ног заноз, не купали красных коней и даже не мочились в фонтаны. Они просто стояли, лежали и безо всякого смущения демонстрировали то, чего у них пока не было, да и быть ещё не могло в силу их возраста.
Пока дядя Федя философствовал в этом ключе, к нему подошёл какой-то гражданин. Дико извиняясь, переминаясь с ноги на ногу и опасливо озираясь по сторонам, он занял у дворника пустую бутылку и отлучился с нею в сторонку. А спустя несколько минут, появился в зале начал поливать на стены. Его тут же скрутили и куда-то уволокли. Дворник только руками развел от такого поворота событий и начал рассуждать: «Во дурак-то! Хотя, с другой стороны, это же инсталляция! Человеку приспичило, он пописал в посудину, потом из посудины. А как по другому-то? Напрямую из штанов не дотянешься, предметы же висят высоко! Только из бутылки и можно было достать! Нет, никак не пойму я этих художников. Ну, какое же это искусство. Искусство — это искушение! А чему тут искушаться взрослому человеку. Вот, ежели бы курица была вкусно сфотографирована или лес с медведями, в который погулять. Или баба зрелая, как лопнувший помидор, — другое дело! Смотри, искушайся! А это что? И как это допускают, чтобы детей, которые за себя ещё не отвечают, рассматривали все, кто не попадя? Тут же публика разная ходит — не только педиатры!»
И тут дяде Феде ненароком вспомнилось, что недавно показывали, как похожие фотки изъяли у одного гражданина. После чего тот загремел по полной, да ещё и по очень нехорошей статье. Так тот, как раз, нигде ничего не развешивал и не выставлял, а тихо рассматривал сам, у себя дома! Но те фотографии кому-то не понравились — то ли ракурс был не тот, то ли размер был слишком маленьким, то ли потому, что не поделился своим «искусством» с обществом, то ли имя «художника» не очень звучное и не импортное было. Короче, гражданина посадили очень далеко, надолго и отнюдь не в министерское кресло.
Мысли про «посадили» дяде Феде очень не понравились. И философ начал прорываться к выходу, чтобы ретироваться от такого опасного творчества как можно побыстрее и подальше, в привычную для него среду — к себе во двор.
Выскочив из дверей заведения, дядя Федя попал в ещё одну толпу — людишки вились перед выставкой как мошки над репчатым луком и с пеной у рта спорили. Собиралась драка. Те, которые «за», явно хотели навалять тем, которые «против». А те, которые «против», явно хотели навалять тем, которые «за»!
— Кыш, дрозофилы! — культурно выругался дядя Федя и разделил кучу-малу на две части, пройдя сквозь нее как ледокол.
Вечером дворник сидел в любимом кресле у себя на первом этаже, посасывал пивко и смотрел ток-шоу про ту самую выставку. Ни одна мысль, вылетевшая из ящика, его не устраивала.
— Художники, етит их ангидрид, — ругался с телевизором философ. — Если ты художник, то рисуй или фотографируй так, чтобы всем было ясно: нахрена ты это делал!
В дверь ожидаемо позвонили. Дядя Федя крикнул:
— Заходь, Славк, открыто, ты же знаешь!
Бывший врач протопал по квартире как слон. Схватил одну из стоящих возле кресла бутылок, открыл её зубами, метко плюнул крышечкой в специальную коробку, которая стояла на подоконнике, сделал глоток хмельного напитка, уселся на табуретку и радостно сообщил:
— Ябедники Никитины из «третьей» съехали! Вместо них там теперь живёт Анна Ню из «Секонд хэнда»!
— Хто?! — поперхнулся пивом дядя Федя.
— Анна — имя, Ню — фамилия… — терпеливо начал объяснять Славка пытающемуся отфыркаться другу.
— Художница?! — с ужасом спросил еле отдышавшийся философ.
— Не-е, директорша магазина «Секонд хэнд»! Комиссионки по-нашему. В «двушке» будет жить одна как королева! В аккурат за моей стенкой! Я уже её видел! — Славка радостно заржал как конь на выгуле.
— Слава богу, что не художница, — пробормотал наш философ.
— Чего ты там бормочешь? — не расслышал сосед.
— Катька, говорю, тебе все твои последние волосёнки повыдергивает и правильно сделает! — «повторил» хозяин квартиры.
— Это почему ещё? — возмутился Славка. — Мы же с ней в официальном разводе!
— А живёте гражданским браком, что тоже считается! — поднял указательный палец вверх слегка захмелевший философ. — Ты лучше скажи, как выглядит эта Аннаню. Прилично? Не как у современных художников?
— Не-е, там явный Рубенс, Рублёв… — начал описывать Славка, делая руками такие движения, как будто он несёт два арбуза. — Короче… спелый помидор!
— Помидоры — это хорошо! — обрадовался дядя Федя. — Помидоры — это…
— Закуска! — радостно подсказал Славка.
— Да! — согласился дядя Федя, с некоторым трудом вылезая из кресла. — Ну, берём у меня на кухне банку с огурцами и пошли!
— Куда? — испугался сосед.
— Знакомиться будем с новой жиличкой и праздновать новоселье! Мой настрой на это деяние достиг своего… этого, как его… агепоя!
Вечер обещал быть томным.
Выйдя на лестничную клетку, друзья договорились называть новенькую Нюшей. Она, конечно, директор магазина и всё такое, но «Нюша» звучит гораздо лучше, чем какое-то «Аннаню». И очень подходит для такой энергичной дамы, которая методично вклинивалась со своими мебелями между Славкиной квартирой и квартирой бабы Шуры аж целых два дня.
Дядя Федя подошёл к двери квартиры под номером «три» и толкнул её рукой, свободной от трёхлитровой банки с огурцами. Дверь оказалась открытой. Философ обернулся на друга, приглашая его последовать за собой, но тот засуетился, почему-то похлопал себя по пустым карманам и сказал:
— Я пока… за хлебом сбегаю.
Дядю Федю это не насторожило. Он распахнул дверь и вошёл в квартиру:
— Хозяева! Есть кто дома?! Принимайте гостей!
Откуда-то из кухни донеслось пыхтение, сопение и чавканье. «Может, мы не вовремя, — подумал гость. — Может, не до нас ей пока». Но продолжал чего-то ждать, надеясь увидеть то, что описывал Славка — рубенсовские формы, то, с…
Сопение и чавканье продолжалось, а ответа всё не было и не было. «Не судьба!» — подумал гость. И то-олько он собрался на выход, как из кухни на него вышел… мамонт! Ну, мамонт, он и есть мамонт. Только без хобота. У философа поджилки отказали сразу, даже не успели затрястись. Так и сел в коридоре на пол вместе с соленьями. А «мамонт» тяжело вздохнул и лёг, помахивая коротким хвостом.
«Вот, кто знал, что у неё есть собака?» — пронеслось в голове у дяди Феди. И он шепнул в приоткрытую дверь:
— Я спрашиваю — кто знал, что у неё есть такая собака?!
Славка, который, разумеется, ни за каким хлебом не ходил, а так и стоял всё это время на лестнице, опираясь на перила, помолчал немного, а потом начал на весь подъезд перечислять:
— Кто-кто… Я знал, баба Шура знала, Катька знала — все знали.
— А я знал?
— А я не знаю, знал ты или нет! — запальчиво ответил врач.
— А ты не подумал своей херургичьей головой, что нужно рассказывать всю информацию, прежде чем посылать на такое дело?
— Я надеялся, что ты знал, — искренне попытался раскаяться сосед, упирая на слово «надеялся». — Ты это… Я тут дверь поплотнее прикрою, а то ты же на полу сидишь, ещё простудишься…
Философ был жутко расстроен и огорошен. Хотел познакомиться с пышной дамой, а наткнулся на пышную собаку. И теперь сидит как осёл с огурцами и даже шевельнуться боится.
— У? — донеслось из-за закрытой двери.
— Чего делать будем?..
— Ой, — раздался вдруг мелодичный голос. — А чего это вы тут собираетесь делать? — по лестнице поднималась новая жиличка с полной сумкой продуктов.
— Да мы в гости… к тебе, к вам, — замялся врач.
— Тут твоя зверюга мне проходу не даёт! — отчаянно заорал дядя Федя из-за двери.
Собака, услышав голос хозяйки, вскочила и начала радостно прыгать по всему коридору, умильно виляя своей огромной задней частью, рискуя растоптать и философа, и его соленья.
— Фу, Клава, фу! Ты же меня сейчас прихлопнешь! — пышная блондинка еле протиснулась в полуоткрытую дверь, которая прижималась к косяку под давлением собачьих лап.
Это и была Нюша. Она приласкала мамонта и отправила его на место одним движением руки. Она распахнула дверь и пригласила Славку войти. Она подала руку дяде Феде и помогла ему встать с пола. И всех позвала на кухню, где уже был накрыт стол.
Потом они сидели, ели и пили всякие вкусные блюда, ждали бабу Шуру и Катьку с работы. Смеялись, вспоминая, как дядя Федя сидел в коридоре и боялся.
— На ней не написано, что она безобидная! — пробурчал философ. — А кстати, почему она Клава?
— Потому что она жена волкодава! — рассмеялась Нюша и начала рассказывать историю приобретения щенка.
Дядя Федя слушал щебетание Нюши, как слушают пение птиц, и не вслух философствовал: «Если бы Рубенс задумал писать картину „Дама с собачкой“ с Нюши и Клавы размер в размер, то он очень потратился бы на холсты и краски. Очень. Но это было бы самое что ни на есть настоящее искусство!»
— — — — — — — —
Как-то раз дядя Федя бросил пить, взял отпуск и начал искать счастье. Но счастье никак не находилось. Его не было ни в телевизоре, ни в шкафу, ни в холодильнике, ни в магазине, ни в платёжках за свет. Тогда дядя Федя собрался и поехал в деревню Забегаловку к своим друзьям, братьям Клюевым. На симпозиум. А что? Послал им телеграмму-«молнию» и через два дня поехал. Всего ничего пути-то — час на электричке и пять часов пешком.
Братья жили на самом отшибе поселения. Газа у них никогда не было и в помине, а всё своё «лекстричество» они сдали на «люминиум». Клюевы были не честолюбивы. Хотя могли бы жить и в престижном центральном районе — заходи в любой пустой дом, да и живи себе припеваючи.
Старшего из них звали Николаем — вот он тоже иногда счастье искал. А младшего звали Нидвораем, потому что настоящего его имени никто не помнил, включая его самого. Нидворай вообще никогда не искал счастья и даже не знал, зачем оно нужно, но очень мог пригодиться на симпозиуме как теоретик.
Когда дядя Федя вошёл в хату, он сразу же увидел, что хозяева подошли к официальной встрече обстоятельно — стол буквально ломился от яств: в центре стола лежали три здоровущих дынеобразных огурца, рядом дымилась посыпанная укропом картошечка в чугунке. Красиво разбросанный на столе хлеб был белым и чёрным. В ведре возле печки плавали сегодняшние весёлые пескари.
Был яркий солнечный день, и было изумительно тихо. Симпозианты молча пожали друг другу руки, расселись по местам и сразу же набросились на самогон, который был замаскирован под рассол — в налитой «под завязку» трёхлитровой банке, стоящей на подоконнике, в мутном растворе плавали три зубчика чеснока и две ветки укропа.
Следующее утро началось внезапно. Продрав глаза, дядя Федя ощутил сухость во рту и некоторую скованность в суставах, явно происходящую от пеньковых верёвок, которыми он был привязан к кровати. Последнее, что он помнил из вчерашнего, так это свои собственные крики, что будет кузнецом счастья, невзирая ни на какие трудности. Дальше — туман.
Хмурые братья сидели за пустым столом некультурно — спиной к гостю. Они любовались заоконным пейзажем и явно не знали, чем бы им позаниматься.
Похлопав ртом как рыба, выброшенная на берег, дядя Федя понял, что его голос пока не работает, и попытался привлечь внимание братьев громким резким звуком с обратной стороны своего тела. Это удалось.
Братья вздрогнули, переглянулись, шёпотом о чём-то посовещались, пихая друг друга кулаками, разок сыграли в «камень, ножницы, бумага», и к дяде Феде выдвинулся проигравший Николай со стаканом воды, зачерпнутой из ведра с погрустневшими пескариками.
Судорожно заглонув всю предложенную жидкость из рук друга, дядя Федя прокашлялся и обрёл голос:
— А покреп… че чего-нибудь?
— А нету, — развёл руками Николай и нервно прошёлся по хате в танце камаринского мужика.
— А развязать? — возмутился дядя Федя.
У встрявшего в разговор Нидворая задёргался левый глаз, и он ответил вопросом на вопрос:
— А буянить больше не будешь?
Дядя Федя очень удивился такой постановке вопроса, но виду не подал и стал отрицательно мотать головой. Как только ему поверили, он сразу же был отвязан от кровати и приглашён к столу, за которым и узнал в подробностях, как было дело.
Оказывается, после того как дядя Федя изъявил желание быть кузнецом своего счастья, он тут же объявил себя Вакулой, поймал Нидворая за «хвост», надавал ему «по рогам», сел на него верхом и поехал к соседке, к бабе Кате, за черевичками.
При слове «черевички» дядя Федя оживился, поморщился от того, что в голове острыми большими камнями заворочались мысли, и с надеждой в голосе спросил:
Братья похлопали глазами и ничего не поняли. Поэтому пришлось уточнить:
— Черевички, говорю, мы с Нидвораем привезли?
Николай грустно кивнул головой, обречённо махнул рукой куда-то в сторону и печально сказал:
— Вон, возле печки валяются.
Дядя Федя вытер со лба внезапно выступивший пот, вдохнул и выдохнул:
— В правом черевичке, там, смотрите… должно быть.
Этот намёк братья поняли сразу! Подбежали к валенкам, схватили оба, чтобы не искать, какой из них правый, и вытащили на свет божий непочатую бутыль самогона, которую сунула царица баба Катя, чтобы только от неё отвязались.
И симпозиум возобновился с новой силой! После второго стакана дяди Федина фантазия внезапно проснулась, а уставший разум уснул, и он взревел как раненый бык:
— Я Прометей! А подать мне сюда того орла, который мне вчера по печени клюнул! И Гефеста ко мне приведите! Я ему покажу, скотобазе, как друзей к кроватям приковывать! Где вы все? Попрятались?!
Но отвечать на его вопросы было некому — братья Клюевы уже минут пять как спали мёртвым сном в огороде, в который убежали от философа. Дядя Федя прочёл выскочившему сверчку лекцию о вкусной и здоровой пище, слегка повоевал с напавшими на хату ведьмами и колдунами, вышел на улицу, посмотрел на яркие звёзды, искренне восхитился их красотой и упал в кусты.
Симпозиум продолжался целую неделю. Пока с подачи бабы Кати не был закрыт местным участковым, который еле добрался на своём «УАЗике» до богом забытого места.
Участковый был своим. Он присоединился к симпозиантам, выпил, закусил, предупредил о последствиях пьянки, загнал дрыном своих собутыльников в речку и наказал, чтобы не вылезали до поры до времени. А сам наловил рыбы, позагорал, выспался и потом даже подвёз протрезвевшего московского гостя до станции.
Дядя Федя ехал домой на электричке, улыбался и думал: «Вот оно, счастье-то! Нашлось! Всё обошлось без жертв, и я еду домой. А завтра — на работу! На работу! Завтра же!»
— — — — — — — — — — —
Дворник-философ дядя Федя, проснувшись, но ещё не поднявшись с дивана, решил бросить пить горькую и заняться са-мо-со-вер-шен-ство-ва-ни-ем. Вот ведь, какое длинное слово в мире существует! Разве его с кондачка, без тренировок, выговоришь без запинок? То-то и оно!
А кому-то это дано от природы. Как попугаям, к примеру. Или вон, хотя бы по телевизору дикторы разные. Понабрали их по объявлениям, чуть подучили, и теперь они ещё и не такое выговаривать умеют! И формулируют так ловко, что не сразу и поймёшь, о чём речь идёт! Но дядю Федю не проведёшь! У него, у дяди Феди, талантов, хоть отбавляй! Он всё ловит на лету! Вот, хоть сейчас телевизор включай — любое поймёт!
Дядя Федя дотянулся до табуретки, взял в руку пульт и нажал на кнопочку. На экране тут же появились какие-то люди, которые начали что-то уверенно говорить. Но дядю Федю их уверенность не смутила! Он начал вслушиваться внимательнейшим образом, чтобы дать им достойный ответ.
Да всё просто! Ничего сложного! Ну как можно не понять, к примеру, такую фразу: «Бесполезно каждому ставить свой прибор со своими параметрами, все это должно быть в системе, которая должна быть организована в первую очередь за счет тех, кто управляет городским хозяйством, это, безусловно, повысит эффективность».
— Тут же всё ясно! Это же ясно, как белый день, что… Ну, как белый день ясно же, что… Всё ясно… Белый день, и всё ясно, — забормотал дядя Федя.
Он покинул диван, подошёл к окну и раздвинул шторы. За окном была ночь, и стояла кромешная темень.
— Что ничего не ясно, — произнёс вслух дядя Федя и понял, что он заболел.
Ну, как так-то? Как такое может быть, чтобы все понимали, о чём идёт речь, а он, талантливый человек, и не понимал. Конечно, заболел!
Тут же почему-то всплыло в памяти, чем закончилась вчерашняя пьянка с соседом: философские рассуждения на различные темы плавно перешли в громкий диспут, а затем и в явное ток-шоу. Дядя Федя парировал последнее заявление своего оппонента выбросом руки в сторону его лица и гордо начал покидать токовище. А в спину ему прилетело Славкино жалкое, кинутое вослед как смятая кепка: «Лечиться надо, психер!» И его, дяди Федина, «обратка», произнесённая почти с французским прононсом: «А ну, запрись у себя, дондон!»
«Врачи бывшими не бывают, пусть начинает меня срочно лечить!» — подумал дядя Федя, вышел из своей квартиры и решительно позвонил в соседскую дверь. После непродолжительных шорохов, мычащих сомнений и неуверенных телепаний, дверь открыл Славка по прозвищу Пакшировский. Позырив здоровым глазом по полу и потолку лестничной клетки, Славка собрал всю волю в кулак и сумел обнаружить недавнего своего собутыльника прямо перед собой. Славка был необидчив. Потому что никогда не помнил, что было вчера.
— А-а, это ты… Проходь! — приветливо пробормотал лепила, бодро повернулся лицом к комнате и ловко ушёл винтами в вешалку, обрушив на себя кучу старых курток, телогрейку и две шапки. Из вороха сваленного тряпья торчала только врачья голова с подбитым и заплывшим левым глазом. Дядя Федя нагнулся к своему другу и участливо спросил:
— Славка, а ты можешь выговорить «са-мо-со-вер-шен-ство-ва-ни-е»?
Голова отрицательно помоталась из стороны в сторону.
— Эх, ты! А ещё врач называется. Вылазь, дело есть.
Поле вчерашней брани выглядело через распахнутую в комнату дверь ужасающе. По всему полу валялись трупы бутылок и всякий другой, сопутствующий баталиям такого уровня, мусор.
Собутыльники уверенно подошли ко вчерашнему «барьеру» и освежили его — смели всё рукавами со стола на пол. А в середину поставили два больших фужера, чтобы можно было подавать десерт. И поскольку ни соков, ни коктейлей со льдом не было, налили себе холодного пива из холодильника, стоящего возле кровати.
Дядя Федя сделал первый глоток, поморщился и спросил, кивнув на бутылки с пивом:
— Откуда «дровишки»? Ключница делала?
Славка, которого мучило похмелье, хапнул сразу целый стакан жидкости и еле прошипел сквозь сжатые судорогой челюсти:
— Кто-то вчера принёс. Вроде спиртом разбавлено… Ж-вух, какая гадость!.. Так ты чего хотел-то? Говори толком, пока не началось!
И дядя Федя поведал Славке, что решил начать жизнь с чистого листа, что стало плоховато с памятью, что плохо стало с соображалкой — не смог сегодня с утра понять, что говорят по телевизору! А понимать надо, ведь говорят-то на русском языке! Значит, и для него тоже.
— Вот, как бы ты понял, если бы тебе сказали, что-о… — тут дядя Федя немного затормозил, вспоминая утреннюю фразу из телевизора, но быстро собрался и продолжил: — …что бесполезно каждому ставить свой прибор со своими параметрами, все это должно быть в системе, и… это, безусловно, повысит эффективность! Во! Это про что, ты как думаешь?
Славка выпучил глаз, потёр затылок, усиленно изображая работу мыслей, и через несколько секунд мудро изрёк:
— Это про демографию. Цитата из Ленина, небось. Тогда всё общее хотели сделать. И баб — тоже.
— Да это не про баб, это…
— Положи на это большой, с прибором. Тебе сейчас не об этом надо думать, — перебил друга вернувшийся к жизни врач.
— А о чём? — испугался дядя Федя.
— А сейчас узнаешь! — авторитетно успокоил его сосед, вылил себе в стакан остатки пива и поведал другу, что есть такие таблетки, которые повышают обучаемость даже у полных дураков. Дают внутреннее успокоение и даже, в некоторых, особых случаях, делают головной мозг человека гораздо больше, чем у него был.
Правда, сразу оговорился, что других органов это не касается.
Дядя Федя пришёл в неописуемый восторг от рассказа и сразу же захотел приобрести это чудодейственное средство. Славка огрызком карандаша из последних сил нацарапал название на обрывке газеты, протянул клочок собутыльнику и вырубился. Дядя Федя сунул записку в карман, откуда она сразу же выпала по причине дырявчивости оного, собрался и вышел вон. Тем более что Славкино пиво уже закончилось, пивной магазин ещё не открылся, а круглосуточная аптека — вот она, прямо во дворе!..
Заспанная молоденькая аптекарша долго не понимала, что от неё хотят. Дядя Федя, обнаруживший пропажу записки прямо возле прилавка, показывал на пальцах удвоение чисел, крутил руками вокруг головы, изображая внезапно возникшие бурные идеи. Всё было бесполезно. Аптекарша хлопала глазами и никак не вникала в богатый и могучий русский язык. Устав и обессилев, дядя Федя грустно изрёк:
— Вот, кому-кому, а тебе-то эти таблетки точно бы пригодились.
— Вы хоть чуть-чуть название помните? Ну, хоть примерно, — заныла аптекарша, поддавшись на дяди Федину рекламу.
— Примерно — помню. Что-то про новые тропы. Понимаешь, новые тропы, новая жизнь, са-мо-со-вер-шен-ство-ва-ни-е! — почти без особой надежды объяснял дядя Федя.
— Ах, так это про ноотропные! — осенило аптекаршу, — Сейчас дам!..
Возвращаясь обратно и проходя мимо соседской двери, дядя Федя услышал смачные шлепки и дикий крик Катьки, Славкиной соседки по коммуналке, которая вернулась с ночной смены и обнаружила бардак:
— Ещё раз такое увижу, я не знаю, что я с тобой сделаю! Ты понял меня? Понял?
В ответ ей раздавалось мычание, лишь отдалённо напоминающее любимую фразу Пакшировского:
— Ну, начинается!..
Дядя Федя не стал вмешиваться — пускай себе бранятся милые и тешатся. Ведь когда-то, совсем недавно, они были супругами. Он торопливо открыл свою дверь, зашёл домой, выпил сразу четыре волшебные таблетки и улёгся на диван в ожидании новых знаний и возможностей…
— Кто здесь? — голос был гулкий и какой-то неземной.
— Я, — робко ответил дядя Федя.
— Зачем ты здесь?
— Я ищу знания! — уже смелее произнёс дядя Федя и огляделся.
Он находился в каком-то совершенно пустом и круглом помещении с очень хорошей акустикой. Ему стало интересно, кто с ним говорит, и он строго спросил:
— А ты кто?
— Я — это ты, ты — это я! И никого не надо нам! — мелодично прозвучало ему в ответ.
Эхо гулко разносилось по каким-то невидимым коридорам и возвращалось с разных сторон в середину комнаты, к нашему философу.
— Всё, что сейчас… есть у меня, — начал было подпевать дядя Федя, но вдруг насторожился и крикнул: — Мурат, это ты что ли? Ты же умер!.. Или кто тут? Не зли меня, выходи, побазарим!
В ответ — только удаляющийся звонкий смех и слова: «А за окном… снег идёт, снег идёт… идёт… идёт…»
— Идёт, идёт, идёт сердце! Я завёл его, Катька! Пошло — поехало! Слава богу, не всё пропил! Мозги я не пропил! И руки не пропил! Дядя Федя, вставай, родной! — Славка орал как оглашенный.
Дядя Федя открыл глаза и увидел такие знакомые и любимые лица соседей. Разлепил пересохшие губы и сказал:
— Славка, Катька! Там у меня пусто!
— Где, Федя? — Катя смахнула слезу.
— Да в голове моей, ребята! Там так пусто, что можно даже песни петь, представляешь? Акустика хорошая, а больше ничего нет.
— Ну, это, брат, ты загнул — нет ничего, — Славка нервно хохотнул. — А как же это… как его…
— Са-мо-со-вер-шен-ство-ва-ни-е! — сказали они все хором и облегчённо засмеялись.




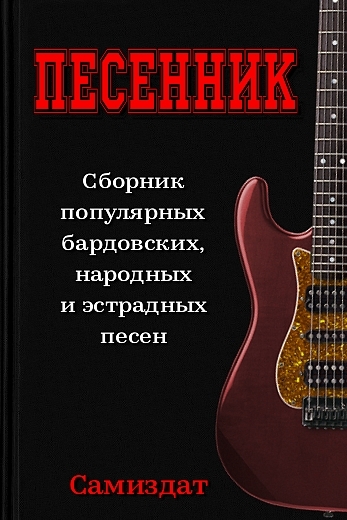


Комментарии к книге «Спектр эмоций», Ольста Баслер
Всего 0 комментариев