Элина Леонидовна Сидоренко, Максим Алексеевич Карабут Частные начала в уголовном праве
Редакционная коллегия серии «Теория и практика уголовного права и уголовного процесса»
А. И. Бойцов (отв. ред.), Н. И. Мацнев (отв. ред.), Б. В. Волженкин, Ю. Н. Волков, Ю. В. Голик, И. Э. Звечаровский, В. С. Комиссаров, В. П. Коняхин, А. И. Коробеев, Л. Л. Кругликов, С. Ф. Милюков, М. Г. Миненок, А. Н. Попов, М. Н. Становский, А. П. Стуканов, А. Н. Тарбагаев, А. В. Федоров, А. А. Эксархопуло
Рецензенты:
Э. Ф. Побегайло, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН Ю. Е. Пудовочкин, доктор юридических наук, доцент
Авторы:
Сидоренко Э. Л., канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права Ставропольского государственного университета (введение, главы I, III, заключение); Карабут М. А., канд. юрид. наук (глава II)
Предисловие
В условиях изменения социально-политической ситуации в стране и ориентации общества на построение правового государства большое значение приобретает проблема соотношения частных и публичных интересов в праве вообще и уголовном праве в частности. Провозглашенная в Конституции РФ высшая ценность свобод личности поставила под сомнение исключительно публичный характер уголовного права, особенно в свете защиты и обеспечения прав и законных интересов потерпевшего от преступления.
В советский период правовая система в России выступала как основа политического режима, а не институт разрешения конфликтов в обществе. Провозглашался принцип приоритетной охраны публичных интересов, и подавлялось любое проявление частного усмотрения в основополагающих институтах уголовного законодательства. Интересы потерпевшего при этом практически игнорировались, а исследование проблемы частных начал в уголовном праве признавалось несостоятельным. Как результат, до настоящего времени в России не сложилось сколько-нибудь серьезное понимание проблемы реализации частных (диспозитивных) начал в правовом регулировании.
В сфере уголовно-правовой охраны положения о правах человека в большей мере носят декларативный характер и не имеют реальных механизмов обеспечения. Реализация публичных начал уголовного права в настоящее время приводит к отказу от учета волеизъявления потерпевшего при решении вопроса о преступности и наказуемости деяний, посягающих на его частные права. По-прежнему личность жертвы преступления исключается из сферы уголовно-правового регулирования, а отсутствие эффективного механизма обеспечения частных интересов потерпевших нередко приводит к нарушению уголовно-правовых принципов законности и справедливости.
В настоящее время в решении проблемы реализации частных интересов в уголовном праве уже наметились определенные результаты. Однако предпринимаемых шагов явно недостаточно. Законодательная и правоприменительная деятельность требуют выработки научно обоснованного механизма реализации прав личности в сфере уголовного права. Отсутствие целостной теоретической и нормативной программы учета частного интереса при решении вопросов о преступности и наказуемости деяний обусловливает необходимость разработки единой концепции частных начал в уголовно-правовом регулировании.
В работе предпринята попытка комплексно проанализировать эту проблему и сформулировать на основе проведенного анализа предложения по совершенствованию уголовного законодательства и практики его применения. В книге определяются содержание и соотношение частных и публичных интересов в праве, рассматриваются основные направления и проблемы развития частных начал в уголовном законодательстве, исследуется институт «согласие пострадавшего», вносятся и обосновываются предложения по совершенствованию уголовного закона и практики его применения в рамках реализации частных начал в праве.
Положения и выводы настоящего исследования могут оказаться полезны в законодательной и правоприменительной деятельности. Они обозначают перспективное направление в изучении уголовно-правового значения частного интереса при решении вопросов о преступности и наказуемости деяний. Надеемся, полезными в правоприменительной деятельности окажутся рекомендации по дифференциации уголовной ответственности с учетом волеизъявления потерпевшего.
Нами проанализированы только основные проблемы реализации частного интереса в современном уголовном праве. Положения и выводы работы отражают авторскую позицию. Они не бесспорны, и потому мы будем благодарны и признательны Вам за конструктивную критику.
Глава I Частные начала в уголовном праве: теоретический и сравнительно-правовой анализ
1.1. Частные и публичные интересы в уголовном праве
Значение категории интереса в уголовном праве трудно переоценить. Интерес лежит в основе уголовной политики государства и определяет основные направления ее развития, что не препятствует, однако, выделению публичных и частных интересов. На протяжении длительного времени было принято считать, что уголовное право – исключительно публичная отрасль права, и частные интересы как объект правовой охраны ей не присущи. Как отмечалось в советской научной литературе, «в условиях социалистического государства интересы общества, служащего интересам народа, и права (интересы) отдельной личности столь полно, органично и адекватно сливаются с интересами государства и общества, что в принципе нет и не может быть никакой существенной разницы, а тем более антагонистических противоречий между частными интересами отдельного индивида и публичными интересами государства и общества»[1]. Подобная позиция среди ученых-криминалистов распространена и по сей день.
Социально-экономические изменения в стране, принятие Конституции РФ, провозгласившей основные права и свободы личности, и многие другие факторы обнажили проблему положения личности в правовой системе, ее места и роли в регулятивных и охранительных правоотношениях.
Частный интерес личности, являясь, несомненно, правовой категорией, начинает постепенно находить свое отражение в УК РФ посредством расширения в нем диспозитивных начал. На современном этапе есть все основания говорить, что «индивидуалистическая концепция прав человека, положенная в основу Основного закона, которая зиждется на признании исключительной роли отдельного человека – как высшей социальной ценности и абсолютности его прав и свобод, производности полномочий и власти государства от прав гражданина, объективно требует пересмотра, переосмысления всей конструкции права и правовых отношений в соответствии с международно-правовыми стандартами и теми гуманными обязательствами, которые взяла на себя Россия, вступая в Совет Европы и признавая общепризнанные нормы и принципы международного права в качестве неотъемлемой составляющей своей правовой системы»[2].
К сожалению, процесс учета частного интереса в уголовном праве России осуществляется не всегда последовательно, что во многом обусловливается недостаточной научной разработкой признаков частных и публичных интересов в праве вообще и уголовном праве в частности[3].
Следует оговориться, что в настоящей работе не ставится цель принципиального решения вопроса о соотношении частных и публичных интересов в уголовном праве. Вместе с тем, определение отправных позиций при исследовании пределов уголовно-правовой охраны личных благ и свобод обусловливает необходимость рассмотрения следующих вопросов:
1) рассмотрение понятия «интерес в праве»;
2) осмысление проблемы соотношения частных и публичных интересов;
3) выявление и анализ их признаков;
4) определение границ допустимости учета частного интереса в уголовном законодательстве России.
Подробно рассмотрим каждый из них.
1. В русском языке под словом «интерес» понимается «особое внимание к чему-нибудь, желание вникнуть в суть, узнать, понять; занимательность, значительность; выгода»[4]. Философия определяет данное понятие как «причину действий индивидов, социальных общностей (класса, нации, профессиональной группы), определяющую их социальное поведение»[5], а психология, напротив, рассматривает интерес как «исключительно субъективную категорию, явление человеческого сознания, как сосредоточенность на определенном предмете мыслей, вызывающую стремление быстрее познакомиться с ним, глубже в него вникнуть, не упускать его из поля зрения»[6]. С точки зрения социологии, интерес – это «объективное отношение социальных субъектов к явлениям и предметам окружающей действительности, обусловленное положением этих субъектов и включающее в себя их объективно существующие социальные потребности, пути и средства их удовлетворения»[7].
Специфично правовое понимание интереса. В отечественной юридической науке существует три основных подхода к определению данного понятия:
1) интерес как продукт сознательной деятельности человека[8];
2) интерес как объективно-субъективное правовое явление[9];
3) интерес как объективная категория[10] (объективный характер обусловливается тем, что интересы формируются существенными общественными отношениями и всецело определяются внешними по отношению к субъекту условиями).
Первая из перечисленных выше позиций вызывает существенные возражения. Признавая, что интерес в основе своей имеет субъективную природу, трудно согласиться с тем, что именно она определяет место интереса в праве. Интерес как субъективное явление по определению не может быть объектом правовой охраны. В сознании человека отражаются лишь объективно существующие интересы, при этом степень их осознанности напрямую зависит от уровня правовой культуры личности.
Небесспорна и вторая точка зрения. По нашему мнению, ни с теоретической, ни с практической позиции не оправдано объединение объективных и субъективных интересов в единую правовую категорию. Объективные интересы существуют независимо от их осознания, а субъективные, напротив, являются результатом сознательного процесса. В этой связи понимание интереса как объективно-субъективного приводит к логическому противоречию. Более того, интерес, будучи элементом права, является продуктом объективно существующих общественных отношений, что полностью исключает его субъективный характер. Сомнительно также определение правовой природы интереса через потребности личности. По мнению И. Е. Сенникова, «удовлетворение вполне природных по своей сути потребностей в человеческом обществе с достаточно развитой социальной структурой становится невозможным без вступления человека в общественные отношения, которые, в свою очередь, регулируются правом и превращают потребности в интересы»[11]. Данную позицию сложно признать справедливой. Потребностью является все то, в чем нуждается человек как член общества и биологическое существо, а интересы есть результат взаимодействия различных потребностей. Однако констатация данного факта еще не дает оснований для отождествления потребности и интереса. Суть различий между этими понятиями сводится к следующему: потребность отражает нужды субъекта, а интерес – меры (способы) их удовлетворения.
Более обоснованным и целесообразным видится рассмотрение интереса как объективной категории. На наш взгляд, интерес в праве необходимо рассматривать как социальный инструмент, способствующий закреплению и позитивному изменению социального положения типового субъекта общественных отношений. Что же касается интереса как явления сознания, то он представляет собой лишь отношение конкретного субъекта к путям и способам достижения и упрочения собственного социального положения, но только в тех рамках, которые определены объективным интересом.
2. В зависимости от основания дифференциации частных и публичных интересов в праве сложились следующие концепции их разграничения:
1) теория охраняемых интересов. Ее суть сводится к тому, что публичное право относится к положению государства, а частное – к пользе отдельных лиц. Отсюда: публичные интересы принадлежат исключительно государству, а частные – индивидам.
Несмотря на кажущуюся стройность и логичность построения, данная классификация не выдерживает испытания практикой. В частности, сложно представить объективное существование государственных интересов. Последние предполагают наличие конкретного носителя прав, а государство есть не что иное, как общность людей. Следовательно, интерес государства – это интегрированный интерес частных лиц. С другой стороны, «если подходить к публичным интересам как потребностям, имеющим значительное общественное значение, придется в отдельных случаях признавать публичными интересы отдельного лица (например, монарха)»[12];
2) телеологическая теория. Сторонники данной концепции различают частные и публичные интересы по их целям. В частности, Савиньи отмечал, что в публичном интересе целое является целью, а отдельный человек занимает второстепенное положение. Напротив, в частном праве отдельный человек является целью, а целое (государство) – средством[13].
Эта теория представляется нам неудовлетворительной хотя бы по той причине, что в основе существующей системы права лежит триединство: личность, общество и государство. Применительно к телеологической концепции сложности вызывает определение правового статуса общества. Более того, противоречивость этой теории со всей очевидностью проявляет себя в двух ситуациях: когда государство вступает в гражданско-правовые отношения (например, договор контрактации), а личность – в уголовно-правовые отношения (выражение согласия лица на причинение вреда собственным интересам или институт примирения с потерпевшим);
3) естественная теория в качестве критерия классификации частных публичных интересов рассматривает положение субъекта. Например, Пухта различал права по тому, имеет ли их человек как отдельное единичное лицо, как индивид или как член органического единства. Публичными он считал те права, которые не могут существовать вне организованного единства, а частными – те, которые предполагают просто сосуществование, коэкзистенцию людей[14]. В данном утверждении содержится ряд противоречий. Во-первых, невозможно представить себе состояние, когда люди сосуществуют друг с другом, но не вступают в общение. Существование общества уже само по себе предполагает наличие социальных связей между его членами. Только в этом случае существует право. А во-вторых, важный недостаток этой классификации заключается в том, что если ее проводить последовательно, в рамках публичного права, придется рассматривать отношения между членами всякого вообще союза, например, товарищества, акционерной компании, семьи, что «выбивается» из общего представления о частных и публичных интересах[15];
4) теория юридического дерзновения и юридической возможности. Согласно ее постулатам, в частном праве всегда имеется дерзновение, а в публичном – возможность. При этом сторонники данной теории подчеркивают, что «публичные права основываются не на дозволительных, а исключительно на власть предоставляющих правоположениях. Поэтому они представляют собой не часть естественной, правом только регулируемой свободы, а расширение прав естественной свободы»[16].
Данная типология, на наш взгляд, также не раскрывает принципиальных различий между частными и публичными интересами. Прежде всего, использование условных и оценочных по характеру категорий – «дерзновение» и «возможность» – не позволяет обнаружить очевидного различия между ними, особенно принимая во внимание тот факт, что они различаются не содержанием субъективных прав, а правовой спецификой последствий правонарушения. Более того, исходя из общеметодологических позиций, юридическое дерзновение всегда предполагает определенную юридическую возможность, а последняя – крайне редко существует без первого;
5) согласно другой теории, основное различие частных и публичных интересов состоит в характере последствий их нарушения . В частности, сторонники этой концепции полагают, что если нарушение права влечет за собой установление для субъекта нарушенного права притязания на возмещение причиненного ему ущерба – это частное право. Если, напротив, нарушение права влечет за собой только принятие известных мер со стороны общественной власти – это право публичное.
Несмотря на то обстоятельство, что эта теория нашла много последователей среди отечественных ученых, она не лишена ряда методологических и правовых недостатков. Рассматривая данное учение применительно к сфере уголовно-правового регулирования, следует заметить, что, во-первых, уголовному праву известны случаи, когда нарушение частных интересов лица влечет принудительные меры со стороны государственной власти, и инициатива потерпевшего в таких случаях направлена не на самостоятельную защиту своего интереса, а на привлечение государства к его обеспечению. Тем более что право возбуждения уголовного преследования в частном порядке и воздействие общественной власти в уголовном праве и процессе отнюдь не исключают друг друга. Во-вторых, специфика частных и публичных интересов проявляется не только при их нарушении. Именно по этой причине брать за основу классификации данное обстоятельство представляется логически неверным;
6) следующую концепцию с большой долей условности можно обозначить как теорию приспособления объекта. Ее сторонник Н. М. Коркунов полагал, что «все характерологические особенности частных и публичных интересов вполне объясняются различием поделения объекта и его приспособления. Наиболее характерные особенности частных и публичных прав выражаются в порядке приобретения тех или иных прав, в способах их потери, в различии содержания само– [17] го права и в соотношении права и обязанности»[18]. По мнению ученого «права частные приобретаются в силу такого обстоятельства, которое имеет индивидуальный характер, относится непосредственно и исключительно к данному отдельному лицу, и такой порядок приобретения, конечно, вполне необходим при поделении объекта в частное обладание»[19].
С данным утверждением также сложно согласиться. Ранее нами отмечалось, что признание интереса частным вовсе не означает, что он лишен объективного характера и находится в сфере сознания индивида. По нашему мнению, частный интерес в праве вообще и уголовном праве в частности есть не что иное, как объективно существующая для определенного круга субъектов, обладающих типовыми социальными свойствами, дозволенность пользоваться и распоряжаться конкретным благом, а равно обеспеченность этой возможности государством и обществом. Что же касается интересов, принадлежащих определенному лицу, то их, по нашему мнению, следует рассматривать в иной плоскости – как конкретное средство осуществления объективно существующего частного интереса.
3. При раскрытии собственного видения проблемы соотношения публичных и частных интересов в уголовном праве заострим основное внимание на их признаках.
Анализ этимологии слова «частный» позволяет предположить, что частные отношения – это внутренние отношения между отдельными лицами, представленные всей совокупностью социальных связей, имеющих внутреннюю, а не внешнюю сущность. В действительности же, право, обладая качествами нормативности и гарантированности со стороны публичной власти, всегда представляет собой публичный инструмент, который «если и опосредует позитивные частные отношения, то только постольку и в той их части, поскольку и в которой они имеют некий выход на общественный уровень»[20]. Признавая право, равно как и интерес, объективным по содержанию, следует вместе с тем признать, что дуализм интересов объективному праву не присущ. Как справедливо отмечает В. В. Ровный, «дуализма права не существует в чистом виде, он лишь выполняет функцию “лакмусовой бумажки”, сигнализируя о характере различной среды на различных участках объективного права и окрашивая все его элементы от норм до отраслей в те или иные промежуточные цвета на всей протяженности между двумя идеальными точками – частного и публичного»[21].
Частные и публичные интересы в уголовном праве России не являются исключением. Признавая за традиционной, но, вместе с тем, крайне условной классификацией интересов несомненное философско-познавательное, историко-культурное и правовое значение, считаем целесообразным выделение их признаков только с учетом следующих обстоятельств:
1) природа частных и публичных интересов в уголовном праве неоднородна. Свидетельство тому – свобода человека как личное неотъемлемое благо. Согласно Конституции РФ лицо может свободно распоряжаться своей свободой, в том числе отчуждать ее (например, соглашаясь на действия, объективно схожие с похищением). Однако применительно к случаям использования рабского труда или торговли людьми, возможность распоряжения свободой нивелируется публичными интересами по борьбе с различными формами эксплуатации человека;
2) граница между сферами частного и публичного интереса подвижна и определяется законодателем. Недостатком ныне действующего УК РФ, на наш взгляд, является то, что он, фактически признавая наличие частных интересов в уголовном праве, формально не очерчивает их границы в правовом регулировании. Выделение в раздел VII УК РФ преступлений против личности не является ориентиром в определении объема частных интересов в уголовном праве, поскольку, с одной стороны, ряд благ, непосредственно связанных с личностью, находится в сфере публичных интересов (например, право на жизнь), а, с другой, некоторые частные права содержатся в иных разделах УК РФ. Скажем, охрана права собственности, которое является частным имущественным правом, регламентируется в рамках раздела VIII УК РФ «Преступления в сфере экономики».
В соответствии с изложенным выше, считаем целесообразным выделение следующих признаков публичных интересов в уголовном праве:
– они лишены индивидуалистического наполнения и отражают реалии развития общества и государства;
– они носят исключительно объективный характер;
– действия субъектов осуществляются строго в рамках предписаний закона, отступление от которых недопустимо;
– деятельность субъектов определяется чужим интересом;
– установление пределов реализации интересов одной стороны определяется через объем обязанностей другой.
Признавая наличие в сфере уголовного права частных интересов, позволим себе определить последние как возможность физических и юридических лиц распоряжаться принадлежащими им благами и участвовать в уголовно-правовой оценке случаев посягательства на эти блага. Полагаем, что частные интересы в уголовном праве обладают следующими отличительными чертами:
– они осуществляются посредством специфических методов регулирования. Частноправовое регулирование (в том числе в рамках уголовного права) характеризуется преобладанием такого способа, как координация (метод дозволения);
– субъекты (физические и юридические лица) действуют в собственных интересах. Данный признак, однако, не следует рассматривать как безусловный. М. М. Агарков по этому поводу обоснованно замечает: «Частное право есть право лично-свободное. Оно не должно непременно осуществляться в интересе самого субъекта, поскольку может осуществляться ради каких угодно интересов, для достижения каких угодно целей, в том числе и во имя общественного долга»[22]. Отсюда: отчуждение гражданами их прав во имя общественно полезных целей (например, проведения эксперимента в рамках уголовно-правового института обоснованного риска) не исключает частного характера их интересов;
– свобода действий субъектов определяется их собственной волей. Только сам индивид волен выбирать, как, когда и в какой мере реализовывать свое частное право;
– недопустимость произвольного установления пределов реализации частных интересов субъекта. Применительно к данному признаку целесообразно говорить о такой категории, как «законный интерес». Под ним следует понимать отраженное в объективном праве и в определенной степени гарантированное простое юридическое дозволение, выражающееся в стремлении субъекта пользоваться конкретным социальным благом, а также в некоторых случаях обращаться за защитой к компетентным органам в целях удовлетворения своих потребностей, не противоречащих общественным и государственным интересам.
На основании всего вышеизложенного можно заключить, что частный интерес в уголовном праве – это социальная категория, допустимая правом возможность физических и юридических лиц распоряжаться принадлежащими им благами и на основе метода дозволения участвовать в уголовно-правовой оценке случаев посягательства на эти блага посредством выражения своей воли.
4. Не претендуя на полноту перечня частных интересов[23] в уголовном праве, обозначим основные из них.
– Здоровье человека как личное неимущественное благо.
Обращаясь к области уголовно-правового регулирования, следует отметить, что безусловное признание здоровья человека его личным неимущественным благом не является, тем не менее, достаточным основанием для того, чтобы позволить человеку беспрепятственно отчуждать его даже в собственных интересах.
Границы допустимого согласия лица на причинение вреда его здоровью, к сожалению, четко в УК РФ не определены. Однако на практике этот вопрос решается посредством выделения ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и ст. 116 УК РФ «Побои» в категорию дел частного обвинения. В настоящее время здоровье человека можно лишь условно отнести к сфере исключительно частных интересов. Свидетельство тому – публичный характер отношений, возникающих по поводу умышленного причинения тяжкого и средней тяжести вреда здоровью. Элементы диспозитивности в части уголовно-правовой охраны здоровья проявляют себя только в тех случаях, когда уголовное преследование осуществляется в рамках частного обвинения.
– Личная свобода.
Согласно ст. 22 Конституции РФ данное право означает, что лицо вправе совершать любые действия, не противоречащие закону, и при этом оно не должно подвергаться ограничениям. Личная неприкосновенность предполагает недопустимость какого бы то ни было вмешательства извне в область индивидуальной жизнедеятельности личности. При этом свобода как личное право потерпевшего ограничивается в уголовном законе случаями, когда действиями виновного причиняется вред публичным интересам государства и общества. Речь, безусловно, идет о случаях совершения деяний, предусмотренных ст. 127.1 и 127.2 УК РФ.
– Честь и достоинство личности.
В соответствии со ст. 21 Конституции РФ ничто не может служить основанием для умаления чести и достоинства личности. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению и наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным и иным опытам.
На основании текста Основного закона РФ можно предположить, что честь и достоинство в нем рассматриваются как свойства, присущие всем членам общества, как неотъемлемые права, на которых основываются свобода, справедливость и всеобщий мир[24].
УК РФ, напротив, использует узкую трактовку данных терминов и понимает под ними «осознание самим человеком или окружающими факта обладания неопороченными нравственными и интеллектуальными качествами»[25]. При этом достоинство личности определяется ее самооценкой, а честь – совокупностью объективных качеств человека, характеризующих его репутацию в обществе.
Уголовно-правовыми гарантиями достоинства и чести личности являются ст. 129 УК РФ «Клевета» и ст. 130 УК РФ «Оскорбление».
Диспозитивные начала уголовного закона проявляются при этом в двух направлениях: во-первых, согласие потерпевшего на совершение объективно унизительных действий исключает преступность совершенного виновным деяния; во-вторых, дела данной категории возбуждаются не иначе, как по заявлению потерпевшего.
– Конституционные права человека и гражданина.
В зависимости от характера охраняемого блага в теории уголовного права следует выделять три группы общественно опасных деяний: посягающие на политические права и свободы человека и гражданина; посягающие на социальные права и свободы; направленные на нарушение личных прав и свобод человека и гражданина[26]. Несмотря на безусловное признание этих прав частными, пределы правомерности распоряжения ими со стороны потерпевшего определяются характером действий причинителя вреда. Если в результате деяния, обусловленного волей жертвы, страдает не только она, но и порядок реализации конституционных прав и свобод человека, согласие потерпевшего не может рассматриваться как обстоятельство, исключающее преступность деяния. Что касается приведенной выше типологизации преступлений, то только в третьей группе деяний частный интерес потерпевшего исключает уголовную ответственность. Как справедливо отмечает А. В. Сумачев, «природа деяний, посягающих на личные права и свободы, такова: есть согласие – нет нарушения; отсутствует согласие – деяние автоматически приобретает характер преступного»[27].
– Право собственности.
Общеизвестно, что право собственности представляет собой совокупность правомочий владения, пользования и распоряжения. Отчуждение третьим лицом собственности у потерпевшего с его согласия есть, по нашему мнению, не что иное, как результат осуществления последним своего правомочия распоряжения.
Признавая перечень частных интересов в уголовном праве условным и изменчивым, целесообразно будет отметить, что в зависимости от ситуации они могут иметь различное выражение.
Чем более конкретна ситуация, тем более контрастно проявляются частные и публичные интересы. При этом в области уголовного права контраст вполне очевиден на уровне таких прав, как честь, достоинство, личные права и свободы, тогда как на уровне иных правоотношений (например, по охране здоровья) может происходить смешение частных субъективных прав с публичными).
1.2. Понятие диспозитивных (частных) начал уголовно-правового регулирования
В русском языке термин «диспозитивный» (от лат. dispositivus – распоряжающийся) буквально означает «допускающий выбор». Отсюда под диспозитивной нормой права понимается правовая норма, содержащая определенные диспозиции, т. е. правила поведения, которые подлежат конкретизации и уточнению по соглашению сторон регулируемых этими нормами отношений[28].
Диспозитивность традиционно рассматривают в трех аспектах: как принцип, право и метод правового регулирования.
В частности, она признается «одним из основных демократических принципов гражданско-процессуального права, означающим, что стороны и другие лица могут свободно распоряжаться своими правами»[29].
Придерживаясь аналогичного подхода, И. Л. Петрухин заявляет: «Диспозитивность как принцип права предоставляет гражданам возможность по собственному усмотрению распоряжаться своим материальным и процессуальным правом, не прибегая к содействию государства»[30].
Обобщает данную позицию А. В. Сумачев. По его мнению, диспозитивность следует рассматривать как «общий принцип правового регулирования, который определяет правовую способность частного лица самостоятельно решать вопросы о пользовании теми или иными правомочиями в конкретной сфере правового регулирования»[31].
Полагаем, что определение диспозитивности как принципа правового регулирования не является безусловным.
Во-первых, понимание принципа права как «основного, исходного положения»[32] конкретной отрасли требует признания за ним универсального характера в определенной сфере правоотношений. Не случайно философия определяет принцип как «руководящую идею, основное правило поведения»[33]. Что же касается диспозитивности, то ее сложно признать универсальной категорией, особенно в области публичного права. Здесь она не является центральным звеном правового регулирования, более того, рассматривается как исключение.
Во-вторых, универсальность и фундаментальность диспозитивности как принципа права ставит под сомнение условный характер выделения частных и публичных интересов в праве, а следовательно, и паллиативный характер публичного и диспозитивного правового регулирования.
Многие исследователи видят в диспозитивности «право лица распоряжаться гражданско-процессуальными средствами защиты. Стороны и другие участвующие в деле лица могут свободно распоряжаться своими материальными и процессуальными правами. Суд содействует им в реализации этих прав и осуществляет за законностью их распорядительных действий»[34]. Диспозитивность нередко определяют и как «право участников договора или судебного процесса действовать по собственному усмотрению»[35].
Этот подход не выдерживает критики по ряду оснований. Во-первых, авторы необоснованно отождествляют понятия «частный интерес» и «право». Как результат – предмет правого регулирования подменяется его механизмом.
Во-вторых, определение диспозитивности как права (возможности) свободно реализовывать свои права и обязанности не соответствует традиционному пониманию уголовно-правовых отношений ответственности. Последние хотя и предполагают оценку частного интереса потерпевшего, но не предоставляют ему абсолютной свободы в реализации своих прав. В такой ситуации частные права ограничиваются публичными интересами и охранительной функцией уголовного закона.
С особенностями метода правового регулирования связывает термин «диспози» А. Я. Курбатов. Он отмечает, что «диспозитивность следует оценивать только в рамках такого метода регулирования, как метод координации»[36].
По мнению Е. Л. Хильчук, «диспозитивность как метод правового регулирования выражается в нормативно предусмотренной возможности выбора поведения в зависимости от усмотрения частного лица»[37]. Аналогичной позиции придерживаются также Н. И. Матузов[38], А. В. Малько[39], В. А. Кучинский[40], А. И. Экимов[41] и др.
Думается, не следует рассматривать диспозитивности как метод правового регулирования. Понимая под ним «способ расширения частных начал в праве», мы упускаем из виду основание применения этого способа. Между тем, именно основанием и является, на наш взгляд, диспозитивность.
Интересную трактовку понятия предлагает С. С. Алексеев. Он рассматривает диспозитивность как «особую модель построения правовой материи» и отмечает: «Диспозитивное построение правового материала как одна из моделей основывается на частном праве. Ее суть – в предоставлении лицу возможности самому, своей волей определять собственное поведение, что открывает простор для действий лица по своему усмотрению, по своей воле и в своих интересах»[42].
Однако более предпочтительным для раскрытия правовой сущности диспозитивности видится использование термина «юридический режим правового регулирования».
Под ним мы предлагаем понимать систему правового регулирования конкретного круга общественных отношений, которую характеризуют специфические средства, принципы и приемы правового воздействия.
О целесообразности использования предложенного термина для определения диспозитивности говорят следующие обстоятельства:
– понятие «юридический режим правового регулирования» позволяет объединить ранее рассмотренные аспекты диспозитивности в целостный правовой институт. Принципы, средства и способы правового регулирования только в своей совокупности обеспечивают индивидуализацию правового регулирования любого вида общественных отношений (в том числе, по реализации частных интересов);
– настоящий термин позволяет ограничивать предмет правового регулирования только теми общественными отношениями, которые допускают реализацию в уголовном праве частного интереса.
Его использование при определении частных начал уголовного права требует учета следующих обстоятельств:
– особенности общественных отношений предопределяют специфику правового регулирования. Именно по этой причине есть все основания выделять диспозитивный, или частноправовой, режим уголовно-правового регулирования;
– характеристика диспозитивности как юридического режима уголовно-правового регулирования должна осуществляться на основании анализа норм УК РФ, расширяющих сферу частного усмотрения при оценке преступности или правомерности совершенных деяний, а равно при определении наказуемости посягательства.
В целом, диспозитивность в уголовном праве можно определить как юридический режим правового регулирования, обусловленный спецификой уголовных правоотношений в сфере реализации частных интересов потерпевшего и обладающий особыми принципами, средствами и методами правового регулирования.
Ранее уже затрагивался вопрос о принципах диспозитивности, поэтому в настоящем параграфе ограничимся только их перечислением.
Полагаем, что основными, исходными положениями частного регулирования в уголовном праве являются:
– свобода действий субъектов правоотношений;
– направленность на удовлетворение собственных интересов;
– недопустимость произвольного установления пределов реализации их прав и законных интересов.
Что же касается метода регулирования, то им, пожалуй, можно назвать прием юридической децентрализации (метод координации), основанный на ранее перечисленных принципах.
Как справедливо отмечается в литературе, «основными чертами метода децентрализации является юридическое равенство и возможность субъектов самим, своей волей определять условия своего поведения»[43]. При этом построение правового материала на основе диспозитивного метода предполагает следующую схему: «субъективное право + юридическая гарантия».
Близко к методам примыкают средства диспозитивности, т. е. существующие в уголовном праве юридические нормы и институты, обеспечивающие реализацию частного интереса.
В целом, их можно свести к триаде: 1) институт примирения с потерпевшим; 2) уголовное преследование по делам частного обвинения и 3) согласие потерпевшего.
Следует, однако, отметить несвоевременность и определенную условность отнесения к сфере уголовного права институтов частного обвинения и согласия потерпевшего, поскольку первый регламентируется процессуальным законом (ст. 20 УПК РФ), а второй вообще не имеет нормативного закрепления. Но, с другой стороны, система диспозитивных начал в уголовном праве находится в зачаточном состоянии, и потребность в поиске наиболее приемлемых направлений ее развития оправдывает наше смелое предложение.
Представляется, что анализ диспозитивности в уголовном праве будет неполным без ее рассмотрения сквозь призму уголовных правоотношений.
Выделяют, как известно, два основных подхода к понятию «правоотношение»: общефилософский и специально-юридический.
С позиции философии отношение есть не что иное, как «момент взаимосвязи, частный случай специфического проявления всеобщей связи между явлениями объективной действительности»[44]. При этом правоотношение представляет собой «самостоятельное общественное отношение, субъектов которого связывают или ставят в правовую зависимость юридические права и обязанности и которое оказывает регулирующее воздействие на поведение людей отдельно или во взаимодействии с иной общественной структурой»[45].
Иными словами, философский подход не позволяет отождествлять правоотношение и общественное отношение. Они существуют параллельно, противоборствуя по поводу осуществления варианта поведения, предлагаемого правовой нормой, или действуя в одном направлении, формируя сообща данный вариант поведения[46].
Логически продолжив размышление, можно прийти к выводу, что право вообще не регулирует общественные отношения. Оно направлено лишь на поведение людей, внедряя определенные правоотношения в различные сферы человеческой деятельности. Характерно, что право при этом не влияет на сами общественные отношения.
С этих позиций уголовно-правовое отношение следует рассматривать как лишенные структуры целесообразные отношения между субъектами (виновным, государством и потерпевшим) через предоставление им определенных прав и обязанностей.
Что же касается общественных отношений, то реализация в их рамках частных и публичных отношений не имеет никакого отношения к праву и является всего лишь продуктом исторического развития.
Очевидно, подобная интерпретация порождает ряд принципиальных вопросов о правовой природе таких понятий, как уголовная ответственность, объект преступления, уголовное наказание, институты освобождения от уголовной ответственности и наказания, а равно публичность и диспозитивность.
Специально-юридический подход к сущности уголовного правоотношения долгое время сводится к следующим тезисам[47]:
– субъектами отношений могут быть лишь государство и преступник;
– содержанием выступают их публичные права и обязанности;
– юридическим фактом возникновения уголовных правоотношений является совершение преступления[48], а момент их прекращения всецело зависит от воли и усмотрения государства.
Расширение частных начал в уголовном праве вызвало необходимость переосмысления феномена уголовно-правовых отношений. Потребность в новом подходе возникла после появления в российском законодательстве институтов частного обвинения и примирения с потерпевшим, не укладывавшихся в традиционную схему возникновения и реализации уголовных правоотношений.
Согласно классическому пониманию последних, при обнаружении признаков преступления компетентные органы обязаны во всех без исключения случаях возбуждать уголовное дело. Однако по делам частного обвинения возникновение и развитие уголовных правоотношений находятся в зависимости не от публичной власти, а от усмотрения и воли частного лица.
Несколько иная ситуация имеет место при выражении согласия лица на причинение вреда собственным интересам. Хотя в настоящее время институт согласия потерпевшего не закреплен в уголовном законе, есть, тем не менее, все основания говорить о его фактическом существовании в теории и правоприменительной деятельности.
Считая целесообразным рассмотрение этого института в рамках отдельного параграфа настоящего исследования, заострим сейчас внимание только на характере правовых отношений при выражении потерпевшим согласия на умаление его прав.
Важно подчеркнуть, что использование понятий «причинение вреда» или «умаление прав потерпевшего» в таких ситуациях носит условный характер, поскольку воля субъекта на совершение действий со стороны третьих лиц есть не что иное, как реализация потерпевшим своего права позволить или не позволить им воздействовать на свои личные имущественные или неимущественные блага.
Если традиционное видение уголовного правоотношения считать единственно верным, необходимо будет признать, что правоотношение и согласие потерпевшего в уголовном праве исключают друг друга. Но и то, и другое объективно существуют.
Отсюда, не претендуя на безусловность позиции, предположим, что в сфере уголовного права существуют различные по содержанию, субъектному составу и моменту возникновения правоотношения. Помимо собственно субординационных отношений между государством и преступником по поводу совершения преступления, в сфере уголовно-правового регулирования существуют горизонтальные правоотношения между потерпевшим и преступником, потерпевшим и лицом, совершившим уголовно значимое, но не преступное деяние, между потерпевшим и государством.
Как отмечается в литературе, «институт примирения с потерпевшим и преступления “частного обвинения” заставляют по-иному переосмыслить само место потерпевшего в материальном уголовном правоотношении. Наделение его субъективным правом давать согласие на освобождение от уголовной ответственности (в материально-правовом смысле) означает не что иное, как признание за потерпевшим статуса субъекта правоотношения»[49].
Очевидно, уголовные правоотношения, возникающие по поводу совершения деяния, правомерность которого обусловлена согласием потерпевшего, а равно по поводу совершения преступлений, отнесенных к делам «частного обвинения» или допускающих примирение сторон, носят отличный от классического уголовного отношения характер.
В первом случае горизонтальные по характеру общественные отношения возникают между потерпевшим и причинителем вреда по поводу совершения последним уголовно значимого деяния, которое, однако, не является преступлением вследствие выражения воли потерпевшего на его совершение.
Как полагает И. А. Фаргиев, «согласие потерпевшего не является обстоятельством, исключающим наказуемость деяния, поскольку лицо, давшее согласие на нарушение прав и интересов, находящихся в его свободном распоряжении, потерпевшим от преступления не является, а посягательство на указанные права и интересы преступлением признано быть не может»[50].
При этом следует оговориться, что подобные отношения могут возникать лишь тогда, когда потерпевший дает согласие на вмешательство в его личные, не ограниченные государством и обществом права.
Во втором случае «отличие правоотношений от классических выражается, прежде всего, в том, что сохраняющееся право государства на привлечение лица, совершившего деяние, к ответственности сильно ограничивается правом потерпевшего на примирение, а следовательно – правом требовать либо не требовать наступления уголовной ответственности виновного»[51].
При фактическом применении института примирения с потерпевшим (ст. 76 УК РФ) отношения между жертвой и виновным носят горизонтальный характер: обязанности правонарушителя подвергнуться мерам уголовного принуждения соответствует право потерпевшего потребовать или воздержаться от требования к государственному органу о привлечении виновного к ответственности. При этом отношения между потерпевшим и государством также имеют горизонтальный характер.
В итоге, можно заключить, что уголовно-правовые отношения не исчерпываются вертикальными по характеру отношениями между государством и преступником. Существование частных интересов в уголовном праве свидетельствует о наличии диспозитивных отношений между потерпевшим и причинителем вреда.
Можно условно выделить две группы уголовно-правовых отношений частного характера:
1) диспозитивные – горизонтальные отношения между потерпевшим и причинителем вреда, возникающие вследствие совершения уголовно значимого деяния, не являющегося преступным.
Несмотря на то, что юридическим фактом их возникновения не является совершение преступления, мы, тем не менее, относим подобные отношения к уголовно-правовым.
Их объектом являются частные интересы пострадавшего (его личные имущественные и неимущественные блага), а содержанием – право потерпевшего по собственному усмотрению определять дальнейшую судьбу принадлежащих ему благ и право виновного выполнять или не выполнять волю потерпевшего;
2) ограниченно диспозитивные – горизонтальные отношения между потерпевшим и преступником, возникшие по поводу совершенного преступления и регулируемые ст. 76 УК РФ (примирение с потерпевшим) или нормами, закрепляющими институт «частного обвинения».
Субъектный состав здесь представлен потерпевшим и преступником, объектом отношений выступает уголовная ответственность виновного[52], содержанием – право потерпевшего обратиться к государству с требованием не применять к преступнику меры уголовно-правовой репрессии и право виновного примириться с потерпевшим и загладить причиненный преступлением вред.
Наличие вышеназванных групп уголовных правоотношений является одним из основных показателей существования диспозитивности как режима правового регулирования частных интересов.
1.3. Компаративный анализ частных начал в уголовном законодательстве зарубежных стран
Необходимым дополнением к исследованию уголовно-правовых аспектов анализируемой темы является характеристика развития и расширение диспозитивных (частных) начал в законодательстве зарубежных стран. Проблема влияния частного интереса на уголовно-правовую оценку деяния для зарубежных ученых и практиков не является новой, однако до настоящего времени она не получила своего четкого и однозначного разрешения. Данное обстоятельство можно объяснить следующими факторами:
1. Особенностями национального уголовного законодательства. Уголовно-правовые отношения, будучи составной частью социальных отношений, испытывают на себе воздействие культурных, экономических, политических и иных явлений общественной жизни конкретного государства, что, безусловно, влияет на эволюцию уголовного законодательства. В частности, в настоящее время национальное законодательство ряда мусульманских государств (например, Катара) испытывает на себе серьезное влияние шариатского права в части регламентации института «согласия потерпевшего».
2. Неразрешенностью данного вопроса в юридической науке. Доктринальная оценка «согласия потерпевшего» затруднена его сущностной противоречивостью, корни которой уходят в историю уголовного права. Изначально складываясь как отрасль права, охраняющая правопорядок в обществе и служащая интересам государства, уголовное законодательство постепенно вытеснило частный интерес за рамки своего регулирования.
Безусловная императивность и публичность криминального права, служившие необходимым условием поддержания правопорядка в обществе на более ранних этапах его развития, в настоящее время входят в противоречие с частными интересами. По определенной категории дел обязательность уголовно-правовых предписаний не охраняет интересы и блага индивида, а, напротив, ограничивает его волеизъявление. Данное обстоятельство требует уделить особое внимание проблеме влияния частного интереса на признание или непризнание деяния преступным, что, в свою очередь, придаст определенную гибкость процессу уголовно-правового регулирования. С другой стороны, чрезмерное расширение частного усмотрения может привести к злоупотреблениям и, в конечном счете, к потере уголовным законодательством своей охранительной функции.
Совершенствование российского уголовного законодательства в части расширения диспозитивных начал в правовой охране и регулировании общественных отношений должно базироваться не только на теоретических исследованиях ученых-юристов, которые, отражая тенденции развития социальных институтов, создают научную базу для законотворчества, но и на изучении, обобщении и использовании передового зарубежного опыта. Как справедливо отмечает в этой связи А. А. Малиновский, «ценность сравнительного правоведения состоит в том, чтобы выявить различного рода нюансы в законодательном регулировании уголовно-правовых отношений, специфику тех или иных юридических категорий, своеобразие правовых дефиниций, сравнить содержание, вкладываемое законодателем в определенный термин, и на этой основе совершенствовать законодательство»[53].
Обращение к зарубежным правовым моделям имеет целью выявление как положительных образцов, так и отрицательного опыта во избежание ошибок в правотворческой деятельности. В. А. Туманов в качестве глобальных направлений сравнительно-правового анализа обоснованно выделяет догматическое и законодательное, или функциональное, сравнение[54]. При этом в каждом из названных направлений присутствуют четыре элемента: описательный, научный, праксиологический и контрастирующий, образующие логическую систему.
Догматическое сравнение российского и зарубежного уголовного права в рамках заявленной тематики предполагает, главным образом, сопоставление правовых систем, институтов и принципов, на которых основываются диспозитивные начала уголовно-правовых установлений. Догматический анализ представляет собой предэтап функционального сравнения. По справедливому замечанию А. А. Тилле и Г. В. Швекова, «оставаясь в пределах теоретических исследований, догматическое сравнение создает возможность для критической оценки изучаемого права. Законодательное сравнение играет уже иную роль, представляет собой чисто функциональный подход»[55].
На уровне законодательного сравнения диспозитивных начал уголовного законодательства нами будут проанализированы и оценены решения сходных социальных ситуаций, урегулированных нормами права и имеющих непосредственное отношение к конфликту частных и публичных интересов.
Считая необходимым расширение сферы настоящего исследования посредством включения компаративного (догматического и законодательного) анализа, выявим общие и отличительные свойства отечественного и зарубежного уголовного законодательства в части допущения элементов диспозитивности в публичную отрасль права с целью исследования роли и значения уголовного права как инструмента социального регулирования частных и публичных интересов в обществе.
Достижение поставленных целей предполагает систематизацию нормативных положений, посвященных выбранной проблематике. В этой связи при рассмотрении Уголовных кодексов Швеции[56], Швейцарии[57], Австрии[58], ФРГ[59], Голландии[60], Норвегии[61], Польши[62], Болгарии[63], Республики Корея[64], Аргентины[65], Эстонской республики[66], Латвии[67], Сан-Марино[68], Украины[69], Республики Беларусь[70], Грузии[71] и Азербайджанской республики[72] для более полного рассмотрения основных подходов зарубежного законодателя к проблеме диспозитивных начал в уголовном праве, предлагается классифицировать уголовно-правовые нормы и институты на следующие группы:
1) нормы, предусматривающие согласие потерпевшего как обстоятельство, свидетельствующее о правомерности деяния;
2) положения, формирующие институт примирения с потерпевшим;
3) нормы о правовой регламентации дел частного и частно-публичного обвинения;
4) уголовно-правовые предписания, в которых волеизъявление жертвы является привилегирующим обстоятельством;
5) нормы, рассматривающие волеизъявление потерпевшего в качестве обстоятельства, смягчающего наказание.
1. В ряде стран «согласие потерпевшего» считается обстоятельством, исключающим преступность деяния, однако оно не носит универсального характера и находится в зависимости от вредоносности того либо иного деяния.
Рассматривая регламентацию института согласия потерпевшего в рамках англо-саксонской системы права, следует отметить, что правовая природа обстоятельств, исключающих преступность деяния, в целом и согласия потерпевшего в частности в англо-американском законодательстве определена весьма противоречиво и неполно. В частности, английское уголовное право не содержит понятия обстоятельств, исключающих преступность деяния, хотя их перечень в теории и судебной практике гораздо шире, чем в УК России. Институт согласия потерпевшего, как отмечает К. С. Кенни[73], рассматривается судами как смягчающее обстоятельство применительно к убийствам и причинению телесных повреждений. Данное положение является косвенным свидетельством того, что при иных посягательствах на личность согласие потерпевшего исключает преступность деяния.
По справедливому замечанию В. Д. Пакутина, Федеральное уголовное законодательство США вопросы, связанные с обстоятельствами, исключающими преступность деяния, непосредственно не регулирует. Они решены в Примерном уголовном кодексе США 1962 г. и в УК пятидесяти штатов. Примерный УК США оказал серьезное влияние на реформирование уголовного законодательства всех штатов, и особенно на УК штатов Нью-Йорк и Пенсильвания[74]. В американском уголовном праве анализируемые обстоятельства получили название обстоятельств защиты от обвинения. В их числе Примерный УК США наряду с малозначительностью нарушения (ст. 2.12) и провокацией преступления (ст. 2.13) предусмотрел также согласие потерпевшего (ст. 2.11).
В УК штата Пенсильвания правомерным является причинение телесного повреждения или угроза его причинения при наличии согласия потерпевшего в случае участия в законном атлетическом соревновании или спортивном состязании, а также в иных случаях, предусмотренных законом[75].
Особого внимания заслуживает тот факт, что в законе во избежание противоречий на практике определены условия недействительности согласия потерпевшего. Анализ § 311 УК Пенсильвании позволяет выделить среди них следующие:
• если согласие дано лицом, не имеющим законных полномочий разрешать поведение, преследуемое как преступление;
• оно дано лицом, которое по причине малолетства, психического заболевания или умственной неполноценности либо опьянения не способно принять разумное решение, касающееся характера и безвредности поведения, преследуемого как преступление;
• оно дано лицом, чье непредусмотрительное согласие подпадает под запрет, установленный в законе, определяющем преступление;
• оно было получено силой, понуждением или обманом.
Как справедливо утверждает А. А. Малиновский, «согласие потерпевшего на причинение ему смерти не является обстоятельством, исключающим преступность деяния, а согласие на причинение потерпевшему телесных повреждений (при наличии определенных условий) считается таковым»[76].
Обращаясь к анализу уголовного законодательства романо-германской системы права, следует отметить, что регулирование в нем диспозитивных начал осуществляется более четко и последовательно.
Так, например, в УК ФРГ (§ 226а) закреплено положение, согласно которому нанесение потерпевшему телесных повреждений с его согласия не считается противоправным, за исключением случаев, когда данное деяние нарушает общепринятые моральные нормы. Несмотря на кажущуюся категоричность данного положения, следует отметить, что указание в уголовном законе на учет динамично развивающихся моральных устоев представляется недостаточно корректным, поскольку неясно, какие именно аморальные деяния имел в виду законодатель. Представляется, что в любом случае факт наличия либо отсутствия нарушения моральных норм предстоит оценивать суду.
Применительно к рассматриваемой проблеме особого внимания заслуживает вопрос о правомерности эвтаназии. В большинстве государств убийство тяжело больных из сострадания запрещено законом. В числе исключений можно назвать закон штата Орегон об эвтаназии (1997 год), который к условиям правомерности медицинской процедуры по причинению смерти из сострадания относит: наличие у пациента неизлечимой смертельной болезни; наличие сильных мучений и страданий больного, обусловленных протеканием заболевания, и, наконец, настоятельные и неоднократные просьбы больного к врачу причинить смерть с целью прекращения страданий[77].
В УК Польши согласие потерпевшего не названо в числе обстоятельств, исключающих преступность деяния, между тем такое согласие является необходимым условием правомерности эксперимента. Статья 27 УК содержит следующее положение: «§ 1. Не совершает преступление тот, кто действует с целью проведения познавательного, медицинского или экономического эксперимента, если ожидаемый результат имеет существенное познавательное, медицинское или хозяйственное значение, а надежда на его достижение, целесообразность и способ проведения эксперимента обоснованы в свете современного уровня знаний.
§ 2. Эксперимент не допускается без согласия участника, на котором он проводится, надлежащим образом проинформированного об ожидаемом полезном результате и грозящих ему отрицательных последствиях, а также о вероятности их возникновения, равно как и о возможности отказа от участия в эксперименте на любом его этапе».
В числе оправдывающих обстоятельств УК Сан-Марино называет согласие лица, располагающего на это правом. В частности, в ст. 39 отмечается, что «ненаказуемо всякое лицо, которое причиняет ущерб либо угрожает благополучию с законно выраженного согласия лица, которое вправе давать такое согласие»[78].
Недействительным согласие потерпевшего будет признано, если оно:
1) получено насильственным путем;
2) дано в силу очевидного заблуждения;
3) получено с помощью обмана;
4) выражено лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста;
5) выражено лицом, неспособным осознать значение предполагаемого деяния и совершить волеизъявление.
Интерес представляет также ст. 24 «Согласие потерпевшего» Уголовного кодекса Республики Корея следующего содержания: «Деяние, которое нарушает законные интересы, осуществляемое с согласия одного из тех, кто уполномочен рассматривать такие интересы, не подлежит наказанию, кроме специальных случаев, предусмотренных законом»[79]. И хотя согласие потерпевшего в данном случае не названо обстоятельством, исключающим преступность деяния, оно закреплено в разделе 1 «Совершение преступления и назначение наказания» наравне с такими обстоятельствами, как самооборона, необходимость и самосохранение.
Анализ уголовного законодательства Кореи позволяет заключить, что правомерность нарушения интересов лица с его согласия распространяется на все случаи, кроме убийства. В ст. 252 предусмотрена уголовная ответственность за убийство по просьбе или по сговору с потерпевшим (наказание в виде каторжных работ на срок от 1 года до 10 лет), а в ст. 253 «Убийство по просьбе потерпевшего с использованием мошеннических средств или с применением угрозы» предусмотрено наказание, равное санкции за простое убийство (каторжные работы пожизненно или на срок не менее 5 лет). Таким образом, законодатель устанавливает условия действительности согласия потерпевшего, которое не должно быть получено насильственным либо обманным путем.
Согласно § 235 Общегражданского уголовного кодекса Норвегии наказание, описанное в § 228 и § 229, не применяется, если действие предпринимается в отношении кого-либо с его согласия. При этом в § 228 предусматривается ответственность за совершение насилия, наносящего физический ущерб или способствующего этому, а в § 229 – за нанесение физических повреждений, ущерба здоровью или доведение лица до беспомощного, бессознательного или аналогичного состояния.
Поскольку в уголовном законодательстве Норвегии вред здоровью и организму подразделяется на физические повреждения и значительные физические повреждения, представляется, что максимальный предел допустимого вреда потерпевшему с его согласия не должен выходить за рамки собственно физических повреждений, в то время как причинение значительных физических повреждений и лишение человека жизни с его согласия должно влечь уголовную ответственность. Но и в этом случае законодатель оговаривает следующие условия смягчения наказания: «Если лицо было убито, ему нанесены значительные телесные повреждения или причинен значительный ущерб здоровью с его согласия, или если лицо из сострадания лишает жизни безнадежно больное лицо, или причастно к этому, наказание может быть уменьшено ниже определенного предела или носить более мягкий характер».
Несмотря на относительную ясность формулировок § 235 УК Норвегии, последующая норма § 236 ставит под сомнение существование института «согласия потерпевшего» ввиду отсутствия самого потерпевшего. Согласно § 236 «лицо, способствующее тому, чтобы кто-либо лишал себя жизни, причинял себе значительные телесные повреждения или ущерб здоровью, подлежит наказанию за пособничество убийству или причинение тяжких телесных повреждений». В этой связи закономерно напрашивается вывод: если помощь третьего лица в самоубийстве представляет собой соучастие в форме пособничества убийству, то просьба лица о лишении себя жизни представляет собой соучастие в форме подстрекательства к убийству.
Научного осмысления требуют уголовно-правовые дефиниции государств постсоветского пространства. Систематизация положений уголовного законодательства стран СНГ позволяет выявить следующую закономерность в законодательном закреплении согласия потерпевшего в числе обстоятельств, исключающих преступность деяния: практически во всех из проанализированных уголовных кодексов волеизъявление жертвы не считается достаточным основанием для признания совершенного деяния правомерным.
Исключение составляет УК Грузии, где в ст. 32 «Освобождение от уголовной ответственности при других правомерных деяниях» отмечается: «Не являются противоправными действия лица, совершившего предусмотренное настоящим Кодексом деяние при наличии иных обстоятельств, которые хотя в настоящем кодексе прямо не упоминаются, но вполне удовлетворяют условиям правомерности этого деяния»[80].
Думается, что в данной ситуации законодатель отдает на судебное усмотрение вопрос об уголовно-правовой оценке причинения вреда потерпевшему с его согласия. Однако уже сам закон ограничивает пределы правомерности причинения вреда телесными повреждениями, предусмотрев привилегированный состав – «Убийство по просьбе жертвы» (ст 110).
В статье отмечается, что «убийство по настоятельной просьбе жертвы и в соответствии с ее подлинной волей, совершенное с целью освобождения умирающего от сильных физических болей, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет»[81].
2. Во вторую группу уголовно-правовых норм, расширяющих диспозитивные начала в уголовном праве, мы условно выделили нормы, закрепляющие институт примирения с потерпевшим.
Следует отметить, что способы закрепления института примирения с потерпевшим в уголовном законодательстве зарубежных государств весьма разнообразны с точки зрения законодательной техники. Однако в наиболее общем виде в теории уголовного права выделяют две основные модели примирения с потерпевшим.
Первая из них получила условное название «нидерландско-бельгийская система», или «трансакция»[82]. Суть ее заключается в том, что управомоченные государственные органы (прокуратура, полиция) отказываются от уголовного преследования лица, если последнее согласится уплатить в казну устанавливаемую в каждом конкретном случае денежную сумму. В целом данная система может быть охарактеризована как определенное соглашение, сторонами которого выступают, с одной стороны, государство в лице управомоченных органов, а с другой – лицо, совершившее преступное деяние. Государство вправе принять на себя обязательство отказаться от уголовной репрессии, если обвиняемый, в свою очередь, обяжется компенсировать государству в денежной форме вред, нанесенный публичным интересам. При этом нужно отметить, что частным случаем трансакции может быть и примирение с потерпевшим. В частности, бельгийский законодатель установил, что по ряду преступлений достаточно письменного признания вины правонарушителем, и потерпевший получает бесспорное возмещение вреда в гражданском порядке, а уголовное производство по делу прекращается[83].
Второй моделью досудебного разрешения конфликта между потерпевшим и виновным является так называемая «медиация». Исторически медиация зародилась в рамках англо-саксонской правовой семьи в 70-е годы XX в. Появление данного института, суть которого в самом общем виде сводится к разрешению конфликта между нарушителем уголовного закона и его жертвой нетрадиционными для уголовной юстиции способами, было предопределено развитием различных негосударственных ассоциаций помощи потерпевшим и преступникам[84].
В настоящее время данный правовой механизм характеризуется детализацией способов возмещения вреда. Как справедливо утверждают А. Г. Кибальник, И. Г. Соломоненко, Е. В. Давыдова, «при медиации сам факт примирения с потерпевшим, освобождающий причинителя вреда от уголовной ответственности, расценивается как одно из основных проявлений развивающегося в западных странах “восстановительного правосудия” по уголовным делам. Смысл такого “восстановительного правосудия” в западной юридической доктрине сводится к следующему: уголовно-правовой конфликт должен быть возвращен его участникам. Только они могут судить о степени тяжести преступления, способах возмещения вреда»[85]. Данное положение полностью укладывается в концепцию приоритетов уголовного законодательства, лаконично изложенную Н. Кристи: «В первую очередь важно разрешить то, что может быть сделано для жертвы преступником, во вторую очередь – местным сообществом, и в третью – государством»[86].
Е. В. Давыдова условно выделяет два вида медиации, получившие широкое распространение в странах общего и континентального права:
а) простая медиация: прокурор вправе до вынесения решения по публичному иску и с согласия сторон принять решение о медиации, если он считает, что такая мера способна обеспечить возмещение вреда, причиненного потерпевшему; прокурор может также прибегнуть к помощи какой-либо общественной организации в улаживании конфликта между потерпевшим и правонарушителем;
б) комбинированная медиация, в которой соединены черты простой медиации и трансакции. Так, например, в германском законодательстве установлено, что прокурор может прекратить публичное преследование, если правонарушитель не только загладит вред, причиненный потерпевшему, но и внесет определенную сумму в доход общеполезного учреждения или в казну[87].
Тенденции расширения уголовно-правового значения примирения с потерпевшим и признания его основанием освобождения от уголовной ответственности характерны и для законодательства стран постсоветского пространства.
В частности, ст. 89 УК Белоруссии устанавливает, что лицо, совершившее преступление, не представляющее большой общественной опасности, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим. В отличие от российского уголовного закона, УК Белоруссии в качестве признака совершенного деяния называет не категорию преступления, а общественную опасность деяния, оставляя за рамками нормы установление того факта, что лицо совершило преступление «впервые», а также загладило причиненный преступлением вред.
Статья 73 УК Азербайджана можно охарактеризовать как своеобразный компромисс между нормативным закреплением института примирения с потерпевшим в УК России и Белоруссии. Азербайджанский законодатель в числе существенных признаков рассматриваемого института определил совершение преступления, не представляющего большой общественной опасности, впервые при условии примирения с потерпевшим и заглаживания причиненного вреда.
Оригинальностью отличается законодательное закрепление института примирения с потерпевшим в УК Грузии. Так, в ст. 69 закреплено следующее положение: лицо, впервые совершившее преступление, за которое максимальное наказание, предусмотренное статьей или частью статьи Особенной части настоящего кодекса, не превышает трех лет лишения свободы, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим. Детализировав пределы наказуемости совершенного лицом деяния, законодатель предпочел более пространную формулировку при анализе постпреступного поведения виновного.
Элементы простой медиации находят свое отражение в ч. 2 ст. 58 УК Латвийской республики: «Лицо, совершившее уголовный проступок, может быть освобождено от уголовной ответственности в случае достижения мирового соглашения с потерпевшим или его представителем». Это правило имеет одно исключение: лицо, совершившее уголовный проступок в отношении несовершеннолетнего, не подлежит освобождению от уголовной ответственности на основе мирового соглашения. Данная оговорка свидетельствует о том, что, во-первых, законодатель существенно ограничивает сферу частного усмотрения в уголовно-правовой охране общественных отношений, а во-вторых, не совсем последовательно воспринимает общеевропейскую тенденцию к установлению возможности примирения с представителями потерпевшего в указанной ситуации.
Несмотря на то обстоятельство, что примирение с потерпевшим «является лишь паллиативным решением проблемы частного интереса в уголовном праве»[88], и в англо-саксонской, и в романо-германской системах права прослеживается стремление к законодательной регламентации разрешения конфликта между преступником и потерпевшим путем различных форм их примирения, что нельзя не признать прогрессивным и обоснованным шагом в направлении расширения диспозитивных начал уголовного права.
3. Обращаясь к компаративному анализу норм третьей группы, следует отметить важность и своевременность уголовно-правового исследования дел частного и частно-публичного обвинения, которые находятся в неразрывной связи с институтом примирения с потерпевшим.
Рассмотрение данных законодательных конструкций изначально кажется абсурдным применительно к институту согласия потерпевшего на совершение преступления. Однако противоречие здесь кажущееся.
Включение в уголовные кодексы институтов примирения с потерпевшим, частного и частно-публичного обвинения по сути представляет собой разграничение всех преступных деяний на преступления против интересов частных лиц и преступления против общества и государства, где частная воля не берется во внимание.
Характерно, что рассматриваемые институты подробно регламентируются в тех кодексах зарубежных стран, в которых отсутствует юридическое закрепление согласия потерпевшего как обстоятельства, исключающего преступность деяния.
Установленный в ряде государств порядок возбуждения уголовного дела по заявлению потерпевшего (делачастного и частно-публичного обвинения) позволяет фактически оставлять безнаказанным лицо, совершившее преступление по просьбе или с согласия потерпевшего. Неподача пострадавшим заявления исключает возможность возбуждения уголовного дела, а следовательно, наказуемость деяния.
В отличие от отечественного законодательства, в ФРГ основания, порядок и сроки подачи жалобы потерпевшего закреплены в уголовном, а не уголовно-процессуальном праве. В германском уголовном праве преступные деяния преследуются либо в частном (по жалобе), либо в публичном порядке.
Согласно § 77 УК ФРГ, если деяние преследуемо только по жалобе, то подать жалобу, если закон не предусматривает иного, может именно потерпевший. Однако в исключительных случаях право на жалобу переходит супругу и детям (при их отсутствии – родителям, братьям, сестрам, внукам), т. е. по сути происходит замена уголовно-правового понятия «потерпевший» на уголовно-процессуальное. В законе содержится принципиальное положение, согласно которому право на жалобу не переходит, если преследование противоречит ясно выраженной воле потерпевшего.
УК ФРГ расширяет круг лиц, имеющих возможность подать жалобу, посредством признания таковыми не только родственников умершего, но и начальников по службе.
В § 77 для подачи жалобы устанавливается трехмесячный срок. При этом течение срока приостанавливается с момента поступления в соответствующий орган жалобы на попытку проведения примирительной процедуры между сторонами согласно § 380 УПК до выдачи удостоверения.
В законе закреплено право заявителя отозвать жалобу до окончания имеющего законную силу уголовного процесса. При этом отозванная жалоба не может быть подана еще раз. Если потерпевший или лицо, имеющее право на подачу жалобы, умрет после того, как жалоба подана, то отозвать жалобу могут супруг, дети, родители, братья, сестры и внуки потерпевшего.
В уголовном законодательстве Аргентины все уголовные дела делятся на следующие виды:
–официально возбуждаемые;
– дела, возбуждаемые по заявлению частных лиц;
– частные дела.
Согласно ст. 72 УК Аргентины к преступлениям, дела которых возбуждаются по заявлению частных лиц, относятся:
1) сексуальное злоупотребление, проникновение в тело, а равно похищение или задержание другого лица с целью нанести ущерб его половой неприкосновенности (ст. 119, 120 и 130), если не наступила смерть потерпевшего и не были причинены тяжкие телесные повреждения;
2) преступления, в результате совершения которых причинены, по неосторожности или умышленно, легкие телесные повреждения. Тем не менее, в подобного рода случаях уголовные дела возбуждаются официально, если деяние затрагивает вопросы безопасности или общественный интерес (данное положение представляет собой не что иное, как защиту публичного интереса, что является лишним доказательством раздельного существования публичных и частных интересов в уголовном праве);
3) препятствование контакту несовершеннолетних детей с не проживающими вместе с ними родителями.
В случаях, предусмотренных в упомянутой статье, дело возбуждается только в связи с выдвижением обвинения или подачей иска самим потерпевшим, его опекуном, попечителем или законными представителями.
Тем не менее, публичные интересы вступают в свои права, и дело возбуждается официально, если преступление было совершено против несовершеннолетнего, не имеющего родителей, опекуна или попечителя, либо преступление совершено против несовершеннолетнего его родственником по восходящей линии, опекуном или попечителем.
В случае противоположности интересов несовершеннолетнего и кого-либо из указанных лиц прокурор вправе возбудить дело официально, когда это в наибольшей степени отвечает интересам несовершеннолетнего.
Если проводить параллели с российским национальным законодательством, то перечисленные выше дела относятся к категории дел частно-публичного обвинения.
Частными же делами являются те дела, которые порождаются следующими преступлениями:
1) супружеской изменой;
2) клеветой и оскорблениями;
3) разглашением секретов;
4) недобросовестной конкуренцией;
5) невыполнением долга по содержанию своей семьи, если потерпевшей стороной является один из супругов (ст. 73 УК Аргентины).
В случае клеветы или оскорбления иск может быть подан только самим потерпевшим, а после его смерти – пережившими его родителями, супругом, детьми, внуками. В остальных случаях дело возбуждается только по иску самого потерпевшего.
Обращая внимание на терминологию, хотелось бы отметить, что в УК ФРГ в отношении дел частного обвинения речь идет о жалобе потерпевшего, а в Уголовном кодексе Аргентины – об иске, который сближает сферы гражданского и уголовно-правового регулирования.
В Уголовном законодательстве Норвегии закреплено положение, согласно которому уголовно наказуемые деяния должны быть предметом официального обвинения, если иное не предусмотрено законом (§77).
Согласно Общегражданскому уголовному кодексу Норвегии, официальное обвинение не осуществляется без заявления пострадавшего в отношении лица, которое по неосторожности является причиной нетрудоспособности, болезни, повреждения или ущерба; совершило преступление против чести и достоинства; преступление сексуального характера или деяние, связанное с семейными отношениями.
Для возбуждения уголовного дела заявление от потерпевшего требуется также при умышленном нанесении физического ущерба потерпевшему, за исключением случаев, когда:
– преступление привело к смерти;
– совершалось в отношении бывшей и нынешней супруги/супруга или сожителя;
– преступление не совершено в отношении детей виновного или детей супруги/супруга или сожителя;
– преступление не совершено против родственника по прямой линии; общественные интересы не требуют этого (§ 228).
Срок подачи заявления органичен шестью месяцами. Прошение о выдвижении обвинения не может быть отозвано после вынесения обвинительного акта. При этом если оно отзывается, то не может быть выдвинуто снова (§ 82).
Приведенные выше законодательные дефиниции ФРГ, Аргентины и Норвегии являются наглядным свидетельством существования частного интереса и диспозитивности в публичном по своей сущности и содержанию уголовном праве. Заслуживает поддержки отнесение норм, посвященных проблемам уголовного преследования по делам частного и частно-публичного обвинения, именно к уголовному законодательству.
Как известно, материальное право призвано осуществлять охрану личности, общества и государства. Тем самым оно вольно или невольно разграничивает сферы частного и публичного интереса, используя разнообразные методы уголовно-правового воздействия.
В настоящее время чуть ли не единственным средством выражения согласия потерпевшего на причинение вреда является его свобода в принятии решения о возбуждении уголовного дела по делам частного и частно-публичного обвинения. Именно поэтому определение в уголовном законодательстве круга деяний, дела по которым могут возбуждаться только по заявлению потерпевшего, представляется приоритетным и своевременным шагом.
Базовыми для уголовного права являются вопросы преступности и наказуемости деяний. То обстоятельство, что жертва не обратилась в правоохранительные органы с заявлением, не исключает преступности деяния, но исключает его наказуемость, и этот факт должен найти отражение в уголовном законодательстве, а не регулироваться в рамках уголовно-процессуального права.
4. Переходя к компаративному анализу норм, в которых согласие потерпевшего является дифференцирующим обстоятельством, следует отметить, что под дифференциацией нами понимается разграничение законодателем объема предусмотренной в законе уголовной ответственности при изменении типовой степени общественной опасности преступного деяния и лица, его совершившего. Применительно к рассматриваемой нами проблематике дифференциация уголовной ответственности осуществляется посредством выделения привилегирующих признаков состава.
В частности, в Уголовном кодексе Польши в качестве привилегированного состава преступления рассматривается убийство человека по его просьбе и под влиянием сострадания к нему (ст. 150). Санкция нормы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет (для сравнения: простое убийство – лишение свободы на срок не менее 8 лет либо пожизненное лишение свободы). Интерес представляет тот факт, что в исключительных случаях суд может применить чрезвычайное смягчение наказания и даже отказаться от его назначения (§ 2 ст. 150).
Анализируемая норма, на наш взгляд, имеет два существенных недостатка:
– во-первых, она не раскрывает условия признания согласия потерпевшего действительным, ограничиваясь лишь указанием на обязательность мотива сострадания;
– во-вторых, не дает ответа на вопрос, какие обстоятельства законодатель предлагает оценивать как исключительные.
Думается, в числе исключительных должны рассматриваться такие обстоятельства, как тяжесть болезни потерпевшего, особенности мотивации преступника, обстановка совершения преступления и характер выражения просьбы жертвы.
Польский законодатель регулирует также проблему уголовной ответственности за производство аборта с согласия беременной женщины с нарушением предписаний закона и устанавливает за него наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет (§ 1 ст. 151). Лицо, без согласия женщины прерывающее беременность, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до 8 лет (§ 1 ст. 153 УК Польши).
Аналогичным образом разрешается проблема дифференциации уголовной ответственности за производство аборта в УК Республики Болгария. Согласно ч. 1 ст. 126 тот, кто с согласия беременной женщины умертвит ее плод вне лечебного заведения или в нарушение установленных правил, наказывается лишением свободы до 5 лет. За совершение тождественного деяния без согласия беременной предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет (ч. 5 ст. 126).
Отметим также, что согласие беременной женщины на производство аборта является привилегирующим обстоятельством в уголовном законодательстве Швейцарии (ст. 118—119), ФРГ (ст. 218), Австрии (ст. 96—98), Голландии (ст. 296), Норвегии (ст. 245), Аргентины (ст. 85—88), однако кодексы этих стран не регламентируют институт согласия потерпевшего в собственном смысле слова, поскольку беременные женщины, дающие согласие на аборт, являются не потерпевшими, а виновными.
С вопросом диспозитивных начал в уголовном законодательстве тесно связана проблема эвтаназии. И хотя в большинстве стран убийство лица по его просьбе из милосердия не исключает уголовную ответственность причинителя вреда, и мотивы виновного, и волеизъявление потерпевшего выступают привилегирующими обстоятельствами.
Подробно регламентирован этот вопрос в УК Испании. В соответствии с ч. 4 ст. 143 тот, кто причиняет или активно содействует причинению смерти другому человеку по его настоятельной, серьезной и ясной просьбе, если жертва страдала от тяжелой болезни, определенно приведшей бы к смерти или причинявшей ей постоянные тяжкие страдания, наказывается мягче, чем лицо, содействовавшее другому в самоубийстве. В данном случае согласие потерпевшего рассматривается как привилегирующее обстоятельство или как основание к отказу от назначения наказания.
Следует подчеркнуть, что в зарубежном законодательстве институт согласия потерпевшего на причинение ему вреда не исчерпывается убийством только тяжело больного из сострадания или милосердия. В частности, согласно ст. 293 Уголовного кодекса Голландии лицо, которое лишает другое лицо жизни по явно выраженной и искренней просьбе этого лица, подлежит тюремному заключению на срок не более 12 лет или штрафу 5 категории (для сравнения: за простое убийство лицо подлежит тюремному заключению на срок не более 15 лет)[89].
В рассматриваемой норме обращают на себя внимание незначительная разница в санкциях за простое и привилегированное убийство, а равно отсутствие указаний на состояние потерпевшего и на мотивацию поведения преступника.
Иная дефиниция содержится в Уголовном кодексе Швейцарии, где законодатель особое внимание уделяет мотивам совершения убийства по просьбе потерпевшего. Согласно ст. 114 УК Швейцарии тот, кто по достойным внимания мотивам, а именно из сострадания, убивает человека по его серьезному и настойчивому требованию, наказывается тюремным заключением. Срок заключения, видимо, устанавливается судом после рассмотрения всех обстоятельств дела.
Ввиду чрезвычайного сходства рассмотренной выше ст. 114 УК Швейцарии и § 77 УК Австрии, считаем излишним приводить законодательную дефиницию последнего. Отметим лишь некоторые особенности этих норм.
Помимо указания на такие непременные признаки волеизъявления потерпевшего, как серьезность и настойчивость, законодатель говорит не о согласии, а о требовании жертвы, что косвенным образом указывает на категоричность и безапелляционность высказываемого потерпевшим волеизъявления. Важно отметить, что между ст. 114 УК Швейцарии и § 77 УК Австрии имеется одно немаловажное различие: в уголовном законе Австрии законодатель конкретизирует санкцию за убийство по требованию потерпевшего и предусматривает за него лишение свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет.
В УК ФРГ предусмотрена уголовная ответственность за убийство по просьбе (а не по требованию) потерпевшего.
Между тем, указание на такие признаки просьбы, как ее категоричный и настойчивый характер, сводит на нет различия между понятиями «просьба» и «требование» потерпевшего. Наказание при этом устанавливается в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет.
О «настоянии потерпевшего» как привилегирующем признаке убийства говорится в УК Японии. В частности, в ст. 202 «Участие в самоубийстве и убийстве с согласия» отмечается: «Тот, кто подготовил человека к убийству, или оказал ему помощь в самоубийстве, или убил человека по его настоянию или с его согласия, наказывается лишением свободы или тюремным заключением на срок от 6 месяцев до 7 лет».
Обращаясь к компаративному анализу уголовного законодательства стран СНГ, следует вновь возвратиться к положениям грузинского уголовного законодательства. Ранее был приведен текст ст. 110 УК Грузии «Убийство по просьбе жертвы». В настоящей части исследования ограничимся лишь указанием на наиболее принципиальные положения этого привилегированного состава.
В частности, заслуживает внимания и поддержки то обстоятельство, что законодатель указал условия действительности согласия потерпевшего: настоятельный и подлинный характер просьбы, а также ограничил применение данной нормы целью освобождения умирающего от сильных физических болей. Все вышеперечисленные обстоятельства должны быть надлежащим образом установлены на предварительном следствии и оценены судом.
5. В пятую группу норм, регламентирующих частный интерес в уголовном праве, условно выделяются предписания, позволяющие оценивать волеизъявление потерпевшего в рамках обстоятельств, смягчающих наказание.
Оценка согласия потерпевшего как обстоятельства, смягчающего наказание, выходит за рамки законотворчества и относится к сфере правоприменительной деятельности. С учетом приведенного в уголовном законе перечня смягчающих и отягчающих обстоятельств суд обязан полно и всестороннее подойти к оценке всех материалов дела и назначить справедливое наказание виновному.
Проведенный нами сравнительный анализ уголовного законодательства зарубежных стран показал, что в нем отсутствуют нормы, непосредственно закрепляющие согласие потерпевшего как обстоятельство, смягчающее наказание. Между тем, в большинстве случаев согласие потерпевшего оценивается судом в рамках анализа общественной опасности совершенного преступления и личности виновного: рассмотрению подлежат отношения преступника с потерпевшим, обстановка совершения преступления, мотивация преступного поведения и пр.
В частности, в УК Аргентины согласие потерпевшего оценивается судом путем исследования следующих обстоятельств: «…характер мотивов субъекта, которые толкнули его на преступление… обстоятельства времени, места, способа и повода для совершения деяния, которые указывают на степень опасности субъекта. Судья должен в той мере, которая необходима в каждом конкретном случае, непосредственно ознакомиться с обстоятельствами совершения деяния, субъектом преступления, а также потерпевшим» (ст. 41)[90].
Так как согласно уголовному закону Аргентины дела о половых преступлениях и преступлениях, в результате совершения которых причиняются легкие телесные повреждения, возбуждаются по заявлению потерпевших (что логически исключает согласие жертвы на совершение преступного деяния), а дела о супружеской измене, клевете и оскорблении, разглашении секретов, невыполнении долга по содержанию своей семьи вообще являются частными (ст. 72, 73)[91], представляется, что учет согласия жертвы возможен только при рассмотрении дел об убийстве, причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью.
Статья 53 УК Польши гласит: «§ 2. Суд, назначая наказание, учитывает в особенности мотивацию и способ поведения виновного… характер и тяжесть отрицательных последствий преступления, личные особенности и условия жизни виновного, образ его жизни до совершения преступления и поведение после его совершения. а также поведение потерпевшего. § 3. Назначая наказание, суд принимает также во внимание положительные результаты проведенного посредничества между потерпевшим и виновным либо соглашения между ними, достигнутого в судебном производстве или прокурором».
Приведенная выше формулировка позволяет предположить, что в § 2 речь идет о возможности учета согласия потерпевшего при совершении преступления, а в § 3 говорится о принципиально ином уголовно-правовом институте примирения с потерпевшим, который в отечественном уголовном законодательстве рассматривается как основание освобождения от уголовной ответственности[92].
Уголовный закон Швейцарии, предусмотрев привилегированный состав убийства по просьбе потерпевшего, в числе обстоятельств, смягчающих наказания, волеизъявление жертвы не указал.
Между тем согласно ст. 64 УК Швейцарии «Обстоятельства, смягчающие наказание», судья может смягчить наказание, если лицо действовало из достойных уважения побудительных мотивов и если лицо было «введено в серьезное искушение» поведением жертвы[93].
Расплывчатость законодательных формулировок не позволяет в полной мере уяснить сущность последнего из обстоятельств. Искушение в русском языке понимается как «соблазн, желание чего-нибудь запретного»[94]. Искушать значит «соблазнять, прельщать, смущать, завлекать лукавством; стараться совратить кого с пути блага и истины»[95]. Думается, указанное выше обстоятельство следует рассматривать широко и под искушающим поведением жертвы понимать как провоцирующее поведение, так и высказанную просьбу о причинении вреда.
В Уголовном кодексе Австрии согласие потерпевшего также не указано в числе обстоятельств, смягчающих наказание. Поэтому можно предположить, что волеизъявление жертвы на причинение ей вреда оценивается судом в рамках иных признаков, характеризующих общественную опасность преступления или лица, его совершившего. В числе обстоятельств, предусмотренных § 34 УК Австрии «Особые смягчающие обстоятельства», следует выделить следующие: «… 3. лицо совершает деяние по заслуживающим уважения основаниям. 8. дает увлечь себя, основываясь на сильном эмоциональном состоянии, которое, в общем, можно понять в данной ситуации[96]». Так как в УК Австрии осуществляется дифференциация уголовной ответственности за убийство по просьбе потерпевшего по достойным внимания мотивам (ст. 114), думается, что индивидуализация наказания на основе указанных выше обстоятельств должна осуществляться в отношении всех иных преступлений.
Сходную с российским уголовным законодательством позицию занимает УК Азербайджанской республики. Согласно ст. 59 обстоятельством, смягчающим наказание, может выступать совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания[97]. Данное законодательное положение существенным образом ограничивает признание согласия потерпевшего смягчающим обстоятельством.
Вместе с тем, во всех упоминавшихся выше кодексах перечень смягчающих обстоятельств является открытым, что расширяет сферу судебного усмотрения и позволяет индивидуализированно подходить ко всем случаям совершения преступлений, обусловленных просьбой или согласием потерпевшего.
Подводя итог настоящему параграфу, можно отметить, что имеющиеся расхождения в оценке роли и места частного интереса в уголовном законодательстве зарубежных государств обусловлены рядом экономических, политических, культурных и иных факторов. Однако в последнее время законодательные положения различных государств сближаются, демонстрируя тенденцию к усилению элементов диспозитивности в сфере уголовно-правового регулирования.
Глава II Институт согласия пострадавшего как элемент диспозитивности в уголовно-правовом регулировании
2.1. Понятие «потерпевший»: проблемы определения и соотношения со смежными понятиями
Положения современного уголовного и уголовно-процессуального законодательства ставят под сомнение целесообразность использования понятия «согласие потерпевшего». Оно представляется недостаточно корректным и вызывает у ученых оправданные сомнения ввиду указания на потерпевшего как субъекта согласия.
В частности, А. Н. Красиков замечает: «Согласие потерпевшего есть выражение свободного волеизъявления лица на нарушение своих благ или поставления их в опасность (риск) как способ достижения личного интереса, с одной стороны, а, с другой – поведение третьего лица в рамках этого согласия… Однако при таком понимании потерпевшего в уголовно-правовом смысле нетрудно заметить, что к числу потерпевших относятся лица, не пострадавшие от преступления, поскольку их согласие на причинение им определенного вреда является при определенных условиях обстоятельством, исключающим преступность совершенного в отношении них деяния… Следует также отметить, что наименование лица, потерпевшего не от преступления, а от правомерного деяния и даже деяния, совершенного благодаря высокому чувству гражданственности, как это имеет место с донорами, трудно сочетается с представлениями о потерпевшем, сложившимися в обыденном сознании»[98]. Изначально высказываясь за необходимость пересмотра понятия «потерпевший» применительно к случаям выражения согласия лица на причинение вреда его интересам, автор далее отмечает: «Тем не менее вряд ли есть смысл заменять такого “потерпевшего” каким-либо иным понятием»[99].
Последнее утверждение вызывает некоторые возражения. Автор, предлагая сохранить традиционно используемый термин применительно к лицам, дающим согласие на причинение им вреда, вопрос об уголовно-правовом понятии «потерпевший» рассматривает как решенный. Между тем уголовный закон прямо не указывает на фигуру потерпевшего и не определяет его признаков.
Материальное понятие «потерпевший» подменяется уголовно-процессуальными категориями, поскольку именно в УПК РФ содержится легальное определение потерпевшего. В соответствии со ст. 42 УПК РФ потерпевшим признается «физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу или деловой репутации. Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, следователя, прокурора и суда». Следует отметить непоследовательность законодателя в определении процессуального статуса потерпевшего. В ст. 42 его возникновение связывается с вынесением соответствующего постановления дознавателя, следователя, прокурора или суда, а в ст. 20 того же закона закрепляется право потерпевшего на обращение с заявлением о возбуждении уголовного преследования по делам частного и частно-публичного обвинения. Рискнем предположить, что в ст. 20 УПК РФ проявляет себя не процессуальная, а материальная природа потерпевшего, однако для определения уголовно-правового статуса последнего такой констатации явно недостаточно.
Наука, традиционно разграничивая уголовно-правовую и процессуальную категорию «потерпевший», до настоящего времени не определилась с тем, какое из понятий предпочтительнее использовать в законе и практике и стоит ли вообще развивать их конкуренцию.
Отсутствие единства мнений на теоретическом уровне неизбежно отражается на законотворческой деятельности.
Наблюдается, на наш взгляд, абсурдная ситуация. УК игнорирует фигуру потерпевшего, а УПК РФ указывает на некоторые материальные признаки этого понятия, хотя по логике вещей процессуальная фигура потерпевшего производна от его материально-правового статуса.
Многие ученые оправдывают позицию законодателя, заявляя, что «вопрос, причинен ли преступлением вред определенному лицу, суд решает при постановлении приговора. Утвердительный ответ на этот вопрос и означает признание лица потерпевшим в материально-правовом смысле данного понятия… Таким образом, если признание потерпевшим в материальном смысле является некоторым этапом доказывания и имеет место, когда факт причинения вреда данному лицу доказан достоверно, признание потерпевшим в процессуальном смысле является одной из предпосылок участия данного лица в доказывании и имеет место при наличии оснований предполагать причинение преступлением вреда этому лицу»[100].
Данная позиция представляется нам неприемлемой по нескольким причинам.
Во-первых, авторы допускают некоторое смешение уголовно-правовых и уголовно-процессуальных понятий, называя признание существования потерпевшего в материальном смысле этапом процессуального доказывания. Объективное наличие потерпевшего нельзя поставить в зависимость от того, удастся ли в суде доказать причинение вреда, равно как и нельзя определить его событием, следующим за моментом фактического возникновения фигуры потерпевшего.
Во-вторых, при постановлении приговора суд разрешает вопрос не о том, был ли причинен вред определенному лицу, а о том, совершил ли рассматриваемое преступление обвиняемый. В противном случае лицо признавалось бы потерпевшим только после вынесения приговора суда.
Не бесспорна также точка зрения П. С. Дагеля, который, признавая понятие «потерпевший» общим для уголовного и уголовно-процессуального права, исходит из того, что «первое предложение в соответствующей статье уголовно-процессуального законодательства дает именно материально-правовое понятие “потерпевший”, а второе предложение определяет, при каких условиях потерпевший становится участником уголовного процесса, приобретает процессуальные права и обязанности» .[101]
Рассматривая данную законодательную конструкцию как наиболее приемлемую, автор не учитывает, что нормы УПК призваны регулировать уголовно-процессуальные отношения и не должны определять понятия и категории материального права, которые стержнем пронизывают уголовный закон, но не находят в нем легального определения.
Констатируя тот факт, что УПК РФ указывает на некоторые материальные признаки потерпевшего, существующее положение вещей нельзя признать итогом закономерных и обоснованных действий законодателя.
Думается, норма ч. 1 ст. 42 УПК РФ была призвана заполнить брешь в категориальном аппарате российского законодательства. В соответствии с требованиями законодательной техники, признание уголовно-процессуальной фигуры потерпевшего и наделение ее соответствующими полномочиями должно основываться на существовании потерпевшего в уголовно-правовом смысле. Однако отсутствие законодательно определенных материальных признаков потерпевшего не позволяло формулировать процессуальные положения, производные от материального статуса. Наиболее доступным и легким способом разрешения возникшего противоречия законодатель посчитал введение в УПК уголовно-правового понятия потерпевшего и формулирование на его основе процессуального статуса последнего.
Несмотря на отсутствие в уголовном законе определения потерпевшего, на теоретическом уровне это понятие рассматривается достаточно полно.
По мнению Г. И. Чечеля и В. С. Минской, «основными базовыми элементами уголовно-правового понятия “потерпевший” являются:
– то, что потерпевший – субъект права, участник охраняемых законом общественных отношений;
– факт наличия вреда в виде фактического ущерба или реальной возможности его нанесения;
– запрещенность причинения вреда именно той правовой нормой, за нарушение запрета или веления которой виновный привлечен к уголовной ответственности»[102].
Думается, приведенный перечень следует дополнить еще одним признаком – непосредственностью причинения вреда преступлением.
А. Н. Красиков рассматривает потерпевшего как «физическое лицо, в отношении интересов которого совершено оконченное или неоконченное преступное посягательство»[103]. Признавая справедливость позиции автора в отношении существования фигуры потерпевшего на любой стадии совершения преступления, сложно согласиться с ограничением круга потерпевших физическими лицами, тем более что на законодательном уровне этот вопрос разрешен однозначно.
Наиболее сложным в определении уголовно-правового статуса потерпевшего видится вопрос о целесообразности использования данного термина для обозначения лиц, которые дают согласие на нарушение собственных благ непреступными действиями. Речь идет о случаях невиновного причинения вреда, совершения деяния лицом, не являющимся субъектом преступления, о правомерных действиях, а равно о случаях согласия лица на причинение вреда собственным интересам, если такое согласие исключает преступность деяния.
П. С. Дагель, анализируя эту проблему, отмечает, что «потерпевший – это лицо, которому вред причинен преступлением; если нет преступления, то нет и потерпевшего в уголовно-правовом смысле этого слова»[104].
По-иному подходит к решению вопроса Д. Б. Булгаков. Он определяет потерпевшего в уголовном праве как «лицо, которому причинен тот или иной вред общественно опасным деянием»[105].
Интерес представляет позиция Б. В. Сидорова. Автор отмечает, что «потерпевшим в уголовно-правовом смысле может считаться только физическое лицо, являющееся непосредственной жертвой преступления, чьи права и охраняемые законом интересы были нарушены или поставлены под угрозу совершаемым в отношении него преступным посягательством»[106]. При этом лицо, пострадавшее от иного запрещенного уголовным законом деяния, совершенного в состоянии невменяемости, или в случае недостижения причинителем вреда возраста, с которого наступает уголовная ответственность, следовало бы, по мнению автора, признавать жертвой такого деяния, а лицо, пострадавшее во время совершения им правомерного, социально полезного поступка, совершенного, в частности, в состоянии необходимой обороны или необходимости задержания преступника, – жертвой правового случая[107].
Соглашаясь с мнением П. С. Дагеля и Б. В. Сидорова о необходимости признания потерпевшими только лиц, пострадавших непосредственно от преступления, мы исходим из следующих посылок:
– в уголовном праве, как известно, отношения, возникающие вследствие причинения вреда, ограничиваются отношениями ответственности, единственным основанием возникновения которых является совершение преступления. Но коль скоро деяние не может быть признано преступным, не могут возникнуть и отношения ответственности. Отсутствие же последних исключает уголовно-правовой статус потерпевшего;
– при определении материально-правового понятия «потерпевший» следует ориентироваться на уголовный закон РФ, социальной задачей которого является охрана интересов личности, общества и государства от преступных посягательств, а также предупреждение преступлений. Что же касается случаев непреступного причинения вреда, то они остаются за рамками охранительных уголовно-правовых отношений.
На основании изложенного возникает сомнение в соответствии понятия «согласия потерпевшего» его сущностному содержанию. Условно все случаи волеизъявления лица на причинение вреда собственным интересам можно разделить на две группы: когда согласие «потерпевшего» исключает и не исключает преступность деяния.
Если согласие лица на причинение вреда собственным интересам рассматривается как обстоятельство, исключающее преступность деяния, не может признаваться потерпевшим в уголовно-правовом смысле тот, кто дал такое согласие.
По этому поводу А. И. Красиков писал: «Не всегда деяние, причиняющее вред с согласия, характеризуется как материально противоправное. Например, субъект соглашается на определенное поведение другого субъекта в отношении своих интересов, и это поведение не противоречит существующим общественным отношениям. В таком случае реализация личного интереса не вступает в конфликт с общественным интересом, и поэтому объективно отсутствует преступление, а следовательно, и потерпевший» [108].
Действительно, выражая согласие, лицо распоряжается своими интересами и фактически выводит их из-под уголовно-правовой охраны. Деяние в таком случае теряет значимость для уголовного закона, а лицо не может считаться потерпевшим.
Иная ситуация наблюдается в случае преступного причинения вреда личности с ее согласия. Лицо, которому преступлением причиняется и создается угроза причинения физического, материального или морального вреда, автоматически становится потерпевшим в уголовно-правовом смысле. На непризнание его потерпевшим может повлиять лишь отсутствие вреда, причиненного непосредственно преступлением.
На это обстоятельство делают акцент те исследователи, которые не признают вредом все то, что охватывалось согласием лица[109]. С данной точкой зрения сложно согласиться.
Под «вредом» в русском языке обычно понимается «порча, ущерб»[110]; «последствия всякого повреждения, порчи, убытка, нарушение прав личности или собственности, законное и незаконное»[111]; «неблагоприятные изменения в охраняемом законом благе»[112], «всякое умаление охраняемого законом материального и нематериального блага»[113]. Как справедливо отмечает Г. П. Новоселов, вред – это «не сами по себе изменения, производимые в результате преступного воздействия, а некоторого рода их оценка, отражающая значимость данных изменений для людей»[114].
Поддерживая данную позицию, важно подчеркнуть, что оценка вреда осуществляется государством в соответствии с социальной значимостью произведенных изменений. В противном случае согласие лица на причинение вреда носило бы универсальный характер и во всех случаях исключало бы преступность деяний.
Принимая во внимание ранее предложенное определение потерпевшего как лица, пострадавшего от преступного посягательства, сложно согласиться с П. С. Дагелем, по мнению которого «граждан, дающих согласие на причинение им вреда уголовно наказуемыми способами, не следует считать потерпевшими в материально-правовом смысле и признавать потерпевшими в уголовном процессе»[115]. Термин «согласие потерпевшего» автор считает внутренне противоречивым: «Если есть согласие на совершение преступления, то нет потерпевшего, если есть потерпевший, с его стороны не может быть согласия на совершение преступления»[116]. Поддерживая эту позицию, А. В. Сумачев дополняет ее следующим утверждением: «Алогично выглядит ситуация, когда, с одной стороны, лицо дает согласие на причинение вреда собственным интересам, а с другой, имеет реальную возможность в рамках полномочий потерпевшего требовать возмещения причиненного ему вреда»[117].
С последним высказыванием можно согласиться лишь в части оценки лиц, дающих согласие на непреступное причинение вреда. В ситуации совершения преступления пострадавшее лицо, напротив, следует признавать потерпевшим вне зависимости от характера его волеизъявления и поведения.
В контексте вышеизложенного возникает следующий вопрос: «Каким понятием следует объединить лиц, дающих согласие на непреступное причинение вреда?».
Так, например, Б. В. Сидоров предлагает называть их жертвами правовых случаев[118].
Если рассматривать термин «жертва» как понятие, включающее в себя и реальных, и потенциальных пострадавших, а равно лиц, вред которым может причиняться деянием как непосредственно, так и опосредованно, невозможно согласиться с этой точкой зрения. Более того, автор под жертвами правовых случаев понимает лиц, пострадавших во время совершения правомерного, социально полезного поступка, а причинение вреда даже с согласия лица трудно признать общественно одобряемым деянием.
Думается, что наиболее приемлемым вариантом было бы введение в уголовное законодательство термина «пострадавший».
В русском языке под пострадавшим понимается тот, кто «подвергается чему-нибудь неприятному, терпит ущерб, урон от чего-нибудь»[119], «кто понес обиду, убыток, наклад»[120]. Будучи синонимом термина «потерпевший» (под которым понимается «лицо, подвергшееся какой-нибудь неприятности; пострадавшее от чего-нибудь»[121]), в уголовном праве «пострадавший» может рассматриваться как более общее понятие и объединять в себе потерпевших и лиц, вред которым причиняется невиновными, правомерными и другими непреступными действиями[122]. Более того, введение термина «пострадавший» позволит сохранить целостность традиционного института «согласие потерпевшего», переименовав его в «согласие пострадавшего».
Полагаем, что Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. необходимо дополнить специальной нормой-дефиницией «Понятие пострадавшего и потерпевшего» следующего содержания:
«1. Пострадавшим признается физическое лицо, которому причиняется физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения вреда его имуществу и деловой репутации непосредственно преступлением или деянием, признаваемым настоящим кодексом непреступным.
2. Лицо, непосредственно пострадавшее от преступления, признается потерпевшим».
2.2. Становление и развитие учения о согласии потерпевшего в отечественной уголовно-правовой науке
На начальных этапах становления государственности вопросы уголовно-правовой охраны интересов личности разрешались посредством самосуда, который основывался на представлении потерпевшего о правосудии и возмездии. Человек возлагал на себя право оценивать деяния, направленные против его интересов, и наказывать виновных. На этом этапе развития общества проблема согласия потерпевшего вообще не возникала, поскольку индивид имел возможность поступать по собственному усмотрению и фактически не был связан государственными установлениями. Это порождало социальные конфликты, произвол и не гарантировало защиту реального потерпевшего при столкновении с правонарушителем. Естественно, подобное положение вещей не могло удовлетворять общество и государство.
Последнее, опираясь в своем развитии на максимально возможное подчинение людей нормам поведения, стремилось усилить свою власть посредством правового регулирования социальных отношений. Не желая мириться с преобладанием частного интереса в области охранительных отношений, государственная власть установила контроль над производимым разбирательством. В целях установления единообразия в понимании правосудия, а равно поддержания правопорядка в обществе власть разграничивала сферы частного и публичного регулирования на основе ценности тех или иных благ с точки зрения стабильного развития общества и государства. Разграничение ценностей и благ осуществлялось постепенно и было продиктовано множеством экономических, политических, демографических, географических, культурных, религиозных и иных факторов, имевших место в каждом конкретном государстве.
Между тем на протяжении длительного периода сущность преступного посягательства на личность продолжала рассматриваться как область частного интереса и никоим образом не связывалась с укреплением государственности и развитием общества. Посягательства на права и интересы личности считались частными нарушениями и нередко попадали в сферу гражданско-правового регулирования. В случае же рассмотрения таких дел в рамках уголовного судопроизводства, судья выполнял лишь роль арбитра в разрешении конфликта, заботясь о формальном соблюдении порядка его рассмотрения.
По мере укрепления государства система правосудия начала противопоставляться самосуду. Устанавливался принцип публичности в уголовном праве, что приводило к ликвидации отрицательных последствий самосуда. Усиление государственной власти сопровождалось усилением охранительных начал уголовного права и в конечном итоге приводило к «все большему “зарежимливанию” свободы человека и, в частности, к отказу от учета воли и желания потерпевшего, к их игнорированию при отправлении правосудия по уголовным делам»[123]. Многие частные интересы приобрели публичный характер, что нередко оборачивалось их искажением и обуславливало возникновение споров о границах волеизъявления пострадавшего лица при оценке деяния как преступного.
Именно на этом этапе развития общества и государства особую актуальность приобретает проблема согласия потерпевшего как элемента частного интереса в уголовном праве.
Изначально она рассматривалась в рамках уяснения направленности преступных деяний. Еще во времена существования Римской империи и развития римского права различались преступления публичного и частного характера.
Первые преследовались в порядке уголовного судопроизводства, а вторые – гражданского. В последующем на основе данного разделения в особую группу начали выделять преступления, преследуемые
только по жалобе потерпевшего (дела частного обвинения). Данная классификация получила широкое распространение в научной литературе и в законодательстве ряда государств. В последующем она уточнялась и конкретизировалась.
В частности, Ч. Беккариа в зависимости от направленности преступлений выделял три их разновидности. Некоторые преступления, считал он, «разрушают само общество или вызывают гибель того, кто является его представителем, другие нарушают личную безопасность граждан, посягая на их жизнь, имущество и честь, третьи противоречат тому, что ввиду общественного спокойствия и блага закон предписывает каждому гражданину делать или не делать»[124]. Позднее введенное Беккариа трехчленное деление преступлений получило широкое распространение в отечественной уголовно-правовой науке и легло в основу популярной ныне градации посягательств на преступления против интересов государства, общества и личности.
Анализ эволюции научных представлений об уголовно-правовом значении согласия потерпевшего весьма затруднителен. Это объясняется спорностью или, по крайней мере, слишком большой условностью распределения всего многообразия взглядов на рассматриваемую проблему по определенным группам и направлениям. Сложной видится и периодизация основных этапов развития учения о потерпевшем в государстве, где уголовное законодательство на протяжении всей своей истории игнорировало эту проблему.
Междутем, следуя классической модели периодизации истории российского законодательства, предлагаем выделить следующие периоды развития научных представлений о согласии потерпевшего:
1) дореволюционный период (конец XIX – начало XX в.);
2) советский период (1917—1991 гг.);
3) новейший период развития учения о согласии потерпевшего (конец XX – начало XXI в.).
Следует отметить, что в основу данной классификации положены не только объективные исторические факторы, но и особенности идеологии общества на определенных этапах его развития. Предлагаемая периодизация позволяет не только раскрыть содержание научных позиций, изложенных в хронологическом порядке, но и увидеть социальные и идеологические предпосылки появления и развития тех или иных воззрений на согласие потерпевшего.
На протяжении всей своей истории институт согласия потерпевшего в доктрине отечественного уголовного права находился в прямой зависимости от теоретических воззрений на существо преступных деяний и, в частности, на объект посягательства.
В конце XIX – начале XX в. широкое распространение в России получили теории субъективного права, нормы права и правового блага.
Суть первой концепции (сторонники – Кант, Штюбель, Генке, а в России – В. Д. Спасович, П. Д. Калмыков, Д. А. Дриль, А. Ф. Кистяковский и др.) заключалась в том, что всякое нарушение благ какого-либо лица, совершенное с его согласия, должно оставаться безнаказанным. Школа субъективного права видела в преступном деянии посягательство на субъективные права, а отказ обладателя субъективного права от этого права считала основанием для признания деяния непреступным, игнорируя, таким образом, общественную опасность деяния.
В частности, рассматривая преступление как «посягательство на чье-либо право, охраняемое государством посредством наказания», В. Д. Спасович выводил из этого тезиса два важных заключения: «1) так как право бывает всегда чье-нибудь, а владельцами или субъектами прав могут быть только лица человеческие, единичные или собирательные, то и преступление может быть совершено только против какого-нибудь лица; 2) коль скоро по каким-нибудь причинам государство отнимет от известного права свою защиту, то нарушение его перестанет быть бесправием в отношении отдельной личности»[125].
Обосновывая значимость института согласия потерпевшего на причинение вреда, А. Ф. Кистяковский отмечал, что «объектом преступления может быть, вообще говоря, только человек со всеми правами и учреждениями, которые им как существом общественным, создаются»[126].
Менее спорным является положение теории субъективного права, в соответствии с которым согласие потерпевшего представляет собой соучастие в посягательстве на собственные блага, которое по общему правилу ненаказуемо. Раскрывая сущность данной концепции, Н. С. Таганцев писал: «Человек, нанесший по просьбе другого удар, является или орудием, или пособником просившего, а так как посягательство на собственные блага не почитается преступным, то и соучастие в нем, говорила эта доктрина, в какой бы ни было форме не может подлежать наказанию. Но сторонники этого воззрения забывали, что между учинением преступного деяния по согласию и участием в посягательстве на собственные блага есть только сходство, а не тождество. Между лицом, доставшим для своего приятеля веревку или яд, и между человеком, пристрелившим или зарезавшим другого, хотя и по его о том просьбе, существует различие и объективное и субъективное, и теоретическое и практическое»[127].
Занимая крайнюю позицию в уголовно-правовой оценке согласия потерпевшего как обстоятельства, исключающего преступность деяния, теория субъективного права приводила своих последователей к целому ряду абсурдных выводов и поэтому не получила широкого распространения.
Вторая концепция – так называемая нормативная теория – рассматривала преступление как нарушение объективных прав и правопорядка, закрепленных в уголовно-правовых нормах. Следовательно, согласие потерпевшего не имело существенного значения и не позволяло уничтожить преступность деяния, если в законе это деяние рассматривалось как преступное. По сути, нормативная теория стояла на защите общественных интересов и выступала за безусловное признание публичных начал в уголовном праве.
К последователям нормативной теории нередко относят Н. С. Таганцева, который в своих работах подчеркивал, что «преступное деяние есть посягательство на норму, но в ее реальном бытии; в условиях реального бытия нормы, казалось бы, и нужно искать различия той роли, которую играет согласие пострадавшего по отношению к ответственности»[128].
Отнесение воззрений Н. С. Таганцева к рассматриваемому направлению представляется нам достаточно спорным, поскольку автор в своих работах предостерегал ученых от одностороннего понимания объекта преступления и преступления в целом: «Если мы в преступлении будем видеть только посягательство на норму, на веления правопроизводящей авторитетной воли, создающей для одной стороны право требовать подчинения этим велениям, а для другой – обязанность такого подчинения, будем придавать исключительное значение моменту противоправности учиненного, то преступление сделается формальным… понятием»[129]. Исследуя проблему согласия потерпевшего, Н. С. Таганцев более подробно раскрывает свою позицию: «Реальное бытие нормы – это правоохраненный интерес; но эта охрана может относиться или к самому интересу, к защите его от разрушения, уничтожения или изменения, или же охрана направляется на юридическое отношение лица к такому интересу, на защиту возможности свободно владеть, распоряжаться или пользоваться таким интересом. Вместе с тем эта защита может выразиться или в воспрещении того, что вредит этим интересам, или в воспрещении действия или бездействия, подвергающего их опасности, и притом иногда столь общей и отдаленной, что главным признаком нарушения становится непослушание лица требованиям компетентной власти, действие вопреки или помимо ее воли. Если посягательство направлено на интерес, охраняемый непосредственно, согласие на учинение такого деяния не может иметь, по общему правилу, никакого значения. Исключение в этой группе составят только те деяния, грозящие отдаленной опасностью интересам этого рода, где признаком преступности, входящим в законный состав деяния, является отсутствие разрешения или согласия компетентного органа власти; понятно, что в случаях этого рода наличность требуемого законом согласия устраняет само бытие преступности. Наоборот, если посягательство направлено на интерес, по отношению к которому охраняется только право лица владеть, распоряжаться и пользоваться этим интересом, то отказ такого лица от охраненного нормой принадлежащего ему права устранит, по общему правилу, преступность посягательства»[130].
Вступая с автором в своеобразную полемику, С. Е. Познышев отмечает: «Против взгляда сенатора Таганцева говорят следующие соображения. Во-первых, совершенно невозможно точно разграничить охрану интереса от охраны пользования интересом, тем более что интерес по существу всегда заключается в известном благе, именно в известном распоряжении, пользовании им. Во-вторых, в теории сенатора Таганцева представляется недоказанным как раз то, что требует доказательства, именно: почему же в этих двух случаях согласие потерпевшего имеет прямо противоположное значение?»[131]
Позицию Н. С. Таганцева можно, пожалуй, отнести к теории правового блага, сторонники которой, не отрицая наличия частных интересов в публичном праве, стараются подчеркнуть в сущности преступления его формальное начало, а именно правовую сторону. Теория правового блага, будучи, по справедливому замечанию Е. Каиржанова, «своеобразной базой так называемой нормативной школы»[132], видела сущность преступного деяния в отпадении частной воли от общей. Ее последователи – Фейербах, Грольман, Кестлин, Бернер, Росси и др. – разделяют все права на отчуждаемые и неотчуждаемые, признавая, что согласие уничтожает противозаконность действий только при нарушении прав отчуждаемых.
Критикуя данную теорию, С. Е. Познышев отмечал: «Представляется, прежде всего, непонятным и недосказанным, почему с этим различием благ отчуждаемых и неотчуждаемых должно связываться различное значение согласие пострадавшего, почему в одном случае это согласие имеет одно значение, а в другом – диаметрально противоположное. Во-вторых, само деление благ на отчуждаемые и неотчуждаемые представляется неопределенным»[133]. Действительно, об отсутствии сколько-нибудь устойчивого критерия и определенности формулировок говорит то обстоятельство, что сторонники данной теории подходят к проблеме отчуждаемых и неотчуждаемых прав по-разному.
Так, Фейербах считал неотчуждаемым только право на жизнь; Кестлин относил к неотчуждаемым права, которые составляют существенные условия личности; Бернер – права, составляющие условия нравственной природы человека, Гельшнер – права на жизнь, свободу, честь, телесную неприкосновенность.
Ни одна из представленных выше теорий «в чистом виде» не получила своего развития в России. Большинство отечественных исследователей на рубеже XIX—XX вв. отмечали, что правильное разрешение проблемы согласия потерпевшего не может быть установлено априори, ибо соотношение субъективных и объективных прав различно в отдельных видах преступлений. Однако этим единство мнений относительно института согласия потерпевшего и ограничивалось.
Л. С. Белогриц-Котляревский в целях установления границ частного интереса в уголовном праве делил все преступления на две большие группы: «1) преступления против государства вообще, т. е. такие, которые посягают на государство и его установления… Здесь согласие потерпевшего не может уничтожить преступности деяния, ибо никакое частное лицо не может распоряжаться правами, владельцем которых является государство; 2) преступления частных лиц. Здесь воля потерпевшего не остается без внимания, но степень этого влияния неодинакова при различных видах преступлений. Самое большое значение согласие потерпевшего имеет при преступлениях против имущества и чести. Меньшую роль – при преступлениях против свободы, телесной неприкосновенности и жизни. В последнем случае согласие потерпевшего может и даже должно в известных случаях влиять на степень ответственности на том основании, что в этих случаях нарушается только объективная воля, воля государства; субъективная же воля с фактом правонарушения не только не расходится, но даже совпадает»[134].
Останавливаясь специально на группе преступных деяний, направленных против частных интересов, Н. С. Таганцев определяет круг деяний, в которых согласие потерпевшего исключает преступность деяния. «Согласие обладателя нарушенного интереса устраняет, прежде всего, преступность имущественных посягательств в виде захвата имущества или его истребления, так как передача, уступка имущества, хотя бы для его уничтожения, составляет для его обладателя, по общему правилу, несомненное право. Такое же положение применяется и к посягательствам на честь. Выражение презрения к личности другого необходимо предполагает унизительность данного обхождения в глазах как оскорбителя, так и оскорбленного: обида не существует, как скоро кто-нибудь находит обращенные к нему слова не оскорблением, а похвалой. Но если закон преследует не унизительное обхождение само по себе, а нарушение права каждого не допускать унизительного с собой обхождения, то, конечно, вперед данное согласие на такое обхождение делает обиду немыслимой… Рядом с обидой должны быть поставлены посягательства на целомудрие. Эти преступные деяния заключают в себе два элемента: публичный – нарушение установленного законом регулирования плотских отношений и частный – посягательство на права личности. В первом отношении согласие объекта полное и добровольное не может иметь никакого значения, а во втором оно уничтожает преступность, так как закон охраняет не целомудрие как таковое, а право лица свободно распоряжаться собой, поэтому изнасилование с согласия жертвы, конечно, немыслимо… Такое же значение имеет согласие при посягательстве на свободное распоряжение собой и своими действиями, так как и это благо не имеет реального, самостоятельного существования; его бытие выражается именно в возможности пользоваться этим благом. Не может считаться преступником тот, кто запер другого в комнате по его согласию и не может быть наказан за посягательство на свободу тот, кто обращается с каким-либо лицом как с рабом, если только на это было дано согласие»[135].
С последним доводом не соглашается Л. С. Белогриц-Котляревский. Он утверждает, что «поставляя своей задачей развитие, возвышение личности гражданина, государство, очевидно, не может допустить попрание этой личности, хотя бы и с ее согласия. Это положение, как ни далеко его практическое осуществление, напрасно упускает из вида Таганцев, который утверждает, что согласие потерпевшего уничтожает ответственность при посягательствах на честь и свободу.. Кодексы многих культурных стран объявляют наказуемым торг невольниками и продажу в рабство, хотя бы эти акты были учинены и с согласия потерпевшего»[136].
Более спорным в уголовно-правовой науке на рубеже XIX—XX вв. был вопрос о посягательствах на телесную неприкосновенность. Как отмечает в своих работах Н. С. Таганцев, «даже сторонники противоположного воззрения не могут не признать, что согласие уничтожает ответственность во всех тех случаях, где главную роль играет не физическое страдание, а нравственное, насилие над личностью, нарушение личной неприкосновенности: нельзя допустить уголовной ответственности лица, отодравшего кого-либо за уши или ударившего по спине, как скоро он сделал это по просьбе или с дозволения пострадавшего»[137].
В основу собственного видения проблемы согласия потерпевшего С. В. Познышев закладывает следующий тезис: «Согласие пострадавшего устраняет, прежде всего, противозаконность тех деяний, вся сущность которых, как преступлений, именно в том и заключается, что они совершаются против воли другого лица, так что, как скоро этот признак отпадает, они превращаются в обыкновенные, вполне дозволенные действия»[138]. На основе этого критерия автор следующим образом определяет согласие потерпевшего на причинение вреда телесной неприкосновенности: «когда другое лицо соглашается терпеть щипки и пинки, деяние не признается преступлением… Совсем другое дело при телесных повреждениях в собственном и тесном смысле слова, при которых более или менее расстраивается здоровье пострадавшего, и при лишении жизни. И при отсутствии сознания насильственности этих деяний, у субъекта остается сознание более или менее тяжкого физического страдания и вообще сознание крупного зла, причиняемого другому человеку Определяясь к деянию при этом сознании, субъект доказывает, что у него нет должного уважения к личности, которое веками воспитывалось и существует у членов культурного общества. Поэтому при телесных повреждениях за согласием потерпевшего не должно признаваться значение обстоятельств, устраняющих противоправность деяния».
Позиция С. Е. Познышева заслуживает внимания ввиду ряда обстоятельств. Во-первых, автор впервые в российской науке анализирует институт согласия потерпевшего через основные признаки преступности деяния: общественную опасность, противоправность, виновность и наказуемость, а в ситуации наличия согласия потерпевшего видит отсутствие лишь одного признака преступления – его противоправности. Во-вторых, С. Е. Познышев предпринимает удачную попытку провести разграничение посягательств на телесную неприкосновенность методом выделения общественного интереса как объекта причинения существенного вреда здоровью.
Последним из деяний, анализируемых в рамках исследования согласия потерпевшего, является лишение жизни. На рубеже XIX—XX вв. в условиях существовавшего тогда в России государственного и социального строя принцип охраны жизни, независимо от права на ее неприкосновенность, представлялся весьма неустойчивым. Традиционно убийство рассматривалось как деяние греховное и безнравственное. Между тем в самом законе было невозможно отыскать твердые основания для признания юридической ничтожности согласия потерпевшего на убийство, а также для наказуемости убийства по согласию убитого. Как справедливо замечает Н. С. Таганцев, «идя последовательно, государство должно было бы запретить все те занятия, в которых человек из-за насущного хлеба подвергается вероятной опасности потерять свою жизнь, и притом в срок весьма непродолжительный. Другое дело, если таким отчуждением права на жизнь нарушаются какие-либо полицейские интересы или через это проявляется вредный общественный предрассудок; в этом случае, конечно, возможно допустить наказуемость не только убийства по согласию, но даже и убийства по настоятельному требованию убитого. Но даже и в тех случаях, когда по каким-либо соображениям учинение преступного деяния, например убийства по согласию, признается по закону наказуемым, это согласие тем не менее должно влиять на уменьшение ответственности. Нельзя поставить на одну доску с убийцей из корысти или мести солдата, заколовшего на поле битвы своего смертельно раненного товарища по его просьбе, чтобы избавить его от дальнейших мучений, доктора, прекратившего мучительную агонию умирающего, и т. п.»[139] .
С. В. Познышев, в отличие от Н. С. Таганцева, ограничивает возможность смягчения ответственности за убийство, совершенное по просьбе потерпевшего, только теми случаями, «когда лишение жизни причинены из одного только сострадания, когда действующий действовал в уверенности, что он делает добро другому человеку, а не зло»[140].
На рубеже XIX—XX вв. в теории уголовного права не было единства мнений относительно условий правомерности согласия потерпевшего. Такое положение можно, пожалуй, объяснить тем, что Уложение 1845 г. ни в Общей, ни в Особенной частях не содержало никаких специальных постановлений о влиянии согласия пострадавшего на ответственность. Не упоминается о нем и в Общей части Уголовного уложения 1903 г., где в главу о посягательствах на жизнь было включено особое постановление (ст. 455) об уменьшении ответственности за убийство, учиненное по настоянию убитого и из сострадания к нему. Отсутствие специальных законодательных дефиниций оставляло проблему согласия потерпевшего нерешенной для правоприменителя и спорной для теоретиков уголовного права.
По мнению С. Е. Познышева, «противозаконность деяния устраняет лишь следующее согласие пострадавшего:
1) данное серьезно, выражающее обдуманное решение субъекта;
2) данное добровольно, а не в силу какого-либо принуждения;
3) не вырванное обманом, а данное с пониманием последствий деяния, на которое дается согласие;
4) данное лицом вменяемым;
5) согласие должно быть дано не по совершении, а до совершения деяния, так как, согласно указанному критерию, важен момент, в который субъект определялся к своему деянию, решался приступить к его совершению; важно, решился ли он с сознанием ненасильственности в отношении другого лица его действий, соответствия их воле этого лица, или нет»[141].
Представляется, что приведенный выше перечень является исчерпывающим и отсутствие хотя бы одного из перечисленных признаков не позволяет устранить противозаконность деяния. Однако даже отсутствие одного из признаков не исключает уголовно-правового значения согласия потерпевшего, поскольку в любом случае суд может принять его во внимание в качестве обстоятельства, смягчающего наказание.
Иначе предлагает подходить к условиям правомерности волеизъявления жертвы Л. С. Белогриц-Котляревский. Видя главное условие правомерности согласия потерпевшего в направленности действий причинителя, автор называет универсальные признаки согласия, необходимые как для признания деяния непреступным, так и для смягчения наказания:
«1) правоспособность выражающего согласие в момент дачи такового, предполагающая не только общую юридическую дееспособность лица, но и специальное право распоряжения данным благом;
2) добровольность согласия; вынужденное обманом или принуждением согласие не есть согласие в собственном смысле; но природа его сохраняется, если оно было добыто просьбой, мольбой;
3) согласие должно носить серьезный характер. Выраженное в шутку или нерешительно под влиянием болезненного или гнетущего в данную минуту состояния, согласие пострадавшего должно оставаться вне всякого влияния на ответственность виновного;
4) многообразие форм выражения согласия;
5) деяние не должно заключать в себе посягательства на интересы общественные или государственные; оно должно затрагивать лишь частные интересы»[142].
Последний признак укладывается в общую концепцию Л. С. Белогриц-Котляревского, который отрицает всякое значение частного интереса в сфере охраны публичного по своей природе государственного или частного блага. За согласием потерпевшего он признает свойство устранения преступности деяния только в отдельных случаях совершения преступлений против личности: речь идет о деяниях, которые никоим образом не препятствуют «возвышению личности гражданина и росту гражданского преуспевания».
Что касается формы выражения согласия, то наука к этому вопросу подходила лояльно. Допускалось выражение согласия словами или жестами. Если субъект совершал деяние, ошибочно полагаясь на согласие потерпевшего, вопрос об уголовной ответственности предлагалось рассматривать по общим правилам о значении ошибки в уголовном праве.
В целом, говоря о рассмотренном выше периоде становления и развития научных представлений о согласии потерпевшего в уголовном праве России, необходимо, прежде всего, отметить те положения, которые легли в основу дальнейшего уголовно-правового учения о согласии пострадавшего:
– разработка методологической основы изучения частного интереса в уголовном праве;
– определение природы института согласия потерпевшего как обстоятельства, исключающего преступность деяния, и как обстоятельства, смягчающего наказание;
– исследование границ частного интереса в сфере уголовно-правового регулирования;
– выделение уголовно значимых условий выражения согласия, а также его форм.
Переходя к рассмотрению второго этапа развития учения об уголовно-правовом значении волеизъявления жертвы, выделим основные черты данного учения, характерные для уголовного права советского периода.
Следуя по пути не от частного к общему, а от общего к частному, и фактически «запрограммировав» себя на необходимость считать объектом каждого преступления общественные отношения, советская уголовно-правовая доктрина за весь период своего существования так и не смогла создать теории, способной устранить расхождение между декларируемым пониманием института согласия потерпевшего и его фактическим выражением применительно к различным по своему характеру деяниям. Отсутствие четко сформулированной доктринальной позиции не могло не повлиять на законотворческую и правоприменительную деятельность.
Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. (ст. 143) не признавал преступлением убийство, совершенное из сострадания и по настойчивой просьбе убитого, но практика показала нецелесообразность данной нормы, и она была отменена. Позднее, при составлении проекта УК РФ 1996 г., вновь была предпринята попытка уголовно-правовой регламентации института согласия потерпевшего: предполагалось рассматривать его как обстоятельство, исключающее преступность деяния, при условии, что согласие было действительно добровольным и предварительным. Однако противоречия, возникшие в результате обоснования этой новеллы сквозь призму традиционной для советской науки теории объекта преступления, не позволили однозначно определить, какой из элементов состава и признаков преступления отсутствует в случае причинения вреда с согласия потерпевшего.
В советский период развития уголовного права проблема частного интереса долгое время детально не разрабатывалась. Одной из первых фундаментальных работ, посвященных исследованию согласия потерпевшего как самостоятельного уголовно-правового института, стала монография А. Н. Красикова «Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве» (Саратов, 1976). В этом монографическом исследовании автор определил основные вопросы, связанные с влиянием волеизъявления потерпевшего на преступность и наказуемость деяния. До и после выхода в свет этой работы проблема согласия жертвы лишь опосредованно рассматривалась при изучении других институтов Общей и Особенной частей уголовного законодательства .
Между тем анализ уголовного законодательства рассматриваемого периода позволил выделить основные направления развития института согласия потерпевшего в советской уголовно-правовой науке и сгруппировать их следующим образом:
1) рассмотрение согласия жертвы сквозь призму изучения объекта преступления;
2) уголовно-правовой, уголовно-процессуальный и криминологический анализ понятия «потерпевший»;
3) исследование правовых последствий согласия лица на причинение вреда собственным интересам;
4) анализ института согласия лица путем исследования признаков преступности деяния.
1. Ориентируясь на марксистско-ленинское учение, советская наука уголовного права наиболее приемлемой и значимой для уяснения сущности преступления считала теорию, согласно которой объектом преступления признавались общественные отношения. [143]
Эта теория исходила из следующих предпосылок:
а) объектом преступления должно признаваться то, чему преступление причиняет вред или создает угрозу его причинения. Явление, которому не может быть причинен ущерб, не нуждается в уголовно-правовой охране;
б) любое преступление наносит или создает угрозу нанесения вреда именно общественным отношениям, а не чему-либо иному[144].
Не углубляясь в суть теории общественных отношений, отметим лишь, что она не может применяться ко всем видам преступных посягательств. Признание заданной теорией универсального и всеобъемлющего характера приводило и продолжает приводить к трудностям в понимании многих уголовно-правовых институтов и ставит перед наукой и практикой ряд неразрешимых проблем.
Во-первых, вызывает сомнение отнесение к объектам преступления личности, здоровья, чести и достоинства, общественной безопасности и пр. С точки зрения философии, перечисленные выше категории не являются общественными отношениями как таковыми.
Во-вторых, при рассмотрении преступления как определенного уголовно-правового отношения, в котором преступник является субъектом, а общественные отношения – объектом, допускается логическая ошибка: одно понятие определяется через другое, тождественное ему. Продолжая логический ряд, можно предположить, что в общественных отношениях, являющихся объектом преступления, виновный является непосредственным субъектом, т. е. составной частью объекта. Нечто подобное происходит при анализе понятия «деяния». Все эти посылки, в конечном счете, приводят нас к выводу, что само преступление является составной частью общественного отношения (т. е. объекта преступления).
В-третьих, сторонники теории общественных отношений исходят из того, что вред в результате преступного деяния причиняется именно общественным отношениям. В то же время, отечественное законодательство подразделяет вред на физический, моральный и материальный. Остается неясным, как в результате преступления может быть причинен, например, физический вред неодушевленным и нематериальным по своему существу общественным отношениям.
В-четвертых, признание объектом преступления общественных отношений не позволяет рассматривать фигуру потерпевшего как субъект уголовно-правовых отношений, а следовательно, исключает влияние потерпевшего на возникновение и прекращение этих отношений. Отсюда логическим путем частный интерес исключается из сферы уголовно-правового регулирования, а вместе с тем согласие потерпевшего на причинение вреда собственным интересам при решении вопроса о преступности и наказуемости деяния теряет всякую значимость.
Совершенно очевидно, что при подобном подходе к проблеме объекта преступления дальнейшие теоретические разработки института согласия потерпевшего теряли всякий смысл и не позволяли на основе господствующей доктрины объяснить целесообразность и необходимость расширения сферы диспозитивности в уголовном праве.
2. По этой же причине исследования личности и поведения потерпевшего практически не затрагивали проблему его волеизъявления на причинения вреда собственным интересам.
В работах Н. Ф. Кузнецовой, В. С. Минской, Д. В. Ривмана, Л. В. Франка, Е. Е. Центрова, Г. И. Чечеля личность и поведение потерпевшего рассматривались только в рамках анализа уголовной ответственности виновного. Отмечалось, что потерпевший способен иметь некоторую совокупность физических и психических, внешних и внутренних признаков. Однако в составе преступления им, как правило, отводилась лишь роль признаков объективной стороны, характеризующих обстановку совершения деяния.
Исключение здесь составляет работа П. С. Дагеля, который, определив пять групп уголовно-правовых признаков, констатировал недостаточность теоретической разработки вопроса о месте потерпевшего в структуре преступного посягательства. Как справедливо отмечал ученый, «на протяжении многих лет ученые-криминалисты, интенсивно занимавшиеся проблемами преступности, преступление рассматривали, образно говоря, как круг, в центре которого находится преступник, в то время как в действительности в большинстве случаев мы имеем дело скорее с эллипсом, фокусами которого являются преступник и жертва»[145].
3. Проблема правовых последствий согласия лица на причинение вреда собственным интересам в советской уголовно-правовой доктрине не подлежала самостоятельному научному исследованию. Между тем она нередко затрагивалась при исследовании правовой сущности обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Как справедливо отмечает А. Н. Красиков, «обстоятельства, исключающие преступность деяния, в литературе делятся на обстоятельства, исключающие общественную опасность, и обстоятельства, исключающие противоправность»[146]. Каждый из этих признаков является самостоятельным и необходимым признаком преступления как родового понятия. Отсутствие хотя бы одного из них исключают преступность деяния.
Признавая согласие лица на причинение вреда собственным интересам обстоятельством, исключающим преступность деяния, советские исследователи не смогли прийти к согласию, какой из признаков преступления отсутствует при совершении деяния по просьбе или с согласия потерпевшего.
Оставляя за рамками исторического анализа проблему определения сущности общественной опасности, противоправности, виновности и наказуемости деяния, приведем лишь некоторые из научных высказываний относительно уголовно-правовой природы согласия потерпевшего.
В частности, А. Н. Красиков подходил дифференцированно к оценке волеизъявления жертвы и отмечал, что «согласие потерпевшего в одних случаях может выступать как обстоятельство, исключающее общественную опасность деяния, в других – его противоправность»[147].
Несколько более категоричным в своих высказываниях был А. А. Пионтковский, который говорил о согласии как об обстоятельстве, исключающем противоправность деяния[148]. Эту позицию разделял и А. И. Санталов[149].
И. И. Слуцкий рассматривал согласие лица на причинение вреда собственным интересам как обстоятельство, которое хотя и исключает общественную опасность и наказуемость деяний, но не позволяет оценивать их как полезные и правомерные[150].
М. Д. Шаргородский[151] и И. И. Карпец[152] однозначно подходили к оценке согласия потерпевшего и рассматривали его как обстоятельство, исключающее общественную опасность деяния.
Ю. M. Ткачевский в своих ранних работах упоминает согласие потерпевшего в качестве обстоятельства, исключающего общественную опасность деяния[153], а в дальнейшем говорит о том, что согласие потерпевшего исключает преступность деяния[154].
Вместе с тем, многие авторы полностью отрицали правомерность отнесения согласия потерпевшего к числу обстоятельств, исключающих преступность деяния. Такую точку зрения высказывали М. И. Якубович[155], Н. Д. Дурманов[156], Н. Ф. Кузнецова[157] и др. Свое мнение они обосновывали тем, что юридическая природа согласия потерпевшего определяется не уголовным, а иным законодательством (нормами административного, гражданского и других отраслей права).
Переходя к анализу новейшего периода развития учения о согласии потерпевшего, следует отметить то обстоятельство, что в настоящее время по-прежнему сильны позиции советского уголовного права в объяснении правовой природы элементов состава преступления, обстоятельств, исключающих преступность деяния, и, разумеется, границ частного волеизъявления в сфере уголовно-правового регулирования.
Оставляя за рамками настоящего параграфа анализ современных взглядов на проблему согласия потерпевшего, выделим приоритетные направления научных исследований:
1) изучение согласия потерпевшего с точки зрения публичности и диспозитивности в уголовном праве[158];
2) исследование правовых оснований и последствий эвтаназии[159];
3) определение правовых границ признания согласия потерпевшего обстоятельством, исключающим преступность деяния[160];
4) соотношение институтов согласия потерпевшего и примирения с потерпевшим[161] и др.
Эти и другие проблемы, связанные с уголовно-правовой оценкой согласия потерпевшего, будут подробно рассмотрены нами в последующих главах настоящего исследования.
2.3. Согласие пострадавшего как категория уголовного права: понятие и признаки
Институт согласия пострадавшего[162] в отечественной науке долгое время исследовался однобоко. Волеизъявление жертвы рассматривалось, как правило, с точки зрения правовых последствий совершенного деяния. Еще Н. С. Таганцев, С. В. Познышев, Н. Сергиевский, а за ними советские исследователи А. А. Пионтковский, И. И. Слуцкий, И. И. Карпец, П. С. Дагель и др. изучали лишь влияние частного интереса на признание или непризнание деяния преступным. При этом за рамками научных исследований оставалось определение самого понятия согласия.
Между тем уяснение правовой сущности рассматриваемого института будет неполным без научного осмысления его методологических аспектов. В свете сказанного особую значимость приобретают определение философского понятия согласия, исследование общих и правовых признаков волеизъявления пострадавшего, а равно определение видов и форм его выражения.
Обращаясь к семантике термина «согласие», следует отметить, что в русском языке под ним понимается «разрешение, утвердительный ответ на просьбу; единомыслие, общность точек зрения»[163]; «одномыслие, одинаковые с кем мысли и чувства, намерения, убеждения»[164].
Рассматривая согласие как утвердительный ответ на просьбу, сложно признать справедливым отождествление различных по своему характеру понятий «согласие» и «просьба» пострадавшего.
Понимая под просьбой «обращение к кому-нибудь, призывающее удовлетворить какие-нибудь нужды, желания»[165], а равно «склонение к исполнению своих желаний, мольбу, ублажение, убеждение исполнить что или согласиться на что»[166], мы имеем все основания утверждать, что вредопричиняющее деяние по просьбе пострадавшего есть не что иное, как выполнение обещания, данного виновным.
Понятийный анализ термина «согласие» позволяет предположить, что под ним понимается частный случай выражения воли лица на причинение вреда собственным интересам. Именно поэтому недопустимо отождествление данного понятия с другими формами выражения воли: допущением, требованием или просьбой причинить вред. Каждая из вышеперечисленных форм имеет свою специфику и по-разному объясняет как характер взаимодействия пострадавшего и причинителя, так и роль каждого из них в принятии решения о допустимости причинения вреда.
Рассмотрение психологических аспектов выражения согласия позволяет предположить, что изначально потенциальный пострадавший подвергается воздействию причинителя вреда, использующего уговоры, мольбу, просьбы, а в некоторых случаях угрозы и физическое насилие. Результатом взаимодействия становится выражение желания потенциального пострадавшего на причинение вреда, однако само это выражение носит психологически вынужденный характер.
В точности противоположная ситуация наблюдается в случае причинения вреда по просьбе или требованию жертвы, с той лишь разницей, что требование пострадавшего носит более категорический характер и интенсивнее воздействует на процесс принятия решения.
Многообразие психологических особенностей взаимодействия пострадавшего и причинителя вреда требуют более дифференцированного подхода к анализу отношений, приводящих к формированию и выражению воли лица на причинение вреда собственным интересам, а также к исследованию личностных характеристик взаимодействующих сторон при решении вопросов о преступности и наказуемости деяния.
Различные формы выражения воли лица допустимо отождествлять, только если мы рассматриваем согласие как определенное соглашение, достигнутое между людьми в результате общения и социального взаимодействия. В этом смысле оно неразрывно связано с общественными отношениями, где взаимодействующие стороны выступают субъектами отношений, а объектом является то, на что направлен их интерес. В рассматриваемых нами случаях субъектами согласия, или соглашения, будут пострадавший и причинитель вреда, а объектом – необходимость или допустимость причинения вреда конкретным интересам и благам. Достаточно точно сформулировал закон согласия Г. Гоббс: «В случае согласия на то другого, человек должен согласиться отказаться от права на все вещи в той мере, в какой это необходимо, и довольствоваться такой степенью свободы по отношению к другой стороне, какую он допустил бы у нее по отношению к себе в соответствии с достигнутым согласием»[167].
Однако в уголовном праве согласие пострадавшего рассматривается как форма выражения воли, а не институт достижения согласия между причинителем вреда и жертвой.
С этих позиций сложно признать справедливым мнение А. Н. Красикова, который рассматривает согласие потерпевшего как «выражение свободного волеизъявления лица на нарушение своих благ или поставления их в опасность (риск) как способ достижения личного интереса, с одной стороны, а с другой – поведение третьего лица в рамках этого согласия». Определяя согласие как форму выражения воли конкретного лица, недопустимо включать в это понятие поведение третьих лиц.
С общефилософских позиций архитектоника согласия обусловлена взаимосвязью субъективного и объективного.
Субъективный элемент выражается в сознательно-волевом отношении лица к возникшей ситуации. Особую значимость здесь приобретают мотивация и цель, которые лежат в основе принятия решения и ожидания последствий выражения согласия. Объективные признаки согласия, напротив, выражаются в предмете, объекте, времени, месте, обстоятельствах, условиях и обстановке причинения вреда.
Однако понятие «согласие» не ограничивается указанием на его субъективные и объективные признаки, поскольку само по себе понятие – это «одна из форм отражения мира на ступени познания; мысль, представляющая собой обобщение предметов некоторого класса по их специфическим признакам»[168].
Узкоспециализированный характер изучения института согласия пострадавшего в уголовно-правовой науке отразился и на исследовании его сущностных признаков. В частности, С. В. Познышев рассматривал согласие пострадавшего как обстоятельство, исключающее преступность деяния, и выделял только те признаки, которые характеризуют его в этом качестве. Исключало преступность деяния только согласие, «данное серьезно, выражающее обдуманное решение субъекта; данное добровольно, а не в силу какого-либо принуждения; не вырванное обманом, а данное с пониманием последствий деяния, на которое дается согласие; данное лицом вменяемым и не по совершении, а до совершения деяния [169].
В отличие от С. В. Познышева, Л. С. Белогриц-Котляревский главное условие правомерности согласия потерпевшего видел в направленности действий причинителя. Автор впервые предпринял попытку сформулировать универсальные признаки согласия пострадавшего и в их числе назвал правоспособность выражающего согласие в момент дачи такового; добровольность согласия; его серьезный характер, а равно объект согласия – частные интересы[170].
В настоящее время А. В. Сумачев, разграничивая общее и непосредственно уголовно-правовое понятия «согласие», к признакам первого относит действительность, добровольность, наличность и конкретность. В уголовно-правовом понятии «согласие лица» к названным признакам добавляется признак, характеризующий результат такового, а также особенность признака действительности[171].
Менее удачным видится выделение в числе сущностных свойств согласия только тех признаков, которые характеризуют его субъект и объект. В частности, В. И. Колосова и Е. О. Маляева в их числе называют следующие:
1) согласие может быть дано лишь на те личные, имущественные и иные права и интересы, которые находятся в свободном распоряжении лица, давшего согласие;
2) лицо, давшее согласие на нарушение или уступку тех или иных благ, должно обладать правом на свободное распоряжение этими благами (заметим, что, несмотря на различную словесную форму выражения этих двух признаков, они совершенно идентичны в содержательном праве);
3) согласие не должно быть направлено на нарушение общественных и государственных интересов;
4) оно может быть дано как обладателем личных и имущественных прав, так и его законным представителем в пределах прав, ему предоставленных;
5) согласие должно отражать понимание согласившимся характера действий и ущерба, причиняемого его личным и имущественным субъективным правам;
6) согласие на распоряжение или на уступку того или иного права должно быть свободным, а не вынужденным;
7) согласие должно быть дано до или во время совершения действий, внешне подпадающих под уголовно-правовые нормы[172].
По нашему мнению, предложенная выше систематизация признаков согласия пострадавшего не удовлетворяет ряду методологических требований.
Во-первых, выделенные признаки должны отражать сущностные свойства явления и, конечно, не дублировать друг друга. Между тем в перечне, предложенном В. И. Колосовой и Е. О. Маляевой, первый признак отражается во втором, а тот, в свою очередь, в третьем.
Во-вторых, авторами не определен критерий обобщения признаков понятия по разным совокупностям, в то время как выделение критерия систематизации является одним из основных логических приемов превращения понятия в определенную систему знаний[173].
Полагаем, что при рассмотрении согласия пострадавшего как общефилософского и правового понятия следует выделять следующие группы признаков, отражающих его сущностные свойства:
1) характеризующие субъекта и субъективные свойства согласия;
2) выражающие объективное в согласии пострадавшего.
Следует оговориться, что выделение субъективного и объективного в форме выражения воли лица на причинение вреда собственным интересам основывается не на традиционной для уголовного права градации элементов состава преступления, а на фундаментальных философских категориях материального (объективного) и духовного (субъективного).
Являясь конкретной формой выражения воли лица на причинение вреда собственным интересам, согласие пострадавшего с позиций философии представляет собой совокупность определенных отношений. «Существование всякой вещи или явления, их специфические особенности и свойства, их развитие зависят от всей совокупности их отношений к другим вещам объективного мира»[174].
При этом в согласии, как и в любом явлении или вещи, следует различать внутренние отношения различных сторон объекта и его внешние взаимоотношения с другими объектами. При этом необходимо учитывать, во-первых, относительный характер различения внутренних и внешних отношений, во-вторых, их переходы друг в друга и, в-третьих, то обстоятельство, что внешние отношения зависят от внутренних, нередко являются их проявлением или отражением.
К внутренним отношениям мы относим взаимодействие следующих признаков, отражающих субъект и субъективные признаки согласия:
– действительность;
– добровольность.
Рассматривая в числе объективных признаков согласия пострадавшего объект (то, на что направлена деятельность субъекта), предмет («конкретные свойства или отношения объектов, имеющие значимость в данных условиях и обстоятельствах»[175]), место, время, обстановку, способ и форму его выражения, мы предлагаем условно выделять следующие сущностные черты, появление и развитие которых составляет внешние отношения согласия:
– своевременность;
– конкретность;
– истинность;
– допустимость согласия.
Действительность. В философии она рассматривается как «то, что реально существует и развивается, содержит свою собственную сущность и закономерность в самом себе, а также содержит в себе результаты своего собственного действия и развития»[176]. В праве данный признак рассматривается иначе. В частности, в уголовном праве он соотносится с волеизъявлением лица, сознающего характер совершаемых действий и способного руководить своим поведением[177].
Однако относительно возраста, с которого человек способен осознавать характер деяния и руководить своим поведением, в науке не выработано единой позиции.
В частности, Н. С. Таганцев связывал решение данного вопроса с дееспособностью человека и отмечал, что «дееспособность потерпевшего должна осуществляться объективно. Одного предположения дееспособности со стороны виновного недостаточно»[178].
Соглашаясь с позицией Н. С. Таганцева, А. В. Сумачев писал: «Несомненно, дееспособность как содержание признака действительности согласия в юриспруденции имеет важное значение, ибо согласие здесь в конечном итоге порождает правовые последствия, в частности, для соглашавшегося. Для родового понятия согласия дееспособность лица может быть не обязательна. Соответственно, простое осознание характера совершаемых действий и способность руководить ими составляют содержание действительности как признака родового понятия “согласие”. В уголовно-правовом понятии “согласие” при характеристике признака “действительность” необходимо указание на дееспособность лица, дающего согласие. При этом полную дееспособность лица в праве связывают с достижением 18-летнего возраста (ч. 1 ст. 21 Гражданского кодекса РФ)»[179]. Данная точка зрения представляется нам неприемлемой по ряду обстоятельств.
Во-первых, уголовно-правовое понятие «согласие» недопустимо определять через гражданско-правовую категорию дееспособности.
Понимая под последней «способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их», сложно найти сколько-нибудь значимое объяснение использования этого термина для обозначения свойств лица, дающего согласие на причинение вреда своим интересам.
Во-вторых, представленная выше позиция предполагает использование определенного рода «двойного стандарта» при оценке сознательно-волевых способностей причинителя вреда и пострадавшего. Раскроем свою точку зрения.
Поскольку в отсутствие согласия причинение вреда носит преступный характер, то очевидно, что его причинитель будет признаваться субъектом преступления при достижении возраста ответственности и наличии вменяемости. Общий возраст уголовной ответственности в России составляет 16 лет (ч. 1 ст. 20 УК РФ). В случаях, специально установленных уголовным законом, лицо может признаваться субъектом преступления с 14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). В основе такого разграничения лежит не только тяжесть преступления, но и презумпция того, что лицо на определенном законом этапе психического и социального развития способно понимать общественную опасность совершаемого деяния и руководить им. Поскольку в Уголовном кодексе РФ речь идет не о конкретной личности, а о типичных возрастных способностях, представляется, что предлагаемые критерии применимы ко всем лицам, в том числе и к пострадавшим. Тем более что уголовный закон основывается на принципе публичности (всеобщности), а не диспозитивности.
В-третьих, если действительность согласия связать с дееспособностью пострадавшего, то мы придем к совершенно абсурдным выводам. Необходимость применения в различных частях законодательства одного и того же термина в одном и том же значении требует рассматривать дееспособность пострадавшего как возможность лица своими действиями участвовать в гражданских правоотношениях.
Если при выражении согласия лицо реализует свою дееспособность, то причинение вреда его интересам есть не что иное, как следствие гражданско-правовых отношений, строящихся на основе принципа диспозитивности. Но тогда возникает следующий вопрос: почему согласие дееспособного лица не носит универсального характера и не применяется ко всем случаям причинения вреда (например, в случаях посягательства на жизнь, здоровье и пр.)?
По нашему мнению, действительность согласия пострадавшего должна соотноситься с его способностью осознавать характер совершаемых в отношении него действий и вероятность наступления определенных последствий, а также со способностью руководить своим поведением при выражении согласия. Лицо при этом должно достигнуть возраста, с которым закон связывает возможность в полной мере осознавать общественную опасность конкретного преступления, – возраста уголовной ответственности.
В своем утверждении мы исходим из факта существования позитивной уголовной ответственности, которая возникает в рамках предупредительных правоотношений: в момент издания уголовного закона государство и любой вменяемый гражданин вступают в общепредупредительные правоотношения. В этом смысле позитивная ответственность представляет собой не только правовое понятие, но и «категорию правосознания, этики, правовой культуры»[180].
В случае, когда лицо причиняет вред, заручаясь согласием лица, не достигшего установленного законом возраста, суду надлежит действовать по традиционной схеме и устанавливать наличие факта заведомого знания виновного о недостижении пострадавшим определенного возраста.
Добровольность. Под добровольностью согласия пострадавшего в науке уголовного права понимается свободное волеизъявление лица, отсутствие какого-либо принуждения или обмана при получении согласия[181].
Не углубляясь в философский анализ понятия «свобода воли», следует отметить, что согласие пострадавшего на причинение вреда собственным интересам должно со всей очевидностью для виновного и третьих лиц свидетельствовать о подлинном волеизъявлении лица, его давшего.
Как утверждают В. И. Косолапова и Е. О. Маляева, «согласие на распоряжение или на уступку того или иного права должно быть свободным, а не вынужденным»[182].
Согласие признается вынужденным, если оно дано пострадавшим в результате принуждения или обмана. Как справедливо отмечает С. В. Познышев, «не может устранять противозаконности деяния согласие вынужденное; в этих случаях у действующего нет сознания, что он поступает ненасильственно в отношении другого лица… Не устраняет противозаконности согласие, вырванное обманом, благодаря тому, что пострадавший не сознавал, каковы будут последствия тех действий другого субъекта, на которые он дал свое согласие» .[183]
Под принуждением мы склонны понимать умышленное применение в отношении пострадавшего незаконных методов физического и психического воздействия. Оно может выражаться в причинении вреда здоровью различной степени тяжести, применении пыток, нанесении побоев, лишении свободы, выражении различных угроз и пр. Умышленный характер таких действий не позволяет рассматривать неосторожные поступки причинителя, побудившие пострадавшего дать согласие, как принуждение к согласию.
При анализе понятия «обман» следует исходить из его практического и теоретического толкования. Так, президиум Куйбышевского областного суда в постановлении по делу Ч. применительно к мошенническим действиям сформулировал следующее определение обмана: «Обман – умышленное искажение или сокрытие истины с целью ввести в заблуждение лицо, в ведении которого находится имущество, и таким образом добиться от него добровольной передачи имущества, а также сообщение с этой целью заведомо ложных сведений»[184].
В научной литературе под обманом понимается, как правило, умышленное искажение действительного положения вещей, сознательная дезинформация контрагента, преднамеренное введение его в заблуждение относительно определенных фактов, обстоятельств, событий в целях побудить его по собственной воле, фальсифицированной, однако, ложными сведениями или умолчанием об истине, сделать что-либо по требованию лица.
На основе вышеизложенного можно предположить, что в случаях, когда будет установлен непредумышленный характер искажения истины или сами сведения, которые сообщит лицо, будут расценены как истинные, действия лица не следует рассматривать как обманные, а согласие пострадавшего, данное в результате таких действий, не должно признаваться вынужденным.
Следует также отличать обман от риска, присущего, в частности, предпринимательской деятельности. Причинение ущерба интересам граждан в результате их добровольных рискованных действий, например, в результате участия в азартных играх, исключает преступность таких действий ввиду согласия пострадавшего.
Проблема добровольности согласия не исчерпывается исследованием принуждения и обмана. Развитие уголовно-правовой теории и практики придает актуальность следующим вопросам:
1) должно ли признаваться добровольным согласие пострадавшего, данное под влиянием тяжелых жизненных либо ситуативных обстоятельств?
2) является ли добровольным согласие, данное в результате принуждения со стороны третьих лиц?
3) допускает ли признак добровольности согласия уговоры пострадавшего на причинение вреда собственным интересам?
Отвечая на первый вопрос, следует отметить условность термина «свобода волеизъявления», поскольку свобода воли и свобода выбора человека всегда ограничены определенными обстоятельствами, что уже само по себе исключает свободу в ее классическом понимании.
Отсюда можно сделать вывод, что влияние конкретной ситуации на волеизъявление пострадавшего не умаляет добровольности его согласия, за исключением тех случаев, когда активную роль в возникновении и развитии ситуации играет умышленное поведение заинтересованных лиц.
Что касается действий третьих лиц, направленных на получение согласия пострадавшего посредством принуждения или обмана, то этот вопрос в науке не имеет однозначного ответа.
Некоторые авторы полагают, что данное обстоятельство не исключает признака добровольности согласия, поскольку оно не вызывается действиями причинителя вреда[185]. Другие, напротив, отмечают, что если принудительные действия третьих лиц носят умышленный и целенаправленный характер, их наличие будет исключать добровольность согласия. Очевидно, подобные точки зрения носят излишне категоричный и односторонний характер.
Полагаем, что не является добровольным то согласие, которое дано пострадавшим в результате обмана и принудительных действий третьих лиц, если обман и принуждение охватывались сознанием и волей причинителя вреда.
Принятие подобной позиции вызывает ряд новых вопросов, в частности о том, будут ли названные третьи лица нести уголовную ответственность.
Думается, что в случаях причинения вреда с согласия пострадавшего, данного в результате принуждения или умышленного обмана со стороны третьих лиц при наличии у последних сговора с причинителем, согласие будет признаваться вынужденным, а причинение вреда – преступным. Непосредственный причинитель вреда понесет уголовную ответственность как исполнитель, а лица, принудившие пострадавшего дать согласие, – как пособники преступления, поскольку они своими действиями устраняли препятствия к совершению преступления в виде возможного сопротивления пострадавшего.
Исчерпывающий ответ на последний из поставленных вопросов дал Л. С. Белогриц-Котляревский. Ученый писал, что «вынужденное обманом или принуждением согласие не есть согласие в собственном смысле; но природа его сохраняется, если оно было добыто просьбой, мольбой»[186]. Являясь по существу формами психического воздействия причинителя вреда на потенциального пострадавшего, уговоры, просьба и мольба существенно не ограничивают свободу выбора личности и не носят принудительного характера. Это обстоятельство дает все основания полагать, что уговоры, мольба и просьбы не исключают добровольности данного под их давлением согласия.
Своевременность дачи согласия. Несмотря на очевидную значимость этого признака, в теории нет единства мнений относительно того, в какой момент пострадавший должен дать согласие на причинение вреда собственным интересам.
Так, по мнению С. В. Познышева, «согласие обязано быть дано не по совершении, а до совершения деяния, так как, согласно указанному критерию, важен момент, в который субъект определялся к своему деянию, решался приступить к его совершению; важно, решился ли он с сознанием ненасильственности в отношении другого лица его действий, соответствия их воле другого лица, или нет»[187].
В. И. Колосова и Е. О. Маляева утверждают, что «согласие должно быть дано до или во время совершения действий, внешне подпадающих под уголовно-правовые нормы, т. е. до получения лицом имущества в свое распоряжение, до полового акта при изнасиловании, до повреждения или уничтожения имущества (кроме общеопасных способов уничтожения)»[188].
Аналогичную позицию занимал Н. С. Таганцев. Он указывал на необходимость того, чтобы «согласие было дано или прежде, или во время совершения деяния… Согласие необходимо отличать от прощения, обусловливающего прекращение дела при преступных деяниях, преследуемых в порядке частного обвинения»[189].
В. И. Михайлов более строго подходит к трактовке признака своевременности согласия и ограничивает его во временном отношении допреступной ситуацией. Автор отмечает: «Согласие должно быть дано до начала совершения вредоносных действий. Оно не имеет обратной силы. Согласие на совершение действий, причиняющих вред интересам лица, является действительным в течение определенного времени, по истечении которого оно становится недействительным. Срок действия согласия оговаривается специально или усматривается из обстановки его дачи. Отмененное согласие исключает совершение в дальнейшем действий, предусмотренных первоначально»[190].
Данная позиция представляется нам более обоснованной.
Думается, своевременным должно признаваться лишь то согласие пострадавшего, которое дано им в ответ на просьбу о причинении вреда до совершения самого деяния. Если согласие дано в процессе причинения вреда, начатого без согласия пострадавшего, его нельзя признать обстоятельством, исключающим общественно опасный характер деяния. Этому есть ряд объяснений.
Во-первых, начало совершения деяния в отсутствие согласия пострадавшего характеризует поступок как объективно противоправный.
Во-вторых, лицо, решаясь приступить и приступая к причинению вреда в отсутствие выраженного согласия потерпевшего, действует умышленно, в полной мере осознавая и общественную опасность, и противоправность совершаемого деяния. Это обстоятельство исключает возможность признания выраженного в процессе совершения деяния согласия обстоятельством, исключающим преступность деяния.
Следует заметить, что эта позиция нашла свое отражение в проекте Уголовного кодекса РФ, где в ч. 1 ст. 47 содержалось следующее положение: «Не является преступлением действие (бездействие) лица, причинившего вред законным и находящимся в свободном распоряжении личным или имущественным интересам другого вменяемого и дееспособного лица при условии его действительного, добровольного и предварительного согласия».
Признак своевременности в теории уголовного права нередко рассматривается в рамках анализа наличности согласия пострадавшего.
Наличие согласия, по мнению многих ученых, выражается в том, что оно предшествует поведению третьих лиц в отношении согласившегося либо не выражает возражения против уже начатых действий[191].
По мнению А. В. Сумачева, наличность согласия как признак его общего понятия означает, что оно дано до начала совершения обусловленного им деяния[192].
Понимая под наличностью «присутствие, количество чего-нибудь на данное время»[193], трудно согласиться с теми учеными[194], которые своевременность и наличность согласия пострадавшего рассматривают как идентичные по содержанию признаки.
По справедливому замечанию Н. С. Таганцева, «наличность согласия должна быть доказана, но при этом вовсе не требуется, чтобы согласие было прямо выражено пострадавшим, так как часто вполне достаточно согласия молчаливого, подразумевающего или заявленного конклюдентными действиями»[195].
С этой позицией соглашается А. Н. Красиков. Он, в частности, отмечает, что «в связи с определением наличности согласия потерпевшего важным моментом является вопрос о формах выражения согласия, о моменте его признания и отказе от согласия»[196].
Если наличность согласия определяется через время и форму его выражения, то своевременность определяет лишь временные промежутки, в рамках которых согласие пострадавшего может являться обстоятельством, исключающим преступность деяния.
Конкретность согласия. В русском языке под конкретностью понимается «реальное существование, точное и конкретное определение»[197] , «точное, прямое, предметное выражение»[198] .
В уголовном праве конкретность согласия выражается в том, что волеизъявление пострадавшего должно иметь четко определенный характер. Одни авторы первостепенное значение придают тому обстоятельству, что согласие «относится к определенному времени и действию»[199], тем самым допуская рассмотрение конкретности и своевременности как общей и частной категорий.
Другие ученые видят конкретность согласия в его обращении к «конкретному благу, которое его носитель разрешает нарушить»[200] .
Третьи рассматривают данный признак более широко и понимают под ним согласие пострадавшего на причинение конкретного вреда собственным интересам в конкретном месте, в конкретный момент времени и конкретным лицом[201]. Как отмечает Л. С. Белогриц-Котляревский, «согласие или заявленное желание может относиться к определенному лицу. В этом случае совершение преступления по согласию не тем лицом, к кому оно относилось, не может давать право на исключение или смягчение ответственности»[202].
По нашему мнению, согласие только тогда следует признавать конкретным, когда оно включает в себя полную осведомленность потенциального пострадавшего относительно тех благ, которым будет причинен вред, и последствий причиненного вреда.
В случае выражения согласия на причинение вреда собственным интересам пострадавший должен в полной мере осознавать, какие блага он позволяет нарушить. Если лицо, заручившись согласием потенциального пострадавшего на причинение вреда определенным благам в строго определенных объемах, умышленно нарушает иные интересы и блага либо причиняет вред больший, нежели оговоренный с пострадавшим, совершенное им деяние будет признаваться преступным, а согласие – недействительным.
Помимо осознания пострадавшим характера благ, которые он разрешает нарушить, и последствий деяния большое значение может иметь также полная осведомленность пострадавшего относительно иных обстоятельств, имеющих для него принципиальное значение. Среди таких обстоятельств следует выделить следующие:
– способ причинения вреда. Российское законодательство не ограничивает полномочия лица в отношении его чести, достоинства деловой репутации, личной неприкосновенности, неприкосновенности частной жизни и иных личных неимущественных прав и нематериальных благ. Лицо может по своему усмотрению принять решение об ограничении своих прав другими лицами, при этом особо оговорив способ такого ограничения;
– способ причинения вреда, а равно ограничения прав граждан может быть оговорен также в специальных нормативных актах. Так, в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 14 Закона РФ от 18 апреля 1991 г № 1026-I «О милиции», применение специальных окрашивающих средств на объектах собственности в целях выявления лиц, совершающих преступления, возможно только с разрешения собственника. Причем при отсутствии согласия лица на ограничение его законных прав посредством применения окрашивающих средств расценивается как противоправное;
– место и время осуществления действий, на которые получено согласие. Полная осведомленность пострадавшего относительно места и времени ограничения его прав имеет, как правило, принципиальное значение в случаях оперативного вмешательства, донорства, при занятиях спортом ит. д.;
– личность причинителя вреда. Как показывает практика, полная осведомленность лица относительно личности причинителя вреда имеет большое значение при умалении чести и достоинства человека.
Выделение данных деяний в особую группу объясняется и спецификой личных нематериальных благ, на которые осуществляются посягательства, и особенностями последствий подобных посягательств. Как справедливо отмечал Н. С. Таганцев, «выражение презрения к личности другого необходимо предполагает унизительность данного обхождения в глазах, как оскорбителя, так и оскорбленного: обида не существует, как скоро кто-нибудь находит обращенные к нему слова не оскорблением, а похвалой»[203].
Действительно, специфика последствий умаления чести и достоинства, благ, сочетающих в себе «элементы субъективного, т. е. сознания человеком своего достоинства, и элементы объективного – положительную оценку достоинства другими»[204], в случае согласия лица не позволяет усматривать в содеянном унижение его чести и достоинства, поскольку в данном случае исключается сам факт унижения.
При этом особую роль для согласившегося играет значимость личностных факторов субъекта, осуществляющего объективно унизительные действия. Если лицо дает согласие конкретному лицу на совершение в отношении себя объективно унизительных действий, то таковые не признаются преступными на том основании, что отсутствует сам факт наступления последствий.
В случаях, когда те же действия осуществляются ненадлежащим субъектом (при условии, что личностные качества последнего имеют принципиальное значение для согласившегося), налицо уголовно наказуемое причинение вреда чести и достоинству личности.
Однако помимо личности того, кто совершает унизительные действия, уголовно-правовое значение имеют также личностные признаки согласившегося. Речь идет о случаях, когда объективно унизительные действия совершаются в отношении специальных категорий граждан в связи с исполнением ими определенных профессиональных обязанностей. Однако в подобных ситуациях следует говорить не о признаке конкретности, а о признаке допустимости согласия.
В рамках анализа конкретности нельзя обойти вниманием проблему формы выражения согласия.
Раскрывая этот вопрос в рамках анализа действительности согласия, В. В. Сверчков отмечает, что «согласие образует лишь надлежаще оформленное волеизъявление потерпевшего на причинение ему вреда. Например, контракт со спортивным клубом на участие в тренировках и соревнованиях по боксу или письменное заявление пациента на проведение в отношении него невынужденной (например, косметической) операции»[205].
Категоричную позицию занимает В. И. Михайлов. По его мнению, «причинение вреда интересам лица с его согласия будет являться правомерным только при соблюдении предписанных законом процедуры и формы (устной или письменной). Например, согласие лица на нарушение тайны телефонных переговоров исключает противоправность в причинении вреда, если прослушивание осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным законом “Об оперативно-розыскной деятельности”, при наличии угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме»[206].
Не вступая в полемику с ученым, хотелось бы отметить, что высказанная им позиция не носит универсального характера. Она применима лишь к строго определенному кругу деяний, в которых согласие пострадавшего выступает как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
Более удачной представляется точка зрения А. Н. Красикова. В результате анализа института согласия потерпевшего автор приходит к следующим выводам: «Предпочтительной формой выражения согласия является письменная, но в отдельных случаях допускается и устная форма согласия (конклюдентная); момент признания согласия правомерным необходимо соотносить с фактом (моментом) адекватного уяснения и восприятия этого согласия сознанием другого лица»[207].
Заслуживает внимания позиция А. В. Сумачева. Исследователь отмечает: «Следует закрепить обязательную письменную форму выражения согласия в тех случаях, когда его результатом могут явиться нарушения права на жизнь, здоровье, телесную целостность организма либо иные существенные последствия для соглашающегося. Согласие на совершение иных деяний (небольшой и средней тяжести) возможно в конклюдентной (устной) форме»[208]. Соглашаясь с автором в том, что правоприменительная деятельность нуждается в конкретных научно обоснованных рекомендациях, трудно признать целесообразным выделения в качестве критерия оценки согласия категоризацию преступлений. Более разумным видится анализ дел частного и частно-публичного обвинения.
Думается, определение круга преступных деяний, уголовные дела по которым возбуждаются в порядке частного и частно-публичного обвинения, в настоящих условиях является чуть ли не единственным способом выражения частного интереса в уголовном праве. Пострадавшему лицу предоставляется возможность самостоятельно решать вопрос о возбуждении уголовного дела, а в делах частного обвинения – еще и о прекращении уголовно-правового преследования.
Поскольку решение этих вопросов находится в сфере частного интереса, считаем устную форму согласия пострадавшего допустимой только при совершении преступлений, дела по которым возбуждаются в порядке частного и частно-публичного обвинения. Если добровольное, действительное, конкретное, допустимое и серьезное согласие имело место в действительности, отношения между сторонами будут урегулированы частным образом, и совершенное с согласия пострадавшего деяние останется за рамками публичного уголовно-правового регулирования.
Истинность согласия. В русском языке под истинным понимается «то, что соответствует истине, содержит истину; точный, действительный, настоящий, несомненный»[209], «то, что верно, подлинно, точно, справедливо»[210]. Истина рассматривается как «адекватное отображение в сознании воспринимающего того, что существует объективно; то же, что правда»[211]. В философии под истиной понимается «верное, правильное отражение действительности в мысли, критерием которого в конечном счете является практика»[212]. Примечательно, что характеристика истинности относится именно к мыслям, а не к самим вещам и средствам языкового выражения.
Исходя из семасиологического анализа понятия истины, мы предлагаем выделить ряд условий, необходимых для признания согласия пострадавшего истинным.
Во-первых, согласие должно было выражено в серьезной форме и свидетельствовать о действительном волеизъявлении лица, его давшего.
Во-вторых, ввиду объективно-субъективного характера истинности представляется необходимым, чтобы выраженное пострадавшим согласие воспринималось как истинное волеизъявление лицом, к которому оно обращено.
Допустимость. В соответствии с семантикой данного термина согласие допустимо в том случае, если оно «возможно, позволительно, разрешено»[213]. Но так как согласие само по себе является формой выражения волеизъявления, направленного на разрешение или дозволение чего-либо, важной является проблема определения возможных пределов такого волеизъявления.
В теории уголовного права проблеме допустимости согласия пострадавшего уделяется большое внимание[214] , но при этом нет единства мнений относительно того, каковы реальные границы допустимости.
Думается, методологически оправдано рассмотрение признака допустимости в рамках анализа согласия пострадавшего как обстоятельства, исключающего преступность деяния.
Придерживаясь данного подхода, В. В. Сверчков отмечает: «Допустимость согласия означает то, что разумный размер вреда волеизъявления ограничен рамками закона. В этом случае развитие уголовного законодательства должно идти в соответствии с конституционным положением, закрепленным в ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, и гласящим: “Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми средствами, не запрещенными законом”»[215].
По мнению ученого, максимальное расширение рамок закона не превращает в объект причинения вреда человеческую жизнь. С первым утверждением автора трудно не согласиться. Как известно, одним из основных правовых принципов является положение, согласно которому деяние, разрешенное какой-либо отраслью права, не может быть преступным.
Как утверждает М. И. Ковалев, «если какая-нибудь отрасль права предписывает или только допускает совершение определенных действий, то их исполнение в рамках допустимого соответствующей правовой нормой не может считаться уголовно наказуемым деянием»[216].
Вызывает возражение определенный В. В. Сверчковым максимальный предел допустимого согласия: автор допускает причинение вреда здоровью любой степени тяжести и выводит за рамки рассматриваемого признака лишь согласие (просьбу) пострадавшего на лишение жизни.
Иную позицию занимает В. И. Михайлов. Он, в частности, отмечает: «Согласие может относиться лишь к тем интересам, которые находятся исключительно в ведении лица, давшего согласие на причинение вреда. Это требование распространяется на охраняемые уголовным законом, не изъятые из гражданского оборота и не ограниченные в обороте права и свободы человека, прежде всего жизнь, здоровье, а также личные объекты гражданских прав, включающие имущество (движимое или недвижимое), результаты интеллектуальной деятельности, информацию, нематериальные блага. Причем вещи, деньги, ценные бумаги и иное имущество, информация, интеллектуальная собственность, деловая репутация и т. п. могут находиться в собственности или распоряжении как физических, так и юридических лиц и пользоваться при этом одинаковой правовой защитой. А жизнь, достоинство, честь, право на имя, право авторства, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и некоторые другие нематериальные блага могут находиться исключительно в распоряжении человека»[217].
По мнению А. В. Сумачева, из того, что «согласие потерпевшего может распространяться только на то, что принадлежит ему лично»[218], можно сделать следующий вывод: в свободном распоряжении лица находится его право на жизнь, которое оно беспрепятственно отчуждает. С данным утверждением можно согласиться только применительно к случаям причинения вреда самому себе. Если же вести речь о причинении вреда законным интересам и благам со стороны третьих лиц, то этот тезис требует серьезной корректировки.
Уточняя свою позицию относительно пределов отчуждения прав, В.И. Михайлов замечает: «Особое место в числе объектов уголовно-правой защиты занимает жизнь человека и его здоровье… Наличие у человека права на жизнь не означает, что у него есть и юридическое право на смерть. Именно поэтому причинение смерти с согласия лица не исключает уголовной ответственности. Своим здоровьем лицо может распоряжаться в ограниченных пределах и, исходя из этого, причинение с согласия лица вреда его здоровью в некоторых случаях исключает преступность. Вместе с тем, в случаях, когда причинение вреда здоровью затрагивает другие охраняемые уголовным законом отношения, совершение таких действий даже с согласия потерпевшего не исключает уголовного преследования. Законодательство не ограничивает полномочия лица в отношении его собственных достоинства, личной неприкосновенности, неприкосновенности частной жизни, чести и доброго имени, деловой репутации и иных личных неимущественных прав и нематериальных благ. Гражданин может по своему усмотрению принять решение об ограничении своих прав другими лицами. Причем при отсутствии согласия лица совершение вредоносных действий расценивается как противоправное»[219].
Теоретически и методологически оправданным представляется анализ допустимого вреда посредством выделения условий допустимости. Изучение уголовного законодательства позволило определить следующие уголовно значимые условия:
– согласие не должно быть направлено на нарушение общественных и государственных интересов;
– лицо, дающее согласие на нарушение или уступку личных, имущественных и иных прав и интересов, должно обладать правом свободного распоряжения этими благами;
– общественная значимость способов нарушения права или воздействия на него не позволяют усматривать в деянии противоправность или общественную опасность.
Как известно, в уголовном праве выделяется три группы объектов охраны: интересы государства, общества и личности. Причем их качественное содержание и общественная значимость постоянно изменяются в зависимости от ряда социальных, экономических, политических и иных факторов. Показательно, что к общественным и государственным интересам в настоящее время относятся все охраняемые законом блага, кроме права на телесную неприкосновенность, права на свободу, честь и достоинство, половую свободу и половую неприкосновенность, конституционных и семейных прав человека.
Право свободного распоряжения личными имущественными благами как условие допустимости согласия означает, что последнее может быть дано на отчуждение, повреждение или уничтожение имущества, принадлежащего человеку лично на праве собственности или составляющего его долю в общей собственности.
Что касается личных неимущественных прав, то здесь, по нашему мнению, допустимо согласие на причинение вреда следующим благам: чести, достоинству, половой свободе, неприкосновенности частной жизни, жилища, тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений и др.
Нельзя говорить об умалении чести и достоинства личности, если она позволяет совершить в отношении себя объективно унизительные действия. В такой ситуации отсутствует преступный вред. Аналогичным образом должны оцениваться случаи совершения ненасильственных сексуальных действий с согласия лица, достигшего возраста 16 лет. Совершение полового акта при этих условиях является не чем иным, как реализацией партнерами своей половой свободы.
Более сложным представляется вопрос о возможности и пределах согласия пострадавшего на причинение вреда здоровью. В правовой литературе по этому вопросу нет единой позиции.
Например, Н. И. Загородников полагает, что согласие на причинение вреда своему здоровью является преступлением как для лица, давшего согласие, так и для лица, использовавшего это согласие для причинения вреда тому, кто дал такое согласие[220].
По мнению В. И. Колосовой и Е. О. Маляевой, согласие на причинение вреда допустимо только в случаях причинения болевого ощущения без последствий в виде утраты трудоспособности или заболевания[221].
Вновь обращаясь к институту частного обвинения, хотелось бы особо остановиться на том, что причинение легкого вреда здоровью наказуемо только по жалобе потерпевшего. Это обстоятельство позволяет нам сделать следующий вывод: допустимым следует признавать согласие пострадавшего на причинение легкого вреда своему здоровью.
В остальных случаях вопрос о допустимости согласия будет решаться в зависимости от общественной значимости способов отчуждения благ. Вновь обращаясь к высказыванию П. С. Дагеля о том, что «уголовный закон охраняет личные и общественные интересы, как правило, от определенных способов их нарушения»[222], следует отметить, что способы нарушения прав по своей природе могут быть абсолютно различными и варьироваться от общественно опасных до общественно полезных.
Оставляя за рамками данного параграфа исследование правомерных способов причинения вреда с согласия пострадавшего, отметим ряд принципиальных моментов, касающихся признака допустимости согласия.
В частности, согласие может быть дано лишь на совершение тех действий, которые разрешены законом. Исполнение с согласия лица запрещенных, являющихся общественно опасными и виновными действий (например, осуществление «подпольного» аборта, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) влечет уголовную ответственность.
Вопрос об ответственности лиц, давших согласие на совершение запрещенных законом действий и реально причиняющих вред своим интересам, решается в зависимости от особенностей каждого конкретного случая (статуса потерпевшего, особенностей объективной стороны соответствующего состава и т. п.).
В целом следует заключить, что согласие пострадавшего может быть охарактеризовано как уголовно значимая, добровольная, конкретная, истинная и предварительная форма выражения волеизъявления лица, достигшего предусмотренного в уголовном законе возраста и способного осознавать характер и значение совершаемых действий, на причинение вреда его законным и находящимся в свободном распоряжении личным имущественным или неимущественным интересам.
2.4. Согласие пострадавшего как обстоятельство, исключающее преступность деяния
Повышенный интерес науки уголовного права к проблеме согласия пострадавшего во многом обусловлен тем, что оно, не получив определенной оценки в уголовном законе, на практике нередко служит обстоятельством, исключающим преступность деяния. Между тем в российском уголовном праве исключать ответственность могут лишь те обстоятельства, которые прямо предусмотрены уголовным законом. Что же касается согласия пострадавшего, то для придания ему юридической силы в УК РФ должна быть включена соответствующая норма.
В настоящее время законодательному решению данного вопроса препятствует недостаточное теоретическое обоснование правовой природы такого согласия. Это обстоятельство обусловливает необходимость глубокого и дифференцированного подхода к уголовно-правовой оценке согласия пострадавшего, а равно выработки научно обоснованных рекомендаций относительно его легального определения.
В этой связи последовательного разрешения требуют следующие вопросы:
1) целесообразно ли согласие пострадавшего относить к обстоятельствам, исключающим преступность деяния?
2) есть ли смысл дополнять им главу 8 УК РФ?
3) чем обосновывается непреступность деяния, совершенного с согласия пострадавшего?
Об отсутствии единого научного подхода к определению уголовно-правовой природы волеизъявления лица на причинение вреда собственным интересам говорит тот факт, что ряд авторов определяет его как обстоятельство, исключающее преступность деяния, а другие, напротив, отрицают правомерность такой оценки.
По мнению С. Келиной, «невключение в УК РФ 1996 г. такого обстоятельства, как согласие потерпевшего, следует признать пробелом российского уголовного законодательства; уголовный закон должен был выразить свое отношение к этой проблеме»[223].
В. А. Блинников также отмечает, что «в УК РФ целесообразно и юридически оправдано введение специальной нормы о признании непреступным причинения вреда интересам потерпевшего с его согласия (по его просьбе)»[224]. Аналогичную позицию отстаивают в своих работах А. Н. Красиков, П. С. Дагель, Э. Ф. Побегайло, И. И. Слуцкий, М. Д. Шаргородский, И. И. Карпец, Н. С. Таганцев, В. А. Санталов и др.
Н. Д. Дурманов[225] и М. И. Якубович[226], напротив, считают, что согласие потерпевшего не может быть включено в перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния. По их мнению, оно имеет иную юридическую природу и относится к другим отраслям права. Эту точку зрения сложно признать убедительной, поскольку вопрос об исключении уголовной ответственности при наличии того или иного обстоятельства допустимо рассматривать только в рамках уголовно-правового регулирования, что само по себе исключает отнесение института согласия пострадавшего к другим отраслям права.
Не бесспорна также позиция В. Д. Пакутина. Как он полагает, причинение вреда с согласия потерпевшего – это гражданско-правовая сделка, не имеющая отношения к уголовному праву[227]. Думается, исследователь несколько односторонне подходит к рассмотрению данной проблемы. В уголовном праве согласие потерпевшего требует своей оценки не только в случаях изъятия вещи у собственника с его согласия. Более значимым и сложным является вопрос о правовых последствия волеизъявления лица на причинение вреда своим жизни, здоровью, личным неимущественным правам. И коль скоро возникает вопрос об уголовной ответственности лица, ответ может быть дан только с позиций уголовного права.
По нашему мнению, проблема волеизъявления лица на причинение вреда собственным интересам должна разрешаться исключительно в рамках уголовно-правового регулирования, поскольку только с позиции уголовного права можно разрешить вопрос о преступности и наказуемости деяний, совершенных с согласия пострадавшего.
Актуальной видится также проблема целесообразности закрепления института согласия пострадавшего в главе 8 УК РФ.
Выступая против подобных нововведений, А. В. Сумачев указывает на несовпадение правовой природы согласия пострадавшего и обстоятельств, закрепленных в главе 8 УК РФ. По его мнению, обстоятельства, исключающие преступность деяния, должны быть абсолютными или всеобщими, но не конкретно-прикладными, как в случае с согласием пострадавшего[228].
Признавая универсальность обстоятельств, исключающих преступность деяния, не следует, однако, впадать в крайности и возводить значение рассматриваемых обстоятельств в некий абсолют.
Во-первых, по признанию самого А. В. Сумачева, из сформулированного им правила «выбивается» норма, предусмотренная ст. 40 УК РФ «Физическое или психическое принуждение», что уже ставит под сомнение «абсолютный и всеобщий» характер обстоятельств, закрепленных в главе 8 УК РФ.
Во-вторых, о наличии определенных рамок допустимости необходимой обороны говорит то обстоятельство, что в УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за превышение ее пределов. Аналогичная ситуация наблюдается и в ситуации совершения деяний по просьбе или с согласия пострадавшего. По нашему мнению, ограничение правомерности причинения вреда с согласия пострадавшего в зависимости от характера нарушаемых благ и интересов есть не что иное, как установление пределов, за превышение которых следует привлечение к уголовной ответственности.
В этой связи теоретически и практически оправданным представляется закрепление в УК РФ следующего положения: «Превышением пределов допустимого с согласия пострадавшего причинения вреда признаются умышленные действия в форме нарушения прав и интересов, не находящихся в свободном распоряжении пострадавшего, но обусловленные его согласием».
В случае закрепления в УК РФ данного положения, условия правомерности согласия пострадавшего можно будет оценивать как общие для всех типичных ситуаций. Более того, предлагаемая нами законодательная новелла позволит избежать дублирования на уровне уголовного закона положений иных нормативных актов.
Самый веский довод противников дополнения главы 8 УК новым обстоятельством («согласие лица») заключается в том, что обстоятельства, исключающие преступность деяния, определяют основания непреступности деяния, а не условия его ненаказуемости. Что же касается согласия пострадавшего, то оно «может иметь, с одной стороны, качество одной из предпосылок возникновения основания для причинения такого вреда, с другой – качество одного из необходимых условий признания вредопричиняющего деяния непреступным. Но и в первом, и во втором случаях согласие (волеизъявление) как таковое не является именно основанием (состоянием) для возникновения права на причинение вреда»[229].
1. Очевидно, если основание возникновения права на нее оборону, на задержание преступника, на причинение вреда в имущественным интересам другого вменяемого лица при условии добровольного, конкретного, истинного и предварительного характера выражения согласия пострадавшего.
2. Превышением пределов допустимого причинения вреда с согласия пострадавшего признаются умышленные действия в форме нарушения прав и интересов, не находящихся в свободном распоряжении пострадавшего, но обусловленные его согласием.
3. Причинение вреда интересам пострадавшего при нарушении условия добровольного, конкретного, истинного или предварительного характера выражения согласия пострадавшего влечет уголовную ответственность на общих основаниях».
Думается, исследование проблемы согласия пострадавшего как обстоятельства, исключающего преступность деяния, будет неполным без его рассмотрения сквозь призму материального и формального признаков преступления.
Как известно, преступное деяние представляет собой единство общественной опасности и противоправности. Это единство отражает диалектику соотношения содержания и формы. Совершение деяний, не обладающих единством содержания (в нашем случае – общественной опасности) и формы (уголовной противоправности), свидетельствует об их правомерности.
Исследуя обстоятельства, исключающие преступность деяния, через анализ общественной опасности и противоправности, авторы по-разному подходят к определению их правовой природы.
Так, обстоятельствами, исключающими преступность деяния, некоторые ученые считают все те обстоятельства, при наличии которых деяния хотя формально и соответствуют признакам преступления, но не влекут уголовной ответственности. По такому родовому признаку объединяются далеко не однородные по общественной значимости и юридической природе обстоятельства.
Например, Т. Г. Шавгулидзе делит деяния на две группы: те, которые не лишены общественно опасного характера, и те, которые исключают общественную опасность деяния[230]. Выделив в каждой из групп множество подгрупп, исследователь четко не определяет юридических критериев классификации и ограничивается лишь перечислением обстоятельств, исключающих уголовную ответственность.
Более последовательно к построению классификации подошел И. И. Слуцкий. Он выделяет следующие группы обстоятельств: те, в которых ярко выражена общественная полезность и правомерность, и те, которые хотя и исключают общественную опасность и наказуемость деяния, но не делают их в ряде случаев полезными и правомерными; физическое принуждение и непреодолимая сила[231].
Рассматривая основания, исключающие преступность деяния, С. Г. Келина подразделяет их на деяния, исключающие общественную опасность, противоправность или виновность[232].
Оставляя за рамками настоящей работы анализ различных видов типологизации обстоятельств, исключающих преступность деяния, подчеркнем, что наиболее приемлемой для раскрытия правовой природы согласия пострадавшего является классификация, предложенная Ю. В. Баулиным.
Ю. В. Баулин выделяет следующие группы обстоятельств, исключающих преступность деяния:
1. Поступок обладает присущей преступлению степенью опасности, однако по каким-либо причинам не предусмотрен уголовным законом. Здесь целесообразно говорить об обстоятельствах, исключающих уголовную противоправность деяния.
2. Деяние, формально соответствует признакам определенного состава преступления, но по своему содержанию лишено общественной опасности.
3. Общественно значимый поступок, внешне напоминая преступление, в отличие от него характеризуется положительным социально-политическим содержанием и соответствует признакам юридической формы правомерного поведения. Следовательно, третья группа оснований – это основания, исключающие общественную опасность и противоправность деяния[233].
При этом согласие потерпевшего исследователь относит к обстоятельствам третьей группы. Но данная позиция в науке не является единственной.
Так, одни авторы придают согласию качество обстоятельства, исключающего общественную опасность деяния[234], другие – исключающего его противоправность[235], а третьи – преступность вообще[236]. Разногласия, по нашему мнению, объясняются тем, что ученые по-разному подходят к оценке соотношения общественной опасности и противоправности деяния.
Не вдаваясь в сущность этих разногласий, обоснуем собственный взгляд на правовую природу согласия пострадавшего.
Исходя из того, что проблема общественной опасности и противоправности деяния требует самостоятельного научного исследования, в рамках настоящей работы ограничимся указанием на сущностные черты этих категорий, позволяющие раскрыть правовую природу согласия пострадавшего.
Общественная опасность относится к традиционным и вместе с тем наиболее спорным категориям уголовного права.
Например, Н. С. Таганцев рассматривал ее в трех основных аспектах:
– как вид преступных последствий;
– как момент развивающейся вредоносной деятельности;
– как один из существенных признаков, «определяющих самое понятие уголовно наказуемой неправды»[237].
В современной доктрине общественная опасность рассматривается в двух основных направлениях: в сравнении с вредоносностью деяния и через изучение обусловливающих ее факторов.
Большинство ученых отождествляют опасность и вредоносность, понимая под ними «объективную способность деяния нарушать интересы общества»[238]. Они выделяют две формы проявления общественной опасности: реальное причинение вреда и угрозу его причинения.
Как отмечает Ю. А. Демидов, «понятие общественной опасности выражается не столько в ущербе или угрозе его причинения объектам уголовно-правовой охраны, сколько в направленности деяния против основных социальных ценностей»[239].
Более оригинальную позицию занимает П. А. Фефелов. Ученый видит сущность общественной опасности в ее способности служить «социальным прецедентом»[240], хотя таким свойством может обладать и законопослушное поведения.
Наиболее последовательно к оценке общественной опасности подходил Н. Д. Дурманов, который еще в 1948 г. определил ряд принципиальных признаков, лежащих в основе этого правового феномена:
1) признание деяния преступлением предполагает его отрицательную оценку государством;
2) обязательным условием наличия общественной опасности деяния является посягательство на охраняемый правом объект. При этом степень вероятностного ущерба для защищаемого объекта определяется не только степенью риска, которому подвергает отдельное посягательство конкретный объект, но и другими обстоятельствами, в частности распространенностью вредоносного посягательства;
3) деяние является общественно опасным не вне времени и пространства, а в конкретных условиях места, времени и обстановки его совершения;
4) обстоятельствами, определяющими опасность деяния, являются также способ и обстановка его совершения;
5) большое значение имеет отношение субъекта к объекту;
6) опасность деяния предполагает причинение или хотя бы возможность причинения вреда объекту, на который посягательство направлено;
7) к числу существенных обстоятельств, определяющих общественную опасность деяния, должны быть отнесены обстоятельства, касающиеся его субъекта и субъективной стороны[241].
По существу соглашаясь с данной позицией, мы не можем признать вполне справедливым определение признаков общественной опасности деяния через его субъективные признаки. Понимание общественной опасности как вредоносности не позволяет усматривать связь между ней и признаками субъективной стороны посягательства. Иными словами, если суть общественной опасности деяний состоит в их способности причинять вред или создавать угрозу его причинения, то, очевидно, вред и является показателем опасности.
Трудно объяснить, почему степень общественной опасности посягательства повышается, если лицо ранее уже совершало какое-либо преступление или правонарушение. Получается, общественная опасность деяния обусловливается тем, чего при его совершении уже не существует. По нашему мнению, рассмотрение опасности посягательства сквозь призму его субъективных признаков в конечном итоге приводит к ее отождествлению с опасностью личности посягающего.
Рассматривая общественную опасность как свойство, выражающее способность деяния служить источником вредоносности, полагаем, что не только наличие этого свойства, но и его величина обусловливается спецификой объекта преступного посягательства.
Последний определяет и такой признак преступления, как противоправность. Оставляя за рамками настоящей работы анализ формальных, материальных и материально-формальных определений понятия «противоправность», уделим внимание проблеме его взаимосвязи с признаком предусмотренности деяния в законе.
Отказ от традиционного рассмотрения этой уголовно-правовой категории имеет свои причины, которые заключаются как в логике изложения материала, так и в самой методологической основе проблемы определения правовой сущности согласия пострадавшего как обстоятельства, исключающего преступность деяния.
Актуальным видится вопрос: в чем проявляется сущность противоправности: в несоответствии деяния нормам права (правопорядку в целом) или в соответствии деяния уголовному закону?
Если, называя деяние противоправным, рассматривать его как нарушение норм права вообще, необходимо будет заключить, что Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность за все без исключения правонарушения, а по объему регулирования и охраны общественных отношений стоит выше Конституции РФ.
Думается, при определении противоправности следует исходить из предусмотренности деяния в уголовном законе. Не останавливаясь подробно на анализе доктринальных позиций и законодательных дефиниций, посвященных данной проблеме, отметим, что соответствие деяния уголовному закону представляет собой его соответствие конкретному составу преступления.
Отсюда: противоправность деяния есть не что иное, как наличие у поступка определенных признаков, которые, с точки зрения законодателя, свидетельствуют об общественно опасном характере данных действий.
Понимание противоправности как соответствия деяния не составу преступления, а определенному уголовно-правовому запрету, закрепленному в диспозиции соответствующей статьи[242], не позволяет считать правомерными действия в случае абсолютного совпадения признаков запрещенного уголовным законом деяния и деяния, дозволенного в другой области права (например, в случае правомерного причинения вреда пострадавшему с его согласия).
Определение противоправности через соответствие деяния составу преступления позволяет разрешить данную проблему посредством указания на тот элемент состава, который отсутствует в социально позитивном или дозволительном поступке.
Если исходить из уголовно-правовой оценки согласия пострадавшего как обстоятельства, исключающего преступность деяния, возникает вопрос о том, отсутствие какого элемента состава исключает признак противоправности.
При совершении с согласия пострадавшего деяний, предусмотренных нормами Особенной части УК РФ, вменяемым лицом, достигшим возраста уголовной ответственности и сознающим характер содеянного, очевидным является наличие таких элементов состава, как субъект, субъективная и объективная стороны. Что касается объекта преступления, то именно он, на наш взгляд, отсутствует.
Связав проблему общественной опасности с объектом преступления и положив в основу определения последнего решение вопроса о сущности и направленности вреда, который может быть причинен или причиняется преступлением, мы пришли к следующему выводу: вред – это не объективные изменения действительности, произошедшие вследствие преступления, а их оценка, отражающая значимость данных изменений для людей.
Придерживаясь аналогичной точки зрения на проблему преступного вреда, Г. П. Новоселов обоснованно отмечает: «Полагая, что в понятии вреда всегда отражается не просто физическая характеристика последствий, а их социальная оценка, осуществляемая людьми с точки зрения их интересов, есть все основания утверждать: преступление причиняет или создает угрозу причинения вреда не чему-либо, а кому-то, и, следовательно, как объект преступления нужно рассматривать не что-то, а кого-то»[243].
Очевидно, одни и те же изменения окружающего мира могут иметь неодинаковое, даже противоположное значение для разных лиц, объективно понесших ущерб.
В случае согласия пострадавшего на нарушение его законных благ производимая им оценка наступивших последствий не позволяет говорить о наличии объекта преступления. Отсутствует преступный вред и, следовательно, общественная опасность деяния.
Более того, отсутствие объекта исключает состав преступления, а его отсутствие, в свою очередь, – противоправность деяния.
Все вышеизложенное позволяет определить согласие пострадавшего как обстоятельство, исключающее и общественную опасность, и противоправность деяния.
В этой связи особую актуальность приобретает проблема определения пределов правомерности деяний, совершенных с согласия жертвы.
Способы непреступного причинения вреда с согласия пострадавшего
Ранее отмечалось, что пределы допустимого отчуждения прав личности необходимо определять в зависимости от ценности для пострадавшего и общества отчуждаемого права, а равно от общественной значимости способов его нарушения.
Признавая необходимость типологизации правомерных способов причинения вреда с согласия пострадавшего, считаем методологически оправданной их типологизацию на основе специфики правового регулирования проблемы. В этой связи важным представляется рассмотрение вопроса о значении согласия, данного пострадавшим при осуществлении медицинской деятельности.
Способы причинения вреда при производстве медицинской деятельности можно условно разделить на следующие группы:
– медицинское вмешательство в отношении больных (лечение, врачевание);
– медицинское вмешательство в отношении здоровых, которое, в свою очередь, подразделяется на такие способы причинения вреда, как искусственное оплодотворение или прерывание беременности, донорство, медицинский эксперимент, производство аборта и пр.
Подчиняясь логике исследования, заострим внимание на лечении больных. Правовое регулирование данной проблемы осуществляется в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г Нарушение обозначенных в данном нормативном акте условий правомерности в случаях, если деяние привело к причинению уголовно значимого вреда, может повлечь наступление ответственности, в том числе уголовной.
Как известно, теория права различает три вида уголовной противоправности: прямая – непосредственное запрещение уголовным законом соответствующего действия, смешанная – признание действия запрещенным уголовным законом, «в связи с тем и постольку, поскольку оно признано противоправным другими отраслями права», и условная противоправность действий, которые в обычных условиях общественно полезны и вред причиняют лишь в сравнительно редких случаях, в связи с чем подробно регламентировать их нормами права не представляется возможным[244].
Для большинства общественно опасных посягательств, совершаемых медицинскими работниками в процессе профессиональных занятий, характерна так называемая условная противоправность. Речь идет о деяниях, получивших в литературе название «неправильное врачевание»[245]. Их противоправность не вполне очевидна, поскольку специфика медицинской деятельности не позволяет рассматривать даже смерть как достаточное условие для признания действий медицинских работников противоправными.
Наступление тяжких последствий при наличии причинной связи между ними и действием медицинского работника еще не дает оснований для оценки деяния как противоправного. Необходимо еще и третье условие – неправильность самого медицинского действия.
Рассуждая «от противного» и исследуя проблему правомерности медицинского риска через анализ противоправности врачебной ошибки, В. И. Самароков среди условий правомерности лечения больного выделяет следующие: «рискованные действия совершаются медицинским работником для сохранения и укрепления здоровья, спасения жизни конкретного больного… совершенное специалистами рискованное действие соответствует современным достижениям медицинской науки и практики; сохранение и укрепление здоровья, спасение жизни больного не может быть достигнуто не связанными c риском действиями, медицинский работник в условиях риска предпринимает все возможные меры для предотвращения вреда здоровью или угрозы жизни больного. ни одно лицо не может подвергаться лечению в условиях риска без его действительно свободного и четко выраженного согласия» [246].
А. Н. Красиков дает более развернутую характеристику и выделяет два основания правомерности деяний медицинских работников: 1) дозволенность с точки зрения государства предпринятых медицинским работником мер по профилактике и лечению болезни; 2) согласие пациента на совершение в отношении него всех медицинских манипуляций[247].
По мнению Ф. Ю. Бердичевского, «медицинское вмешательство, предпринятое в порядке новаторства, должно удовлетворять следующим условиям:
1) прежде всего оно должно быть осуществлено в интересах больного, т. е. в целях его излечения;
2) новаторские средства и методы медицинского вмешательства во всех случаях, когда это возможно, должны пройти достаточную предварительную проверку на животных»[248].
Анализируя правомочия граждан при оказании медико-социальной помощи (ст. 30 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан), А. В. Сумачев заключает, что условиями правомерности лечения больного как одного из способов причинения уголовно значимого вреда с согласия лица являются: информированность пациента о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения[249].
Признавая, что каждая из рассмотренных позиций имеет право на существование, мы вместе с тем не можем считать достаточным и методологически оправданным выделение перечисленных выше условий применительно к анализу института согласия потерпевшего как обстоятельства, исключающего преступность деяния. Иначе придется согласиться с тем, что лечение больного имеет самостоятельное уголовно-правовое значение, а не является одним из способов причинения вреда при наличии такого исключающего уголовную ответственность обстоятельства, как согласие пострадавшего.
В этой связи обоснованным видится разделение условий правомерности лечения на две большие группы:
– характеризующие дозволенность этих мер с точки зрения государства;
– характеризующие волеизъявление больного.
Анализ законодательства и научно-практических материалов позволяет к первой группе причислить следующие условия:
1) действия медицинских работников направлены на сохранение и укрепление здоровья либо на спасение жизни конкретного больного;
2) сохранение и укрепление здоровья, спасение жизни больного не может быть достигнуто не связанными с риском действиями;
3) действия врачей соответствуют современным достижениям медицинской науки и практики;
4) медработник в условиях риска предпринимает все возможные меры для предотвращения вреда здоровью или угрозы жизни больного.
Что касается условий правомерности медицинского вмешательства, характеризующих волеизъявление пострадавшего, то их целесообразно рассмотреть в соответствии с определенными ранее признаками действительности, добровольности, своевременности, конкретности, истинности и допустимости согласия и выделить следующие группы:
1) условия, характеризующие действительность согласия. В соответствии со ст. 32 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан согласие на медицинское вмешательство дает лицо, достигшее возраста 15 лет. Согласие на медицинское вмешательство в отношении лиц, не достигших возраста 15 лет, и граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными, дают их законные представители после сообщения им сведений, предусмотренных частью первой ст. 31 Основ;
2) условия, характеризующие конкретность согласия. Пациент может дать согласие только в случае, если он в должной степени информирован о состоянии своего здоровья, в частности располагает сведениями о результатах обследования, о наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, о методах лечения, связанном с ними риске, о возможных вариантах медицинского вмешательства, об их последствиях и результатах лечения;
3) условия, характеризующие иные признаки согласия. Требования добровольности, своевременности, истинности и допустимости волеизъявления лица на производство медицинского вмешательства нашли свое отражение в перечне прав граждан на оказание медико-социальной помощи, закрепленном в ст. 30 Основ. Особого внимания заслуживает возможность медицинского вмешательства при условии предварительного информированного добровольного согласия и отказ от такового.
Ввиду стремительного развития медицинской науки, появления новых методов диагностики и лечения, развития научно-технической мысли в области медицины актуальным становится вопрос о правовой оценке медицинского вмешательства в отношении здорового человека. При этом наиболее значимыми являются проблемы правовой регламентации трансплантации органов и тканей человека, производства эксперимента, стерилизации, прерывания беременности, искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона.
Нормативное регулирование трансплантации органов и тканей человека осуществляется на основании Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 22 декабря 1992 г.
В теории уголовного права проблему правомерности причинения вреда с согласия пострадавшего при трансплантации рассматривают параллельно с вопросом правомерности донорства крови[250].
В частности, в качестве критериев правомерности донорства крови и трансплантации органов и тканей И. Л. Горелик и А. Н. Красиков называют следующие условия: больному нельзя оказать помощь иными средствами, кроме пересадки органов и тканей; вред, причиняемый при этом донору, меньший, чем предотвращенный вред для больного-реципиента[251].
В связи с бурным развитием трансплантологии юридическая практика разработала ряд условий, при соблюдении которых действия врачей при изъятии крови и ее компонентов, а равно органов и тканей у доноров следует признавать правомерными.
В частности, критерии правомерности донорства крови и ее компонентов логически вытекают из положений Закона РФ «О донорстве крови и ее компонентов» от 9 июля 1993 г. В их числе можно выделить следующие:
– донорство крови и ее компонентов есть свободно выраженный добровольный акт;
– донором крови и ее компонентов может быть каждый дееспособный гражданин в возрасте от 18 до 60 лет, прошедший медицинское обследование;
– взятие от донора крови и ее компонентов допустимо только при условии, если здоровью донора не будет причинен вред; запрещена продажа донорской крови и ее компонентов и препаратов из донорской крови в другие государства в целях извлечения прибыли.
Практически такие же условия характеризуют правомерность трансплантации органов и тканей человека. Следуя предложенной ранее градации условий правомерности медицинского вмешательства, выделим в их числе те обстоятельства, которые раскрывают признаки согласия донора при трансплантации:
– признак действительности. Следует отметить, что применительно к донорству и трансплантации органов и тканей законодательство РФ устанавливает достаточно высокий минимальный возраст субъекта согласия – 18 лет, что, на наш взгляд, является скорее исключением из правил действительности согласия и обусловлено высокой вероятностью тяжких последствий для донора.
Так, в соответствии со ст. 3 Закона «О трансплантации органов и (или) тканей человека» изъятие органов и (или) тканей для трансплантации не допускается у живого донора, не достигшего 18 лет, а равно у лица, признанного в установленном порядке недееспособным. Исключением из правил можно, пожалуй, признать лишь пересадку костного мозга, которая в случае причинения существенного вреда должна оцениваться в рамках института крайней необходимости;
– признак добровольности. Во избежание понуждения человека к трансплантации, в законе содержится специальное указание, что изъятие органов не допускается у лица, находящегося в служебной или иной зависимости от реципиента (ст. 3);
– признаки своевременности, конкретности и истинности согласия находят свое отражение в законодательном предписании, согласно которому трансплантация осуществляется, если донор свободно и сознательно в письменной форме выразил согласие на изъятие органов и (или) тканей (ст. 3 Закона).
Определение пределов правомерности причинения вреда при трансплантации видится еще более актуальным ввиду закрепления в ст. 120 УК РФ уголовно-правового запрета на принуждение донора к изъятию органов или тканей для трансплантации.
Во избежание возможных трудностей при разграничении правомерных и противоправных случаев трансплантации органов или тканей следует более детально подойти к регламентации этого уголовно-правового запрета и посредством установления признаков согласия донора сформулировать диспозицию ст. 120 УК РФ следующим образом:
«1. Склонение лица к изъятию органов или тканей для трансплантации при отсутствии признака действительности, своевременности, конкретности или истинности согласия, а равно совершенное с применением насилия либо угрозой его применения…»
Подобная законодательная новелла существенным образом расширит сферу применения уголовного закона и позволит четко обозначить пределы правомерности причинения вреда при трансплантации. Более того, на основе данной диспозиции станет возможной уголовно-правовая оценка склонения несовершеннолетнего и недееспособного лица к трансплантации, а равно квалификация изъятия органов на основе сфальсифицированного согласия или согласия, полученного за плату.
В теории и практике уголовного права значимым является вопрос о правомерности проведения медицинского эксперимента с согласия человека.
Как справедливо отмечает Ф. Ю. Бердичевский, «эксперимент – это весьма существенная сфера медицинской деятельности, которую уголовному праву нельзя не учитывать, поскольку на практике любое экспериментирование над человеком стоит вне закона»[252].
Пытаясь определить условия правомерности экспериментирования, М. Д. Шаргородский еще в 1948 г. отмечал, что «при рассмотрении вопроса о вреде, причиненном врачом в результате применения новых методов лечения, следует исходить из того, что экспериментирование является необходимым в области медицины. Однако для применения нового лечебного средства или метода к больному должно быть получено согласие последнего или его законных представителей, т. е. для экспериментирования должны быть, во всяком случае, признаны действующими те правила, которые имеют место в отношении хирургических операций… Если согласия больного или его законных представителей получено не было, а результатом эксперимента явилась смерть или вред здоровью пациента, врач может отвечать как за неосторожное преступление против жизни и здоровья, так и за преступление, совершенное с эвентуальным умыслом»[253].
Рассматривая условия правомерности причинения вреда здоровому человеку в порядке медицинского эксперимента, следует отметить, что в теории уголовного права данная проблема не получила однозначного разрешения. Более того, с закреплением в числе обстоятельств, исключающих преступность деяния, обоснованного риска, возникли трудности в разграничении данных уголовно-правовых институтов.
Так, например, М. Н. Малеина выделяет следующие условия правомерности производства эксперимента: 1) полная предварительная информация о предстоящем эксперименте (необходимость предоставления полной информации о целях, методах, продолжительности, ожидаемом результате, побочном эффекте и другом возможном риске);
2) свободное письменное согласие гражданина – объекта исследования (чтобы исключить скрытые формы принуждения, вводится запрет на проведение биомедицинских исследований с привлечением в качестве объекта задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в местах лишения свободы либо заключенных под административный арест); 3) предварительное проведение лабораторного эксперимента (научная обоснованность эксперимента должна быть подтверждена разработанной методикой (оформленной протоколом или другим документом), показаниями медицинских приборов, кино-, фотоаппаратуры, иной техники либо показаниями свидетелей или наблюдателей); 4) осуществление эксперимента в учреждении государственной или муниципальной системы здравоохранения (либо под контролем этих учреждений, когда речь идет о проведении исследования в космосе, под землей, под водой и т. п.)[254].
Признавая приведенный автором перечень неполным, А. В. Сумачев в числе необходимых и достаточных условий правомерности причинения вреда при проведении эксперимента называет следующие:
1) возможность причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, но не смерти;
2) причинение вреда необходимо для достижения общественно полезной цели;
3) эксперимент должен быть научно обоснованным;
4) наличие согласия лица на участие в эксперименте в качестве объекта (согласие на причинение вреда);
5) проведение эксперимента под контролем государства[255].
Полагая, что проблема правомерности производства эксперимента является настольно актуальной и дискуссионной, что требует самостоятельного научного исследования, в рамках настоящей работы ограничимся лишь указанием на те условия правомерности экспериментирования, которые характеризуют волеизъявление лица – объекта исследования.
В их числе можно выделить условия, характеризующие:
– конкретность согласия. В соответствии со ст. 43 Основ законодательства об охране здоровья граждан лицо должно иметь полную предварительную информацию о целях, методах, продолжительности, ожидаемом результате, побочном эффекте и другом возможном риске производства эксперимента;
– добровольность, своевременность и конкретность согласия. О необходимости наличия данных признаков свидетельствует обязательность свободного, предварительного и письменного согласия лица – объекта эксперимента.
Нерешенным остается вопрос о законодательном закреплении действительности согласия. Широта спектра поставленных перед медицинским экспериментированием задач не позволяет нормативно ограничить возраст объектов исследования.
В этой связи возможна следующая правовая оценка деяний: если тяжкий вред или вред средней тяжести причинены вменяемому лицу, достигшему возраста 16 лет, с его согласия при производстве эксперимента – деяние следует оценивать по правилам о причинении вреда с согласия пострадавшего, а при отсутствии признака действительности согласия – по правилам, касающимся обоснованного риска.
В настоящее время существенно возросла роль медицины в регулировании репродуктивной деятельности. В этой связи особую актуальность приобретает проблема определения границ правомерности искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона, медицинской стерилизации и искусственного прерывания беременности.
В России условия правомерности проведения искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона закреплены на уровне медицинского законодательства.
Опираясь на анализ ст. 35 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан и инструкцию «О применении метода искусственной инсеминации женщин спермой донора по медицинским показаниям и метода экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбриона в полость матки для лечения женского бесплодия»[256], можно предположить, что условиями правомерности искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона, относящимися к выражению волеизъявления лица, являются:
– специальное условие действительности согласия: каждая совершеннолетняя женщина детородного возраста имеет право на искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона;
– конкретность, своевременность и истинность согласия: обязательное наличие письменного предварительного согласия. Женщина имеет право на информацию о процедуре искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона, о медицинских и правовых аспектах ее последствий, о данных медико-генетического обследования, внешних данных и национальности донора, предоставляемую врачом, осуществляющим медицинское вмешательство.
Примечательно, что согласно ст. 35 Основ незаконное проведение искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона влечет за собой уголовную ответственность, установленную законодательством РФ, в то время как в УК РФ отсутствует соответствующий уголовно-правовой запрет.
Наблюдается серьезная правовая коллизия, выход из которой практика находит в том, что при наступлении общественно опасных последствий деяние квалифицируется как неосторожное преступление.
Подобное решение проблемы неприемлемо по двум причинам.
Во-первых, исходя из смысла ст. 35 Основ, при незаконном проведении искусственного оплодотворения наказуемо должно быть само деяние, независимо от наступления общественно опасных последствий.
Во-вторых, оценка правоприменителем в качестве неосторожных преступлений незаконного искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона, которые всегда совершаются умышленно, есть не что иное, как применение уголовного закона по аналогии.
Думается, что разрешить коллизию возможно лишь путем установления уголовно-правового запрета на незаконное производство искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона. В этой связи полезным может оказаться опыт эстонского законодателя, который в ст. 1201 предусмотрел уголовную ответственность за имплантацию женщине чужой яйцеклетки или созданного из нее эмбриона с нарушением Закона об искусственном оплодотворении и защите эмбриона. Наряду с этим в УК Эстонской республики предусматривается уголовная ответственность за запрещенные действия с эмбрионом (ст. 1202)[257].
Что касается проведения медицинской стерилизации, то условия ее правомерности закреплены в Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан 1992 г., приказе Минздрава РФ от 28 декабря № 303 «О применении медицинской стерилизации граждан» и письме Минздрава РФ и Фонда социального страхования РФ от 17 февраля 1997 г. № 2510/1041-97, № 051/26-97 «О порядке выдачи листка нетрудоспособности и выплате пособия по государственному социальному страхованию при медицинской стерилизации граждан». Анализ перечисленных актов позволяет выделить следующие условия правомерности стерилизации:
– медицинские (закреплены в соответствующем Приказе Минздрава РФ);
– социальные (достижение возраста 35 лет и наличие не менее двух детей);
– юридические. Добровольное, конкретное и своевременное согласие лица на производство медицинской стерилизации является единственным юридическим условием правомерности производимых действий.
Относительно разработанным в теории и практике является вопрос об условиях правомерности искусственного прерывания беременности.
В соответствии со ст. 35 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан «каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, по социальным показателям – при сроке беременности до 22 недель, а при наличии медицинских показаний и согласии женщины – независимо от срока беременности».
Данное положение позволяет усматривать дифференцированный подход законодателя к оценке допустимости согласия женщины на производство аборта в зависимости от сроков беременности.
В частности, условиями правомерности искусственного прерывания беременности в срок до 12 недель являются: производство аборта лицом, имеющим высшее медицинское образование соответствующего профиля (уголовно-правовой показатель), и согласие женщины (правовой показатель).
При производстве аборта на сроках беременности от 12 до 22 недель к вышеперечисленным условиям добавляются также социальные показания. В 2003 г. их перечень сократился с тринадцати пунктов до четырех[258]. В настоящее время социальными показаниями являются беременность в результате изнасилования; наличие решения суда о лишении или об ограничении родительских прав; пребывание женщины в местах лишения свободы; наличие инвалидности I—II группы у мужа или смерть мужа во время беременности.
На сроках беременности свыше 22 недель аборт признается правомерным при его производстве лицом, имеющим высшее медицинское образование соответствующего профиля (уголовно-правовой показатель); при наличии согласия женщины, а равно медицинских показаний, когда дальнейшее вынашивание плода угрожает здоровью и жизни женщины. В соответствии с «Перечнем медицинских показаний для прерывания беременности», утвержденном приказом Минздрава РФ от 28 декабря 1993 г. № 302, к их числу относятся активные формы туберкулеза, вирусный гепатит, сифилис, ВИЧ-инфекция, острый и хронический лейкоз, злокачественные новообразования, тяжелые болезни эндокринной системы.
Некоторые авторы в числе правомерных способов причинения вреда здоровью с согласия пострадавшего называют занятия спортом, проведение спортивных состязаний и тренировок[259]; проведение конкурсов и иных зрелищных или коммерческих мероприятий[260] ; ограничение физической свободы с согласия лица (применение мер безопасности и дисциплинарная власть родителей)[261]и др. Данная позиция представляется нам несостоятельной по двум причинам.
Во-первых, ее сторонники отождествляют способы причинения вреда с его пределами (последние определяются не только способом нарушения, но и характером нарушаемых благ).
Во-вторых, вызывает сомнение рассмотрение вышеназванных обстоятельств в рамках волеизъявления потерпевшего, особенно при анализе таких признаков согласия, как добровольность и конкретность.
2.5. Уголовная ответственность за преступления, обусловленные согласием потерпевшего
Признание согласия пострадавшего обстоятельством, исключающим преступность деяния, ставит перед наукой уголовного права проблему определения границ правомерности деяния, совершенного в соответствии с волеизъявлением жертвы. Ранее эти границы были обозначены нами с учетом ценности нарушаемого блага и способов причинения вреда. Обращаясь к анализу уголовной ответственности за преступления, совершенные при превышении пределов допустимого согласия потерпевшего, предлагаем выделять следующие способы такого превышения:
1) превышение пределов допустимого согласия пострадавшего в форме причинения вреда его правам и интересам, если причиненный вред выходит за рамки, определенные согласием пострадавшего.
Полагаем, что в таком случае виновный несет уголовную ответственность на общих основаниях, если он не будет освобожден от нее в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ).
Возможна также ситуация, когда преступление совершается с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения. В этом случае превышение пределов допустимого согласия должно оцениваться судом как обстоятельство, отягчающее наказание (п. «м» ч. 1 ст. 63 УК РФ);
2) в форме причинения вреда, заведомо более тяжкого или качественно иного, нежели определялось согласием потерпевшего (речь идет о причинении вреда не только частным, но и общественным интересам).
Представляется, что в такой ситуации ответственность должна наступать на общих основаниях, без учета согласия потерпевшего как смягчающего обстоятельства, поскольку согласие не распространялось на тот вред, который составил превышение допустимых пределов;
3) превышение в форме причинения вреда правам и интересам потерпевшего, не находящимся в его свободном распоряжении. Деяние признается преступным в силу нарушения одного из непременных условий согласия – его допустимости. В таком случае посягательство должно признаваться совершенным при смягчающих обстоятельствах.
Вызывает возражения позиция Б. В. Сидорова, по мнению которого, ответственность за содеянное в подобных ситуациях всегда должны нести и нарушитель как непосредственный исполнитель преступления, и «согласная» жертва, выступающая здесь в качестве соучастника преступления, если, конечно, имеется возможность привлечь ее к уголовной ответственности . В качестве примера автор приводит случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью или убийство, которые, несмотря на согласие жертвы, не могут рассматриваться как правомерные. [262]
Мы не согласны с приведенной точкой зрения по двум причинам.
Во-первых, рассматривая в качестве объекта преступления личность, которой причиняется вред, нельзя признать соучастником причинения тяжкого вреда человека, направляющего усилия на причинение вреда самому себе.
Во-вторых, представляется спорным категорическое признание лица, вышедшего за рамки допустимости согласия, одновременно и потерпевшим, и соучастником преступления. Статусы потерпевшего и соучастника не могут совпадать в одной и той же личности, если речь идет о едином преступлении.
Иная оценка допускается в ситуации, когда человек просит причинить тяжкий вред своему здоровью в целях получения страховки. Лицо, которому причиняется вред, должно нести уголовную ответственность за мошенничество (ст. 159 УК РФ), а причинитель вреда – за фактически содеянное по направленности умысла. Если причинитель вреда не был посвящен в планы пострадавшего лица и действовал исключительно в рамках выполнения просьбы, то его действия надлежит квалифицировать по ст. 111 УК РФ, в противном случае ответственность наступает по совокупности ст. 111 и 159 УК РФ.
Очевидно, что в приведенном примере одно лицо обладает статусом и потерпевшего, и соучастника, однако речь здесь идет не об одном преступления, а о двух деяниях, посягающих на различные объекты: в первом случае (ст. 111 УК РФ) – на личность, во втором (ст. 159 УК РФ) – на собственность страховой организации.
В целом можно заключить, что при нарушении условия допустимости согласия пострадавшего на причинение вреда наличие такового не исключает уголовной ответственности, но должно существенно смягчать уголовно-правовую репрессию в отношении виновного.
Поскольку превышение пределов причинения вреда вследствие нарушения условия допустимости согласия пострадавшего вызывает много дискуссий в теории уголовного права и порождает ошибки в правоприменении, считаем целесообразным определить пределы допустимого согласия лица и на этой основе рассмотреть некоторые случаи квалификации деяний, вышедших за рамки такого согласия.
В этой связи теоретически и практически оправдано выделение на основании объекта следующих групп преступлений:
1) посягающие на жизнь;
2) посягающие на здоровье;
3) преступления против свободы;
4) против чести и достоинства;
5) посягающие на конституционные права и свободы;
6) посягающие на интересы семьи и несовершеннолетних;
6) и, наконец, преступления против собственности[263].
Рассмотрим эти группы.
1. Институт согласия пострадавшего в уголовно-правовой науке традиционно рассматривается с точки зрения правомерности причинения смерти. Еще Н. С. Таганцев исходил из того, что принцип сохранения жизни независимо от права на ее неприкосновенность представляется весьма неустойчивым, а последовательное проведение его – даже невозможным. Автор отмечал, что «трудно отыскать твердые основания для наказуемости убийства по согласию, особенно по просьбе или по требованию убитого. Но если в каких-либо случаях признавать наказуемым убийство по согласию, то это согласие должно влиять на уменьшение ответственности»[264].
В Уголовном уложении 1903 г. содержалась ст. 445, предусматривавшая «особое постановление об уменьшении ответственности за убийство, учиненное по настоянию убитого и из сострадания к нему».
Это нормативное предписание получило дальнейшее развитие в УК РСФСР 1922 г. В частности, в примечании к ст. 143 отмечалось, что убийство, совершенное по настоянию убитого и из сострадания к нему, не карается. Эта новелла УК РСФСР 1922 г. в теории уголовного права воспринималась и продолжает восприниматься неоднозначно.
По мнению А. А. Пионтковского, «практика применения нормы ст. 143 УК РСФСР показала ее вредность»[265]. И. И. Карпец, напротив, считал ошибочным ее исключение из уголовного закона. По мнению автора, «посредством исключения примечания к ст. 143 УК РСФСР 1922 г. в законодательстве была допущена крайность – рассматриваемое действие стало рассматриваться как простое убийство, хотя в случае дачи яда врачом из сострадания безнадежному больному по просьбе последнего должна идти речь о смягчающих обстоятельствах»[266].
Заслуживает внимания мнение Г. В. Шведкова, согласно которому в анализируемой норме отразились ложно понимаемые, а не действительные принципы гуманизма. «Подлинное человеколюбие и последовательное выполнение заложенного в законе принципа неприкосновенности личности безоговорочно требуют объявления недопустимым, преступным любого случая противоправного лишения жизни другого человека, независимо от того, какими мотивами при этом руководствовался виновный» .
Стоит заметить, что в одном из проектов Уголовного кодекса РФ 1996 г. предлагалась редакция ст. 106, призванная регламентировать уголовную ответственность за лишение жизни по волеизъявлению потерпевшего. Но законопроект не встретил одобрения.
В настоящее время наука серьезно заинтересовалась религиозными, философскими, психологическими и медицинскими аспектами эвтаназии. В такой ситуации велика опасность «утонуть» в прозаических рассуждениях о гуманности и законности.
Во избежание этого мы предлагаем обозначить следующие основные проблемы уголовно-правовой оценки причинения смерти с согласия жертвы:
– регламентация уголовной ответственности за эвтаназию;
– целесообразность дифференциации уголовной ответственности за убийство по просьбе или с согласия пострадавшего;
– определение допустимых способов уголовно-правовой оценки волеизъявления потерпевшего на причинение смерти.
Понятие «эвтаназия», получившее широкое распространение в отечественной и зарубежной науке, так же не однозначно, как и написание этого термина. Так, Большая Медицинская Энциклопедия (1986) дает[267] написание «этаназия», в литературе можно также встретить варианты «эфтаназия», «эутаназия». Термин «euthanasia» происходит от греческих слов: eu – хорошо и thanatos – смерть. Впервые этот термин был предложен в XVI в. английским философом Ф. Бэконом и обозначал легкую, безболезненную смерть, которая не сопровождается длительной тяжелой агонией, и не вызывает физических и моральных мучений для умирающего человека и его близких.
Эвтаназия получила широкое распространение в фашистской Германии при уничтожении «неполноценных людей»: инвалидов и престарелых. В 60-е годы XX в. проблема эвтаназии вновь была поднята, но уже в принципиально новом, гуманном аспекте. В настоящее время различают пассивную и активную эвтаназию.
Пассивная эвтаназия (так называемый «метод отложенного шприца») заключается в прекращении оказания направленной на продление жизни медицинской помощи, что ускоряет наступление естественной смерти.
Под активной эвтаназией («метод наполненного шприца») понимают введение умирающему каких-либо лекарственных или иных средств либо другие действия, влекущие за собой быстрое и безболезненное наступление смерти.
Выделяются следующие формы активной эвтаназии:
1) Убийство из милосердия – например, врач вводит безнадежному больному сверхдозу обезболивающего препарата, в результате чего наступает желанный смертельный исход.
2) Самоубийство, ассистируемое врачом – происходит, когда врач только помогает неизлечимо больному человеку покончить с жизнью.
3) Собственно активная эвтаназия – может происходить и без помощи врача. Пациент сам включает устройство, которое приводит его к быстрой и безболезненной смерти, как бы сам накладывает на себя руки[268].
Оставляя за рамками работы анализ этических проблем, остановимся лишь на уголовно-правовой оценке активной и пассивной эвтаназии.
Не вызывает сомнений то обстоятельство, что лицо, осуществляющее активную эвтаназию, подлежит уголовной ответственности за убийство. Это утверждение вытекает из анализа ст. 45 Основ законодательства РФ Об охране здоровья граждан 1993 г., в которой законодатель предусмотрел категорический запрет на удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти «какими-либо действиями или средствами, в том числе прекращением искусственных мер по поддержанию жизни».
Более спорной видится оценка случаев пассивной эвтаназии. Помимо упомянутой ст. 45, указывающей на ее запрет без учета обстоятельств и характера проведения, в Основах законодательства РФ Об охране здоровья граждан имеется ст. 33 «Отказ от медицинского вмешательства». Данная норма предусматривает, что гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, независимо от этапа его проведения. При этом больному в доступной форме должны быть изложены все последствия отказа от лечения, что оформляется соответствующей записью в медицинском документе и подписывается пациентом (в случае медицинского вмешательства в отношении лица, не достигшего 15 лет или невменяемого – законным представителем) и лечащим врачом. Налицо коллизия норм, когда одна из них категорически запрещает любой вид эвтаназии, а другая – допускает ее пассивную форму.
О возможности легального использования последней говорит то обстоятельство, что вынужденное бездействие врача вследствие отказа больного от медицинского вмешательства, обладает двумя непременными признаками пассивной эвтаназии:
– неоказание медицинской помощи по жизнеобеспечению или прекращение искусственных мер по поддержанию жизни;
– наличие просьбы самого больного не оказывать ему помощь (естественно, после информирования врачом в доступной форме о возможных последствиях отказа от медицинского вмешательства).
Важно отметить, что такая форма эвтаназии широко распространена в нашей стране и за рубежом. По данным Ю. А. Дмитриева и Е. В. Шленевой, в России насчитывается 20—30 тыс. случаев эвтаназии в год[269]. Для сравнения: по данным Американской медицинской ассоциации, в больницах США ежедневно умирает 6 тыс. человек, большая часть которых уходит из жизни в результате пассивной эвтаназии. Обращает на себя внимание тот факт, что решение о прекращении медицинского вмешательства принимает врач вместе с семьей пациента, в то время как общепринятым обязательным условием эвтаназии является информированное добровольное решение самого больного[270].
В настоящее время в России практически в каждом лечебном заведении разработана специальная форма расписки с указанием, о каких конкретно последствиях проинформирован больной[271]. Данная практика базируется на положениях ст. 33 «Отказ от медицинского вмешательства» и ст. 30 «Права пациента» Основ законодательства РФ Об охране здоровья граждан 1993 г. Указанный нормативный акт, в свою очередь, находится в полном соответствии с международно-правовыми нормами.
В целом изложенные выше обстоятельства свидетельствуют о правовой допустимости пассивной эвтаназии как средства избавления больного от страданий по его просьбе и только в терминальной стадии заболевания.
Отечественное законодательство и нормы международного права направлены против активной эвтаназии, но и здесь нет однозначного подхода к ее уголовно-правовой оценке.
Несмотря на то, что среди ученых, практиков и обывателей преобладает мнение о необходимости смягчения ответственности за убийство тяжело больного лица по его просьбе[272], практические работники вынуждены давать такому действию принципиально иную оценку.
Так, в соответствии с п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г «О судебной практике по делам об убийстве», по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) надлежит квалифицировать умышленное причинение смерти потерпевшему, неспособному в силу физического или психического состояния защитить себя, оказать активное сопротивление виновному, когда последний, совершая убийство, сознает это обстоятельство. К лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные и престарелые, малолетние дети, лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими их способности правильно воспринимать происходящее[273].
Позиция Пленума ВС РФ очевидна: умышленное причинение смерти тяжело больному, прикованному к постели лицу оценивается как квалифицированный состав убийства (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом мотивы совершенного преступления не влияют на квалификацию. Со справедливостью такой оценки сложно согласиться.
Необходим более дифференцированный подход законодателя к проблеме убийства лица по его просьбе. Очевидно, что типовая степень общественной опасности активной эвтаназии позволяет рассматривать просьбу больного в качестве возможного критерия для выделения привилегированного состава убийства.
В этой связи мы предлагаем предусмотреть в УК РФ ст. 1061 «Убийство по волеизъявлению потерпевшего» следующего содержания: «Убийство по просьбе или с согласия потерпевшего, – наказывается лишением свободы на срок до пяти лет».
Закрепление соответствующей нормы в УК РФ позволит разрешить ряд противоречий, возникающих при оценке убийства по волеизъявлению потерпевшего; отпадет необходимость рассматривать убийство тяжело больного как преступление, совершенное при отягчающих обстоятельствах. Возникнет конкуренция квалифицированного и привилегированного составов, и предпочтение будет отдаваться последнему.
Кроме того, закрепление предполагаемой новеллы в УК РФ явится важным шагом на пути законодательного закрепления согласия пострадавшего как обстоятельства, исключающего преступность деяния: установление уголовно-правового запрета на убийство с согласия жертвы легально определит границы правомерности причинения вреда по просьбе или с согласия пострадавшего.
В науке существуют и иные позиции относительно правовой оценки эвтаназии. В частности, М. Н. Малеина, Ю. А. Дмитриев, Е. В. Шленева, Ф. Фут выступают за ее легализацию[274]. Другие ученые предлагают дифференцировать уголовную ответственность за убийство, но при этом в качестве дифференцирующего обстоятельства называют мотив сострадания, а не волеизъявление потерпевшего[275].
Интересную позицию занимает А. В. Сумачев. Он не приемлет законодательный подход к учету согласия жертвы и предлагает организационно-применительный путь решения этой проблемы. Поддерживая тезис о необходимости смягчения ответственности за лишение человека жизни с его согласия, автор отмечает, что его выделение «в самостоятельный состав преступления нецелесообразно по ряду причин. Во-первых, Особенная часть УК в большей степени ориентирована на обычных граждан, тогда как многие положения Общей части существуют для профессионалов-юристов. Во-вторых, отражение убийства по согласию в Особенной части УК, предусматривающей значительное смягчение наказания в сравнении с простым убийством, может спровоцировать граждан (врачей, наследников и т. п.) на соответствующие действия. В-третьих, согласие человека на причинение ему смерти со стороны третьих лиц в принципе не утрачивает своего уголовно-правового значения. Такое согласие обязательно будет учитываться судьей при назначении наказания виновному в качестве “исключительного обстоятельства” в порядке ст. 64 УК РФ»[276].
Вступая с автором в своеобразную дискуссию, считаем необходимым отметить несостоятельность некоторых его доводов.
Во-первых, если понимать под провокацией «умышленные односторонние действия лица, направленные на вовлечение в совершение преступления провоцируемого с целью изобличения последнего в содеянном»[277], трудно согласиться с утверждением, что Уголовный кодекс «провоцирует» наследников и врачей на совершение преступления. Особенно если учитывать, что убийство обусловливается добровольным, конкретным, истинным и предварительным согласием потерпевшего.
Во-вторых, учет волеизъявления жертвы при назначении наказания виновному в качестве «исключительного обстоятельства» в порядке ст. 64 УК РФ не позволит в полной мере оценить характер и степень общественной опасности деяния и личности виновного.
Приведем пример: убийство из сострадания тяжело больного по его просьбе будет квалифицироваться по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Если же под влиянием уговоров здоровый человек соглашается быть убитым, действия виновного квалифицируются по ч. 1 ст. 105, где предусмотрена значительно более мягкая санкция.
В целом можно заключить, что согласие лица на причинение смерти в российском законодательстве не исключает уголовную ответственность и деяние квалифицируется как убийство. Вместе с тем, в отечественном праве отсутствуют четкие юридические правила оценки волеизъявления жертвы на причинение смерти. Единственно допустимым средством учета общественной опасности деяния и личности виновного при убийстве с согласия жертвы является институт обстоятельств, смягчающих наказание (ст. 61 УК РФ), а также правила назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК РФ). Однако анализ типовой степени общественной опасности деяния и личности виновного дают основания для дифференциации уголовной ответственности путем построения привилегированного состава убийства по волеизъявлению жертвы.
2. Дискуссионным в науке уголовного права является также вопрос об уголовно-правовой оценке причинения вреда здоровью с согласия жертвы.
В начале XX в. Н. С. Таганцев определял критерии разграничения преступного и непреступного посягательств на здоровье, исходя из различия нравственной и физической направленности деяния. Он отмечал, что при посягательствах на телесную неприкосновенность в целях причинения нравственных страданий согласие уничтожает преступность деяния. Если же цель иная, деяние следует признавать преступным[278]. Принципиально иную позицию по этому вопросу занимал Л. С. Белогриц-Котляревский. Выступая категорически против признания посягательств на телесную неприкосновенность непреступными, автор отмечал, что «поставляя своей задачей развитие, возвышение личности гражданина, государство не может допустить попрания этой личности, хотя бы с ее согласия»[279].
Противоположного мнения придерживался И. Я. Фойницкий. Он полагал, что «повреждения, нанесенные с согласия пострадавшего, не преступны, ибо отказ от блага телесной неприкосновенности возможен»[280].
Выделяя в понятии «телесные повреждения» два вида насилия: причинение мимолетной физической боли и телесные повреждения в собственном и тесном смысле слова, С. В. Познышев отмечал, что «при причинении насильственных действий первого вида по воле потерпевшего преступность деяний отсутствует, а при нанесении телесных повреждений деяние признается преступным, поскольку субъект доказывает, что у него нет должного уважения к личности другого человека»[281].
В советский период уголовно-правовая оценка причинения вреда здоровью ставилась в зависимость от степени тяжести телесных повреждений и способов их причинения.
В частности, А. А. Жижиленко, И. Я. Козаченко говорили о правомерности причинения вреда здоровью с согласия пострадавшего[282].
Напротив, А. А. Пионтковский, Н. И. Загородников, А. Н. Красиков решение вопроса об уголовной ответственности за причинение телесных повреждений ставили в зависимость от способов его причинения, социальной полезности и целей деяния[283].
Отстаивая необходимость наказуемости причинения вреда с согласия пострадавшего, С. В. Бородин и Л. Л. Кругликов оговаривают случаи правомерного причинения вреда, например, при трансплантации органов и (или) тканей человека[284].
В настоящее время в среде ученых по-прежнему не выработано единой уголовно-правовой оценки посягательств на здоровье личности с ее согласия.
По мнению А. В. Иващенко, вопрос о наказуемости подобных деяний должен решаться в рамках, установленных для преступлений, преследование по которым может быть прекращено по инициативе потерпевшего[285].
Во многом похожую позицию занимает Ю. М. Ткачевский. Он отмечает, что с согласия пострадавшего допустимо причинение только легкого вреда здоровью. При этом отнесение последнего к делам частного обвинения означает не согласие потерпевшего на такие действия, а его отказ от возможного уголовного преследования своего обидчика по тем или иным соображениям[286]. С данной позицией следует согласиться.
В соответствии со ст. 20 УПК РФ уголовное преследование осуществляется в частном порядке по следующим категориям дел: ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»); ст. 117 («Побои»); ч. 1 ст. 129 («Клевета») и ст. 130 («Оскорбление»). Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных этими статьями, возбуждаются не иначе, как по заявлению потерпевшего и подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.
Не вызывает сомнений то обстоятельство, что при наличии предварительного, добровольного согласия потерпевшего на причинение легкого вреда здоровью, а равно побоев, причинитель не несет уголовной ответственности. Но происходит это не по причине правомерности совершенного деяния, а ввиду отсутствия юридического факта для начала преследования в уголовно-процессуальном порядке.
Подобная ситуация наблюдается и в случае совершения преступлений, уголовное преследование по которым осуществляется в порядке частно-публичного обвинения. Речь идет о преступлениях против половой свободы и неприкосновенности (ч. 1 ст. 131 и ч. 1 ст. 132 УК РФ) и преступлениях против конституционных прав человека и гражданина (ч. 1 ст. 136—139, 145—147 УК РФ).
Соглашаясь по существу с позицией А. В. Иващенко и Ю. М. Ткачевского относительно правомерности причинения легкого вреда здоровью, считаем необходимым отметить, что данная точка зрения не соответствует буквальному толкованию закона.
На основании анализа положений УК РФ и УПК РФ можно заключить, что, поскольку уголовно-правовая природа причинения вреда не тождественна правовой природе возбуждения уголовного преследования, причинение тяжкого, средней тяжести или легкого вреда здоровью должно признаваться преступным. Данное утверждение, однако, не является безусловным.
Пределы отчуждения субъективных прав личности необходимо определять в зависимости не только от характера охраняемого права, но и от общественной значимости способов его нарушения. На основе изложенных ранее выводов можно предположить, что согласие потерпевшего будет исключать преступность причинения вреда в случаях медицинского вмешательства, донорства, при производстве аборта и пр.
Очевидно, что уголовный закон на современном этапе не в состоянии дать обоснованную и справедливую оценку волеизъявлению пострадавшего при рассмотрении типовой и индивидуальной степени общественной опасности причинения вреда здоровью.
Выступая за необходимость введения в УК РФ привилегированного состава убийства по волеизъявлению потерпевшего, считаем возможным дальнейший процесс дифференциации уголовной ответственности посредством закрепления в законе нормы ст. 1131 «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по волеизъявлению потерпевшего» следующего содержания:
«Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью с согласия потерпевшего на причинение такого вреда, – наказывается ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на тот же срок».
Подобная норма позволила бы более дифференцированно подходить к анализу причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, обусловленного согласием потерпевшего. Она позволила бы также признавать непреступным причинение легкого вреда здоровью и побоев с согласия жертвы.
В настоящее время важным является вопрос об уголовной ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией. Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. «О внесении изменений в УК РФ» законодатель предусмотрел примечание к ст. 122 УК. В нем говорится, что лицо, заведомо поставившее другое лицо в опасность заражения или заразившее ВИЧ-инфекцией, освобождается от уголовной ответственности в случае, если другое лицо, поставленное в опасность заражения или зараженное ВИЧ-инфекцией, было своевременно предупреждено о наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность заражения.
Социальная обусловленность, а равно законодательная точность рассматриваемой дефиниции вызывают серьезные сомнения.
Во-первых, остается неясным, чем руководствовался законодатель, по сути декриминализируя «убийство в рассрочку». Как известно, вирус иммунодефицита является возбудителем опаснейшего заболевания, при котором поражается и разрушается иммунная система организма человека. СПИД обоснованно называют «чумой XX века» из-за скорости распространения, отсутствия эффективных лекарственных средств, а также летального исхода заболевания. В силу того, что ВИЧ-инфекция на современном этапе развития медицины не излечивается, можно предположить, что при умышленном заражении имеет место растянутое во времени убийство. Последнее же, независимо от характера волеизъявления потерпевшего, не исключает уголовной ответственности.
Во-вторых, ситуация выглядит еще более странной ввиду того, что согласие лица, добровольно вступившего в половой контакт с больным венерическим заболеванием (сифилис, гонорея, мягкий шанкр, лимфогранулематоз паховый, гранулема венерическая), не исключает уголовной ответственности. Непоследовательность законодателя проявляется в том, что он ставит лицо, заразившее другого ВИЧ-инфекцией, в привилегированное положение по сравнению с лицом, заразившим кого-либо венерической болезнью, в то время как в других составах преступления дифференциация уголовной ответственности осуществляется совершенно иначе.
В частности, при разграничении ответственности за изнасилование заражение венерической болезнью является квалифицирующим признаком (п. «г» ч. 2 ст. 131 УК РФ), а заражение ВИЧ-инфекцией – особо квалифицирующим (п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ).
Логичным видится расширение сферы действия примечания к ст. 122 УК на случаи заражения другого лица венерической болезнью лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, при информированном и добровольном согласии первого на совершение действий, создающих опасность заражения венерической болезнью (ч. 1 ст. 121), а равно на случаи заведомого поставления другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией при тех же условиях (ч. 1 ст. 122).
В-третьих, законодательную формулировку примечания к ст. 122 УК трудно признать совершенной. С одной стороны, законодатель говорит об освобождении от уголовной ответственности, и буквальное толкование нормы позволяет предположить, что речь идет о специальных правилах освобождения от уголовной ответственности (частных случаях деятельного раскаяния). С другой, императивный характер нормы, обязывающей освободить лицо от уголовной ответственности и обязательность предварительного согласия «потерпевшего» на действия, создающие опасность заражения ВИЧ-инфекцией, позволяют утверждать, что примечание к ст. 122 УК РФ представляет собой специальное обстоятельство, исключающее преступность деяния. Иными словами, рассматриваемое примечание содержит в себе специальную разновидность непреступного причинения вреда с согласия жертвы.
Не имея особых возражений против регламентации случаев исключения уголовной ответственности за деяния, обусловленные волеизъявлением жертвы, мы считаем возможным и целесообразным несколько изменить формулировку примечания к ст. 122 УК РФ и изложить его следующим образом:
«Не подлежит уголовной ответственности лицо, совершившее деяния, предусмотренные частью первой статьи 121 или частью первой статьи 122, если другое лицо, зараженное венерической болезнью либо поставленное в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, было своевременно предупреждено о наличии у первого этой болезни и добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность заражения».
3. Ранее проблема уголовной ответственности за деяния, ущемляющие свободу лица с его согласия, не подлежали детальному научному рассмотрению.
В начале XX столетия С. В. Познышев писал: «Если человек соглашается быть по тем или иным причинам запертым куда-либо, то лишающий свободы действует без сознания насильственности своих действий; он сознает также, что добровольное лишение себя свободы не чувствуется субъектом так болезненно, как принудительное лишение свободы. И здесь воля действующего совсем иная, чем в действительных преступлениях против свободы»[287].
Аналогичную позицию занимал Н. С. Таганцев. По его мнению, «не может считаться преступником тот, кто запер другого в комнате по его просьбе или связал ему руки»[288].
В советской и российской доктрине ученые ограничивались лишь констатацией того факта, что преступления, посягающие на свободу личности, совершаются против ее воли.
В этой связи возникает вопрос: правомерно ли ущемление свободы человека при наличии на то его согласия?
Сложность правовой оценки подобного деяния затруднено введением в УК РФ новых составов: ст. 1271 «Торговля людьми» и ст. 1272 «Использование рабского труда» и назывным характером диспозиций ст. 126, 127, 128 УК РФ и пр.
Обращаясь к проблеме торговли людьми и использования рабского труда, Н. С. Таганцев отмечал, что «не может быть наказан за посягательство на свободу тот, кто обращается с каким-либо лицом как с рабом, если только на это было дано согласие и в условиях действия нет нарушения каких-либо общественных интересов»[289]. Свою позицию он обосновывал следующим образом: существование известного гражданского положения о том, что недействительны договоры, противные добрым нравам, и что, в частности, недействителен договор, в силу коего одно лицо становилось бы рабом или крепостным другого, не противоречит установленному выше началу, так как это положение свидетельствует только, что государство не допускает права требовать осуществления такого договора и дает право заключившему его не исполнить соглашения; но отсюда нельзя вывести уголовной ответственности лица, воспользовавшегося добровольным осуществлением такого договора со стороны обязавшегося, если, конечно, учиненное не составляет особо наказуемого деяния[290]. С данной позицией сложно согласиться. Если уголовный закон преступность деяния будет связывать с наступлением реальных преступных последствий, то все составы в УК РФ будут носить материальный характер.
Предпочтительной представляется позиция Л. С. Белогриц-Кот-ляревского, который высказывался категорически против признания правомерными случаев торговли людьми и использования рабского труда. Критикуя позицию Н. С. Таганцева, Кесслера и Ортмана, исследователь отмечает: «Согласие пострадавшего лишено безусловного значения даже при посягательствах на имущество и честь, не говоря уже о посягательствах на свободу.. Кодексы многих культурных стран объявляют наказуемым торг невольниками и продажу в рабство, а также сманивание женщин для продажи в гарем и в дома терпимости, хотя бы эти акты были учинены и с согласия потерпевшего; запрещая, безусловно, таким образом, институты, несовместные с развитием гражданственности и с правом личности на свободу и целостность тела, государство тем самым как бы подразумевает преступность лишения или ограничения этих прав вообще, независимо от воли их субъекта»[291].
Полагаем, что установление уголовно-правового запрета на торговлю людьми и использование рабского труда обусловлено не только необходимостью охраны отдельной личности от посягательств на ее свободу, но и важностью обеспечения и реализации основных принципов государства, запрещающих рабство и работорговлю. Положения Российской Конституции, регламентирующие охрану свободы личности (ст. 2 и ст. 22 Конституции РФ 1993 г.), корреспондируют со ст. 4 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. (никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех видах). Устанавливая уголовно-правовой запрет на торговлю людьми и использование рабского труда, Россия выполняет взятые на себя международно-правовые обязательства и имплементирует в национальное уголовное законодательство нормы международного права[292].
В настоящее время деяния, предусмотренные ст. 1271 и ст. 1272 УК РФ, должны оцениваться не только как посягательства на личную свободу человека, но и как крайне опасные антисоциальные явления, нарушающие гарантированные международно-правовыми и национальными документами неотъемлемые права человека и причиняющие существенный вред государственным и частным интересам. С этой позиции очевидным является тот факт, что торговля людьми, а равно использование рабского труда должны оцениваться правоприменителем как преступные деяния, независимо от воли пострадавшего.
Решение вопроса об уголовно-правовой оценке согласия лица на похищение затрудняется назывным характером диспозиции ст. 126 УК РФ.
В доктрине уголовного права под похищением человека обычно понимаются умышленные противоправные действия, направленные на тайный или открытый захват и изъятие живого человека из привычной среды обитания помимо его воли, перемещение его и удержание в установленном месте, совершенное путем психического, физического насилия или обмана[293].
Очевидно, что общественная опасность похищения в значительной мере обусловлена тем, что посягательство совершается помимо воли потерпевшего. Это обстоятельство должно найти свое отражение в описательной диспозиции ч. 1 ст. 126 УК РФ, и мы предлагаем следующую ее редакцию:
«Похищение человека, т. е. совершенные против воли потерпевшего умышленные противоправные действия, направленные на тайный или открытый захват и изъятие живого человека из привычной среды обитания, перемещение его и удержание в установленном месте, совершенное путем психического, физического насилия или обмана».
Реализация данного предложения на практике позволила бы разграничить случаи правомерного и противоправного захвата, перемещения и удержания лица по признаку наличия либо отсутствия его согласия, а равно способствовала бы решению проблем квалификации похищения и отграничения его от смежных составов.
Обращаясь к проблеме незаконного лишения свободы и незаконного помещения в психиатрический стационар, следует также отметить несовершенство диспозиций ст. 127 и ст. 128 УК РФ. Их назывной характер не позволяет дать однозначный ответ на вопрос о правомерности этих деяний, совершенных с согласия пострадавшего.
Полагая, что лишение свободы по воле лица, равно как и его помещение в психиатрический стационар не являются преступлениями при соблюдении прочих требований закона, считаем возможным конкретизировать их противоправность и несколько изменить диспозицию норм.
В науке уголовного права нет единства мнений относительно незаконного лишения свободы. Под ним понимаются и «лишение свободы вопреки судебному решению»[294], и «действия виновного вопреки согласию и воле потерпевшего»[295]. Подходя расширительно к толкованию термина «незаконность», мы склонны относить к незаконным случаи лишения свободы и вопреки судебному решению, и вопреки воли пострадавшего. Во избежание противоречий и проблем в правоприменительной деятельности предлагаем изменить редакцию диспозиции ч. 1 ст. 127 УК РФ, указав:
«Незаконное, то есть против воли потерпевшего или вопреки судебному решению лишение человека свободы, не связанное с его похищением, – наказывается…»
Диспозицию ч. 1 ст. 128 УК РФ целесообразно сформулировать следующим образом:
«Незаконное, то есть против воли потерпевшего или вопреки судебному решению помещение лица в психиатрический стационар, – наказывается…»
4. Ранее мы раскрывали свою позицию относительно уголовно-правовой оценки согласия потерпевшего при посягательствах на честь и достоинство. Считая излишним полное воспроизведение рассмотренных выше положений и доводов, остановимся только на наиболее принципиальных моментах:
– исходя из специфики причинения вреда чести и достоинству, когда ущерб наносится посредством изменения оценки человеческих качеств окружающими и самой личностью, представляется, что в случае волеизъявления лица на осуществление объективно оскорбительных действий, деяние не признается преступным, поскольку отсутствует сам факт преступных последствий;
– как известно, одним из требований законодательной техники является применение в разных частях законодательства одного и того же термина в одном и том же значении. Данное правило остается непреложным и при квалификации специальных случаев оскорбления (ст. 297, 319, 336 УК РФ). Исходя из этого, можно заключить, что согласие представителя власти (конкретно-специального лица) на объективно унизительные действия в отношении себя также уничтожает преступность деяния.
5. Сложности в оценке пределов допустимого ущемления половой свободы и неприкосновенности личности с ее согласия объясняются двойственностью объекта рассматриваемых деяний, а также несовершенством конструкций составов ст. 131—135 УК РФ.
В этой связи приоритетным видится решение следующих задач при оценке деяний, посягающих на половую свободу и неприкосновенность:
– установление уголовно-правовой значимости согласия пострадавшего и охрана половой неприкосновенности личности;
– определение пределов волеизъявления лица в рамках реализации его половой свободы;
– оценка границ допустимого согласия лица при насильственных половых действиях.
Правовую оценку посягательства законодатель ставит в зависимость от его направленности, выделяя в числе объектов правовой охраны половую свободу и половую неприкосновенность.
Рискнем предположить, что согласие лица, достигшего 16 лет, на половое сношение или иные действия сексуального характера является формой реализации им своей половой свободы и исключает преступность деяния.
Действия, направленные на половую неприкосновенность лица, напротив, вне зависимости от его волеизъявления признаются преступным.
Поскольку формы сексуальных отношений на добровольной основе могут быть различными, важно заострить внимание на так называемых нетипичных способах получения сексуального удовлетворения: мазохизм, садизм, садомазохизм.
Буквальное толкование ст. 131 и 132 обнаруживает коллизию в УК РФ. С одной стороны, законодатель признает свободу лица, достигшего определенного возраста, на удовлетворение своих сексуальных потребностей любым способом, а с другой, ограничивает применение насилия при половом контакте, оценивая деяние как изнасилование или насильственное действие сексуального характера.
В частности, признавая изнасилованием половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей (ч. 1 ст. 131 УК РФ), законодатель не указывает на такой существенный признак противоправности деяния, как его совершение против воли лица.
В целях разрешения данного противоречия предлагаем изменить диспозиции ч. 1 ст. 131 и ч. 1 ст. 132 УК РФ и сформулировать их следующим образом:
«1. Изнасилование, то есть совершенное против воли потерпевшей половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей»;
«1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, совершенные против воли потерпевшего (потерпевшей) с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей)».
Такая законодательная конструкция существенным образом облегчит уголовно-правовую оценку сексуальных действий, совершенных с согласия лица, и придаст последовательность процессу дифференциации уголовной ответственности за сексуальные преступления. Она позволит также гарантировать свободу личности на удовлетворение половых потребностей.
Более того, закрепление дополнительного признака противоправности половых преступлений позволит более последовательно подойти к оценке насилия при добровольном сексуальном контакте. Думается, вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда должен решаться в соответствии с обозначенными ранее пределами правомерности действий, направленных на здоровье личности, с ее согласия.
6. Анализируя влияние частного интереса на уголовно значимые случаи нарушения конституционных прав и свобод человека и гражданина, следует обратиться к типологизации деяний, предусмотренных в главе 19 УК РФ.
В теории уголовного права в зависимости от характера непосредственного объекта принято выделять три группы преступлений:
– посягающие на политические права и свободы человека и гражданина;
– посягающие на социальные права и свободы;
– направленные на нарушение личных прав и свобод человека и гражданина[296].
Не вызывает сомнений тот факт, что пределы правомерности действий, направленных на нарушение конституционных прав и свобод человека, в первую очередь определяются характером такого нарушения. Если в результате деяния страдает не только изъявившее согласие лицо, но и порядок реализации конституционных прав и свобод человека, волеизъявление потерпевшего не может рассматриваться как обстоятельство, исключающее преступность содеянного.
Что касается приведенной выше типологизации преступлений, то только в третье группе деяний согласие жертвы исключает уголовную ответственность. К деяниям, правомерность которых определяет волеизъявление пострадавшего, можно отнести следующие: нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ); нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138); нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139); нарушение авторских и смежных прав (ст. 146) и нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ).
Данное положение нельзя признать безусловным: согласие пострадавшего исключает преступность нарушений личных конституционных прав человека и гражданина только в случаях, если эти права и свободы выступают основным непосредственным объектом посягательства.
7. Уголовно-правовое значение согласия потерпевшего при посягательствах на интересы семьи и несовершеннолетних во многом определяется ценностью охраняемых законом благ.
Проведенный нами анализ позволил заключить, что волеизъявление пострадавшего может исключать уголовную ответственность только при разглашении тайны усыновления (удочерения). Данный вывод основывается на положениях ст. 155 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления (удочерения) как служебную или профессиональную тайну, либо иным лицом из корыстных или иных низменных побуждений.
При совершении иных деяний, предусмотренных главой 20 УК РФ, уголовная ответственность виновного наступает независимо от воли потерпевшего.
8. Дискуссионной для отечественной теории уголовного права является проблема определения границ отчуждения имущественных прав личности с ее согласия.
Вопрос о правовом значении согласия на отчуждение имущественных прав стоит на стыке гражданского и уголовного права.
С одной стороны, ч. 1 ст. 209 ГК РФ в числе основных правомочий собственника называет право владения, пользования и распоряжения, а с другой – способ реализации данных правомочий в ряде случаев носит уголовно наказуемый характер.
Н. С. Таганцев, исследуя данную проблему, отмечал: «Согласие обладателя нарушенного интереса устраняет преступность имущественных посягательств в виде захвата имущества или его истребления, так как передача, уступка имущества, хотя бы для его уничтожения, составляет для его обладателя, по общему правилу, несомненное право. Весь вопрос сводится только к точному установлению, принадлежит ли уступившему право на уступленный интерес и в каком объеме: с согласия собственника дома этот дом может быть разрушен до основания, но он не может быть сожжен, как скоро вокруг него находятся чужие строения»[297].
В советский период справедливость данного подхода практически не подвергалась сомнению. Так, например, А. Н. Красиков отмечал, что уничтожение, изъятие, обращение в собственность, а равно повреждение чужого имущества с согласия собственника есть не что иное, как следствие осуществления собственником своего субъективного права[298].
Соглашаясь с приведенным выше мнением, считаем необходимым указать на то, что правомочия собственника нередко ограничиваются публичными интересами, которые исключают признание деяния правомерным.
В целом, анализ границ частного интереса при отчуждении собственником имущественных прав позволил прийти к следующим выводам:
– согласие лица на отчуждение, повреждение, а равно уничтожение своего имущества является формой выражения одного из непременных правомочий собственника – права распоряжения имуществом;
– выражение воли собственника на отчуждение, повреждение или уничтожение имущества исключает уголовную ответственность третьих лиц, если соблюдены требования допустимости согласия (иными словами, пострадавший дает согласие на причинение вреда имуществу, находящемуся в его личной собственности);
– имущество собственника не должно быть предметом преступлений, предусмотренных ст. 243 УК РФ;
– и, наконец, способ отчуждения имущества не должен носить общественно опасного и противоправного характера.
Глава III Иные правовые институты, расширяющие частные начала в уголовном праве
3.1. Институт примирения с потерпевшим в системе диспозитивных начал уголовного права России
Одним из относительно новых, но перспективных направлений развития частных начал в российском уголовном праве является институт освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Согласно ст. 76 УК РФ 1996 г. «лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред». Несмотря на то обстоятельство, что нормативные предписания ст. 76 УК РФ являются в настоящее время единственным официально закрепленным способом отражения частных интересов потерпевшего в уголовном праве, их практическая реализация не позволяет достигать тех социально значимых задач, которые перед этой нормой поставлены.
Объяснение данной ситуации видится в низком уровне юридической техники ст. 76 УК РФ. В числе недостатков анализируемой нормы можно назвать как элементарные стилистические погрешности, так и ошибки, в основе которых лежит неверное восприятие социальной направленности уголовного закона, его фундаментальных понятий и категорий.
Первая проблема, с которой приходится сталкиваться правоприменителю, касается определения основания данного вида освобождения от уголовной ответственности.
Понимая под основанием «явление, выступающее как необходимое и достаточное условие какого-либо другого явления»[299] и усматривая в анализируемом виде освобождения от уголовной ответственности дискреционный характер, полагаем, что основание освобождения слагается из двух непременных элементов: факта примирения с потерпевшим и положительного решения государственного органа о возможности освобождения. С этих позиций сложно признать обоснованным мнение тех авторов, которые основанием освобождения считают только событие примирения с потерпевшим[300].
Характерно, что именно определение понятия «примирение с потерпевшим» вызывает наибольшие споры в теории уголовного права.
В частности, Н. Д. Сухарева рассматривает его как «акт обоюдного добровольного поведения потерпевшего и лица, совершившего преступление, в результате которого достигается юридически значимое соглашение. Примирение – это юридический акт, имеющий правопрекращающий характер»[301]. Безусловно, примирение является обоюдным добровольным поведением сторон, однако данное обстоятельство еще не говорит о том, что это поведение само по себе есть достаточное основание для применения ст. 76 УК РФ. Свидетельство тому – прямое указание в законе на возможность, а не на необходимость освобождения виновного от уголовной ответственности.
Возражения вызывает также точка зрения Г. М. Якобашвили. Под примирением он понимает «заявление потерпевшего об отказе от ранее поданного им заявления о привлечении лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности либо его волеизъявление о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого в связи с достижением с ним согласия и мира»[302].
Думается, нельзя признать обоснованным рассмотрение материально-правового понятия через анализ определенных процессуальных действий. Взаимосвязь уголовной и уголовно-процессуальной отраслей права в настоящее время является впечатляющей, однако, у нас нет оснований стирать границы между ними, заниматься заимствованием понятий и проецированием их признаков на понятия другой отрасли. Более того, логически недопустимо определять причину через результат, т. е. факт примирения через подачу заявления о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого.
Непоследователен в трактовке понятия «примирение с потерпевшим» Х. Д. Аликперов. С одной стороны, он рассматривает его как «акт компромисса, достигнутого не столько между виновным и потерпевшим, сколько между государством и преступником»[303], а с другой – видит в нем «отказ потерпевшего от поданного им заявления о привлечении лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности»[304]. Приведенные выше определения одного и того же института, на наш взгляд, не столько дополняют, сколько противоречат друг другу. В первом случае автор усматривает основу примирения во взаимоотношении государства и преступника (не разъясняя, какая роль в этом компромиссе отводится пострадавшей стороне), а во втором – между государством и потерпевшим, игнорируя волю лица, совершившего преступление (в то время как положительное значение примирения заключается в достижении соглашения между преступником и потерпевшим).
Многие исследователи рассматривают сущность примирения через анализ его последствий и понимают под ним «отказ потерпевшего от просьбы привлечь виновного к уголовной ответственности либо просьбу прекратить уголовное дело, возбужденное по его заявлению»[305], а равно «снятие потерпевшим своих претензий к лицу, совершившему преступление»[306].
Констатация того факта, что в большинстве случаев при примирении «последнее слово» остается за потерпевшим (т. е. именно он решает, достигнуто ли примирение), позволяет некоторым авторам сводить эту процедуру исключительно к прощению потерпевшим виновного.
Так, например, Л. В. Головко полагает, что речь в ст. 76 УК РФ должна идти не о примирении потерпевшего и лица, совершившего преступление, а о прощении со стороны потерпевшего, поскольку «примирение уместно в тех случаях, когда идет противоборство и в этом противоборстве обе стороны, образно говоря, не правы. Здесь же одно лицо посягает на права другого, есть лицо, совершившее преступление, есть потерпевший от этого преступления»[307]. Автор по-новому трактует понятие «прощение», выделяя в числе его обязательных предпосылок возмещение причиненного преступлением вреда и принесение извинения потерпевшему виновным в форме, удовлетворяющей потерпевшего[308].
В русском языке под примирением понимается «восстановление согласия»[309] или «действия по прекращению ссоры, тяжбы»[310]. Во всех без исключения случаях примирение представляет собой процедуру достижения между сторонами определенного консенсуса, согласия по интересующему их вопросу. В силу многостороннего (как минимум, двустороннего) характера подобных отношений их не следует сводить к волевым актам одной стороны, в частности к процедуре прощения.
В целом, под примирением с потерпевшим целесообразно рассматривать обоюдное и добровольное соглашение, компромисс между потерпевшим и преступником.
Данное определение применимо, однако, к самому понятию «примирение», а не к институту освобождения от уголовной ответственности. Примирение с потерпевшим в ст. 76 УК РФ выступает юридическим условием освобождения от уголовной ответственности только в совокупности с решением соответствующего государственного органа.
Последнее обстоятельство позволяет некоторым исследователям утверждать, что «примирение с потерпевшим относится к уголовно-правовому институту медиации»[311].
Медиационные отношения, как известно, всегда являются трехсторонними. Они предполагают участие потерпевшего, виновного и государства, которое через свои уполномоченные органы осуществляет контроль за процессом поиска компромисса между сторонами конфликта.
В нашем случае примирение – это двусторонние отношения между потерпевшим и виновным, которые являются основанием для дальнейшего развития отношений «государство – преступник» и «государство – потерпевший» в рамках освобождения от уголовной ответственности (правовой медиации).
Под медиацией мы понимаем специфический уголовно-правовой механизм урегулирования конфликта в обществе, возникшего в результате совершения преступления, реализуемый в виде совокупности взаимонаправленных юридически значимых действий участников конфликта при посреднической роли государственных органов. На этом основании следует дифференцировать различные по своему характеру правовые явления: примирение с потерпевшим и медиационные отношения.
Обратимся к анализу последних.
Субъектами медиационных отношений являются:
1) потерпевший;
2) лицо, совершившее преступление, или субъект преступления;
3) государство в лице уполномоченных органов.
Правовой статус потерпевшего применительно к рассматриваемому институту крайне противоречив. В целом, в теории уголовного права можно выделить следующие позиции, касающиеся потерпевшего как субъекта примирения.
Одни авторы рассматривают его только как материальную фигуру. Так, Г. Р. Якобашвили видит в потерпевшем лицо (физическое или юридическое), которое непосредственно пострадало от совершения преступления[312], а Н. Д. Сухарева – «любого человека, в отношении которого совершено преступление и которому в результате этого причинен либо мог быть причинен моральный, физический или имущественный вред»[313].
Иную позицию занимает А. В. Ендольцева. Справедливо отмечая комплексность института примирения с потерпевшим, автор необоснованно рассматривает «потерпевшего» только как признак преступления, заключая, что его уголовно-правовое понятие уже процессуального, «поскольку есть множество преступлений, в которых с точки зрения уголовного права нет потерпевшего, так как виновный посягает не на личность, а на иные объекты»[314]. Ранее нами раскрывалась наша собственная позиция относительно уголовно-правового статуса потерпевшего. Не повторяясь, отметим лишь, что признание или непризнание лица потерпевшим от преступления зависит не только от того, предусматривает ли состав преступления такой факультативный признак, как наличие потерпевшего, или нет.
По нашему мнению, потерпевшим в уголовном праве России должно признаваться лицо, законные права и интересы которого нарушены при совершении преступного посягательства. Однако если рассматривать примирение с потерпевшим как комплексный институт, следует признать, что одного лишь уголовно-правового статуса потерпевшего недостаточно для того, чтобы лицо выступило стороной медиационных отношений. Поскольку сторонами в этих отношениях являются не только потерпевший и преступник, но и государство в лице своих специализированных органов, эти отношения предполагают определенную процессуальную процедуру, которая, в свою очередь, невозможна без участия в ней лиц, обладающих процессуальным статусом.
Несомненно, пострадавшее лицо имеет право пойти с преступником на примирение с момента совершения преступления, однако для возникновения медиационных отношений такое лицо должно обладать не только правовыми, но и процессуальными признаками потерпевшего.
В теории и на практике наибольшие сложности вызывает вопрос о правоспособности потерпевшего как субъекта примирения.
Согласно ч. 2 ст. 17 ГК РФ общая правоспособность лица возникает в момент его рождения и прекращается смертью. Гражданская дееспособность физического лица по общему правилу в полном объеме возникает по достижении восемнадцатилетнего возраста (ст. 21 ГК РФ). С совершеннолетием связывается способность лица являться полноценным участником практически всех общественных отношений, поэтому этот возраст и считается возрастом общегражданской дееспособности. Но гражданское право наделяет определенной мерой дееспособности и несовершеннолетних. Также поступает и российский уголовный закон в отношении субъекта преступления. При этом он не устанавливает минимальный возраст потерпевшего, что нельзя не признать справедливым и разумным.
Придание лицу статуса потерпевшего не должно зависеть от его возраста и дееспособности. Иное решение вопроса поставило бы под сомнение социальную значимость уголовного закона, призванного охранять личность от преступных посягательств, особенно в тех ситуациях, когда сам потерпевший не в состоянии защитить себя в силу физической или психической беспомощности.
Неспособность лица в ряде случаев самостоятельно реализовывать свои права в рамках уголовно-правовых отношений позволила некоторым авторам выдвинуть и обосновать точку зрения о необходимости достижения потерпевшим дееспособности как непременного условия примирения в рамках ст. 76 УК РФ.
В частности, Е. В. Давыдова, А. Г. Кибальник и И. Г. Соломоненко отмечают, что «признание в гражданском порядке несовершеннолетнего полностью дееспособным должно создавать его полную уголовно-правовую дееспособность»[315]. Включая категорию «дееспособность» в сферу материального права, авторы не дают сколько бы то значимого обоснования своему предложению. Более того, они не соотносят его с вменяемостью применительно к потерпевшему и преступнику.
Полагаем, что в уголовном праве потерпевший независимо от возраста может изъявлять свою волю. Однако с позиции процессуального закона он не имеет права самостоятельно осуществлять свои правомочия при проведении процедуры примирения. На стороне потерпевшего выступают законные представители, действующие от его имени.
Рассмотрим ситуацию, когда потерпевшим является несовершеннолетний. Поскольку примирение с преступником является достаточно сложной юридической процедурой, имеющей важное значение для дальнейшей судьбы несовершеннолетнего, УПК РФ в п. 2—3 ст. 45 закрепляет положение, согласно которому при совершении процессуальных действий должны обязательно присутствовать законные представители несовершеннолетнего или недееспособного потерпевшего. Думается, процедура примирения не является исключением, и она также требует участия законных представителей. При этом несовершеннолетние лица принимают решение о примирении самостоятельно, а их законные представители лишь следят за тем, чтобы несовершеннолетний понимал суть и последствия происходящего. Очевидно, что с позиции материального права эти представители не будут признаваться потерпевшими и, следовательно, участниками примирения. Их роль в медиационных отношениях можно, пожалуй, определить как посредничество.
Более сложным представляется вопрос об участии в примирении малолетних потерпевших. Н. Д. Сухарева по этому поводу пишет следующее: «Если в гражданском праве возможно осуществление прав посредством института представительства, то современное уголовное законодательство данного института не знает. Тем не менее, в рамках уголовного процесса законный представитель малолетнего или невменяемого потерпевшего может осуществлять его материальные права, а следовательно, быть субъектом примирения»[316].
Разрешение вопроса о допустимости участия малолетних потерпевших в примирении некоторые авторы предпочитают сводить к следующей схеме: решение принимает законный представитель (при этом если малолетнее лицо может самостоятельно и осознанно выразить свое отношение к этому вопросу, то его мнение должно учитываться). Существует два возможных варианта учета мнения малолетнего. Оба известны российскому семейному праву: 1) мнение ребенка устанавливается, но оно не является определяющим (при решении вопроса о том, с кем из проживающих раздельно родителей будет проживать ребенок, – ч. 3 ст. 65 СК РФ); 2) мнение ребенка является решающим по достижении им десятилетнего возраста (при передаче на воспитание в приемную семью – ч. 3 ст 154 СК РФ)[317].
Подобный подход видится нам неприемлемым по ряду обстоятельств.
Во-первых, вызывает возражение заимствование положений гражданского права для решения вопросов о примирении потерпевшего и преступника.
Во-вторых, неясно, что именно рассматривают авторы: процессуальный или материальный статус потерпевшего. С точки зрения уголовного процесса, мнению десятилетнего ребенка при примирении не следует придавать решающего значения. Поиск компромисса между потерпевшим и виновным сводится, как правило, к оценке финансовых и нравственных потерь. Очевидно, что ребенок десятилетнего возраста лишен способности в полной мере осознавать явления окружающего мира, обнаруживать их внутреннюю связь, оценивать, делать выбор между различными побуждениями.
Раскрывая собственное видение данной проблемы, подчеркнем, что в уголовном праве потерпевший независимо от возраста может выступать субъектом примирения[318], однако процессуальные права и обязанности потерпевшего как субъекта примирения будут осуществляться его законным представителем.
Данный подход применим и к случаям, когда потерпевшим выступает юридическое лицо. В соответствии со ст. 48 ГК РФ юридическим лицом является организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать или осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом или ответчиком в суде.
Статья 42 УПК РФ определяет, что потерпевшим может признаваться юридическое лицо в случае причинения вреда его имуществу и деловой репутации. Для осуществления процедуры примирения необходимо признание юридического лица потерпевшим и вынесение соответствующего постановления дознавателем, следователем, прокурором или судом. В официальном оформлении примирения участвует официальный представитель организации, что, однако, не препятствует признанию стороной примирения самого юридического лица.
Обращаясь к рассмотрению фигуры второго участника медиационных отношений, следует отметить, что уголовный закон в числе обязательных признаков субъекта преступления выделяет вменяемость физического лица и достижение им возраста уголовной ответственности.
Для придания лицу соответствующего уголовно-правового статуса необходимо, чтобы оно совершило деяние, содержащее признаки преступления (независимо от того, использовались ли им для совершения преступления силы природы, животных, технические механизмы или поведение невменяемых и малолетних лиц). Важно отметить, что субъектом примирения в рамках ст. 76 УК РФ могут выступать не только исполнители преступлений, но и другие соучастники.
Специфика отношений, направленных на возмещение причиненного потерпевшему вреда, позволяет некоторым исследователям при анализе медиационных отношений оперировать гражданско-правовыми категориями и связывать способность субъекта преступления участвовать в примирении не с достижением им возраста уголовной ответственности, а с достижением гражданской дееспособности.
В частности, Н. С. Шатихина отмечает: «В тех случаях, когда заглаживание вреда перед потерпевшим сводится к возмещению ущерба в денежной или иной материальной форме, в качестве основания примирения выступает гражданско-правовая сделка, поскольку его суть составляют действия физического или юридического лица, направленные на установление гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). Соответственно, субъектом примирения не может быть несовершеннолетнее лицо, которое в силу ст. 26 ГК РФ не обладает полной гражданской дееспособностью»[319].
Эту точку зрения сложно признать состоятельной по ряду причин.
Во-первых, примирение с потерпевшим как медиационное отношение имеет уголовно-правовую природу, и его ни при каких условиях не следует отождествлять с гражданско-правовой сделкой по возмещению вреда.
Во-вторых, в силу уголовно-правовой природы медиационных отношений правовой статус их участников также должен базироваться на уголовном законе. Отсюда: субъектом примирения должно признаваться вменяемое, а не дееспособное лицо[320].
И, наконец, в-третьих, само по себе возмещение вреда не является основанием освобождения от уголовной ответственности. Уголовный закон РФ требует еще и закрепленного факта примирения сторон, в котором определяющей будет воля преступника и потерпевшего.
Сложности в теории и на практике вызывает вопрос о допустимости участия в процедуре примирения законных представителей лица, совершившего преступление.
Н. Д. Сухарева рассматривает эту проблему следующим образом: «В соответствии с положениями ст. 48 УПК РФ, в процедуре примирения могут принимать участие законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. Участие законных представителей несовершеннолетнего преступника в акте примирения желательно, поскольку несовершеннолетнее лицо, освобождаемое от уголовной ответственности, принимает на себя обязательства финансового характера в силу условий примирения»[321].
Думается, автор допускает некоторое смешение уголовно-правовых и процессуальных понятий, связанных с примирением. С точки зрения материального права участие законных представителей несовершенного преступника в процедуре примирения не имеет никакого значения. Сторонами примирения продолжают выступать преступник и потерпевший, а тот факт, что в процедуре примирения участвовал законный представитель виновного, не меняет уголовно-правового существа примирения.
Важным видится вопрос о том, каков должен быть процессуальный статус лица, совершившего преступление и выступающего стороной примирения.
Так, согласно одной из позиций, уголовное дело можно прекратить примирением, только если преступник признан подозреваемым или обвиняемым[322]. Ученые, придерживающиеся противоположной точки зрения, отрицают необходимость наличия у виновного определенного уголовно-процессуального статуса. В частности, А. В. Ендольцева замечает: «Поскольку субъект преступления и потерпевший “появляются” в момент, когда совершено преступное деяние, т. е. вне зависимости оттого, будет ли лицо, совершившее преступление, привлечено к уголовной ответственности, то возможность примирения данных лиц и их право на примирение начинает существовать также с момента совершения преступления, вне зависимости от процедурных рамок уголовного процесса»[323].
Несмотря на кажущуюся простоту и условность данного вопроса, ответ на него следует искать в правовой природе института освобождения от уголовной ответственности.
Согласно традиционному подходу, освобождение от уголовной ответственности возможно только при наличии возможности привлечения к ней. Иными словами, освобождено от уголовной ответственности может быть только то лицо, которое совершило преступление. Однако здесь неясен сам момент освобождения: необходимо ли здесь признание лица виновным либо освобождение может состояться сразу после совершения преступления и примирения сторон?
Разрешая данный вопрос, Е. В. Давыдова, А. Г. Кибальник, И. Г. Соломоненко обращаются к анализу двух противоречивых аксиом правоведения. Первая, по их мнению, сводится к тому, что «материально-правовые основания освобождения от уголовной ответственности необходимы для реализации уголовной политики цивилизованного государства, а институт освобождения от уголовной ответственности является одним из ярких воплощений реализации принципа дифференциации самой уголовной ответственности в зависимости от характера самого преступления и личности самого преступника»[324].
Вторая аксиома заключается в том, что невозможно освободить лицо от уголовной ответственности за совершенное преступление, если оно юридически еще не признано виновным в совершении преступления.
Признавая правоту первой позиции, авторы полагают, что «освобождение от уголовной ответственности как форма ее реализации возможно в силу презумпции материального правоотношения уголовной ответственности, которая позволяет освободить лицо от вынесения отрицательной оценки его поведения в форме обвинительного приговора»[325].
На основании вышеизложенного они делают вывод, что для освобождения от уголовной ответственности достаточно того, чтобы сами стороны криминального конфликта договорились о возмещении вреда независимо от процессуальной стадии такого примирения.
С данной точкой зрения сложно согласиться. Возражение вызывает то обстоятельство, что авторы полностью игнорируют формальную процедуру освобождения от уголовной ответственности, выводя ее за рамки материальных правоотношений. Между тем только официальное признание факта примирения сторон может оградить институт освобождения от уголовной ответственности от всякого рода злоупотреблений со стороны потерпевшего и виновного. В пользу данного утверждения свидетельствует сам уголовный закон РФ, который относит примирение с потерпевшим к числу дискреционных оснований освобождения от уголовной ответственности.
Последовательно отстаивая позицию о необходимости оформления процессуального статуса сторон медиационных отношений, мы полагаем, что только при возбуждении уголовного дела и признании лица подозреваемым или обвиняемым можно говорить о примирении с потерпевшим в рамках правовой медиации.
Если же стороны договорились о примирении до стадии возбуждения уголовного дела, мы имеем дело с принципиально иным правовым институтом. В случае, когда совершенное преступником деяние относится к числу дел частного или частно-публичного обвинения, потерпевший просто отказывается от возбуждения уголовного дела. И отказ в этом случае не тождественен примирению, предусмотренному ст. 76 УК РФ.
Поскольку в настоящей работе примирение с потерпевшим исследуется нами с точки зрения медиационных отношений (отношений в рамках восстановительного правосудия[326]), рассмотрения требует статус третьей стороны правовой медиации – государства[327].
В настоящее время перечень органов, участвующих в медиационных отношениях, не является статичным и зависит как от подведомственности, так и от стадии уголовного процесса. С определенной долей условности можно выделить четыре группы таких государственных органов: органы дознания, органы следствия, прокурор и суд.
Органы дознания и предварительного следствия имеют практически одинаковые функции в процедуре освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, при этом их действия в обязательном порядке контролируются прокурором.
Важно отметить, что для процедуры примирения с потерпевшим не имеет значения, какой орган непосредственно выступает в качестве дознавателя или ведет предварительное следствие. Более значимым является вопрос о том, каков характер его полномочий, если в деле отсутствует необходимая доказательственная база.
Как утверждают Л. Лобанова и Л. Лянго, «при осуществлении дознания мы имеем дело лишь с подозреваемым в преступлении, т. е. юридически значимые действия осуществляются в отсутствие доказательств, дающих основание для предъявления обвинения. Этот момент крайне важен, поскольку при освобождении от уголовной ответственности на досудебных стадиях, на первое место выходит “царица доказательств – признание преступника». [328]
Возникает вопрос: может ли дознаватель доверять показаниям обвиняемого, которые устраивают потерпевшего, или же он должен в надлежащей форме устанавливать истину по делу, а затем прекращать его в связи с состоявшимся примирением?
С одной стороны, дознаватель должен проверять истинность показаний, поскольку государство возлагает на него обязанность следить за тем, чтобы в примирении участвовали надлежащие лица; в противном случае отсутствуют основания примирения, и акт не имеет юридической силы. С другой, нет оснований обязывать правоприменителя вопреки пожеланиям подозреваемого и потерпевшего осуществлять дальнейшие проверки и собирать доказательства по делу.
В настоящее время этот вопрос получил однозначное разрешение в УПК РФ, который предусмотрел следующие гарантии законности процессуального решения:
– обязательность доказывания по уголовным делам обстоятельств, влияющих на освобождение от уголовной ответственности и наказания (п. 7 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). В этой связи установления требует факт примирения, а также совершения одним лицом в отношении другого преступления;
– необходимость получения согласия прокурора при освобождении от уголовной ответственности лицом, осуществляющим дознание или предварительное расследование.
Как справедливо указывается в литературе, «такие функции прокурора относят вопрос об освобождении от уголовной ответственности к его компетенции. Однако следует отметить, что прокурор не вправе отказать в согласии на освобождение по мотивам нецелесообразности или отсутствия оснований для прекращения уголовного дела»[329].
Полагаем, что основная функция прокурора в примирении сводится к решению вопроса, соответствует ли основание прекращения дела его материалам и требованиям закона. Также прокурор проверяет соблюдение порядка прекращения уголовного дела и своевременность его прекращения.
В частности, изучая материалы дела, прекращенного дознавателем или следователем, прокурор должен установить следующее: событие преступления; его правильную квалификацию; факт совершения деяния обвиняемым; принадлежность преступления к категории небольшой или средней тяжести; факт действительного и добровольного примирения; решение вопроса о заглаживании вреда и его процессуальном оформлении.
Но действия прокурора в медиационных отношениях не исчерпываются контролем за следствием и дознанием. В соответствии с п. 16 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, он имеет право самостоятельно освободить правонарушителя от уголовной ответственности в связи с его примирением с потерпевшим.
Участие судов в процедуре освобождения от уголовной ответственности с связи с примирением с потерпевшим заключается в том, что они информируют стороны о возможности примирения и в случае согласия последних прекращают уголовное дело.
Отдельного рассмотрения требуют условия освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
Статья 76 УК РФ выделяет в их числе следующие:
1) совершение преступления небольшой или средней тяжести;
2) совершение преступления впервые;
3) примирение сторон;
4) заглаживание виновным причиненного потерпевшему вреда.
Обратимся к анализу этих условий.
1. В соответствии со ст. 15 УК РФ преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные или неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы, а преступлениями средней тяжести – умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы.
Включение в круг деяний, допускающих примирение, преступлений небольшой и средней тяжести удовлетворяет далеко не всех ученых и практиков. В литературе нередко обосновывается необходимость сужения или, напротив, расширения перечня деяний, по которым возможно примирение.
В частности, Н. С. Шатихина полагает, что ограничение круга возможных деяний только преступлениями небольшой тяжести является наиболее приемлемым способом отражения в Уголовном законе диспозитивных начал[330].
Принципиально иной позиции придерживается А. В. Ендольцева. По ее мнению, следует объединить институт примирения с потерпевшим и дела частного объединения, специально указав в УК РФ, что примирение возможно по преступлениям, предусмотренным ст. 114,115, 116,117, ч. 1 ст. 118, ст. 119, 129, 130, ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 133, ч. 1 ст. 136, ч. 1 ст. 173, ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 139, ст. 145, ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147, ст. 201 УК РФ. При этом если потерпевший не подает заявления о возбуждении уголовного дела, это является обстоятельством, исключающим преступность деяния[331]. Данное предложение сложно признать обоснованным.
Ошибочным видится отнесение отказа потерпевшего к обстоятельствам, исключающим преступность деяния. В подобной ситуации целесообразнее говорить об отсутствии уголовно-правового преследования, а не преступного характера посягательства.
В теории уголовного права отмечается, что «в примирении с потерпевшим могут участвовать не только лица, совершившие оконченные преступные деяния небольшой или средней тяжести, но и те лица, которые виновны в уголовно наказуемой предварительной преступной деятельности (например, в приготовлении к преступлению)»[332]. С данным утверждением сложно согласиться.
Известно, что в соответствии с ч. 2 ст. 30 УК РФ уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению. Следовательно, уголовная ответственность лица, совершившего приготовление к преступлению небольшой тяжести, будет исключаться. Расширять же сферу действия данной нормы за счет допущения примирительных процедур для тяжких и особо тяжких преступлений (пусть даже на стадии приготовления) нецелесообразно.
Наиболее дискуссионным из всех условий примирения с потерпевшим является, пожалуй, совершение преступления впервые.
В настоящее время при его оценке используется исключительно юридический критерий. Однако в науке нет единства мнений относительно его практического использования.
Так, ряд ученых выступают в поддержку придания институту примирения с потерпевшим условного характера. Одни предлагают вводить определенные сроки давности освобождения, аналогичные институту судимости или давности[333], другие – возобновлять производство по делу в случае повторного совершения однородного преступления[334] , третьи – лишить возможности освобождения от уголовной ответственности лиц, ранее освобождавшихся от нее[335].
Высказывается также предложение об исключении из ст. 76 УК РФ указания на данное условие освобождения. Аргументируя свою позицию, исследователи ссылаются на то, что множественность должна влиять на квалификацию преступления, выводя его за пределы категории небольшой тяжести, а в конкретном деле факт повторности не оказывает существенного влияния, и каждый криминальный конфликт следует рассматривать как самостоятельный[336].
Думается, что ни одна из приведенных выше позиций не удовлетворяет вполне требованиям теории и практики.
Анализ современного уголовного законодательства позволяет заключить, что о совершении преступления впервые как об условии освобождения от уголовной ответственности можно говорить в случаях, если:
1) лицо ранее никогда не совершало преступления;
2) преступление совершалось, но лицо не привлеклось к уголовной ответственности, и срок такого привлечения истек;
3) лицо было осуждено за совершение преступления, и судимость за него погашена или снята;
4) лицо привлекалось к уголовной ответственности, но было освобождено от нее по нереабилитирующим обстоятельствам.
Так как последнее из указанных выше условий в науке уголовного права подвергается наибольшей критике, считаем необходимым разъяснить свою позицию по этому вопросу.
На основании анализа российского уголовного законодательства можно предположить, что актом примирения с потерпевшим прекращается течение охранительного уголовно-правового отношения, и лицо освобождается от уголовной ответственности.
Отмена этого решения приводила бы, на наш взгляд, к повторному привлечению лица к уголовной ответственности по тому же основанию, что является грубейшим нарушением принципа справедливости.
Отсюда напрашивается вывод, что если ранее лицо освобождалось от уголовной ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам, это событие не должно препятствовать признанию преступления совершенным впервые в ситуации примирения с потерпевшим.
Косвенное подтверждение своей правоты мы находим в сущности самого института примирения, социальное предназначение которого заключается в том, чтобы восстановить нарушенные интересы потерпевшего от конкретного преступления посредством медиации, а не осуществлять акт возмездия по отношению к преступнику.
2. Следующим условием освобождения от уголовной ответственности является факт примирения потерпевшего и виновного.
Ранее отмечалось, что под примирением с потерпевшим следует понимать соглашение, компромисс между потерпевшим и преступником. Полагаем, что это соглашение должно обладать следующими признаками:
1) двусторонним характером. Не следует отождествлять примирение с потерпевшим и медиационные отношения, в которых участвуют три стороны. По существу, акт примирения потерпевшего и лица, совершившего преступление, имеет черты договора двух сторон.
Если речь идет об одностороннем отказе потерпевшего от уголовно-правового преследования, налицо принципиально иной правовой институт – институт частного обвинения.
В рамках данного вопроса разрешения требует проблема множественности лиц в примирении. В соответствии с буквальным толкованием ст. 76 УК РФ речь идет о сугубо индивидуальном акте между потерпевшим и лицом, совершившим преступление.
Исходя из этого, можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что ни в уголовном праве, ни в уголовном процессе не следует допускать солидарных действий всех потерпевших или всех виновных;
2) добровольностью. Речь идет об отсутствии всякого рода принуждения и давления на потерпевшего с целью склонения его к примирению.
Иначе добровольность примирения понимает Н. Сухарева. По ее мнению, суть этого признака состоит в том, что «при примирении “последнее слово” остается за потерпевшим – т. е. именно ему принадлежит право решать, состоялось примирение или нет»[337];
3) обязательностью осуществления. Предполагается, что в случае достижения между потерпевшим и преступником соглашения, последнее имеет обязательственную силу для обеих сторон: потерпевший не имеет права, получив возмещение причиненного вреда, отказываться от ранее состоявшегося примирения, а преступник обязан выполнить все условия соглашения, заключенного с потерпевшим.
В целях создания гарантий осуществления данных действий С. В. Анощенкова предлагает дополнить ст. 76 УК РФ следующим положением: «Потерпевший не вправе требовать возмещения вреда в большей мере, чем вред, причиненный преступлением, а также не вправе вновь ставить вопрос о привлечении к уголовной ответственности лица, освобожденного в порядке части первой настоящей статьи»[338].
Думается, введение такой поправки в закон вряд ли позволит надлежащим образом обеспечивать и гарантировать соблюдение сторонами примирения своих обязательств, поскольку многие условия договора предполагают отсылку к будущему.
В этой связи целесообразным представляется рассмотрение примирения как консенсуальной сделки. Речь идет о предоставлении правонарушителю определенного срока на выполнение возложенных на него обязательств. Уголовное дело в таких случаях не прекращается, а приостанавливается до определенного времени.
Если до истечения установленного срока потерпевший не заявляет в правоохранительные органы о нарушении условий соглашения, с момента подписания соглашения дело считается окончательно прекращенным, а виновный – освобожденным. Напротив, если обязательства не были исполнены сторонами, то уголовное дело подлежит дальнейшему рассмотрению.
С одной стороны, принятие данного предложения позволит усилить контроль правоохранительных органов за процедурой примирения с целью недопущения злоупотреблений и принуждения, создать дополнительные гарантии полного возмещения вреда потерпевшему, а с другой, специальное указание на безусловный характер прекращения дела будет способствовать обеспечению интересов виновного при возмещении им вреда.
На основании вышеизложенного целесообразным видится дополнение нормы ст. 76 УК РФ частью второй следующего содержания: «Освобождение от уголовной ответственности по части 1 настоящей статьи возможно только в случае полного выполнения лицом, совершившим преступление, условий примирения. Потерпевший не вправе вновь ставить вопрос о привлечении к уголовной ответственности лица, освобожденного в порядке части первой настоящей статьи».
3. Последним условием освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим является заглаживание причиненного потерпевшему вреда.
Выделение в качестве однопорядковых понятий примирения с потерпевшим и заглаживания причиненного вреда не позволяет в полной мере определить вкладываемый в них смысл.
Складывается впечатление, что законодатель требует от потерпевшего и преступника выполнения определенного ритуала «братания» после возмещения виновным вреда.
На основании семантического анализа употребляемых в ст. 76 УК РФ терминов можно предположить, что определяющим условием освобождения от уголовной ответственности по ст. 76 УК РФ должно служить именно примирение с потерпевшим.
Являясь определенным консенсусом между потерпевшим и лицом, совершившим преступление, примирение может основываться на заглаживании физического, имущественного, морального вреда, причиненного физическому лицу, а также возмещении имущественного вреда и вреда деловой репутации, причиненного потерпевшему – юридическому лицу.
При этом важным требованием является законный характер возмещения. Данный признак предполагает, что потерпевший не вправе требовать от преступника выполнения действий, запрещенных российским законодательством.
В соответствии с гражданским законодательством основанием прекращения обязательственных отношений между потерпевшим и виновным по поводу заглаживания причиненного вреда могут выступать:
1) прекращение обязательственного отношения исполнением (ст. 408 ГК РФ). Дифференцируя способы возмещения вреда в зависимости от характера совершенного преступления, предлагаем условно выделять следующие модели возмещения:
– в случае причинения физического вреда потерпевшему сумма ущерба устанавливается самим потерпевшим, и нередко выплаты происходят в форме оплаты за лечение;
– приоритет в определении компенсации морального вреда принадлежит также потерпевшему, однако с целью недопущения с его стороны злоупотреблений государственные органы как участники медиационных отношений должны следить за тем, чтобы размер компенсации определялся в соответствии с правилами о возмещении морального вреда;
– имущественный вред в большинстве случаев возмещается в полном объеме, но нередко предполагает отступное;
2) прекращение отношений отступным (ст. 409 ГК РФ). Следует заметить, что данное основание ставит под сомнение требование о необходимости возмещать причиненный ущерб в полном объеме;
3) прощение долга (ст. 415 ГК РФ). Прекращение обязательственных отношений по этому основанию чаще всего встречается в ситуациях, когда между потерпевшим и преступником имеются родственные или близкие отношения, а также в случае противоправного поведения самого пострадавшего. Как справедливо утверждается в литературе, «прощение долга в таких случаях необходимо отличать от простого отказа от осуществления гражданских прав (ч. 2 ст. 9 ГК РФ)» [339].
В ГК РФ выделяется еще и такое основание, как смерть гражданина (ст. 418 ГКРФ). Однако в силу того обстоятельства, что примирение с потерпевшим изначально носит реституционный характер, отмеченное выше основание вряд ли целесообразно связывать с процедурой заглаживания вреда.
Вместе с тем, смерть лица, совершившего преступление, является основанием прекращения не только обязательственных гражданско-правовых отношений между потерпевшим и виновным, но и уголовно-правовых отношений, связанных с освобождением лица от уголовной ответственности.
Рассмотренные выше обстоятельства позволяют предположить, что уголовно-правовое значение имеет именно факт примирения с потерпевшим, а не заглаживание вреда. В условиях расширения сферы частного интереса в уголовном праве последнее не должно носить обязательного характера адекватного возмещения.
Закон должен предоставлять потерпевшему и преступнику возможность совместно определять способ и размер возмещения, поскольку только эта процедура может обеспечить исполнение обязательств, возложенных на виновного, и не допустить злоупотреблений со стороны потерпевшего. Дискреционный характер примирения дает правоохранительным органам возможность удостовериться, что интересы потерпевшего не ущемлены, он не действует под влиянием заблуждения или принуждения, а условия сделки не носят кабального характера.
Полагаем, что проблема соотношения оснований освобождения от уголовной ответственности (примирение с потерпевшим и заглаживание причиненного вреда) должна быть разрешена путем указания в ст. 76 УК РФ только на примирение с потерпевшим. При этом процедура примирения предполагает, на наш взгляд, возмещение физического, имущественного, морального вреда, а также вреда деловой репутации в объеме и способами, оговоренными сторонами и не противоречащими требованиям законодательства.
3.2. Институт частного обвинения как проявление диспозитивности в уголовном праве России
Отечественное уголовно-процессуальное законодательство предусматривает три вида уголовного преследования: осуществляемое в публичном, частно-публичном и частном порядке. Выделение различных способов процессуального разрешения криминальных конфликтов обусловлено, на наш взгляд, различным характером охраняемых интересов и благ.
Части 2 и 3 ст. 20 УПК РФ гласят: « 2. Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 115, 116, 129 частью первой и 130 Уголовного кодекса Российской Федерации, считаются уголовными делами частного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного представителя и представителя и подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Примирение допускается до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора.
3. Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 131 частью первой, 136 частью первой, 137 частью первой, 138 частью первой, 139 частью первой, 145, 146 частью первой и 147 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, считаются уголовными делами частно-публичного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных ст. 25 настоящего кодекса».
Очевидно, что законодатель, установив порядок частного и частно-публичного преследования, по сути разграничил сферы реализации частного интереса и расширил диспозитивные начала в уголовном и уголовно-процессуальном праве.
О том, что институт уголовного преследования, осуществляемого в частном порядке, является очевидным проявлением диспозитивности, свидетельствует ряд обстоятельств:
– во-первых, указанные в ч. 2 ст. 20 УПК РФ деяния в большинстве своем посягают на личные права и свободы. Их уголовно-правовая оценка всецело зависит от субъективного восприятия вредоносности посягательства самим потерпевшим;
– во-вторых, возбуждение и прекращение уголовного преследования по делам частного обвинения зависит исключительно от воли потерпевшего. Примирение по делам частного обвинения является обязательным основанием для неприменения к виновному уголовно-правовых репрессий;
– в-третьих, при осуществлении уголовного преследования по делам частного обвинения не имеют правового значения факт, тяжесть и количество ранее совершенных лицом преступлений.
Предоставляемая потерпевшим в рамках рассматриваемого института самостоятельность обусловливается, на наш взгляд, тем, что преступления частного обвинения совершаются обычно на основе личных, бытовых конфликтов, участниками которых становятся близкие друг другу люди. Вмешательство государственных органов в разбирательство подобных случаев лишь обострит отношения между сторонами. «Обоюдовыгодным» способом разрешения конфликта является примирение в частном порядке, сопровождающееся добровольным возмещением вреда потерпевшему, восстановлением его интересов, нарушенных в результате преступления.
Более того, передача потерпевшему права на разрешение конфликта по делам частного обвинения свидетельствует «об уважительном отношении законодателя к его интересам и соответствует цели восстановления социальной справедливости – высшей задаче вмешательства уголовного закона»[340].
Иными словами, нет смысла осуждать лицо за совершение указанных в ч. 2 ст. 20 УПК РФ преступлений, если потерпевший этого не хочет и при этом не страдают общественные интересы.
Нельзя обойти вниманием и экономическую выгоду института уголовного преследования по делам частного обвинения. Предоставление потерпевшему права самостоятельно решать вопрос о применении к виновному уголовно-правовых репрессий существенно снижает затраты на судопроизводство и уменьшает загруженность суда.
Вместе с тем, понимание данного института в теории и практике уголовного права не бесспорно. Дискуссии вызывает вопрос о правовой природе уголовного преследования в частном порядке.
На основании того обстоятельства, что действующее уголовно-процессуальное законодательство не содержит указаний на материально-правовое основание анализируемого института, ряд авторов делают вывод о его процессуальной природе.
В частности, С. А. Шейфер и Н. Е. Петрова сводят институт частного обвинения к обвинительной деятельности потерпевшего, который «является полноправной стороной в процессе и наделен достаточными полномочиями по осуществлению уголовного преследования»[341].
А. М. Ларин, Э. Б. Мельникова и В. М. Савицкий[342] также рассматривают частное обвинение сквозь призму признания потерпевшего самостоятельным субъектом уголовно-процессуального преследования.
В целом, сторонники «чистоты» процессуальной формы института частного обвинения опираются на специфику процессуального порядка рассмотрения уголовных дел и формы уголовного преследования[343].
При этом за рамками анализа остается основание уголовного преследования, которое, безусловно, имеет уголовно-правовую природу.
В пользу материального характера института частного обвинения свидетельствует тот факт, что процессуальное по форме уголовное преследование в частном порядке является не чем иным, как способом разрешения уголовно-правового конфликта.
Придерживаясь аналогичной позиции, А. В. Сумачев замечает: «Материальное (уголовное) право определяет юридическое основание конфликта (вид преступного поведения) и возможные виды реакции заинтересованных сторон на него, в то время как процессуальное закрепляет формы деятельности уполномоченных законом субъектов по установлению факта конфликта и реализации видовой, обозначенной в законе реакции»[344]. Отсюда: «частное уголовное преследование в материальном смысле – это совокупность уголовно-правовых норм (правовой институт), определяющий правовую возможность лица, пострадавшего от определенного преступления, решать вопрос о разрешении возникшего конфликта в форме инициирования возбуждения уголовного преследования или отказа от него»[345].
В соответствии с прямым указанием закона первичным при решении вопроса о допустимости уголовного преследования в частном порядке является установление факта совершения деяния, указанного в ч. 2 ст. 20 УПК РФ. Иными словами, основанием (т. е. «сущностным признаком») данного института является характер преступного деяния (вид преступления), но никак не специфика процессуальной деятельности субъектов.
Об изначально материальной природе института частного обвинения свидетельствует также уголовно-правовой характер средств разрешения криминального конфликта.
Рискнем предположить, что право потерпевшего в рамках института частного обвинения самостоятельно решать судьбу виновного есть не что иное, как определение границ употребления репрессивной (наказательной) власти государства, которая составляет сущность материального права[346].
При этом способами реализации этой власти выступают уголовная ответственность и наказание.
УК РФ, устанавливая основания и принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений (ч. 2. ст. 2 УКРФ).
Наказание при этом является наиболее распространенной реакцией государства на совершение общественно опасного деяния, однако из общего правила закон делает исключения. Речь идет об освобождении от уголовной ответственности, правилах о добровольном отказе и пр.
Существование в УК РФ отдельных видов освобождения от уголовной ответственности и наказания свидетельствует о том, что «процессы привлечения к ответственности и назначения наказания имеют по сути объективно-субъективную природу и производны от предписаний закона, субъективного усмотрения правоприменителя и в некоторых случаях от волеизъявления потерпевшей стороны»[347].
При этом не вызывает сомнений тот факт, что условия, влияющие на освобождение от уголовной ответственности и наказания относятся к области материального права. Так почему право частного обвинения должно составлять исключение?
Здесь, как и в случаях освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, желание потерпевшего определяет наступление для виновного правовых последствий – уголовной ответственности и наказания как одной из форм ее реализации. Как мы видим, речь идет не об отсутствии преступности и наказуемости деяния, а о фактической реализации уголовной ответственности и наказания.
Данную точку зрения поддерживают, однако, не все исследователи.
В частности, К. Ф. Гуценко материальное проявление института частного обвинения видит в отсутствии преступности деяния, поскольку волеизъявление потерпевшего на возбуждение уголовного дела он рассматривает как один из необходимых признаков преступления[348]. Похожей позиции придерживается А. О. Резон. Он отмечает: «По всем неофициальным делам государство отказывается, в пользу потерпевшего, от принадлежащего ему абсолютного права наказания, и ставит свое право на наказание, а следовательно, и наказуемость деяния, в зависимость от привнесения жалобы»[349]. Приведенные выше позиции не бесспорны.
Очевидно, что существование института частного обвинения уже само по себе свидетельствует о расширении государством прав и интересов потерпевшего в уголовном праве. Однако это расширение не предполагает отрицания институтов преступления и наказания, которые носят сугубо публичный характер и существование которых обусловлено охранительной природой уголовного законодательства.
По этой причине отрицание наличия признаков преступления в случае нежелания жертвы обращаться с заявлением о возбуждении дела представляется не только нелогичным, но и противоречащим сущности уголовного права в целом.
Так, если в отношении определенного лица были совершены действия, предусмотренные ст. 115, 116, ч. 1 ст. 129 и ст. 130 УК РФ, а равно ч. 1 ст. 131, 132, 136, 137, 138, 139, 146 и ст. 145 УК РФ, однако потерпевший не обращается с заявлением о возбуждении уголовного дела, это не означает, что действия виновного перестают быть преступными в силу отсутствия признака наказуемости. Потенциально данный признак сохраняется, поскольку вышеперечисленные деяния запрещены в УК РФ под угрозой наказания. Неподача заявления в этом случае свидетельствует лишь о том, что потерпевший не воспользовался своим правом на привлечение виновного к уголовной ответственности[350].
Все вышеизложенное дает основание утверждать, что институт частного обвинения относится к сфере материально-правового регулирования, поскольку от волеизъявления потерпевшего на возбуждение уголовного дела зависит решение вопроса о привлечении виновного к уголовной ответственности и о применении к нему наказания.
Признавая то обстоятельство, что освобождение или непривлечение к уголовной ответственности является правовым способом разрешения конфликта, ряд авторов рассматривают частное обвинение как одну из разновидностей института, закрепленного в ст. 76 УК РФ.
В частности, Е. В. Давыдова, А. Г. Кибальник, И. Г. Соломоненко выделяют два вида примирения с потерпевшим:
1) примирение, в котором волеизъявление потерпевшего является обязывающим для государственного органа условием освобождения от уголовной ответственности (ч. 2 ст. 20 УПК РФ);
2) примирение, в котором волеизъявление потерпевшего не является обязывающим для государственного органа условием освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего преступление по делам публичного обвинения (ст. 76 УК РФ)[351].
Данная позиция представляется необоснованной по двум причинам.
Во-первых, согласно буквальному толкованию уголовного закона примирение с потерпевшим есть дискреционное основание освобождения от уголовной ответственности, в то время как примирение по делам частного обвинения – обязательное условие для исключения уголовного преследования.
Во-вторых, в уголовном процессе институт примирения с потерпевшим реализуется на основе положений ст. 25 УПК РФ «Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон», имеющих ряд существенных отличий от положений ст. 20 УПК РФ, которые предусматривают процессуальные механизмы возбуждения и прекращения дел частного обвинения.
На основании изложенного можно сделать вывод, что примирение с потерпевшим и частный порядок уголовного преследования – совершенно различные по своей правовой сущности институты, что, однако, не мешает говорить о материально-правовой природе частного обвинения и необходимости отражения этого обстоятельства в уголовном законе посредством закрепления принципиально нового института освобождения от уголовной ответственности.
Целесообразным видится закрепление в УК РФ исчерпывающего перечня преступлений, допускающих непривлечение к ответственности ввиду отсутствия заявления потерпевшего (речь идет о деяниях, предусмотренных ст. 115, 116, ч. 1 ст. 129, ст. 130, ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ч. 1 ст. 136, ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 139, ст. 145, ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147 УК РФ) или допускающих освобождение от ответственности в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым (ст. 115, 116, ч. 1 ст. 129, ст. 130 УК РФ).
Введение соответствующих поправок в УК РФ позволит разрешить ряд противоречий, связанных с применением института частного обвинения.
Во-первых, будет проведена граница между материальной сущностью освобождения от уголовной ответственности и процессуальной формой уголовного преследования в частном порядке.
Во-вторых, станет возможным разграничение институтов частного обвинения и примирения с потерпевшим (ст. 76 УК РФ).
В-третьих, определится сфера частного интереса в уголовном праве и сложится система диспозитивных начал, состоящая из трех взаимосвязанных институтов: согласия потерпевшего, примирения с потерпевшим и института частного обвинения.
Признание материальной основы уголовного преследования в частном порядке обусловливает необходимость исследования правовых отношений, возникающих при его осуществлении.
В отличие от классических уголовных правоотношений, в которых участвуют лишь преступник и государство, рассматриваемые отношения являются трехсторонними.
Расширение диспозитивных начал в уголовном праве вызвало появление нового участника уголовно-правовых отношений – потерпевшего. В рамках реализации института частного обвинения он поставлен перед выбором: реализовать свое право на привлечение виновного к уголовной ответственности или нет.
Подчеркнем, что уголовно-правовые отношения между преступником и жертвой возникают в момент совершения преступления и существенно изменяются в трех случаях: когда потерпевший отказывается от подачи заявления, подает заявление или идет на примирение с виновным.
В первой ситуации отказ от жалобы прекращает уголовно-правовые отношения «преступник—потерпевший»; во второй – подача заявления инициирует возникновение уголовно-правовых отношений ответственности между государством и преступником.
И, наконец, в случае прекращения дела частного обвинения в связи с примирением потерпевший своим волеизъявлением прекращает классическое правоотношение «виновный-государство» по реализации уголовной ответственности.
Но в любом случае свобода выбора потерпевшего в решении вопроса о привлечении виновного к уголовной ответственности есть субъективное юридическое право лица, пострадавшего от определенных в законе преступлений, которое характеризует правосубъектность потерпевшего в конкретном уголовном правоотношении.
Важным в практической деятельности является вопрос о возрасте и вменяемости потерпевшего.
При решении данной проблемы необходимо исходить из того, что в материально-правовом смысле круг потерпевших, имеющих право на частное обвинение, не ограничивается вменяемостью или каким-либо возрастным порогом. Что касается уголовного процесса, то при осуществлении процедуры подачи заявления от лица несовершеннолетнего или невменяемого потерпевшего выступают его законные представители (ч. 2 ст. 20 УПК РФ). Они же от имени потерпевшего принимают участие в процедуре примирения с обвиняемым.
Обращаясь к вопросу о способах реализации права на частное обвинение, следует отметить, что современное законодательство учитывает волеизъявление потерпевшего в следующих случаях:
– при решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности лица, совершившего предусмотренное ст. 115, 116, ч. 1 ст. 129 или ст. 130 УК РФ преступление;
– при решении вопроса об освобождении виновного от уголовной ответственности за совершение указанных выше преступлений.
В первой ситуации потерпевший вправе подать или отказаться от подачи заявления в суд.
Думается, односторонний отказ пострадавшего от подачи заявления целесообразно обозначить как «прощение потерпевшего». Уголовно-правовая сущность такого прощения проявляется в том, что воля жертвы гарантирует непривлечение виновного к уголовной ответственности.
Государство позволяет потерпевшему самостоятельно оценить вред, причиненный его частным правам, и только на основании проведенной оценки и процессуально выраженного решения государственные органы вправе возбуждать уголовное дело.
Если рассматривать институт прощения более широко, следует признать, что государство в сферу преступлений, посягающих на частные интересы лица, включает деяния, предусмотренные ст. 115, 116, ч. 1 ст. 129, ст. 130, ч. 1 ст. 131, 132, ст. 136, ч. 1 ст. 137, 138, 139, 146, 147 и ст. 145 УК РФ.
Более того, от усмотрения потерпевшего зависит также возбуждение уголовных дел по ст. 201—204 УК РФ. В соответствии с ч. 2 примечания к ст. 201 УК РФ, если деяния, предусмотренные ст. 201—204 причинили вред исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным или унитарным предприятием, уголовное преследование осуществляется по заявлению этой организации или с ее согласия.
Напротив, во второй ситуации, когда согласие жертвы является основанием для освобождения виновного от уголовной ответственности, имеет место не прощение, а примирение потерпевшего с обвиняемым. Правовым последствием примирения является освобождение виновного от уголовной ответственности. Но в отличие от примирения, предусмотренного ст. 76 УК РФ, разрешение конфликта сторонами – уже само по себе достаточное основание для прекращения уголовного преследования.
В соответствии с прямым указанием УПК РФ, уголовные дела по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 131, 132, 136, 137, 138, 139, 146, 147 и ст. 145 возбуждаются не иначе, как по заявлению потерпевшего, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. Вместе с тем, все вышеперечисленные деяния, за исключением предусмотренных ч. 1 ст. 131 и 132 УК РФ, относятся к преступлениям небольшой тяжести и, следовательно, могут прекращаться в порядке ст. 76 УК РФ. Но в таком случае освобождение от уголовной ответственности носит дискреционный характер.
Проведенный анализ уголовно-правовых признаков частного обвинения позволяет однозначно говорить о том, что рассматриваемый институт имеет под собой материально-правовую основу и должен получить соответствующее отражение в уголовном законе.
Заключение
Подводя итог настоящему исследованию, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что уголовное право, выполняя функцию охраны общественных интересов, не должно оставаться костным и статичным.
Законодательство может быть эффективным только тогда, когда оно конструирует социальное пространство возможностей развития социальных отношений в обществе с учетом изменения политических, правовых и культурных условий, развивается в том же направлении, в котором идет развитие общества.
Признание приоритета прав и свобод человека в России обусловливает необходимость системного расширения сферы частного интереса в уголовном праве, которое осуществимо только на основе всестороннего научного анализа проблем реализации частного интереса в сфере охранительных отношений. Собственное видение данной проблемы мы раскрыли в настоящей работе. Насколько была успешной эта попытка и насколько обоснованы наши выводы – судить читателю.
Своеобразным итогом проведенного исследования явились следующие выводы.
1. Частный интерес в уголовном праве можно определить как право, нацеленное на организацию и регулирование в сфере уголовного права деятельности частных лиц, индивидов и групп индивидов, рассматриваемых с точки зрения ихличной независимости, и как благо, предполагающее специфические методы правового регулирования.
Среди частных интересов целесообразно выделять здоровье как личное неимущественное благо; личную и половую свободу; честь и достоинство личности; конституционные права человека и гражданина; право собственности.
2. Диспозитивность (частные начала) в уголовном праве можно определить как юридический режим уголовно-правового регулирования, обусловленный спецификой правоотношений в сфере реализации частных интересов и предполагающий особые приемы правового регулирования.
Помимо классических субординационных отношений между государством и преступником по поводу совершения преступления, в уголовной сфере существуют и горизонтальные правоотношения между потерпевшим и преступником, потерпевшим и государством.
3. Способом регулирования частных начал в уголовном праве следует назвать прием юридической децентрализации (метод координации), а средствами – определенные нормы и институты.
4. В числе институтов, отражающих частные начала в уголовном праве, целесообразно выделять институт согласия потерпевшего на причинение вреда собственным интересам; освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим и институт частного обвинения.
5. Согласие пострадавшего может быть охарактеризовано как уголовно значимая, добровольная, конкретная, истинная и предварительная форма выражения волеизъявления лица, достигшего предусмотренного в уголовном законе возраста и способного осознавать характер и значение совершаемых действий, на причинение вреда его законным и находящимся в свободном распоряжении личным имущественным или неимущественным интересам.
6. Исследование правомерных способов причинения вреда с согласия пострадавшего позволяет выделить способы причинения вреда при производстве медицинской деятельности в отношении больных (лечение, врачевание) и в отношении здоровых людей (искусственное оплодотворение или прерывание беременности, донорство, медицинский эксперимент, производство аборта и пр.).
7. Под примирением с потерпевшим следует понимать соглашение, компромисс между потерпевшим и преступником, закономерным итогом которого являются возмещение виновным вреда потерпевшему и заявление потерпевшего в государственные органы об отказе от заявления о привлечении лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности либо о прекращении уголовного дела, возбужденного по его заявлению.
8. Институт частного обвинения имеет материальную природу и представляет собой не что иное, как правовой механизм, дающий потерпевшим возможность самостоятельно решать вопрос о привлечении виновного к уголовной ответственности и освобождении от нее.
Характерно, что уголовно-правовые отношения по делам частного обвинения возникают между преступником и жертвой в момент совершения преступления и изменяются в трех случаях: когда потерпевший отказывается от подачи заявления, подает заявление или идет на примирение с виновным.
В первой ситуации отказ от жалобы прекращает уголовно-правовые отношения «преступник-потерпевший»; во второй – подача заявления инициирует вмешательство государства в правоотношения, результатом чего становится привлечение лица к уголовной ответственности. И, наконец, при прекращении дела частного обвинения в связи с примирением потерпевший своим волеизъявлением прекращает классическое правоотношение «виновный—государство» по реализации уголовной ответственности.
9. Потребность государства в создании правового механизма реализации частного интереса в уголовном праве требует совершенствования закона в двух основных направлениях: редактирования имеющихся и конструирования новых правовых норм.
В рамках первого направления целесообразным видится четкое определение границ между правомерностью и преступностью деяний, совершенных с согласия пострадавшего, посредством более конкретного указания на признаки противоправности. В частности, в работе предлагается редактировать диспозиции ст. 120 УК РФ «Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации», ч. 1 ст. 126 «Похищение человека», ч. 1 ст. 131 «Изнасилование» и ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера» УК РФ, а также изменить формулировку примечания к ст. 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией». Существенных изменений требует также редакция ст. 76 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим».
Второе направление предполагает конструирование в УК РФ специальной нормы-дефиниции «Понятие пострадавшего и потерпевшего»; введение в главу 8 УК РФ статьи 421 «Согласие пострадавшего» и закрепление в главе 16 УК РФ составов ст. 1061 «Убийство по волеизъявлению потерпевшего» и ст. 1131 «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по волеизъявлению потерпевшего».
Библиография
Нормативные источники
1. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью от 29 октября 1985 г.
2. Конвенция ООН о борьбе с торговлей людьми и эксплуатации проституции третьими лицами 1949 г.
3. Конвенция ООН об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством 1956 г.
4. Факультативный протокол к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся торговли людьми, детской проституции и детской порнографии 2000 г.
5. Конституция Российской Федерации. М., 1993.
6. Уголовный кодекс РФ. М., 1996.
7. Гражданский кодекс РФ. М., 1994.
8. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. М., 2001.
9. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г.
10. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г.
11. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г.
12. Уголовное уложение 1903 г.
13. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
14. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г.
15. Уголовный кодекс Испании / Под ред. и с пред. Н. Ф. Кузнецовой. М., 1998.
16. Уголовный кодекс ФРГ / Пер. с нем. М., 2000.
17. Уголовный кодекс Азербайджанской республики / Пер. с азерб. Научный ред. И. М. Рагимова. СПб., 2001.
18. Уголовный кодекс Голландии / Под ред. Б. В. Волженкина. СПб., 2001.
19. Уголовный кодекс Швейцарии / Пер. с нем.; науч. ред. Н. Ф. Кузнецова. М., 2001.
20. Уголовный кодекс Грузии. С изм. и доп. на 1 декабря 2001 г. / Подред. З. К. Бигвава. СПб., 2002.
21. Уголовный кодекс Республики Корея / Под ред. А. И. Коробеева. СПб., 2004.
22. Уголовное законодательство Норвегии / Пер. с нем.; Науч. ред. Ю. В. Голик. СПб., 2003.
23. Уголовный кодекс Республики Польша с изм. и доп. на 1 августа 2001 г. / Под ред. А. И. Лукашова, Н. Ф. Кузнецовой. СПб., 2003.
24. Уголовный кодекс Японии. С изм. и доп. на 1 января 2002 г. / Пер. с яп.; науч. ред. А. И. Коробеев. СПб., 2002.
25. Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных судов СССР, РСФСР и Российской Федерации по уголовным делам. М., 2004.
Монографии и статьи
1. Абельцев С. Семейные конфликты и преступления // Российская юстиция. 1999. № 1. С. 43—49.
2. Абельцев С. Н. Личность преступника и проблема криминального насилия. М., 2000.
3. Агарков М. М. Ценность частного права // Правоведение. 1992. № 2. С. 44—48.
4. Адельханян Р Расследование похищения человека. М., 2002.
5. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка. М., 1986.
6. Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. М., 1999.
7. Алексеев С. С. Частное право: научно-публицистический очерк. М., 1999.
8. Аликперов X. Освобождение от уголовной ответственности с связи с примирением с потерпевшим // СПС «Консультант Плюс».
9. Аликперов Х. Д. Преступность и компромисс. Баку, 1992.
10. Алимов С. Б., Антонов-Романовский Г. В., Резник Г. М. Насильственная преступность в сфере быта и досуга // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1980. Вып. 33. С. 33.
11. Антонов-Романовский Г. В., Лютов А. А. Виктимность и нравственность // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1980. Вып. 33.
12. Антонян Ю. М. Изучение личности преступника. М., 1982.
13. Антонян Ю. М. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступления. М., 1973.
14. Антонян Ю. М., Бородин С. В. Преступное поведение и психические аномалии. М., 1998.
15. Антонян Ю. М, Ткаченко А А, Шостакович Б. В. Криминальная сексология / Под ред. Ю. М. Антоняна. М., 1999.
16. Ардашева Н. А Эвтаназия как метод искусственного прерывания жизни: правовые условия // Российский юридический журнал. 1996. № 1. С. 12-16.
17. Бабаев М. М, Рахманова Е. Н. Права человека и криминологическая безопасность. М., 2003.
18. Баронин А. С. Психологический профиль убийц. Киев, 2001.
19. Баулин Ю. В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Харьков, 1991.
20. Баулин Ю. В. Основания, исключающие преступность деяния. Киев, 1989.
21. Бейсейнов Б. С., Сабикенов С. Н. Категория интереса в праве // Советское государство и право. 1971. № 12. С. 8-12.
22. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1940.
23. Белогриц-Котляревский Л. С. Учебник русского уголовного права. Общая и Особенная части. Киев, 1903.
24. Бердичевский Ф. Ю. Уголовная ответственность медицинского персонала за нарушение профессиональных обязанностей. М., 1970.
25. Берлин А А О необходимой обороне. Ярославль, 1911.
26. Блинников В. А. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном праве России. Ставрополь, 2001.
27. Блувштейн Ю. Д. Личность преступника как предмет криминологического исследования // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1971.
28. Бойцов А И. Юридическая природа освобождения от уголовной ответственности // Вопросы уголовной ответственности и наказания. Красноярск, 1986.
29. Бородин С. В. Преступления против жизни. М., 1999.
30. Брайнин Я. М. Уголовный закон и его применение. М., 1967.
31. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976.
32. Брусницын Л. Обеспечение безопасности потерпевших и свидетелей // Законность. 1997. № 1. С. 36-39.
33. Васильева Н. А Публичные интересы в экологическом праве. М., 2004.
34. Викторовский С. И. Русский уголовный процесс: Учебное пособие. М., 1997.
35. Власов А. Возмещение вреда жертвам преступлений // Законность. 2000. № 2.
36. Волков Б. С. Мотив и квалификация преступлений. Казань, 1968.
37. Волков Б. С. Мотивы преступлений. Казань, 1982.
38. Воскобитова Л. А Правовое регулирование процедуры примирения в уголовном судопроизводстве // Государство и право на рубеже веков. Криминология. Уголовное право. Судебное право. М., 2001.
39. Гаверов Г. С. Общие начала назначения наказания по советскому уголовному праву. Иркутск, 1976.
40. Гальперин И. М. Наказание: социальные функции, практика применения. М., 1983.
41. Гальперин И. М. Об уголовном преследовании, осуществляемом потерпевшим в советском уголовном процессе // Сов. государство и право. 1957. № 10. С. 47-51.
42. Гаухман Л. Д. Насилие как средство совершения преступления. М., 1974.
43. Гельфанд И. А, Куц И. Т. Необходимая оборона по советскому уголовному праву. Киев, 1962.
44. ГентинА М. Предвидение и цель в развитии общества (философско-социологические аспекты социального прогнозирования). Красноярск, 1970.
45. Герцензон А А Уголовное право и социология. М., 1970.
46. Гиреев А К Вина и криминальное поведение. М., 1991.
47. Голик Ю. В. Случайный преступник. Томск, 1984.
48. Головко Л. В. Новые основания освобождения от уголовной ответственности и проблемы процессуального применения // Государство и право. 1997. № 8. С. 77-78.
49. Головко Л. В. Прощение долга при прекращении уголовных дел по нереабилитирующим обстоятельствам // Законодательство. 2000. № 5. С. 20-24.
50. Горелик И. И. Правовые аспекты пересадки органов и тканей. Минск, 1971.
51. Гуценко К Ф. К вопросу о частном обвинении в советском уголовном процессе // Правоведение. 1959. № 4. С. 137-139.
52. Дагель П. С. Имеет ли согласие потерпевшего уголовно-правовое значение? // Советская юстиция. 1972. № 3. С. 25—26.
53. Дагель П. С. Потерпевший в советском уголовном праве // Потерпевший от преступления. Изд-во Дальневосточного университета, 1974.
54. Даль В. Словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1986.
55. Демидов Ю. А Социальная ценность и оценка в уголовном праве. М., 1975.
56. Дмитриев Ю. А, Шленева Е. В. Право человека в Российской Федерации на осуществление эвтаназии // Государство и право. 2000. № 11. С. 52—59.
57. Дмитриева Л. З. Право потерпевшего на отказ от уголовного правосудия // Актуальные вопросы процесса современного развития России. Уфа, 2003. Pennsylvania Statutes. CRIMES AND OFFENSES.
58. Дорошков В. В. Частное обвинение: правовая теория и судебная практика. М., 2000.
59. Дурманов Н. Д. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния. М., 1961.
60. Дьяков С. В. К вопросу о причинности в механизме преступного поведения // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 45. М., 1987.
61. Еллинек Г. Социально-этическое значение права, неправды и наказания / Пер. И. И. Власова. М., 1910.
62. Ендольцева А В. Институт освобождения от уголовной ответственности. Проблемы и пути их решения. М., 2004.
63. Еникеев М. И. Основы общей и юридической психологии. М., 1996.
64. Жидков Э. В. Примирение сторон как средство разрешения социального конфликта в обществе //Российский судья. 2003. № 9. С. 3—8.
65. Жижиленко А А. Преступления против личности. М-Л., 1927.
66. Загородников Н. И. Преступления против здоровья. М., 1969.
67. Защита прав потерпевшего в уголовном процессе. М., 1993. С. 55.
68. Здравомыслов А Г. Потребности. Интересы. Ценности. М., 1986.
69. Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание. М., 1998.
70. Зильбер А П. Трактат об эвтаназии. Петрозаводск, 1998.
71. Зубкова В. И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. М., 2002.
72. Иванов Н. Г. Аномальный субъект преступления. М., 1998.
73. Игнатиади А С., Сидоренко Э. Л. Охрана репродуктивного здоровья в российском уголовном праве: направления и перспективы развития. Ставрополь, 2005.
74. Ильнин Е. П. Мотивы и мотивация. СПб., 2000.
75. Истомин А Ф. Особенная часть уголовного права. М., 1998.
76. Калашникова Н. Я. Расширение прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве // Вопросы судопроизводства и судоустройства в новом законодательстве Союза ССР. М., 1959.
77. Каминская В. И Взаимоотношение уголовного и уголовно-процессуального права// Вопросы борьбы с преступностью. М., 1975. Вып. 22.
78. Карпец И.И.Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы. М., 1973.
79. Карпец И. И.Проблема преступности. М., 1970.
80. Карпец И. И. Уголовное право и этика. М., 1985.
81. Квашис В. Е. Основы виктимологии. М., 1999.
82. Келина С. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие и виды //Уголовное право. 1999. № 3. С. 7.
83. Келина С. Г.Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. М., 1974.
84. Кенни К. Основы уголовного права / Под ред. и с вступ. ст. Б. С. Никифорова. М., 1949.
85. КибальникА Г., Соломоненко И. Г. Практический курс уголовного права России. Ставрополь, 2001.
86. КибальникА. Г., Соломоненко И. Г., Давыдова Е. В. Примирение с потерпевшим в уголовном праве. Ставрополь, 2002.
87. Кистяковский А Ф. Элементарный учебник общего уголовного права с подробным изложением начал русского уголовного права. Часть Общая. Киев, 1882.
88. Ковалев М. И. Понятие преступления в советском уголовном праве. Свердловск,1987.
89. Ковалев М. И. Право на жизнь и право на смерть // Государство и право. 1992. № 7. С. 71.
90. Ковтун Н. Н. «Частная жизнь» и «частный интерес» гражданина как категория уголовно-процессуального права. -palace.spb.ru
91. Ковтун Н. Н. Соотношение частных и публичных начал в уголовном судопроизводстве РФ: время выбора // Государство и право. 1995. № 11.
92. Козаченко И. Я. Санкции за преступления против жизни и здоровья. Томск, 1987.
93. Козлов А. П. Соучастие. СПб., 2001.
94. Кокорев Л. Д. Потерпевший от преступления в советском уголовном процессе. Воронеж, 1964.
95. Колосова В. И., Маляева Е. О. Согласие потерпевшего в уголовном праве как гарантия неприкосновенности личных, имущественных прав и частной жизни. http//
96. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под общ. ред. Ю. В. Кудрявцева. М., 1996.
97. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общ. ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М., 1996.
98. Кондратюк Л. В. Антропология преступления (микрокриминология). М., 2001.
99. Коняхин В. П. Теоретические основы построения Общей части российского уголовного права. СПб., 2002.
100. Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980.
101. Коржанский Н. И. Предмет преступления. Волгоград, 1986.
102. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. Кн. 2. Объективная и субъективная сторона права. СПб., 1914.
103. Красиков А. Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному праву. Саратов, 1999.
104. Красиков А. Н.Преступления против прав человека на жизнь: в аспектах de lege lata и de lege ferenda. Саратов, 1999.
105. Красиков А Н.Примирение с потерпевшим и согласие потерпевшего – «частный сектор» в публичном уголовном праве // Правоведение. 1998. № 1. С. 12—17.
106. Красиков А. Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве. Саратов, 1976.
107. Красиков А Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. Саратов, 1996.
108. Кристи Н. Конфликты как собственность // Правосудие по делам несовершеннолетних. Перспективы развития. М., 1999. Вып. 1.
109. Кропачев Н. М. Общие вопросы применения мер ответственности за преступления // Уголовное право на современном этапе: Проблемы преступления и наказания. СПб., 1992.
110. Кругликов Л. Правовая природа смягчающих и отягчающих обстоятельств //Уголовное право. 1999. № 4. С. 15—25.
111. Кругликов Л. Л., Василевский А В. Дифференциация ответственности в уголовном праве. М., 2003.
112. Кругликов Л. Л., Костарева Т. А. Дифференциация ответственности как уголовно-правовая категория. Ярославль, 1993.
113. Кудрявцев В. Н. О соотношении предмета и объекта преступления по советскому уголовному праву // Советское государство и право. 1951. № 8. С. 18—24.
114. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972.
115. Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М., 1960.
116. Кудрявцев В. Н. Причинность в криминологии. М., 1966.
117. Кудрявцев В. Н. Причины правонарушений. М., 1976.
118. Кузнецова Н. Ф. Избранные труды. СПб., 2003.
119. Кузнецова Н. Ф, Куринов Б. А. Отягчающие и смягчающие обстоятельства, учитываемые при определении меры наказания // Применение наказания по советскому уголовному праву. М., 1958. С. 344—352.
120. Кузнецова Н. Ф, Ткачевский Ю. М. Уголовное право. Общая часть. М., 1993.
121. Кулаков Д. Процессуальная защита свидетелей и потерпевших// Законность. 2000. № 4. С. 35—37.
122. Курбатов А Я. Теоретические основы сочетания публичных и частных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности // Черные дыры в российском законодательстве. 2001. № 1. С. 8—16.
123. Курляндский В. И. К вопросу об изучении причин и условий, способствующих совершению преступления. М., 1957.
124. Курс советского уголовного права: В 5 т. Л., 1968.
125. Курс уголовного права. Общая часть: Учебник для вузов / Подред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжловой. М., 1999. Т. 1.
126. Курс уголовного права. Общая часть: Учебник для вузов / Подред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комисарова. М., 2002.
127. Ларин А. М, Мельникова Э. Б., Савицкий В. М.Уголовный процесс России: Лекции-очерки. М., 1997.
128. Ленский А В., Якимович Ю. К. Производство по делам частного обвинения в уголовном процессе России. М., 1998.
129. Лесниевски-Костарева Т. А Дифференциация уголовной ответственности. М., 2000.
130. Лобанова Л., Лянго Л. Роль прокурора при прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон // Законность. 2001. № 4. С. 14-18.
131. Локк Р. В. Заказные убийства (криминологический анализ). М., 2003.
132. Лопухов Р. А. Назначение уголовного наказания. М., 1965.
133. Лунеев В. В. Мотивация преступного поведения. М., 1991.
134. Лунеев В. В. Преступность 20 века. Мировой криминологический анализ. М., 1997.
135. Львов М. Р. Словарь антонимов русского языка. М., 1985.
136. Ляпунов Ю. И. Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного права: Учебное пособие. М., 1989.
137. Малеина М. Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. М., 2001.
138. Малиновский А. А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. М., 2002.
139. Мальцев Г. В. Соотношение субъективных прав, обязанностей и интересов советских граждан // Сов. государство и право. 1965. № 10. С. 18-22.
140. Марков В. С. Разграничение понятий степени общественной опасности преступления и обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность // Вопросы криминологии, уголовного права, процесса и прокурорского надзора. М., 1975.
141. Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические вопросы субъективного права. Саратов, 1972.
142. Матышевский П. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. Киев, 1996.
143. Мельникова Ю. Б. Юридическая ответственность: сущность, понятие, дифференциация // Вопросы дифференциации уголовной ответственности. Ярославль, 1993.
144. Минская В. Дифференциация уголовной ответственности в УК РФ //Уголовное право. 1998. № 3. С. 18—24.
145. Минская В. С. Криминологическое и уголовно-правовое значение поведения потерпевших // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1972.
146. Минская В. С., Чечель Г. И. Виктимологические факторы и механизм преступного поведения. Иркутск, 1988.
147. Михайлов В. И.Согласие лица как обстоятельство, исключающее преступность деяния // Законодательство. 2002. № 3.
148. Михайлов С. В. Категория интереса в российском гражданском праве. М., 2002.
149. Мюллерсон Р. А Права человека: идеи, нормы, реальность. М., 1991.
150. Назаренко Г. В., Ситникова А. И. Неоконченное преступление и его виды. М., 2003.
151. Насильственная преступность / Под ред. В. Н. Кудрявцева и А. В. Наумова. М., 1998.
152. Никифоров А С. Ответственность за убийство в современном уголовном праве. М., 2000.
153. Новоселов Г. П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. М., 2001.
154. Ной И. С. Охрана чести и достоинства личности в советском уголовном праве. Саратов, 1959.
155. Ной И. С. Сущность и функции уголовного наказания в советском государстве. Саратов, 1973.
156. Общая теория права / Под. ред. А. С. Пиголкина. М., 1996.
157. Огурцов Н. А Правоотношения и ответственность в советском уголовном праве. Рязань, 1975.
158. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995.
159. Осипов П.П.Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых санкций. Л., 1976.
160. Павлов В. Г. Субъект преступления. СПб., 2001.
161. Павлухин А Н, Чистяков А А Уголовная ответственность как научная категория российской правовой доктрины. Генезис, состояние, перспективы. М., 2003.
162. Пакутин В. Д. Институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, в законодательстве некоторых зарубежных государств (сравнительный анализ) // Актуальные вопросы уголовного процесса современной России. Уфа, 2003.
163. Панов Н. И. Способ совершения преступлений и уголовная ответственность. Харьков,1982.
164. Песлякас В. Ч. Уголовная ответственность и освобождение от нее: Учебное пособие. Минск, 1988.
165. Петрова Г. О. Понятие уголовно-правового отношения. Ставрополь, 1993.
166. Петрухин И.Л.Публичность и диспозитивность в уголовном процессе // Российская юстиция. 1999. № 3. С. 24—27.
167. Пионтковский А. А Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1961.
168. Побегайло Э. Ф. О юридической сущности действий, направленных на задержание преступника // Вопросы укрепления социалистической законности и правопорядка. Воронеж, 1970. С. 88.
169. Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. Вып. 1. М., 1907.
170. Полубинская С. В. Цели уголовного наказания. М., 1990.
171. Полубинский В. И. Правовые основы учения о жертве преступления. Горький, 1979.
172. Понятовская Т. Г. Концептуальные основы системы понятий и институтов уголовного и уголовно-процессуального права. Ижевск, 1996.
173. Поройко М. С. К вопросу о понятии уголовной ответственности и средствах ее дифференциации // Юридическая техника и вопросы дифференциации ответственности в уголовном праве и процессе. Ярославль, 1998.
174. Портнов И. Разграничение составов преступлений, предусмотренных статьями 104, 110 и 105, 111 УК РФ // Советская юстиция. 1972. № 2. С. 12—15.
175. Преступность в Российской Федерации в начале XXI века: состояние и перспективы. М., 2004.
176. Протченко Б. А Потерпевший как субъект уголовно-правовых отношений // Сов. государство и право. 1989. № 11. С. 12.
177. Резон А. О. О преступлениях, наказуемых только по жалобе потерпевшего по русскому праву. СПб., 1882.
178. РивманД. В. Виктимологические факторы и профилактика преступлений. Л., 1975.
179. РивманД. В. Потерпевший от преступления: личность, поведение, оценка. Л., 1973.
180. РивманД. В., Устинов В. С. Виктимология. СПб., 2000.
181. Ровный В. В. О проблеме дуализма в праве // Сибирский юридический вестник. 1999. № 1. С. 43—51.
182. Роговой И. О. Пределы проявления диспозитивных начал в уголовном судопроизводстве. Екатеринбург, 1994.
183. Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. М., 1997.
184. Российское уголовное право / Под ред. М. П. Журавлева. М., 1999.
185. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб., 2002.
186. Савицкий В. М. Презумпция невиновности. М., 1997.
187. Самароков В. И.Уголовно-правовая оценка медицинского риска. М., 1978.
188. Сафиуллин Н. Преступник и потерпевший // Преступление и наказание. 1996. № 6. С. 32—36.
189. Севрюков А П. Хищение имущества. Криминологические и уголовно-правовые аспекты. М., 2004.
190. Сенников И. Е. Законный интерес как форма выражения правовых возможностей (дозволений) и объект судебно-правовой защиты // Право: теория и практика.
191. Сердюк Л. В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование. М., 2002.
192. Сердюк Л. В. Психическое насилие как предмет уголовно-правовой оценки следователем. Волгоград, 1981.
193. Сидоренко Э. Л. Отрицательное поведение потерпевшего и уголовный закон. СПб., 2004.
194. Сидоров Б. В. Поведение потерпевших от преступления и уголовная ответственность. Казань, 1998
195. Слуцкий И. И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Л., 1956.
196. Смирнов В. Г. Уголовная ответственность и уголовное наказание // Правоведение. 1963. № 4. С. 19—30.
197. Советское уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Г А. Кригера, Н. Ф. Кузнецовой, Ю. М. Ткачевского. М., 1988.
198. Современный словарь иностранных слов. М., 1993.
199. Спасович В.Д. Учебник уголовного права. Часть Общая. СПб., 1863.
200. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1970. Т. 1.
201. Строгович М. С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе. М., 1951.
202. Стручков Н. А Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с преступностью. Краснодар, 1977.
203. Судебная статистика. Преступность и судимость (современный анализ данных уголовной судебной статистики России 1923-1997 годов). М., 1998.
204. Сумачев А. В. Пострадавший как субъект уголовного правоотношения. Тюмень, 1999.
205. СумачевА. В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве. М., 2003.
206. Сухарев Е. А, Горбуза А Д. Традиционные представления о структуре преступления (критический анализ). М., 1987.
207. Сухарева Н. Некоторые проблемы регламентации примирения с потерпевшим //Уголовное право. 2005. № 1. С. 131-135.
208. Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. Т. 1. М., 1994.
209. Таганцев Н. С. Уголовное право (Общая часть). СПб., 1902.
210. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. М., 1999.
211. Тер-Акопов А А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве. М., 2003.
212. Тилле А А, Швеков Г. В. Сравнительный метод в юридических дисциплинах. М., 1978.
213. Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия / Под. ред. М. Ю. Тихомирова. М., 1998.
214. Уголовное право. Общая часть. М., 1993.
215. Уголовное право. Общая часть / Под ред. И. Я. Козаченко. М., 1997.
216. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Под ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамовой, Г. П. Новоселова. М., 1998.
217. Фефелов П. А. Механизм уголовно-правовой охраны (основные методологические проблемы). М., 1992.
218. Филимонов В. Д. Криминологические основы уголовного права. Томск, 1981.
219. Филимонов В. Д. Охранительная функция уголовного права. СПб., 2003.
220. Философский словарь / Под ред. И. Т Фролова. М., 1987.
221. Флоря К Н. Назначение наказания с учетом причин совершенного преступления. Кишинев, 1980.
222. Фойницкий И. Я. Курс уголовного права. Часть Особенная. Посягательства личные и неимущественные. 5-е изд. СПб., 1907.
223. Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. СПб., 1996.
224. Франк Л. В. Виктимология и виктимность. Душанбе, 1972.
225. Франк Л. В. Некоторые теоретические вопросы становления советской виктимологии // Потерпевший от преступления: Тематический сборник. Владивосток, 1974.
226. Фут Ф. Эвтаназия // Философские науки. М., 1990.
227. Хильчук Е. Л. Некоторые проблемы применения диспозитивного метода в трудовом праве. Тюмень, 1999.
228. Христенко В. Е. Психология жертвы. Харьков, 2001.
229. Центров Е. Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. М., 1988.
230. ЧуприковА. П, Цурык Б. М. Общая и криминальная сексология. Киев, 2002.
231. Шавгулидзе. Т. Г. Необходимая оборона. Тбилиси, 1966.
232. Шаргородский М. Д. Детерминизм и ответственность //Правоведение. 1968. № 1. С. 36-45.
233. Шаргородский М. Д. Вопросы Общей части уголовного права. Л., 1955.
234. Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и здоровья. М., 1948.
235. Шатихина Н.С. Институт примирения с потерпевшим как форма медиации в уголовном праве // Журнал «Российское право в Интернете».
236. Шейфер С. А., Петрова Н. Е. Проблемы реформирования производства по делам частного обвинения в духе расширения частных начал в уголовном процессе РФ // Государство и право. 1999. № 6. С. 46-51.
237. Шуберт Л. Об общественной опасности преступного деяния. М., 1960.
238. Шурухнов Н. Г. Расследование краж. М., 1999.
239. Экимов А. И.Интересы и право в социалистическом обществе. М., 1984.
240. Энциклопедический юридический словарь / Под общ. ред. В. Е. Крутских. 2-е изд. М., 1998.
241. ЭрделевскийА М. Моральный вред и компенсация за страдания. М., 1998.
242. Юношев С. Укрепление правового статуса потерпевшего и его представителя // Российская юстиция. 1998. № 11. С. 21—22.
243. Юрченко В. Е. Гарантии прав потерпевшего в судебном разбирательстве. Томск, 1977.
244. Якубович М. И. Советское уголовное право. Общая часть. Л., 1968.
Авторефераты и диссертации
245. Александров А С. Диспозитивность в уголовном процессе (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1995.
246. Алимов С. Б. Ситуация совершения преступления и ее криминологическое значение (12.00.08 – уголовное право, криминология, исправительно-трудовое право): Автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 1971.
247. Анощенкова С. В. Учение о потерпевшем в российском уголовном праве (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2004.
248. Бриллиантов А В. Дифференциация наказания: уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1998.
249. Булгаков Д. Б. Потерпевший в уголовном праве и его криминологическая характеристика (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000.
250. Василевский А. В. Дифференциация уголовной ответственности и наказания в Общей части уголовного права (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ярославль, 2000.
251. Говорухина Е. В. Понятие и правовые последствия провокации в уголовном праве (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2002.
252. Давыдова Е. В. Примирение с потерпевшим в уголовном праве (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Дис.... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000.
253. Демченко Е. В. Участие потерпевшего и его представителя в доказывании (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Дис.... канд. юрид. наук. М., 2003.
254. Захарьева И. А. Психологические факторы виктимности несовершеннолетних жертв изнасилований (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2000.
255. Карабут М. А Согласие пострадавшего в уголовном праве России (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Дис.... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2004.
256. Ковалев П. А. Возрастно-половые особенности отражения в сознании структуры собственной агрессивности и агрессивного поведения (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Автореф. дис.... канд. юрид. наук. СПб., 1996.
257. Корнелюк О. В. Баланс процессуальных статусов потерпевшего и обвиняемого при досудебном производстве (12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность): Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2003.
258. Коробов П. В. Дифференциация уголовной ответственности и классификация уголовно наказуемых деяний (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Дис. . канд. юрид. наук. М., 1983.
259. Краснюк Г. П. Ненасильственные сексуальные посягательства на лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Дис. . канд. юрид. наук. Краснодар, 2000.
260. Леонтьевский В. А. Освобождение от уголовной ответственности: проблемы обеспечения законности процессуальных решений (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2002.
261. Лесниченко И. П. Уголовная ответственность: понятие и проблемы реализации (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Дис.... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2005.
262. Малько А. В. Законные интересы советских граждан (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Саратов, 1985.
263. Муздубаев М. Х. Индивидуализация наказания с учетом мотивов преступлений (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Дис.... канд. юрид. наук. М., 1988.
264. Питецкий В. В. Оценочные понятия в советском уголовном праве (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Автореф.... дис. канд. юрид. наук. Свердловск, 1979.
265. Пустовая И. Н. Прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования с освобождением лица от уголовной ответственности (12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2001.
266. Рубинштейн Е. А. Нормативное регулирование института прекращения уголовных дел в связи с примирением сторон (12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность): Дис.... канд. юрид. наук. М., 2004.
267. Сидоренко Э. Л. Отрицательное поведение потерпевшего как обстоятельство, влияющее на дифференциацию ответственности и индивидуализацию наказания субъекта преступления (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Дис. . канд. юрид. наук. Ставрополь, 2002.
268. Сидоров Б. В. Поведение потерпевших от преступления и уголовная ответственность (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Автореф. дис.... д-ра юрид. наук. М., 1998.
269. Спесивцева Г.П.Уголовно-правовые и криминологические аспекты корыстно-насильственных преступлений против собственности (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2001.
270. Суслин А В. Уголовно-правовые средства возмещения вреда потерпевшим (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005.
271. Ульянов В. Г. Реализация прав в российском уголовном процессе (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Краснодар, 1998.
272. Фаргиев И. А. Учение о потерпевшем в уголовном праве России (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Автореф. дис.... д-ра юрид. наук. М., 2005.
273. Халиулин А. Г.Уголовное преследование как функция прокуратуры РФ (12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность): Автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 1997.
274. Ценева В. В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2002.
275. Якобашвили Г. М. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (12.00.08 – уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право): Дис. … канд. юрид. наук. М., 2001.
Примечания
1
Бейсейнов Б. С., Сабикенов С. Н. Категория интереса в праве // Сов. государство и право. 1971. № 12. С. 10.
(обратно)2
Ковтун Н. Н. «Частная жизнь» и «частный интерес» гражданина как категория уголовно-процессуального права. -palace.spb.ru
(обратно)3
Следует оговориться, что разграничение публичных и частных начал в сфере уголовно-правового регулирования требует особой осторожности: эффективное и действенное законодательство должно быть не только регулятором общественных отношений, но и легитимизатором существующей социальной практики в сфере охраны интересов личности, общества и государства.
(обратно)4
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 244.
(обратно)5
Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. М., 1987. С. 168.
(обратно)6
См.: Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб., 2002. С. 525.
(обратно)7
Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. М., 1986. С. 75.
(обратно)8
Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические вопросы субъективного права. Саратов, 1972. С. 210.
(обратно)9
Малько А. В. Законные интересы советских граждан: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1985. С. 5.
(обратно)10
См.: Мальцев Г. В. Соотношение субъективных прав, обязанностей и интересов советских граждан // Сов. государство и право. 1965. № 10. С. 20; Михайлов С. В. Категория интереса в российском гражданском праве. М., 2002. С. 23; ЭкимовА. И. Интересы и право в социалистическом обществе. М., 1984. С. 6.
(обратно)11
Сенников И. Е. Законный интерес как форма выражения правовых возможностей (дозволений) и объект судебно-правовой защиты // Право: теория и практика. .
(обратно)12
Алексеев С. С. Частное право: научно-публицистический очерк. М., 1999. С. 64.
(обратно)13
Еллинек Г. Социально-этическое значение права, неправды и наказания / Пер. И. И. Власова. М., 1910. С. 84.
(обратно)14
Цит. по: Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. Кн. 2. Объективная и субъективная сторона права. СПб., 1914. С. 33.
(обратно)15
Там же. С. 39.
(обратно)16
Там же.
(обратно)17
См.: Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. СПб., 1996. Т. 1. С. 112.
(обратно)18
Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. Кн. 2. Объективная и субъективная сторона права. СПб., 1914. С. 70.
(обратно)19
Там же. С. 71.
(обратно)20
Ровный В. В. О проблеме дуализма в праве // Сибирский юридический вестник. 1999. № 1. С. 13.
(обратно)21
Там же. С. 17.
(обратно)22
Агарков М. М. Ценность частного права // Правоведение. 1992. № 2. С. 46.
(обратно)23
Применительно к рассматриваемым частным интересам речь, безусловно, идет об интересах потерпевшего, а не преступника. Сфера реализации частных интересов причинителя вреда всегда ограничивается рамками уголовного закона, и совершение лицом преступления уже свидетельствует о том, что он вторгся в сферу чужих прав и свобод.
(обратно)24
См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под общ. ред. Ю. В. Кудрявцева. М., 1996. С. 94.
(обратно)25
Кузнецова Н. Ф. Избранные труды. СПб., 2003. С. 169.
(обратно)26
См., например: Истомин А. Ф. Особенная часть уголовного права. М., 1998. С. 119; Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов / Под ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамовой, Г. П. Новоселова. М., 1998. С. 147.
(обратно)27
Сумачев А. В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве. М., 2003. С. 132.
(обратно)28
Тихомирова Л. В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / Под. ред. М. Ю. Тихомирова. М., 1998. С. 118.
(обратно)29
Юридический энциклопедический словарь. М., 1987. С. 107.
(обратно)30
Петрухин И. Л. Публичность и диспозитивность в уголовном процессе // Российская юстиция. 1999. № 3. С. 24.
(обратно)31
Сумачев А. В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве. М., 2003. С. 37.
(обратно)32
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 585.
(обратно)33
Философский словарь / Под. ред. М. М. Розенталя. М., 1975. С. 329.
(обратно)34
Энциклопедический юридический словарь / Под общ. ред. В. Е. Крутских. 2-е изд. М., 1998. С. 75.
(обратно)35
Современный словарь иностранных слов. М., 1993. С. 206.
(обратно)36
Курбатов А. Я. Теоретические основы сочетания публичных и частных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности // Черные дыры в российском законодательстве. 2001. №1. С. 16.
(обратно)37
Хильчук Е. Л. Некоторые проблемы применения диспозитивного метода в трудовом праве. Тюмень, 1999.
(обратно)38
Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. М., 1999. С. 6.
(обратно)39
См. также: Малько А. В. Законные интересы советских граждан: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1985. С. 14.
(обратно)40
Кучинский В. А. Законные интересы личности: от Конституции к правореализующей деятельности // Теоретические возможности реализации Советской Конституции. М., 1978. С. 85.
(обратно)41
Экимов А. И. Интересы и право в социалистическом обществе. М., 1984. С. 6.
(обратно)42
Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 589.
(обратно)43
Алексеев Н. Н. Основы философии права. СПб., 1999. С. 202.
(обратно)44
Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. М., 1987. С. 348—349.
(обратно)45
Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. М., 1986. С. 82.
(обратно)46
См.: Курбатов А. ^.Теоретические основы сочетания публичных и частных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности // Черные дыры в российском законодательстве. 2001. № 1. С. 19.
(обратно)47
См. подробнее: Огурцов Н. А. Правоотношения и ответственность в советском уголовном праве. Рязань, 1975.
(обратно)48
Данный подход в советской уголовно-правовой доктрине не являлся единственным. Так, о возникновении уголовно-правовых отношений в момент вступления обвинительного приговора суда говорил В. Г. Смирнов (Функции советского уголовного права. Л., 1965); Я. М. Брайнин, напротив, полагал, что эти отношения берут начало с момента возбуждения уголовного дела (см.: Брайнин Я. М Уголовный закон и его применение. М., 1967), а Г. О. Петрова связывает их возникновение с совершением общественно опасного деяния (Петрова Г. О. Понятие уголовно-правового отношения. Ставрополь, 1993).
(обратно)49
Булгаков Д. Б. Потерпевший в уголовном праве и его криминологическая характеристика: Дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000. С. 57.
(обратно)50
Фаргиев И. А. Учение о потерпевшем в уголовном праве России: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 14.
(обратно)51
Там же. С. 58.
(обратно)52
Аналогичную позицию относительно объекта высказывает Н. Н. Ковтун. См.: Ковтун Н. Н. Соотношение частных и публичных начал в уголовном судопроизводстве РФ: время выбора// Государство и право. 1995. № 11. С. 69.
(обратно)53
Малиновский А. А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. М., 2002. С. 3.
(обратно)54
Туманов В. А. О развитии сравнительного правоведения // Сов. государство и право. 1982. № 11. С. 46.
(обратно)55
Тилле А. А., Швеков Г. В. Сравнительный метод в юридических дисциплинах. М., 1978.С. 177.
(обратно)56
Ссылки на УК Швеции приводятся по изданию: Уголовный кодекс Швеции / Науч. ред. Н. Ф. Кузнецова, С. С. Беляев; пер. С. С. Беляева. СПб., 2001.
(обратно)57
Ссылки на УК Швейцарии приводятся по изданию: Уголовный кодекс Швейцарии / Науч. ред. Н. Ф. Кузнецова; пер. А. В. Серебренникова. М., 2001.
(обратно)58
Ссылки на УК Австрии приводятся по изданию: Уголовный кодекс Австрии / Науч. ред. Н. Е. Крылова; пер. А. В. Серебренникова. М., 2001.
(обратно)59
Ссылки на УК ФРГ приводятся по изданию: Уголовный кодекс ФРГ / Пер. А. В. Серебренникова. М., 2001.
(обратно)60
Ссылки на УК Голландии приводятся по изданию: Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. Б. В. Волженкин; пер. И. В. Миронов. СПб., 2001.
(обратно)61
Ссылки на УК Норвегии приводятся по изданию: Уголовный кодекс Норвегии / Науч. ред. Ю. В. Голик; пер. А. В. Жмени. СПб., 2003.
(обратно)62
Ссылки на УК Польши приводятся по изданию: Уголовный кодекс Польши / Науч. ред. А. И. Лукашова, Н. Ф. Кузнецова; пер. Д. А. Барилович. СПб., 2001.
(обратно)63
Ссылки на УК Болгарии приводятся по изданию: Уголовный кодекс Болгарии / Науч. ред. А. И. Лукашова, пер. Д. В. Милушева. СПб., 2001.
(обратно)64
Ссылки на УК Республики Корея приводятся по изданию: Уголовный кодекс Республики Корея/ Науч. ред. А. И. Коробеев; пер. В. В. Верхоляка. СПб., 2004.
(обратно)65
Ссылки на УК Аргентины приводятся по изданию: Уголовный кодекс Аргентины / Науч. ред. Ю. В. Голик; пер. Л. Д. Ройзенгурта. СПб., 2003.
(обратно)66
Ссылки на УК Эстонии приводятся по изданию: Уголовный кодекс Эстонской республики / Науч. ред. и пер. Н. И. Запевалова. СПб., 2001.
(обратно)67
Ссылки на УК Латвии приводятся по изданию: Уголовный кодекс Латвии / Науч. ред. и пер. А. И. Лукашова. СПб., 2001.
(обратно)68
Ссылки на УК Сан-Марино приводятся по изданию: Уголовный кодекс Республики Сан-Марино. СПб., 2002.
(обратно)69
Ссылки на УК Украины приводятся по изданию: Уголовный кодекс Украины / Сост. и пер. В. И. Тютюгин. Харьков, 2002.
(обратно)70
Ссылки на УК Беларуси приводятся по изданию: Уголовный кодекс Республики Беларусь / Науч. ред., предисловие Б. В. Волженкина; обзор. ст. А. В. Баркова. СПб., 2001.
(обратно)71
Ссылки на УК Грузии приводятся по изданию: Уголовный кодекс Грузии / Науч. ред. З. К. Бигвава, вступ. ст. В. И. Михайлова, обзор. ст. О. Гамкрелидзе; пер. И. Мериджанашвили. СПб., 2002.
(обратно)72
Ссылки на УК Азербайджана приводятся по изданию: Уголовный кодекс Азербайджанской республики / Науч. ред. И. М. Рагимова; пер. Б. Э. Аббасова. СПб., 2001.
(обратно)73
Кенни К. Основы уголовного права / Под ред. и с вступ. ст. Б. С. Никифорова. М., 1949. С. 56.
(обратно)74
Пакутин В. Д. Институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, в законодательстве некоторых зарубежных государств (сравнительный анализ) // Актуальные вопросы уголовного процесса современной России. Уфа, 2003.
(обратно)75
Pennsylvania Statutes. CRIMES AND OFFENSES.
(обратно)76
Малиновский А. А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. М., 2002. С. 138.
(обратно)77
Там же. С. 139.
(обратно)78
Уголовный кодекс Республики Сан-Марино. С. 51.
(обратно)79
Уголовный кодекс Республики Корея. С. 51.
(обратно)80
Уголовный кодекс Грузии. С. 105.
(обратно)81
Там же. С. 167.
(обратно)82
См.: Якобашвили Г. М. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 13—16.
(обратно)83
Головко Л. В. Новые основания освобождения от уголовной ответственности и проблемы процессуального применения // Государство и право. 1997. № 8. С. 77—78.
(обратно)84
Там же. С. 14.
(обратно)85
Кибальник А. Г., Соломоненко И. Г., Давыдова Е. В. Примирение с потерпевшим в уголовном праве. Ставрополь, 2002. С. 52.
(обратно)86
Кристи Н. Конфликты как собственность // Правосудие по делам несовершеннолетних. Перспективы развития. Вып. 1. М., 1999. С. 39.
(обратно)87
Давыдова Е. В. Примирение с потерпевшим в уголовном праве России: Дис.... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2001. С. 112.
(обратно)88
Красиков А. Н. Примирение с потерпевшим и согласие потерпевшего – «частный сектор» в публичном уголовном праве // Правоведение. 1998. № 1. С. 12.
(обратно)89
Уголовный кодекс Голландии. С. 387.
(обратно)90
Уголовный кодекс Аргентины. С. 54.
(обратно)91
Там же. С. 75-77.
(обратно)92
УК Польши. С. 70-71.
(обратно)93
УК Швейцарии. С. 30.
(обратно)94
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 247.
(обратно)95
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1979. Т. 2. С. 53.
(обратно)96
Уголовный кодекс Австрии. С. 22—23.
(обратно)97
Уголовный кодекс Азербайджанской республики. С. 85.
(обратно)98
Красиков А. Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве. Саратов, 1976. С. 58—59.
(обратно)99
Там же. С. 59.
(обратно)100
Защита прав потерпевшего в уголовном процессе. М., 1993. С. 55.
(обратно)101
Дагель П. С. Потерпевший в советском уголовном праве // Потерпевший от преступления. Изд-во Дальневосточного университета, 1974.С. 18.
(обратно)102
Минская В. С., Чечель Г. И. Виктимологический фактор и механизм преступного поведения. Иркутск, 1988. С. 8.
(обратно)103
Красиков А. Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве. Саратов, 1978. С. 66.
(обратно)104
Дагель П. С. Потерпевший в советском уголовном праве // Потерпевший от преступления. 1974. С. 18—20.
(обратно)105
Булгаков Д. Б. Потерпевший в уголовном праве и его криминологическая характеристика. Ставрополь, 2000. С. 13.
(обратно)106
Сидоров Б. В. Поведение потерпевших от преступления и уголовная ответственность: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1998. С. 6.
(обратно)107
Там же. С. 7.
(обратно)108
Красиков А. Н. Сущность и согласие потерпевшего в советском уголовном праве. Саратов, 1978. С. 66.
(обратно)109
Дагель П. С. Имеет ли согласие потерпевшего уголовно-правовое значение? // Сов. юстиция. 1972. № 3. С. 26.
(обратно)110
Словарь русского языка. М.,1983. Т. 1. С. 226.
(обратно)111
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1995. Т. 1. С. 260.
(обратно)112
Эрделевский А. М. Моральный вред и компенсация за страдания. М., 1998. С. 1.
(обратно)113
Власов А. Возмещение вредажертвам преступлений//Законность. 2000. № 2. С. 40.
(обратно)114
Новоселов Г. П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. М., 2001. С. 53.
(обратно)115
Дагель П. С. Имеет ли согласие потерпевшего уголовно-правовое значение? // Сов. юстиция. 1972. № 3. С. 27.
(обратно)116
Там же.
(обратно)117
СумачевА. В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве. М., 2003. С. 107.
(обратно)118
Сидоров Б. В. Поведение потерпевших от преступления и уголовная ответственность: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1998. С. 7.
(обратно)119
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 760.
(обратно)120
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1980. С. 346.
(обратно)121
Там же. С. 367.
(обратно)122
Стоит заметить, что подобное разграничение понятий «потерпевший» и «пострадавший» уже вышло за рамки теории. Так, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 октября 1994 г. «О некоторых вопросах применения судами уголовно-процессуальных норм, регламентирующих производство в суде присяжных» (п. 9), сделана попытка развести эти понятия: «…гражданин, пострадавший от преступления, признан потерпевшим».
(обратно)123
Красиков А. Н. Примирение с потерпевшим и согласие потерпевшего как «частный сектор» в публичном уголовном праве // Правоведение. 1998. № 1. С. 12.
(обратно)124
Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1940. С. 228.
(обратно)125
Спасович В. Д. Учебник уголовного права. Часть Общая. СПб., 1863. С. 94.
(обратно)126
Кистяковский А. Ф. Элементарный учебник общего уголовного права с подробным изложением начал русского уголовного права. Часть Общая. Киев, 1882. С. 314.
(обратно)127
Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. М., 1994. Т. 1. С. 32.
(обратно)128
Таганцев Н. С. Уголовное право (Общая часть). СПб., 1902. С. 112.
(обратно)129
Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. М., 1994. Т. 1. С. 33.
(обратно)130
Таганцев Н. С. Уголовное право (Общая часть). СПб., 1902. С. 114.
(обратно)131
Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. Общаячасть. СПб., 1907. С. 156.
(обратно)132
Цит. по: Новоселов Г. П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. М., 2001. С. 4.
(обратно)133
Познышев С. Е. Основные начала науки уголовного права. Общаячасть. СПб., 1907. С. 154.
(обратно)134
Белогриц-Котляревский Л. С. Учебник русского уголовного права. Общая и Особенная части. Киев, 1903. С. 248—249.
(обратно)135
Таганцев Н. С. Уголовное право (Общая часть). СПб., 1902. С. 116.
(обратно)136
Белогриц-Котляревский Л. С. Учебник русского уголовного права. Общая и Особенная части. Киев, 1903. С. 249.
(обратно)137
Таганцев Н. С. Уголовное право (Общая часть). СПб., 1902. С. 118.
(обратно)138
Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. Общая часть. СПб., 1907. С. 157.
(обратно)139
Таганцев Н. С. Уголовное право (Общая часть). СПб., 1902. С. 120.
(обратно)140
Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. Общая часть. СПб., 1907. С. 159.
(обратно)141
Там же. С. 160.
(обратно)142
Белогриц-Котляревский Л. С. Учебник русского уголовного права. Общая и Особенная части. Киев, 1903. С. 249—250.
(обратно)143
Следует обратить внимание на работы таких ученых, как П. С. Дагель (Имеет ли согласие потерпевшего уголовно-правовое значение? // Сов. юстиция. 1972. № 3. С. 25—26); В. С. Минская, Г. И. Чечель (Виктимологические факторы и механизм преступного поведения. Иркутск, 1988); Б. А. Протченко (Потерпевший как субъект уголовно-правовых отношений // Сов. государство и право. 1989. № 11) и др.
(обратно)144
Новоселов Г. П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. М., 2001. С. 39.
(обратно)145
Цит. по: Франк Л. В. Некоторые теоретические вопросы становления советской виктимологии // Потерпевший от преступления: Тематический сборник. Владивосток, 1974. С. 8.
(обратно)146
Красиков А. Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве. Саратов, 1976. С. 92.
(обратно)147
Там же. С. 94.
(обратно)148
Пионтковский А. А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1970. Т. 2. С. 393.
(обратно)149
Цит. по: Сумачев А. В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве. М., 2003. С. 100.
(обратно)150
Слуцкий И. И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Л., 1956. С. 11.
(обратно)151
Шаргородский М. Д. Вопросы Общей части уголовного права. Л., 1955. С. 86.
(обратно)152
Карпец И. И. Уголовное право и этика. М., 1985. С. 129.
(обратно)153
Советское уголовное право. Общая часть. Учебник / Под ред. Г. А. Кригера, Н. Ф. Кузнецовой, Ю. М. Ткачевского. М., 1988. С. 145—146.
(обратно)154
Уголовное право. Общая часть. М., 1993. С. 222.
(обратно)155
Якубович М. И. Советское уголовное право. Общая часть. Л., 1968. Т. 1. С. 463.
(обратно)156
Дурманов Н. Д. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния. М., 1961. С. 4.
(обратно)157
Кузнецова Н. Ф, Ткачевский Ю. М. Уголовное право. Общаячасть. М., 1993. С. 222.
(обратно)158
См., например: Сумачев А. В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве. М., 2003.
(обратно)159
Ковалев М. И. Право на жизнь и право на смерть // Государство и право. 1992. № 7. С. 71.
(обратно)160
Красиков А. Н. Преступления против прав человека на жизнь: в аспектах de lege lata и de lege ferenda. Саратов, 1999.
(обратно)161
Дмитриева Л. З. Право потерпевшего на отказ от уголовного правосудия // Актуальные вопросы процесса современного развития России. Уфа, 2003. С. 46.
(обратно)162
Исследование уголовно-правовой природы потерпевшего привело нас к выводу о нецелесообразности использования термина «согласие потерпевшего». В дальнейшем в работе будет использоваться понятие «согласие пострадавшего» как наиболее точный и приемлемый для раскрытия правовой сущности частного интереса в уголовном праве термин.
(обратно)163
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 731.
(обратно)164
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1980. Т. 4. С. 259.
(обратно)165
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 612.
(обратно)166
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1980. Т. 3. С. 508—509.
(обратно)167
Гоббс Т. Левиафан// Гоббс Т. Соч. М., 1991. Т. 2. С. 99.
(обратно)168
Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. М., 1987. С. 371.
(обратно)169
Там же. С. 160.
(обратно)170
Белогриц-Котляревский Л. С. Учебник русского уголовного права. Общая и Особенная части. Киев, 1903. С. 249—250.
(обратно)171
Сумачев А. В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве. М., 2003. С. 109—115.
(обратно)172
Колосова В. И., Маляева Е. О. Согласие потерпевшего в уголовном праве как гарантия неприкосновенности личных, имущественных прав и частной жизни. http//
(обратно)173
Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. М., 1987. С. 371.
(обратно)174
Там же. С. 349.
(обратно)175
Там же. С. 379.
(обратно)176
Там же. С. 111.
(обратно)177
Уголовное право. Общая часть / Под ред. И. Я. Козаченко. М., 1997. С. 286; Красиков А. Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве. Саратов, 1976. С. 60.
(обратно)178
Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Лекции. Общая часть: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 185.
(обратно)179
Сумачев А. В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве. М., 2003. С. 110-111.
(обратно)180
Курляндский В. И. К вопросу об изучении причин и условий, способствующих совершению преступления. М.,1957. С.104.
(обратно)181
Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая: В 2 т.М., 1994. Т. 1. С. 185; Красиков А. Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве. Саратов, 1976. С. 60.
(обратно)182
Колосова В. И., Маляева Е. О. Согласие потерпевшего в уголовном праве как гарантия неприкосновенности личных, имущественных прав и частной жизни. http//
(обратно)183
Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. Вып. 1. М., 1907. С. 158—160.
(обратно)184
См.: Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1982. № 2. С. 14.
(обратно)185
Питецкий В. В. Оценочные понятия в советском уголовном праве: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Свердловск, 1979. С. 3.
(обратно)186
Белогриц-Котляревский Л. С. Учебник русского уголовного права. Общая и Особенная части. Киев, 1903. С. 250.
(обратно)187
Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. Вып. 1. М., 1907. С. 160.
(обратно)188
Колосова В. И., Маляева Е. О. Согласие потерпевшего в уголовном праве как гарантия неприкосновенности личных, имущественных прав и частной жизни. http//
(обратно)189
Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 185.
(обратно)190
Михайлов В. И. Согласие лица как обстоятельство, исключающее преступность деяния // Законодательство. 2002. № 3. С. 12.
(обратно)191
Уголовное право. Общая часть / Под ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова. М., 1997. С. 286.
(обратно)192
СумачевА. В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве. М., 2003. С. 112.
(обратно)193
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 377.
(обратно)194
См.: Курс советского уголовного права: В 5 т. Л., 1968. Т. 1. С. 519; Курс уголовного права. Общая часть. Учебник для вузов / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 1999. Т. 1.С. 448.
(обратно)195
Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 186.
(обратно)196
Красиков А. Н. Сущность и значение согласия потерпевшего по советскому уголовному праву. Саратов, 1976. С. 61.
(обратно)197
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 284.
(обратно)198
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1980. Т. 2. С. 151.
(обратно)199
Там же. С. 61-62.
(обратно)200
Уголовное право. Общая часть / Под ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова. М., 1997. С. 286.
(обратно)201
Белогриц-Котляревский Л. С. Учебник русского уголовного права. Общая и Особенная части. Киев, 1903. С. 250.
(обратно)202
Там же. С. 251.
(обратно)203
Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая: В 2 т. М., 1994. Т. 1.С. 60.
(обратно)204
Ной И. С. Охрана чести и достоинства личности в советском уголовном праве. Саратов, 1959. С. 8.
(обратно)205
Сверчков В. В. Согласие «потерпевшего» на причинение вреда как элемент частной жизни и обстоятельство, исключающее преступность деяния. С. 3.
(обратно)206
Михайлов В. И. Согласие лица как обстоятельство, исключающее преступность деяния // Законодательство. 2002. № 3. С. 8.
(обратно)207
Красиков А. Н. Сущность и значение согласия потерпевшего по советскому уголовному праву. Саратов, 1976. С. 61.
(обратно)208
СумачевА. В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве. М., 2003. С. 113.
(обратно)209
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 250.
(обратно)210
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1980. Т. 2. С. 60.
(обратно)211
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 250.
(обратно)212
Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. М., 1987. С. 176.
(обратно)213
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 170.
(обратно)214
См. работы А. Н. Красикова, Н. С. Таганцева, Л. В. Познышева, Л. С. Белогриц-Котляревского, П, С. Дагеля, В. В. Сверчкова, В. И. Михайлова и др. Следует заметить, что А. В. Санталов в своей монографии «Публичность и диспозитивность в уголовном праве» (М., 2003) в числе признаков согласия лица не называет допустимость. Однако он обращает внимание на функциональное значение признака, характеризующего результат согласия, и раскрывает его посредством определения границ отчуждения законных прав лица с его согласия (Санталов А. В. Указ. соч. С. 114).
(обратно)215
Сверчков В. В. Согласие «потерпевшего» на причинение вреда как элемент частной жизни и обстоятельство, исключающее преступность деяния. С. 3.
(обратно)216
Ковалев М. И. Понятие преступления в советском уголовном праве. Свердловск, 1987. С. 83.
(обратно)217
Михайлов В. И. Согласие лица как обстоятельство, исключающее преступность деяния // Законодательство. 2002. № 3. С. 18.
(обратно)218
Карпец И. И. Уголовное право и этика. М., 1985. С. 129.
(обратно)219
Михайлов В. И. Согласие лица как обстоятельство, исключающее преступность деяния // Законодательство. 2002. № 3. С. 20—22.
(обратно)220
Загородников Н. И. Преступления против здоровья. М., 1969. С. 24.
(обратно)221
Колосова В. И., Маляева Е. О. Согласие потерпевшего в уголовном праве как гарантия неприкосновенности личных, имущественных прав и частной жизни. http//
(обратно)222
Дагель П. С. Имеет ли согласие потерпевшего уголовно-правовое значение? // Советская юстиция. 1972. № 3. С. 25.
(обратно)223
Келина С. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие и виды // Уголовное право. 1999. № 3. С. 7.
(обратно)224
Блинников В. А. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном праве России. Ставрополь, 2001. С. 224.
(обратно)225
Дурманов Н. Д. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность. М., 1961. С. 4.
(обратно)226
Советское уголовное право. Часть Общая. М., 1966. С. 210.
(обратно)227
Цит. по: Красиков А. Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве. Саратов, 1976. С. 25.
(обратно)228
Там же С. 102—103.
(обратно)229
Сумачев А. В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве. М., 2003. С. 105.
(обратно)230
Шавгулидзе Т. Г. Необходимая оборона. Тбилиси, 1966. С. 22—23.
(обратно)231
Слуцкий И. И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Л., 1956. С. 11—12.
(обратно)232
Келина С. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие и виды // Уголовное право. 1999. № 3. С. 4—5.
(обратно)233
Баулин Ю. В. Основания, исключающие преступность деяния. Киев, 1989. С. 8.
(обратно)234
См.: Слуцкий И. И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Л., 1956. С. 11.
(обратно)235
См.: Пионтковский А. А. Учение о преступлениях по советскому уголовному праву. М., 1961. С. 410—416.
(обратно)236
См.: Блинников В. А. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном праве России. Ставрополь, 2001. С. 11.
(обратно)237
Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая: В 2 т. Саратов, 1959. Т. 1. С. 279—280.
(обратно)238
См., например: Ляпунов Ю. И. Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного права: Учебное пособие. М., 1989. С. 28.
(обратно)239
Демидов Ю. А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. М., 1975. С. 71.
(обратно)240
Фефелов П. А. Механизм уголовно-правовой охраны (основные методологические проблемы). М., 1992. С. 27.
(обратно)241
Там же. С. 156-167.
(обратно)242
Данной позиции придерживаются Е. А. Сухарев, А. Д. Горбуза (Традиционные представления о структуре преступления (критический анализ). М., 1987. С. 53); Д. И. Курский (Избранные статьи. М., 1948. С. 86); Н. Д. Дурманов (Понятие преступления. М., 1948. С. 185) идр.
(обратно)243
Новоселов Г. П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. М., 2001. С. 53.
(обратно)244
Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 117—125.
(обратно)245
Бердичевский Ф. Ю. Уголовная ответственность медицинского персонала за нарушение профессиональных обязанностей. М., 1970. С. 35.
(обратно)246
Самароков В. И. Уголовно-правовая оценка медицинского риска. М., 1978. С. 65.
(обратно)247
Красиков А. Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве. Саратов, 1976. С. 73.
(обратно)248
Бердический Ф. Ю. Уголовная ответственность медицинского персонала за нарушение профессиональных обязанностей. М., 1970. С. 70.
(обратно)249
Сумачев А. В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве. М., 2003. С. 143.
(обратно)250
Регламентируется Законом РФ «О донорстве крови и ее компонентов» от 9 июня 1993 г.
(обратно)251
Горелик И. И. Правовые аспекты пересадки органов и тканей. Минск, 1971; Красиков А. Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве. Саратов, 1976. С. 84.
(обратно)252
Бердичевский Ф. Ю. Уголовная ответственность медицинского персонала за нарушение профессиональных обязанностей. М., 1970. С. 69.
(обратно)253
Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и здоровья. М., 1948. С. 228.
(обратно)254
Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. М., 2001. С. 81.
(обратно)255
СумачевА. В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве. М., 2003. С. 153.
(обратно)256
Инструкция утверждена приказом Минздрава РФ от 28 декабря 1993 г. № 301.
(обратно)257
См.: Уголовный кодекс Эстонской республики. С. 118.
(обратно)258
11 августа 2003 года было принято Постановление Правительства Российской Федерации № 485 «О перечне социальных показаний для искусственного прерывания беременности», вследствие чего утратило силу Постановление Правительства РФ от 8 мая 1996 г. № 567 «Об утверждении перечня социальных показателей для искусственного прерывания беременности».
(обратно)259
Красиков А. Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве. Саратов, 1976. С. 116.
(обратно)260
См.: Малеина Н. М. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. М., 2001. С. 80.
(обратно)261
Сумачев А. В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве. М., 2003. С. 157-159.
(обратно)262
Сидоров Б. В. Поведение потерпевшего от преступления и уголовная ответственность. Казань, 1998. С. 277—278.
(обратно)263
Построенная классификация объектов отвечает определенному ранее объему прав частных лиц, нарушение которых против воли их обладателя может признаваться преступным.
(обратно)264
Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 184.
(обратно)265
Курс уголовного права: В 6 т. / Под ред. А. А. Пионтковского и др. М., 1971. Т. 5. С. 35.
(обратно)266
Карпец И. И. Уголовное право и этика. М., 1985. С. 133.
(обратно)267
Цит. по: Михайлов В. И. Согласие лица как обстоятельство, исключающее преступность деяния // Законодательство. 2002. № 2. С. 8.
(обратно)268
Говорухина Е. В. Понятие и правовые последствия провокации в уголовном праве: Автореф. … дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2002. С. 19.
(обратно)269
Дмитриев Ю. А., Шленева Е. В. Право человека в Российской Федерации на осуществление эвтаназии // Государство и право. 2000. № 11. С. 52—59.
(обратно)270
ЗильберА. П. Трактат об эвтаназии. Петрозаводск, 1998. С. 29.
(обратно)271
Ардашева Н. А. Эвтаназия как метод искусственного прерывания жизни: правовые условия//Российский юридический журнал. 1996. № 1. С. 14.
(обратно)272
Проведенное нами анкетирование показало, что 7% респондентов выступают за легализацию активной эвтаназии при соблюдении определенных требований к процедуре дачи согласия; 67% высказываются за смягчение наказания лицам, совершившим убийство в соответствии с волеизъявлением жертвы; 18% считают целесообразным смягчение наказания только в случае убийства тяжело больного лица по его собственной просьбе или неполноценного новорожденного; 8% не проводят границы между обычным убийством и убийством по просьбе потерпевшего.
(обратно)273
Правовая система «КонсультантПлюс».
(обратно)274
См.: Малеина М. Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. М., 1991. С. 23; Дмитриев Ю. А., Шленева Е. В. Право человека в Российской Федерации на осуществление эвтаназии//Государство и право. 2000. № 11.С. 52—59; Фут Ф. Эвтаназия // Философские науки. М., 1990. С. 19.
(обратно)275
См.: Бородин С. В. Преступления против жизни. М., 1999. С. 86.
(обратно)276
Сумачев А. В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве. М., 2003. С. 122.
(обратно)277
См.: Говорухина Е. В. Понятие и правовые последствия провокации в уголовном праве. Ростов-на-Дону, 2002. С. 7.
(обратно)278
Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 184.
(обратно)279
Белогриц-Котляревский Л. С. Учебник Русского уголовного права. Общая и Особенная части. Киев, 1903. С. 248.
(обратно)280
Фойницкий И. Я. Курс уголовного права. Часть Особенная. Посягательства личные и неимущественные. 5-е изд. СПб., 1907. С. 67.
(обратно)281
Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. Вып. 1. М., 1907. С. 158-159.
(обратно)282
См.: Жижиленко А. А. Преступления против личности М.-Л., 1927. С. 35.; Козаченко И.Я.Санкции за преступления против жизни и здоровья. Томск, 1987. С. 112.
(обратно)283
Пионтковский А. А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М., 1961. С. 273; Загородников Н. А. Преступления против здоровья. М., 1969. С. 24; Красиков А. Н. Сущность и согласие потерпевшего по советскому уголовному праву. Саратов, 1976. С. 57.
(обратно)284
Кругликов Л. Л., Костарева Т. А. Дифференциация ответственности как уголовно-правовая категория. Ярославль, 1993. С. 60.
(обратно)285
Уголовное право РФ (Общая часть): Учебник / Под ред. А. И. Марцева. С. 175.
(обратно)286
Курс уголовного права. Общая часть / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 1999. Т. 1.С. 445.
(обратно)287
Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. Вып. 1. М., 1907. С. 158.
(обратно)288
Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 123.
(обратно)289
Там же. С. 126.
(обратно)290
Там же. С. 127.
(обратно)291
Белогриц-Котляревский Л. С. Учебник Русского уголовного права. Общая и Особенная части. Киев, 1903. С. 248—249.
(обратно)292
Россия, в частности, подписала и ратифицировала: Конвенцию ООН относительно рабства 1926 г.; Конвенцию ООН о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 г.; Конвенцию ООН об упразднении рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 г.; Факультативный протокол к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся торговли людьми, детской проституции и детской порнографии, 2000 г. и др.
(обратно)293
Расследование похищения человека. М., 2002. С. 38.
(обратно)294
См.: Кибальник А. Г., Соломоненко И. Г. Практический курс уголовного права России. Ставрополь, 2001. С. 247.
(обратно)295
Курс уголовного права. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комисарова. М., 2002. Т. 3. С. 221.
(обратно)296
См., например: Истомин А. Ф. Особенная часть уголовного права. М., 1998. С. 119; Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Под ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамовой, Г. П. Новоселова. М., 1998. С. 147.
(обратно)297
Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 179.
(обратно)298
Красиков А. Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве. Саратов, 1976. С. 28.
(обратно)299
Философский словарь / Под ред. М. М. Розенталя. М., 1975. С. 298.
(обратно)300
Сухарева Н. Д. Общеуголовное освобождение от ответственности в российском уголовном праве. М., 2005. С. 153; Давыдова Е. В., Кибальник А. Г., Соломоненко И. Г. Примирение с потерпевшим в уголовном праве. Ставрополь, 2002. С. 55.
(обратно)301
Сухарева Н. Д. Общеуголовное освобождение от ответственности в российском уголовном праве. М., 2005. С. 160.
(обратно)302
Якобашвили Г. М. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 12.
(обратно)303
Аликперов Х. Д Преступность и компромисс. Баку, 1992. С. 132.
(обратно)304
Аликперов Х. Освобождение от уголовной ответственности с связи с примирением с потерпевшим // СПС «Консультант Плюс».
(обратно)305
См.: Российское уголовное право / Под ред. М. П. Журавлева. М., 1999. С. 233.
(обратно)306
Галиагбаров Р. Р. Уголовное право. Общая часть. Краснодар, 1999. С. 366.
(обратно)307
Головко Л. В. Новые основания освобождения от уголовной ответственности и проблемы их процессуального применения // Государство и право. 1997. № 8.
(обратно)308
Там же.
(обратно)309
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 584.
(обратно)310
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998. Т. 3. С. 426.
(обратно)311
Шатихина Н. С. Институт примирения с потерпевшим как форма медиации в уголовном праве // Журнал «Российское право в Интернете».
(обратно)312
См. Якобашвили Г. Р. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 14; Шатихина Н. С. Институт примирения с потерпевшим как форма медиации в уголовном праве // Журнал «Российское право в Интернете».
(обратно)313
Сухарева Н. Д. Общеуголовное освобождение от ответственности в российском уголовном праве. М., 2005. С. 153.
(обратно)314
Там же. С. 97.
(обратно)315
Давыдова Е. В., Кибальник А. Г., Соломоненко И. Г. Примирение с потерпевшим в уголовном праве. Ставрополь, 2002. С. 48.
(обратно)316
Сухарева Н.Д. Общеуголовное освобождение от ответственности в российском уголовном праве. М., 2005. С. 155.
(обратно)317
Шатихина Н. С. Институт примирения с потерпевшим как форма медиации в уголовном праве // Журнал «Российское право в Интернете». ; Данную позицию разделяет также В. А. Леонтьевский. (Освобождение от уголовной ответственности: проблемы обеспечения законности процессуальных решений: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2002. С. 12.)
(обратно)318
Современное уголовное право России института представительства не знает. Именно поэтому есть все основания утверждать, что законный представитель малолетнего либо невменяемого потерпевшего не может осуществлять его материальные права и быть субъектом примирения согласно положениям ст. 76 УК РФ (См. подробнее: Корнелюк О. В. Баланс процессуальных статусов потерпевшего и обвиняемого при досудебном производстве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2003. С. 16).
(обратно)319
Шатихина Н. С. Институт примирения с потерпевшим как форма медиации в уголовном праве // Журнал «Российское право в Интернете».
(обратно)320
Наличие дееспособности, несомненно, имеет определенное значение при возмещении потерпевшему вреда, однако гражданско-правовые отношения подобного рода остаются за рамками примирения как одного из видов освобождения от уголовной ответственности. Более того, нет никаких оснований для отрицания действительности договора, направленного на возмещение вреда и заключенного законными представителями несовершеннолетнего преступника.
(обратно)321
Сухарева Н. Д Общеуголовное освобождение от ответственности в российском уголовном праве. М., 2005. С. 155.
(обратно)322
Рубинштейн Е. А. Природа примирения в уголовном процессе России // Современное гуманитарное знание о проблемах социального развития: Материалы Х годичного научного собрания СКСИ. М., 2003.
(обратно)323
ЕндольцеваА. В. Институт освобождения от уголовной ответственности. Проблемы и пути их решения. М., 2004. С. 95—96.
(обратно)324
Давыдова Е. В., Кибальник А. Г., Соломоненко И. Г.Примирение с потерпевшим в уголовном праве. Ставрополь, 2002. С. 55.
(обратно)325
Там же. С. 57.
(обратно)326
См.: Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание. М., 1998. С. 6.
(обратно)327
Воскобитова Л. А. Правовое регулирование процедуры примирения в уголовном судопроизводстве // Государство и право на рубеже веков. Криминология. Уголовное право. Судебное право. М., 2001. С. 203.
(обратно)328
Лобанова Л., Лянго Л. Роль прокурора при прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон // Законность. 2001. № 4. С. 14.
(обратно)329
Жидков Э. В. Примирение сторон как средство разрешения социального конфликта в обществе // Российский судья. 2003. № 9. С. 5.
(обратно)330
Шатихина Н. С. Институт примирения с потерпевшим как форма медиации в уголовном праве // Журнал «Российское право в Интернете».
(обратно)331
Ендольцева А. В. Институт освобождения от уголовной ответственности. Проблемы и пути решения. М., 2004. С. 114—115.
(обратно)332
Там же. С. 97.
(обратно)333
Песлякас В. Ч. Уголовная ответственность и освобождение от нее: Учебное пособие. Минск, 1988. С. 44.
(обратно)334
Ендольцева А. В. Институт освобождения от уголовной ответственности. Проблемы и пути их решения. М., 2004. С. 99.
(обратно)335
Жидков Э. В. Примирение сторон как средство разрешения социального конфликта в обществе // Российский судья. 2003. № 9. С. 5.
(обратно)336
См: Ценева В. В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2002.
(обратно)337
Сухарева Н. Некоторые проблемы регламентации примирения с потерпевшим // Уголовное право. 2005. № 1. С. 131.
(обратно)338
Анощенкова С. В. Учение о потерпевшем в российском уголовном праве: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 7.
(обратно)339
См.: ГоловкоЛ. В. Прощение долга при прекращении уголовных дел по нереабилитирующим обстоятельствам // Законодательство. 2000. № 5. С. 20.
(обратно)340
Келина С. Г. Освобождение от уголовной ответственности как правовое последствие совершения преступления // Уголовное право: новые идеи. М., 1994. С. 22.
(обратно)341
Шейфер С. А., Петрова Н. Е. Проблемы реформирования производства по делам частного обвинения в духе расширения частных начал в уголовном процессе РФ // Государство и право. 1999. № 6. С. 51.
(обратно)342
Ларин А. М., Мельникова Э. Б., Савицкий В. М. Уголовный процесс России: Лекции-очерки. М., 1997. С. 156.
(обратно)343
См.: Рубинштейн Е. А. Нормативное регулирование института прекращения уголовных дел в связи с примирением сторон: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 14; ХалиулинА. Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры РФ: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 1997. С. 18.
(обратно)344
Сумачев А. В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве. М., 2003. С. 232—233.
(обратно)345
Там же. С. 233.
(обратно)346
Справедливо в этом плане высказывание Т. Г. Понятовской: «Если целью наказательной власти является охрана “ненарушимых” естественных прав частных лиц, то в законе должны быть предусмотрены гарантии беспрепятственного распоряжения этими правами. Такой гарантией является закрепление в законе права лица (потерпевшего) самому решать уголовно-правовую судьбу посягательства на его ненарушимые права частного лица, ради охраны которых государству и была предоставлена наказательная власть» (Понятовская Т. /.Концептуальные основы системы понятий и институтов уголовного и уголовно-процессуального права. Ижевск, 1996. С. 43).
(обратно)347
СумачевА. В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве. М., 2003. С. 229.
(обратно)348
Гуценко К. Ф. К вопросу о частном обвинении в советском уголовном процессе // Правоведение. 1959. № 4. С. 137.
(обратно)349
Резон А. О. О преступлениях, наказуемых только по жалобе потерпевшего, по русскому праву. СПб., 1882. С. 65.
(обратно)350
Важно отметить, что в данном случае речь идет о реализации уголовной ответственности, а не о юридическом факте ее возникновения (независимо от воли потерпевшего уголовная ответственность возникает с момента совершения преступления).
(обратно)351
Тамже. С. 35—36; аналогичную позицию занимает также А. В. Ендольцева (Ендольцева А. В. Институт освобождения от уголовной ответственности. Проблемы и пути их решения. М., 2004. С. 110).
(обратно)
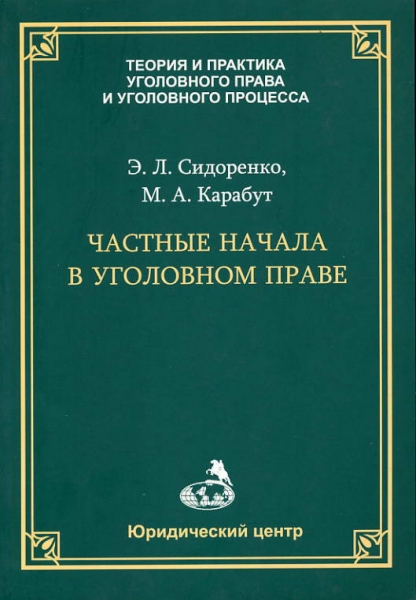

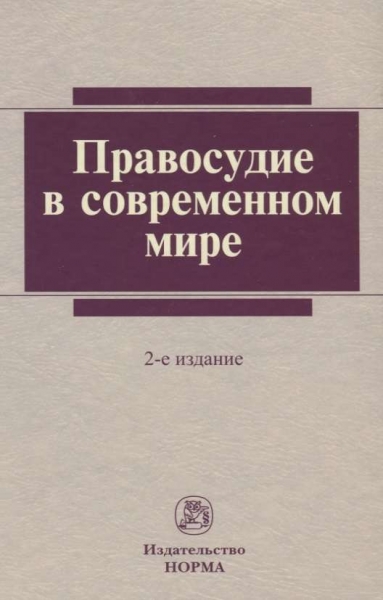
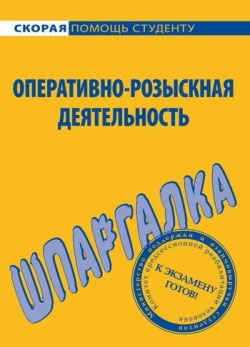
Комментарии к книге «Частные начала в уголовном праве», Элина Леонидовна Сидоренко
Всего 0 комментариев