Сергей Мохов История смерти. Как мы боремся и принимаем
Предисловие
Что такое смерть? Многих этот, казалось бы, простой вопрос ставит в тупик. Не верите? Попробуйте дать на него максимально исчерпывающий ответ. Получилось?
Когда я спрашивал об этом студентов курса, который читаю на базе просветительского проекта InLiberty, они спорили друг с другом и предлагали самые разные определения. Одни говорили о физиологических критериях смерти: остановке дыхания или сердцебиения, смерти мозга. Другие обращали внимание на социальный аспект: смерть для них — невозможность быть частью общества (например, в результате деменции), тотальное одиночество, потеря способности работать и творить. Третьи были уверены, что смерти не существует, потому что физическая смерть есть начало новой духовной жизни.
Этот вопрос становится еще сложнее, когда мы говорим не только о самом факте смерти, но и о связанных с ним явлениях: болезни и старости, горе и похоронах, самоубийстве и эвтаназии, памяти об ушедших и изображении смерти в поп-культуре. Часто сама смерть в этих дискуссиях отходит на второй план. Например, когда мы спорим об эвтаназии, то постоянно спотыкаемся о философские противоречия: где пролегают границы свободы личности? Как должны выстраиваться отношения гражданина и государства?
Разговор же о бессмертии и возможностях его обретения невозможен без дискуссии о том, что такое человек: может ли он оставаться личностью без физического тела? Можно ли считать человеком киборга? А обсуждение публичной скорби сопровождается ожесточенными спорами о правильных и неправильных реакциях на утрату. В общем, неожиданно оказывается, что смерть выступает поводом говорить о том, что действительно нас волнует, — то есть о жизни.
Это хорошо видно на примере последних событий. Весной 2020 года, когда эта книга готовилась к выпуску, грянула пандемия коронавируса. Ее последствия нам только предстоит оценить, но уже сейчас видно, как смерти от новой болезни — потенциальные и реальные — стали предметом публичных дискуссий. Люди принялись обсуждать, как меры защиты населения от вируса повлияют на права человека, будущее демократии и биополитику. Оправдан ли карантин, тормозящий экономику? Нужно ли обрекать миллионы людей на снижение качества жизни ради снижения темпов распространения смертоносного заболевания? Где начинаются полномочия современных государств и где граница, за которой они больше не могут распоряжаться телами своих подданных? Как и какие неравенства связаны с эпидемией? Так, говоря о потенциальной смертельной опасности, мы на самом деле стали обсуждать наши общества и государства, благополучие и привычный образ жизни.
В этой небольшой книге я попытаюсь показать, как развивался язык, на котором о смерти сегодня говорят люди европейской культуры, и какие социально-политические изменения на нём сказались. Я расскажу, как бессмертие связано с картезианской философией; как популярная в последние годы тема должного ухода за умирающими связана с появлением профессии медицинской сестры и изобретением морфина; как практики политических перезахоронений соотносятся с расцветом гуманизма. Свои тезисы я проиллюстрировал примерами из современной жизни, поп-культуры и иногда — личного опыта.
В книге затронуты семь магистральных тем: некрополитика; горе и скорбь; право на жизнь; уход за умирающими; бессмертие; смерть в современной поп-культуре; рост публичных инициатив, связанных со смертью. В последовательности глав нет строгой логики, некоторые утверждения повторяются из главы в главу, что делает книгу похожей скорее на сборник эссе о смерти и умирании. Я рекомендую обращать внимание на сноски и список использованной литературы, так как эта работа — одна из первых подобных на русском языке, а потому может послужить подспорьем для самостоятельного изучения темы, в том числе по зарубежным источникам.
Глава I Горе и скорбь: как и почему мы оплакиваем умерших
Я помню жаркий день в конце июля 2000 года. Мне было десять. Мать сообщила мне о смерти отца. Стоя передо мной на коленях и глядя мне прямо в глаза, она выдавила: «Папы больше нет». Ее признание поставило меня в тупик. Я не чувствовал ни сожаления, ни желания заплакать. Пожалуй, единственной моей эмоцией в тот момент было замешательство: я не знал, что именно должен чувствовать и как реагировать. Я смотрел на мать пустыми рыбьими глазами и просто молчал. Это молчание могло бы длиться вечно, но, на мое счастье, приехало такси. Мы сели в машину, уставились каждый в свое окно, и неловкость отпустила.
Спустя несколько дней мы отправились на поминки на деревенское кладбище. К тому времени отец был уже в земле. Вокруг свежей могилы стояла толпа незнакомых мне людей. Мужчины в красивых пиджаках важно пожимали друг другу руки, женщины семейства плакали и тихо причитали. В воздухе едко пахло летним кладбищем: затхлой водой и старыми цветами. Меня подвели к могиле. Я очень боялся повторения своего эмоционального конфуза и показательно заревел. Я давил из себя слезы, истерично орал, брыкался и дергал мать за платье. Незнакомые люди тут же окружили меня и принялись успокаивать и жалеть.
В тот момент я спасся от уже знакомой мне неловкости плачем, но парадоксальным образом она осталась со мной на всю жизнь. Мысленно я часто возвращаюсь в тот день. Что было бы, если бы я не заплакал? Как и почему я почувствовал смущение от своей внешней холодности? Означало бы отсутствие плача, что я не переживаю всю горечь утраты? А если бы я не горевал, означало бы это, что со мной что-то не так?
Эти вопросы — не из области психотерапии или самокопания. И они касаются не только меня. В последние годы я часто наблюдаю за спорами в интернете, которые разгораются после терактов, авиакатастроф, смертей знаменитостей и обычных людей. Пользователи социальных сетей с остервенением обсуждают «правильность» публичных реакций на крушение самолета над Черным морем, в котором погибли знаменитая правозащитница доктор Лиза и 65 участников Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Или на смерть певицы Жанны Фриске. Или на пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Появились даже специальные термины, связанные с феноменом горевания, например, grief shaming (позорить кого-то за неправильное выражение чувств). Кажется, горе и скорбь имеют для нас куда большее значение, чем мы привыкли думать.
Мои наблюдения подтверждают цифры: за последние 60 лет терминов, которые имеют отношение к описанию чувства утраты, стало втрое больше [1]. Если ввести в поисковике «grief» по-английски или «горе» по-русски, в выдаче окажутся сотни сайтов с информацией о том, как именно нужно справляться с горем. Вы можете делиться своими переживаниями в формате блога [2]; обсуждать свои чувства в группах поддержки; найти множество советов, как пережить любую утрату, будь то родной сын или любимый пес. Существуют даже терапевтические статьи для экологических активистов, горюющих о безвозвратном таянии арктических снегов [3]. Или для тех, кто принял слишком близко к сердцу последствия пожара в соборе Парижской Богоматери.
Почему мы уделяем горю и скорби столько внимания? Зачем все советуют другу другу, как именно переживать утрату? Откуда вообще у нас мысль, что горе надо проживать как-то по-особенному? Почему то, как мы реагируем на утрату, становится причиной публичных обсуждений и конфликтов?
Что такое горе
Чтобы разобраться в этом, я предлагаю начать с простого вопроса: что мы вообще знаем о горе? Принято считать, что оно — некая естественная человеческая реакция на факт любой утраты, то есть на факт разрыва связи с кем-либо или с чем-либо. Речь идет не обязательно о смерти или расставании с близким человеком: это может быть утрата работы, привычного и любимого предмета вроде детской игрушки или даже какого-то навыка (например, когда спортсмен или музыкант из-за травмы теряет способность кататься на лыжах или играть на виолончели). Обо всем этом можно горевать.
Один из классиков изучения смерти, психолог и социальный антрополог Роберт Кастенбаум выделяет несколько видов утрат:
1. потеря контроля над ситуацией или способности анализировать ситуацию;
2. потеря опыта, социальных функций (лишение привычной работы или роли в семье);
3. потеря телесных возможностей;
4. утрата способности к заботе;
5. потеря отношений и объекта любви [4].
История с хвостом ослика Иа-Иа из книг про Винни-Пуха — замечательный пример реакции на утрату части тела. Герой сказки где-то потерял хвост, который ему крайне дорог, и на протяжении многих страниц пытается справиться с меланхолией, вызванной его новым статусом «осла без хвоста». В знаменитой сказке Корнея Чуковского «Федорино горе» описывается реакция горевания, связанная с бытовой утратой: от героини сбежала кухонная утварь. Старуха Федора громко плачет и причитает, раскаиваясь в своем легкомысленном отношении к материальному миру и сокрушаясь о сложных временах, которые ждут ее теперь. Собственно, стон и плач Федоры и есть то самое «горе» — реакция на утрату, пусть и всего лишь сумасбродной посуды.
Разумеется, между реакцией на утрату любимой вещи и гореванием о смерти близкого человека есть существенная разница. Та же Федора в своем причитании умоляет посуду вернуться и начать всё сначала: «Ой вы, бедные сиротки мои, Утюги и сковородки мои! Вы подите-ка, немытые, домой, Я водою вас умою ключевой. Я почищу вас песочком, Окачу вас кипяточком, И вы будете опять, / Словно солнышко, сиять…», а ослик Иа-Иа расспрашивает встречных о своем хвосте. И Федора, и Иа-Иа не теряют надежды вернуть утраченное. Смерть же всегда предполагает безвозвратную потерю связи с субъектом, то есть с умершим человеком. Даже для тех, кто верит в загробную жизнь, эта потеря ощутима: безвозвратно утерян физический контакт, остается надежда лишь на спиритуальный.
Суммируя эти различия, можно сказать, что горевание об умершем — это выраженная в словах или действиях реакция на такую утрату связи с человеком, которую невозможно компенсировать и обратить. Но как работает горе? Что мы знаем о нем?
История научного понимания утраты
Долгое время, вплоть до Реформации в XVI веке, горе осмыслялось исключительно в религиозной парадигме, причем не только в Европе, но в Древней Греции и Риме. Примеры горевания встречаются на картинах художников и в работах скульпторов, также мы узнаем о горе из мифов, преданий и литературы: например, в мифе об Икаре и Дедале оплакивают Икара, а в трагедиях Эсхила и Софокла скорбящий Агамемнон приносит в жертву собственную дочь Ифигению. В Средние века горе было синонимично печали и унынию, а значит, считалось грехом. Добропорядочному христианину полагалось избегать таких чувств, а если они и приходили, с ними следовало бороться — ведь очевидно, что Господь мог послать их человеку только в назидание. Выражение чувств, связанных с утратой, допускалось только в рамках поминального ритуала, например, во время чтения заупокойных молитв.
Движение Реформации, спровоцировавшее секуляризацию всех сторон жизни, постепенно изменило и восприятие горя. Из исключительно религиозного чувства оно превратилось в преимущественно физиологическую реакцию. Способствовали этому процессу и становление медицинского знания, и возрастающий интерес к человеческому телу, которое стало восприниматься как отдельная от души сущность. Первое научно-философское осмысление горя в отрыве от религиозного контекста предложил английский врач Тимоти Брайт. Герой его «Трактата о меланхолии» (1586 год) пытается рассуждать о границах заглавного чувства, а Брайт задается вопросом: где в меланхолии работа его разума, а где — ниспосланное в назидание Господом чувство? Есть мнение, что Уильям Шекспир прочитал книгу Брайта и вдохновился на создание некоторых своих персонажей: например, Антонио из «Венецианского купца» (1600), Жака из «Как вам это понравится» (1623) и даже Гамлета [5]. Горе начинает отрываться от религии и становиться проблемой тела и мышления.
Следующей знаковой для понимания горя книгой была вышедшая в 1621 году «Анатомия меланхолии», написанная английским священником и ученым Робертом Бёртоном [6]. Для Бёртона горе — чувство, сложно отделимое от других скорбных эмоций (той же меланхолии). Он рассматривает его как заболевание, от которого можно излечиться, но которое рано или поздно пройдет само. Работа Бёртона характерна для своей эпохи — времени зарождения рационализма, когда любые эмоциональные порывы рассматриваются сквозь призму науки и прагматичного взгляда на человеческое тело. Не случайно и слово «анатомия» в названии его книги — оно отсылает к распространяющимся в Европе практикам препарирования человеческого тела в интересах науки. Представление о горе как о болезни надолго закрепляется в европейской культуре. Например, в британских свидетельствах о смерти XVII–XIX веков горе часто упоминают как причину смерти вдов, которые, как считалось, особенно тяжело переживали утрату близкого человека. А в начале XIX века американский врач и общественный деятель Бенджамин Раш советовал горюющим пациентам кровопускание, слабительное и опиум, считая затянувшееся состояние горя серьезной угрозой для здоровья [7].
Рис.1 Титульный лист книги Роберта Бёртона «Анатомия меланхолии» (1628). Книга подписана псевдонимом Демокрит-младший, автор дополнял ее вплоть до смерти в 1640 году. Содержит множество отсылок, лирических отступлений и даже анекдотов и личных историй
Постепенно представления о горе становятся частью научно-позитивистского взгляда на мир, в котором всё, включая эмоции, должно иметь рациональное логичное объяснение. В XIX веке все ученые заняты классификациями: появляется периодическая таблица химических элементов Дмитрия Менделеева, расцветает жанр ботанических альбомов. Порядок и классификации царят не только в науке: XVIII и XIX века стали временем солдатской муштры, культа этикета, распространения униформы и строгого воспитания. Главный принцип: всему должно быть свое место и свое объяснение.
На этой волне в 1872 году Чарльз Дарвин публикует работу «Выражение эмоций у человека и животных» («The Expression of the Emotions in Man and Animals»), в которой обстоятельно занимается своим любимым межвидовым сравнением. Среди прочего он описывает и скорбные эмоции через их фиксируемые физиологические проявления — мимику, жестикуляцию и другие реакции тела. Дарвин не делает однозначных выводов о природе горя и нормальности такого состояния, он лишь описывает, как выглядят разные стадии горевания, и отмечает схожесть проявлений горя у людей и обезьян [8].
Для ученых это послужило сигналом к окончательному признанию того, что горе — прежде всего биологически обусловленная реакция. Дарвинизм имел огромное влияние на культуру и общественную мысль с XIX до второй половины XX века, в том числе в достаточно социальных вопросах — экономике, науках об обществе, медицине. Объясняя развитие мира сквозь призму эволюционных процессов, дарвинизм предполагал и поступательное движение вперед всего человечества. Концепция отлично сочеталась с популярной в то время философией утилитаризма, смысл которой заключался в умножении удовольствия. В итоге эволюция понималась обществом буквально — как движение человечества в светлое будущее, лишенное страданий, в том числе и горя. Дарвиновская идея о том, что способность горевать есть у человека с рождения и что это биологическое свойство нашего вида, быстро распространилась и стала аксиомой.
Рис. 2 Горе. Иллюстрация из книги Чарльза Дарвина «Выражение эмоций у человека и животных». В оригинальном издании несколько десятков иллюстраций, в числе которых зарисовки, диаграммы, фотографии за авторством анатома Фридриха Генле, работы живописцев Брайтона Ривьера и Йозефа Вольфа
Закрепился этот взгляд на горе еще и благодаря небольшому эссе Фрейда «Печаль и меланхолия», вышедшему в 1917 году и ставшему чрезвычайно популярным. Психоаналитик описывал главные закономерности поведения людей, переживающих горе, — например, отрицание факта утраты, — и делал вывод, что горевание есть процесс смирения с новыми обстоятельствами. Центральным для Фрейда был тезис о спокойствии психики как ее нормативном состоянии: человек всегда стремится минимизировать остроту переживаний, а потому всё, что вызывает у него беспокойство и причиняет боль, подлежит устранению. Современный философ и исследователь психоанализа Жюли Реше полагает, что Фрейд лишь транслировал общие модерновые гуманистические установки на всеобщее человеческое счастье, согласно которым каждый индивид рассматривается как существо, по умолчанию стремящееся к благополучию, безмятежности и праздному образу жизни. На таких вводных формируется «позитивная школа» психоанализа.
Показательно, что теоретическое обоснование горевания Фрейд разработал до того, как сам пережил несколько личных потерь. В 1920 году умерла его дочь, в 1923-м — внук. Позднее в письмах другу Людвигу Бинсвангеру он признавался, что горе безутешно и остается с человеком навсегда, а не вытесняется бесследно, как он полагал ранее [9]. Идеи Фрейда были тесно связаны с наработками советской исследовательницы Сабины Шпильрейн. В диссертации «Влечение к смерти» она разрабатывала понятия «мортидо» (влечение к смерти) и «либидо» (влечение к жизни), которые позже позаимствует Фрейд.
Именно с работ Дарвина и Фрейда начинается модерновая традиция изучения горя, которая перейдет и в современную науку. XIX век закрепил природу переживания горя за физиологией человека, особенностями работы его мозга; аффективные проявления горя стали восприниматься как примордиальные реакции человека, которые диктует ему его тело [10].
Развитие идей Дарвина и Фрейда
Следующей знаковой психоаналитической работой после «Меланхолии» Фрейда стала книга Эриха Линдеманна «Клиника острого горя» [11]. В начале 1940-х психиатр Линдеманн исследовал родственников погибших в бостонском ночном клубе Cocoanut Grove. В ночь на 28 ноября 1942 года после футбольного матча болельщики и игроки отправились отдыхать в это заведение. Там случился пожар, в результате которого погибли 492 человека. Линдеманн провел более сотни глубинных интервью с их родственниками, чтобы узнать, что чувствуют и как справляются с горем близкие погибших. Результатом стало описание ряда характерных реакций. Выяснилось, что у горевания существует клиническая картина: физическое страдание, поглощенность образом умершего, вина, враждебные реакции, утрата прежних моделей поведения. «Это определенный синдром с психологической и соматической симптоматикой. Этот синдром может возникать сразу же после кризиса, он может быть отсроченным, может явным образом и не проявляться или, наоборот, проявляться в чрезмерно подчеркнутом виде», — заключил Линдеманн [12].
Во второй половине XX века стали появляться новые психологические модели и классификации феномена горя. Большинство ученых, которые пытались систематизировать знания о горе, полагали, что это растянутый во времени процесс, имеющий несколько стадий. Он начинает развиваться в момент столкновения индивида с ситуацией утраты и заканчивается смирением — как психологическим, так и социальным. Одна из самых популярных моделей описания горя — схема пионера хосписного движения Элизабет Кюблер-Росс, которая в 1970-х написала несколько важных в этой области работ. Свою теорию Кюблер-Росс сформулировала на основе наблюдений за смертельно больными, которые постепенно осознавали неизбежность собственной кончины. Ее модель описывала прежде всего опыт самих умирающих, однако позже ее экстраполировали и на людей, утративших близкого человека. Фазы переживания горя, по Кюблер-Росс, следуют друг за другом в таком порядке:
1. Отрицание. Горюющий отказывается верить в произошедшее. Близкий человек не умер, он просто ушел или уехал.
2. Гнев. Ненависть и агрессия по отношению к несправедливому миру, себе и людям, неспособным понять горечь утраты.
3. Торг. Попытки дать обещания — себе, Богу, окружающим, — договориться с кем-то и попытаться вернуть утрату.
4. Депрессия. Отчаяние и ужас, потеря интереса к жизни.
5. Принятие. Смирение, поиски компромисса с ситуацией.
Книга о горевании Кюблер-Росс имела феноменальный успех не только среди врачей, психологов и сотрудников хосписов — она проникла в современную массовую культуру. Стадии горевания по Кюблер-Росс обыгрываются в кино: например, в фильме «Не отпускай меня» (2010 год, антиутопия о жизни клонов, которых выращивают для трансплантации органов) или в фильме «А теперь не смотри» (1973 год, основан на повести Дафны Дюморье, мастера психологическо-мистических историй). А еще про отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие придумали много мемов. Сегодня стадиальность горевания воспринимается как аксиома, своего рода common knowledge.
Воодушевленные успехом Кюблер-Росс, другие исследователи тоже пытались развить понимание горя как стадиального процесса. Например, психологи Джон Харви и Эрик Миллер выделяли три стадии: отрицание, оценка, примирение. Психиатр и психоаналитик Джон Боулби — четыре: шок (аффект), протест, отчаяние, восстановление. Психиатр Колин Паркес — тоже четыре, но иные: шок, тоска, дезорганизация и смирение [13].
Рис.3 Элизабет Кюблер-Росс (нем. Elisabeth Kübler-Ross, 1926–2004), автор одной из самых популярных концепций о переживании горя и принятии смерти. Она верила в загробную жизнь, практиковала медитацию и считала смерть лишь переходным этапом
В начале 1980-х Сюзан Ле Подевин, одна из первых в Великобритании, кто начал целенаправленно оказывать психологическую помощь пережившим утрату, пошла дальше и предложила методику индивидуальной оценки тяжести горя. Значение имели следующие показатели: идентичность (как утрата повлияла на самоощущения человека?), эмоциональное состояние (как человек реагирует на утрату?), духовное осмысление (как утрата соотносится с представлениями человека о мире?), трансформации быта (как утрата перестраивает ежедневные практики?), социальная сфера (как утрата влияет на социальное положение человека — например, пришлось ли ему менять место жительства?).
В целом исследователи XX века укрепились в понимании горя как телесной, биологически детерминированной реакции человека на стресс утраты. Горевание стало окончательно восприниматься как болезнь (появился диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство») [14], а любое состояние оплакивания и переживания — как временное помутнение, требующее возврата к норме, излечения. Некоторые психологи (Питер Гилс, Питер Маррис, Патрик Клейтон с коллегами, Колин Паркес и другие) [15] показали, что в «работе горя» есть и социальный фактор (например, на переживания влияют уровень образования или религиозность), однако его роль не считалась первичной [16].
Биологическое понимание горя существенно упрощает и нормативизирует феномен горевания. Биологизаторский подход критикуют культурные антропологи и социологи, и больше всего вопросов у них вызывает популярная стадиальная теория Кюблер-Росс. Ее критики приводят как сугубо научные аргументы (например, ссылаются на недостаточно прозрачную модель сбора данных, которую использовала исследовательница), так и на личностные: Кюблер-Росс увлекалась эзотерикой, верила в загробную жизнь и перерождение человека. Слабым местом ее модели описания горя является и то, что на деле стадии могут наступать в разное время и в другом порядке или не наступать вовсе. Один из ведущих исследователей горя Чарльз Корр отмечает, что типология Кюблер-Росс скорее говорит о проявлениях клинической культуры западного общества (ориентация на телесные симптомы и ожидание быстрого излечения), чем о какой-то реальной и объективной «работе горя» [17].
Почему же тогда схема «отрицание — гнев — торг — депрессия — принятие» стала такой популярной?
Причины популярности биологического понимания горя в XX веке
Концепция горевания как физиологической реакции организма на утрату сформировалась благодаря особому культурному и социальному контексту. Уже упомянутые эволюционизм и утилитаризм стали ее философскими столпами, но были и другие факторы.
На ученых, сделавших вклад в развитие этой концепции, не могли не влиять ужасы Первой мировой войны: использование оружия массового поражения (в том числе химического и газового) и невиданное до тех пор вовлечение мирного населения в военные действия — со смертью и разрушениями столкнулись буквально в каждом доме. Свою роль сыграло активное развитие фотографии и распространенность документальной съемки: поля битв и жертвы сражений стали видимы [18]. Психиатры, в частности Фрейд, изучавшие бывших солдат или родственников погибших, выявили множество тяжелых состояний. Но главной целью врачей было вернуть солдат к нормальной жизни — насколько это возможно. Впрочем, через 20 с небольшим лет — совсем небольшой срок по меркам исторического процесса — на старые раны вновь сыпется соль: люди столкнулись с потрясениями Второй мировой войны, холокоста и последствиями применения атомного оружия. Это навсегда изменило человечество.
Врачам и ученым потребовались новые интерпретации. Было очевидно, что в новой концепции горя должен быть предусмотрен сам механизм переживания, исправления последствий. Психоаналитический взгляд на горе как на эмоцию, которую, проработав (сделав выводы), можно обратить себе на пользу, позволил переосмыслить болезненное наследие. Неудивительно, что именно после Второй мировой войны публичные интеллектуалы и политики стали часто оперировать категориями «травма», «стыд» и «вина» [19]. Главная работа того времени — «Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии», написанная в 1946 году немецким философом Карлом Ясперсом, которая и дала мощный старт публичному обсуждению вины за преступления нацизма и ввела основные категории в общественную дискуссию.
Горе быстро переплелось с новыми понятиями «коллективной травмы» и «исторической памяти». Словно по Кюблер-Росс, общественное переживание ужасов мировой войны последовательно проходило стадии отрицания, торга и принятия. Характерен пример психоаналитика Виктора Франкла, который пережил концлагерь и столкнулся с каждодневными утратами, а в 1945 году выпустил основанную на своем переработанном опыте книгу «Сказать жизни „Да!“. Психолог в концлагере».
Еще один яркий пример стадиальности — публичная дискуссия в Германии. В 1950-е военная агрессия нацистов рассматривалась исключительно как продукт коварства гитлеровского режима: хитрым эсэсовцам удалось обмануть целый народ, немецкое общество предстало жертвой политического строя. Позднее, благодаря усилиям немецких социал-демократов, позиция отрицания сменилась комплексом вины за холокост и преступления нацизма. В начале 1980-х, в результате титанических усилий федерального канцлера ФРГ Гельмута Коля по регулированию общественных дискуссий, немецкое общество наконец приняло свое прошлое как опыт, который невозможно изменить, но стоит учитывать в будущем. Программным документом Коля стала новая партийная программа, в которой провозглашался принцип «достижения свободы и единства для всего немецкого народа». Произошло «оздоровление» нации. Эта трансформация убедила всех в правильности подхода к гореванию, который можно сформулировать как «мы должны сделать выводы и жить дальше». На нём строятся и современные исследования исторической памяти, исходящие из необходимости прожить утрату, отгоревать и проработать травму.
В этом контексте любопытен советский опыт. СССР победил в войне, но пострадал от разрушений и колоссальных людских потерь, так что в советском мире горе было естественным элементом повседневности, а не болезнью. Его вписали в идеологию советского человека формулой «наши потери стали нашей победой». Проявлялась она, в частности, в публичных практиках скорби: советская культура не воспринимала горе как процесс постепенного принятия утраты, она буквально сконструировала себя через трагедию. Горе — это кризисный момент, момент героизма и установления последней правды, то, что формирует национальное «мы». Никто не стремился забыть ужасы и потери Великой Отечественной — их постоянно вспоминали, переживали вновь и вновь; а еще они стали примером того, что может случиться очень скоро — если страхи холодной войны и ядерная угроза материализуются в реальности.
Возможно, одной из причин подобного отношения к горю было отсутствие самого дискурса травмы и понимания горевания как стадиального процесса — не важно, индивида или целого общества. Советскую школу психоанализа, которая активно формировалась в 1920-х, уже в 1930-х постигла та же участь, что и многие другие идеи в сталинское время, — она оказалась под запретом [20]. Сабина Шпильрейн, ученица Карла Юнга и Зигмунда Фрейда, которая продолжала свою научную работу в СССР после отъезда из Европы, трагически погибла во время Великой Отечественной войны [21].
После войны прикладное психологическое консультирование, то есть помощь при ментальных расстройствах, стало ассоциироваться с карательной психиатрией, борьбой с инакомыслием с помощью димедрола, электрошока и изоляции в больницах лагерного типа. Никите Хрущеву даже приписывается фраза: «Против социализма может выступать только сумасшедший» [22]. Уже после распада СССР психологическое консультирование расцвело в форме эзотерического знания: на улицах городов появились тысячи гадалок и ясновидящих, выполнявших прикладную функцию помощи населению. Первые англоязычные работы по психологии начали переводить в 1990-х — например, все ту же Кюблер-Росс. В рамках постсоветской школы психоанализа появляются и оригинальные стадиальные концепции горя; среди них — фазы острого горя психотерапевта Федора Василюка (шок и оцепенение, фаза поиска, фаза острого горя, фаза остаточных толчков и реорганизации, фаза завершения). Но по-настоящему широкая публичная дискуссия вокруг темы горя возникла только в последние несколько лет.
Таким образом, в современном мире горе изучается и публично репрезентируется как психологический и биологический феномен, естественная реакция человеческого мозга на утрату привычной связи с каким-либо объектом. Эти болезненные реакции требуют обязательного прекращения или вмешательства специалистов со стороны. При этом социальные исследователи справедливо отмечают роль культурного контекста, в котором находится тот, кто переживает ситуацию горя, и полагают, что горе не так однородно и биологично, как мы привыкли думать. Этот парадокс убеждает в том, что тезис о необходимости переживания горя — всего лишь идеологема, пусть и весьма распространенная и активно поддерживаемая. Настолько, что кажется нам объективной истиной.
Но является ли горе болезнью на самом деле?
Горе как часть культуры
Биологизаторская интерпретация обнаружила несколько слабых мест в концепции «горя как болезни». Так, не очень понятно, что именно заставляет мозг (и заставляет ли) переживать стресс от утраты — изначально заложенное природой желание обладать объектами или что-то другое? Очевидно, что речь в этом контексте идет об оценках события, причинившего горе, а оценка всегда детерминирована социумом и культурой, в которой это происходит. Мозг не знает, как реагировать на потерю, если ценность и значение теряемого объекта не определены. Следовательно, изучение феномена горя стоит перевести в контекст оценки критериев болезненности утраты. Важно разобраться, почему одно событие способно травмировать индивида, а другое — нет.
Как отмечает социолог Норберт Элиас, в широком смысле эмоции имеют сразу несколько составляющих — и физиологическую, и соматическую, и культурную. При этом не до конца ясно, в каком соотношении и подчинении они находятся между собой и какая из составляющих наиболее влиятельна [23]. Следовательно, не совсем понятно, какая реакция на горе является нормой: плач, смех, сдержанная грусть? Существует ли эта норма в принципе? И есть ли связь между выражением эмоций и реальным их переживанием?
Мой собственный опыт подтверждает: если человек причитает и бьется в истерике, это вовсе не значит, что он переживает всю гамму негативных чувств. Об этом же писал британский антрополог Альфред Рэдклифф-Браун, своими исследованиями обративший внимание на значение эмоций в ритуальной жизни человека. Рэдклифф-Браун пытается ответить на вопрос, почему люди плачут не только на похоронах, но и в другие важные моменты: например, во время ритуала инициации мальчиков или ухода невесты из родительского дома. Он приходит к мнению, что выражение эмоций в виде плача — вполне контролируемый акт, и поэтому не в полной мере принадлежит сфере эмоционального. Плач регламентирован: например, когда мертвое тело выносят из дома, ритуал предписывает его усиление. Таким образом, Рэдклифф-Браун призывает разделять собственно эмоции (например, грусть и скорбь) как некоторые биологические переменные и способы их выражения. По мнению исследователя, не эмоции рождают ритуал и его форму, а ритуал и его функции задают необходимый эмоциональный настрой, формы выражения которого, в свою очередь, строго регламентированы культурой (плакать, например, можно тихо всхлипывая, в японской традиционной культуре, или в голос причитая, как в русской традиционной культуре). В понимании Рэдклифф-Брауна плач — один из способов передачи нужного эмоционального состояния, своего рода обряд и инструмент проведения границ между разными группами, участвующими в ритуале. То, как ты выражаешь или контролируешь эмоции, указывает на твой статус. В качестве примера Рэдклифф-Браун приводил ритуал инициации, в ходе которого мальчик должен съесть черепаху. Женщины племени тем временем интенсивно плачут и пытаются разжалобить инициируемого. Рэдклифф-Браун отмечает, что мальчик ни в коем случае не должен поддаваться на слезы, ведь его задача — продемонстрировать ожидаемые от мужчины стойкость, хладнокровие и независимость.
Другие исследователи уверены: несмотря на общепринятое мнение о том, что выражать эмоции, связанные с горем, хорошо и правильно, культурные нормы могут допускать и более сдержанное осознание утраты. Так, американский антрополог Нэнси Шепер-Хьюз в своем классическом исследовании не-оплакивания смертей младенцев в Бразилии отмечает, что слишком широкая распространенность потерь в этом сообществе ослабляет связи между людьми, заставляя их реагировать на смерть почти безразлично: «Хотя у меня нет сомнений (и я достаточно хорошо показала это), что местная культура организована так, чтобы защитить женщин от психологически разрушительного характера скорби, я полагаю, что культура здесь весьма преуспела, и мы можем воспринимать слова этих женщин именно так, как они есть, когда они говорят: „Нет, я не чувствовала скорби. Смерть ребенка была благословением“» [24]. Своей работой Нэнси Шепер-Хьюз обратила внимание на то, что горе не универсально.
К схожим выводам приходят и исследователи, изучающие отношение к смерти в эпоху разрушительных войн и массовых эпидемий. Очевидно, что тотальность и крайне широкая распространенность смерти способны снижать эмоциональную чувствительность к потерям, в том числе близких людей [25]. Например, в блокадном Ленинграде, насквозь пропитанном ежеминутной борьбой за выживание, горе часто смешивалось с ненавистью и становилось повседневностью. В дневнике молодого врача Израиля Назимова, который в годы блокады был главой здравотдела Кировского района Ленинграда, это описывается так: «Когда говорят, что человека постигло то или иное горе, то в прошлом это понятие ассоциировалось с тяжкими переживаниями. Горе — это тяжелые моральные страдания. Теперь же тяжесть страданий настолько велика, что, применяя термин „горе“, не отражаешь в нем всей сути, всей глубины исключительных по своему характеру, разнообразию переживаний, посеянных войной» [26].
Примером горевания, притупленного контекстом, может быть и описание быта советских рабочих и крестьян в 1920-х в романе-дневнике «Голод» пролетарского писателя Сергея Семенова. Автор рисует ужасающую картину притупления привычных человеческих эмоций перед лицом постоянного голода. Отец готов не просто объедать родных детей, но даже совсем лишать их пищи, а гибель близких кажется не горем, а избавлением от лишнего рта. Схожие дегуманизирующие примеры мы находим и у Андрея Платонова в его повести о деревенской жизни «Происхождение мастера»: «Но на этот раз засуха повторилась и в следующем году. Деревня заперла свои хаты и вышла двумя отрядами на большак — один отряд пошел побираться к Киеву, другой — на Луганск на заработки; некоторые же повернули в лес и в заросшие балки, стали есть сырую траву, глину и кору — и одичали. Ушли почти одни взрослые — дети сами заранее умерли либо разбежались нищенствовать. Грудных же постепенно затомили сами матери-кормилицы, не давая досыта сосать. Была одна старуха — Игнатьевна, которая лечила от голода малолетних: она им давала грибной настойки пополам со сладкой травой, и дети мирно затихали с сухой пеной на губах. Мать целовала ребенка в состарившийся морщинистый лобик и шептала: „Отмучился, родимый. Слава тебе, господи!“ Игнатьевна стояла тут же: „Преставился, тихий: лучше живого лежит, сейчас в раю ветры серебряные слушает…“ Мать любовалась своим ребенком, веря в облегчение его грустной доли. „Возьми себе мою старую юбку, Игнатьевна, — нечего больше дать. Спасибо тебе“. Игнатьевна простирала юбку на свет и говорила: „Да ты поплачь, Митревна, немножко: так тебе полагается. А юбка твоя ношоная-переношоная; прибавь хоть платочек аль утюжок подари“…» Описанное совсем не похоже на наше представление о «правильном» переживании горя, но возьмемся ли мы осуждать героев?
Антропологи замечают: реакция на утрату не только может меняться в связи с историческим контекстом. как вынужденная мера адаптации, но и изначально быть другой. Например, по-разному горюют представители разных социальных классов, люди с разным образованием и гендерной самоидентификацией. Вдовы, как правило, переживают утрату острее, чем вдовцы, а люди старшего пенсионного возраста и низкого социального статуса справляются с горем хуже, чем более молодые и обеспеченные [27]. Кроме того, интенсивность переживания меняется в зависимости от объекта утраты. В повседневных разговорах мы часто ссылаемся на разные представления о ценности человеческой жизни: одних людей мы жалеем больше, чем других, и поэтому их смерть нам кажется более несправедливой или несвоевременной. Так, смерть старого человека более логична, а значит, не так оплакиваема, как смерть ребенка.
Таким образом, одна из главных проблем психобиологизаторства, то есть объяснения горевания исключительно естественными причинами, — невозможность провести четкие границы между эмоциями индивида и нормами социума, в котором он существует. Перечисленные примеры доказывают, что скорбь не универсальна, а «горе как болезнь» — продукт западной культуры, в которой сформировалась особая научная парадигма. Теперь, разобравшись с тем, как исторически сложилось современное понимание горя, давайте попробуем понять, что значит «горевать» в наши дни.
Горе и скорбь в XXI веке. Медикализация, индивидуализация и феминизм
За свою долгую писательскую карьеру Лев Толстой рассказал о самых разных смертях, начиная с трагического самоубийства Анны Карениной и героической кончины князя Андрея Болконского и заканчивая мучительной смертью пожилого чиновника Ивана Ильича от неизвестной болезни. И если смерти молодых Карениной и Болконского меланхолично-романтичны и вызывают у читателей глубокое сострадание, то смерть старого чиновника провоцирует скорее отвращение и страх. При этом разница не только в сюжетном контексте или символическом значении этих смертей. Толстой фантастически точно описал принципиально разные формы смерти, характерные для разных эпох. Смерть молодых героев — то, чем живет общество весь XIX век. Героическому самопожертвованию сопутствует меланхоличное чувство утраты. Пожертвование воспевается в национальных балладах, стихах и картинах. Смерть же заурядного стареющего Ивана Ильича от непонятной боли в боку — то, чем общество XIX века восторгаться не может. Это смерть неинтересная и даже глупая. «Плохое умирание» Ивана Ильича выглядит как вызов «хорошей смерти», воспеваемой XIX веком. Я бы сказал, что кончина Ивана Ильича — это пролог к тому, как умирает человек современности [28].
Рис.4 Дафна Тодд. «Последний портрет моей матери» («Last Portrait of Mother», 2010)
Среднестатистическая смерть человека в XXI веке действительно чаще напоминает кончину старого провинциального бюрократа, чем гибель молодого князя. Всё чаще люди умирают в пожилом возрасте, страдая от деменции и других ментальных расстройств, — немощные, обмоченные, слабо отдающие себе отчет в том, что с ними происходит. Именно так изображает свою мать современная художница Дафна Тодд: с полотна «Последний портрет моей матери» (2010) на нас смотрит ссохшаяся старуха, изъеденная физической болью и ментальными страданиями, лежащая на больничной койке. Такой смертью тяжело восхищаться. Более того, тяжело скорбеть о таком покойном, искренне воспевая его жизнь и горько оплакивая кончину в эпитафиях. Смерть близкого становится не просто неконтролируемым медицинским явлением, но и крайне неэстетичным и довольно продолжительным действом: мы наблюдаем, как постепенно разрушается привычный образ любимого человека. Зачастую его кончина — ожидаемое событие, к которому готовятся и которое планируют. Растянутое во времени умирание позволяет легче адаптироваться к происходящему: даже жена Ивана Ильича в какой-то момент начинает желать смерти мужа, превратившегося в сварливого склочного старика, измученного болью в боку.
Главное изменение горя в XXI веке заключается в смещении акцента с коллективных ритуалов на индивидуальные практики скорби. Если в традиционном обществе функцией горевания было переориентировать коллектив под новую реальность, то сегодня в центре внимания — личностные механизмы и вопрос о том, что испытывает конкретный человек. За счет тренда на индивидуализм и позитивное отношение к жизни горе стало актуальной проблемой. «Вы что-то чувствуете в связи со смертью близкого? Давайте поговорим об этом!» — призывают психоаналитики. Следующий шаг в этой логике — осознать проблему. Ну а потом с этой проблемой — то есть с горем — предстоит работать, то есть бороться. Отказ от позитивной осознанности горя не рассматривается [29].
Многие исследователи, изучая успех персональной психотерапии в западной культуре, ссылаются на важную роль института исповеди в его формировании [30]. Исповедальный жанр не просто создал «индивида», но и обучил западного человека говорить о себе. Впоследствии этот процесс зашел еще дальше: горе из нарративного акта превратилось в публичную демонстрацию эмоций [31] и поиск способов их оптимизировать. Всё это сближает опыт переживания горя с жанром рефлексивной биографии с элементами игрового квеста, где от героя требуется смекалка, чтобы пережить происходящее. Тони Уолтер, социолог и профессор университета Бас, полагает, что современное переживание горя стало частью «культуры успешных людей», которые всегда делятся друг с другом советами, лайфхаками и счастливыми историями [32]. Горе — уже не болезнь, а своего рода челлендж, и в интернете можно найти тысячи списков с советами, как его выполнить [33], и личных историй людей, успешно с ним справившихся. Один из популярных роликов на TED, ресурсе с видеозаписями мотивирующих выступлений, посвящен истории эффективного преодоления горя от писательницы Норы Макинерни: она учит не стесняться своих эмоций и принимать себя [34].
Еще один характерный пример публичного переживания горя — история инстаграм-инфлюэнсера Екатерины Диденко, которая стала популярна благодаря обзорам на аптеки. В феврале 2020 года Екатерина праздновала свое 29-летие в сауне. Ее муж ради забавы засыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда и вместе с гостями праздника прыгнул в воду. Из-за химической реакции Валентин и еще двое гостей получили отек легких и погибли. В последующие недели Диденко вела многочасовые прямые инстаграм-эфиры, рассказывая подписчикам о своем горе и процессе похорон, брала интервью у своей матери и свекрови, делала постановочные фотографии о своих чувствах: например, снималась у подоконника, взяв на руки своих детей, демонстрируя, что близка к суициду. Аккаунту молодой вдовы случившееся уже принесло 500 тысяч новых подписчиков.
Если раньше инфраструктура смерти была целиком сосредоточена на манипуляциях с мертвым телом, то сегодня всё большее значение приобретают процесс умирания с одной стороны и ритуалы памятования — с другой. Появляются всевозможные клубы единомышленников и группы поддержки, консультационные центры, блоги и порталы, где посетителям предлагаются сотни способов «работы с горем». Выпускаются учебные пособия, книги и даже детские передачи и игры о том, как переживать утрату [35]. Вот как описывают суть своего подхода авторы детской психологической программы Seasons of growth: «Грусть и скорбь — не болезнь, их не нужно лечить. Мы здесь не для того, чтобы жалеть друг друга. Здоровое общество — это когда любая утрата воспринимается его членами как естественная и нормальная часть жизни. Наша задача — научить наших детей справляться с трудностями, быть гибкими и быстро адаптироваться». В одном из игровых упражнений программы участникам предлагается создать собственный «куб эмоций». Каждая из сторон фигуры отражает какую-то эмоцию: грусть, радость, печаль, гордость. Дети кидают кубик, а потом рассказывают друг другу истории из жизни, с которыми у них ассоциируется выпавшее чувство. В паузах ведущий игры объясняет, как эмоции могут сменять друг друга, почему это нормально и что за грустью обязательно последует радость. Еще одно упражнение: каждый из участников клуба по очереди придумывает строчку для песни, которая начинается со слов «Я повелитель…» и продолжается названием одной из эмоций. Чувственность и эмоциональность, таким образом, становятся инструментами выражения собственной субъектности, индивидуальности.
Это позволяет превратить горе в товар. Одним из первых примеров, подсветивших этот тренд, стала смерть принцессы Дианы. Почти сразу после ее трагической гибели появилось множество предложений для горюющих: почтить память народной любимицы можно было, продемонстрировав куклу, тарелку, магнит, фотографию, футболку, открытку или кулон с изображением принцессы. Смерть и связанная с ней горечь утраты стали причинами всплеска интереса ко многим знаменитостям. После смерти Майкла Джексона, Эми Уайнхаус и целой плеяды рэперов (Лил Пипа, XXXTentacion) продажи их музыки выросли в несколько раз. Также после смерти кинозвезд и музыкантов выходят фильмы воспоминаний о них и ток-шоу на главных каналах. Рэпер Децл посмертно получил несколько музыкальных наград (премии Муз-ТВ и «ЖАРА Music Awards»), а через несколько месяцев после его кончины состоялась премьера двухчасового документального фильма «С закрытыми окнами. Честная биография Кирилла Толмацкого». Технологии позволяют даже устраивать памятные концерты с участием покойников: например, мертвый лидер панк-группы «Король и шут» Михаил Горшенев по кличке Горшок отправился вместе с командой в собственное траурное турне в качестве трехмерной голограммы.
Еще одна трансформация последних лет — профессионализация горя. На место традиционных плакальщиц пришли серьезные специалисты: причем не психологи широкого профиля, а узконаправленные консультанты в области горя и утраты. Большинство из этих профессионалов — женщины; более того, многие активно пропагандируют феминистские взгляды на эмоции. Эмоциям приписывается важная культурная и социальная роль, чувства провозглашаются значимым проявлением каждого человека, которого не следует стесняться и которое не нужно заключать в рамки общепризнанных ритуалов или религиозных практик. Более того, чувства следует культивировать, взращивать в себе, уделять им достаточное внимание. Феминистское отношение к горю противопоставляется сухому и черствому патриархальному взгляду на мир, в котором горе — это женская прерогатива. Феминистка и одна из активисток движения за осознанное отношение к смерти Сара Чавез полагает, что сегодня смерть и горе подчинены патриархальному устройству мира, лишены искренних и спонтанных эмоций, и поэтому горе должно вернуться в руки женщин. «Горя не нужно стесняться, заявляйте о нем громко!», — говорит она в одном из интервью [36].
Но публичность горевания оборачивается и новыми проблемами.
Войны за горе: как скорбеть, чтобы никого не обидеть
На вопрос «Почему мы так легко ввязываемся в споры о том, как скорбеть правильно?» нет прямого ответа. Ясно, что чаще всего поводом для такого конфликта становится горе, связанное с трагической или массовой смертью, а не тихая кончина условного противного деда Ивана Ильича.
Любая смерть порождает два простых вопроса: почему так произошло и какие выводы из этого можно сделать? Фактически это вопросы о справедливости, закономерности случившегося: почему именно этот человек или эти люди? Можно ли было этого избежать? Религия на подобные вопросы отвечает просто: «Мы все смертны, есть судьба и божья воля». Психологи говорят о естественности смерти и эмоций, связанных с утратой (отсюда советы в духе «поплачьте») и необходимости жить дальше — «ради чего-то» или даже ради самих умерших. В обеих парадигмах воспевается идея жизни, ради которой в конечном итоге и стоит жить, — это старая христианская идея прогресса и веры в будущее. Обе интерпретации направлены на то, чтобы принять утрату как естественный факт, и стабилизировать эмоциональные последствия. Но как быть, когда сталкиваешься со смертью, которая не кажется естественной? Ведь, когда речь заходит об убийствах, терактах и детских смертях, ответ на вопрос «Почему так случилось?» найти гораздо труднее.
Трагическая смерть в современном мире не объясняется спиритически-мифическими религиозными конструкциями. Невозможно сказать, что дети погибли в сгоревшем кинотеатре, потому что Богу так было угодно или потому что «смерть — это естественно». Поэтому подобные случаи провоцируют агрессивную реакцию на неопределенность, на ошибку системы. Публичные и трагические смерти приводят к определенного рода истерии, к тому, что исследователи называют mourning sickness — «траурной болезнью». Люди в таком состоянии активно ищут виновных, выстраивают самые фантастические причинно-следственные связи и легко верят в теории заговора — ведь надо же хоть как-то объяснить случившееся. И там, где функции интерпретаторов выполняли религиозные институции, появляются общественные группы и различные опинион-мейкеры [37]. Идеальным инструментом для столкновения противоречивых объясняющих дискурсов становятся социальные сети.
В Москве на Курском направлении электричек можно увидеть большое граффити, которому уже несколько лет. Автор огромных букв, обращаясь к опыту пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», утверждает: «Всех билбордов не хватит спрашивать… Кемерово». Надпись отсылает к американскому фильму «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», рассказывающему об убийстве молодой женщины и о том, как ее мать пытается добиться справедливого расследования дела. Так же, как и героиня фильма, простые россияне обращаются в пустоту, пытаясь понять, кто виноват в трагедии и почему так произошло. Из этих вопросов логично вытекают новые: не является ли пожар, унесший жизни детей, поводом задуматься о нашей безопасности? И даже более глобально: можем ли мы доверять друг другу после того, что случилось? Митинги, посвященные кемеровской трагедии, прошли в 23 городах России. Часть этих митингов была организована властями, остальные — оппозицией, которая обвинила в трагедии коррумпированных чиновников.
Под критику может попасть не только недостаточная скорбь, но и горе, которое кажется чрезмерно интенсивным или неуместно длительным. Это подтверждает скандал вокруг вышедшего в 2019 году документального фильма российского журналиста и продюсера Юрия Дудя «Беслан. Помни». Одним из самых ярких негативных комментариев к фильму было видеообращение дизайнера Артемия Лебедева, в котором он спрашивал, почему родственники погибших в теракте 2004 года не могут «просто похоронить своих детей и жить дальше». О своей боли и страданиях также не пристало публично говорить жертвам несчастных случаев, когда на кону стоит публичная репутация власти и государства. Так, первый вице-губернатор кемеровской области Владимир Чернов назвал митинг, последовавший за пожаром в ТЦ «Зимняя вишня», «четкой, спланированной акцией, направленной на дискредитацию власти», и подчеркнул, что многие люди вышли на площадь, «совсем не понимая, что они там делают». В ходе такой политики горюющие оказываются изолированы от общества и оставлены один на один с собственными интерпретациями произошедшего.
Невозможность публично горевать о близком человеке, если он так или иначе стигматизирован, изучали и ряд исследователей. Например, Кен Дока, один из главных теоретиков горя, даже ввел термин «disenfranchised grief» — буквально «ограниченное горевание», «недопустимое» или «бесправное» горе. Он отмечает, что в этом случае «человек переживает утрату, но не имеет права скорбеть о ней, поскольку никто вокруг не признает причину его скорби легитимной» [38]. Дока пишет о целом спектре подобных явлений: например, горе может подвергнуться регламентации в случае нетрадиционной сексуальной ориентации умершего или же в случае оплакивания домашнего животного, жизнь которого считается менее ценной, чем человеческая [39]. В этом фокусе горевание становится инструментом установления статуса «нормального человека»: оказывается, скорбеть можно только о тех, кто этого заслуживает.
Выражение скорби становится формой самообъективации. Каждый должен постоянно испытывать на себе давление и угрозу. Как отмечает исследователь культурной истории эмоций Андрей Зорин, говоря о современном обществе: «В дискурсе новой чувствительности правовой охране подлежат именно переживания, причем не той или иной отдельной личности, а именно группы, определяемой общей идентичностью. Центром самоощущения человека становятся способность и умение правильно оскорбиться от лица какой-то группы. В процессе проявления обиды мы конструируем собственную идентичность. Поэтому настойчиво ищем случая быть оскорбленными».
Несмотря на то что Зорин говорит главным образом об обиде, его наблюдения применимы и к ситуации горевания: каждый теперь может обидеться на недостаточное или неправильное выражение горя и даже пробовать искать этой ситуации. Эту мысль подтверждает и американский антрополог Кэтрин Вердери: анализируя ритуалы перезахоронения в постсоветских странах, она отмечает, что скорбь и горе становятся необычайно важными компонентами социальных эмоций, потому что позволяют отделить своих от чужих. В этом плане горе позволяет реконструировать свою и групповую идентичность, ярче проявить ее, сплотиться путем столкновения с чужаками. Так, в случае с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» некоторые государственные каналы использовали трагедию, чтобы обвинить пользователей украинских соцсетей в глумлении над россиянами и их горем. А на телеканале «Царьград ТВ» даже вышел репортаж «Что людям горе, то нелюдям радость: Реакция украинских соцсетей на трагедию в Кемерове».
Вспоминая десятилетнего себя, зарыдавшего на поминках отца, чтобы не чувствовать себя неуместно, я понимаю, насколько точно и быстро ухватил контекст горевания ускользающей традиционной культуры, в которой плакать было важно, чтобы соответствовать всем нормам приличия. Платоновская старуха Игнатьевна убеждала Митревну «немножко поплакать», потому что так полагалось, а не потому что эмоция была вызвана внутренним желанием. Очевидно, что в современном мире горе приобретает совершенно иные функции. Оно становится важной частью само-и публичной репрезентации, способом обозначить свою субъектность, мощным инструментом социального и политического высказывания, которое направлено не на аскетичное внутреннее переживание, а на всеобщую демонстрацию.
Глава II Право на смерть и обязанность жить: история эвтаназии
В 2015 году рунет всколыхнула новость: генерал-лейтенант ВВС России Анатолий Кудрявцев покончил с собой, не выдержав сильнейших болей в желудке. У него был рак в последней стадии. Годом ранее суицид совершили несколько отставных генералов: в июне 2014-го из-за депрессии, вызванной тяжелым заболеванием, застрелился бывший генерал-майор ГРУ Виктор Гудков, а за три месяца до этого с собой покончил болевший раком экс-генерал-майор Борис Саплин. В феврале 2014 года из наградного пистолета застрелился контр-адмирал запаса Вячеслав Апанасенко — у мужчины была терминальная стадия рака поджелудочной, и он тоже не выдержал болей.
Некоторые не могут уйти сами и умоляют других помочь им совершить последний шаг. Вот еще несколько случаев, о которых я узнал из новостей. 56-летний профессор московского вуза Владимир Ольховский задушил родную мать: у 78-летней пенсионерки был рак пищевода в последней стадии. «Она так кричала и так просила ее убить, что я не выдержал и согласился», — рассказывал Владимир в суде. Врачи подтвердили: жить его матери оставалось буквально несколько дней. Суд приговорил профессора к девяти годам заключения.
Ударом молотка по голове убил свою 93-летнюю мать москвич Юрий Киселецкий. Женщина была лежачей больной и умоляла всех друзей и близких дать ей смертельную дозу таблеток, но на убийство решился только родной сын. До суда Юрий не дожил — покончил с собой в изоляторе временного содержания.
Каждый раз такие новости вызывают волну обсуждений: с одной стороны — о состоянии паллиативной помощи и доступе к обезболивающим в современной России, с другой — о легализации эвтаназии. Если в первом вопросе в последние пять лет стали заметны подвижки (например, в 2019 году был принят первый в истории России федеральный закон о паллиативной помощи), то второй так и остается дискуссионным. В последний раз тему поднимали в ноябре 2019 года, когда министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову в очередной раз публично спросили о возможности рассмотрения закона об эвтаназии в России. Скворцова уклончиво ответила, что в далеком будущем эта тема может быть поднята в рамках референдума. Ее высказывание привело к жарким публичным дебатам, в которых обе стороны обвиняли друг друга в «людоедстве» и антигуманности. Одно из самых резких высказываний принадлежит представителям РПЦ: «Эвтаназия является преступлением человека против самого себя и против общества. Разрешенная в масштабах целой страны эвтаназия говорит о глобальной духовной болезни. Ее пропаганда в конечном итоге может превратиться в смертоносную государственную идеологию, как только количество людей преклонного возраста станет для этой страны социальной проблемой. Таким путем созидается цивилизация смерти вместо цивилизации жизни», — заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Сторонники эвтаназии в ответ обвинили церковь в лицемерии и отсутствии сострадания.
Почему эта тема вызывает такие ожесточенные споры? И почему каждая из сторон абсолютно уверена, что ее противники идут «против человека», в то время как сами они защищают гуманность и человеколюбие? Дискуссия об эвтаназии — результат трансформации культурных, политических и социальных процессов, в которых мы попробуем разобраться.
Как и когда возникли дебаты о достойной смерти
Представления о «достойной» или «хорошей» смерти лежат в основе самого термина «эвтаназия»: с древнегреческого это слово переводится как «благая смерть». Этимология термина предполагает, что существует унизительная или оскорбительная смерть, которой лучше избегать, так как она не соотносится с общественными представлениями о том, как должен умирать человек. Выходит, что в каких-то из своих проявлений смерть неприемлема и оскорбительна как для общества, так и для самого умирающего. Такое толкование предполагает наличие зрителя или участника события — того, кто может оскорбиться созерцанием недостойной смерти или создать ощущение неловкости самому умирающему [40]. Категория «достойной смерти», таким образом, переводит умирание в разряд социальных, а значит, управляемых процессов.
Американский врач, профессор биоэтики Иезекииль Эмануэль делит историю дебатов вокруг эвтаназии на четыре крупных этапа, каждый из которых характеризуется определенным метадискурсом. Первый охватывает античность: в Древней Греции, а потом и в Риме к самоубийствам и к помощи в смерти тяжелобольным относились толерантно. Зачастую врачи, несмотря на клятву Гиппократа, по просьбе пациентов давали им яды, чтобы прекратить мучения [41]. Тема самоубийства и эвтаназии как «хорошей смерти» была тесно связана с важной категорией всей греко-римской культуры — категорией «достоинства» (dignitas). Достоинство в Античности представлялось как набор внешних атрибутов и определенного поведения, соизмеримый благородному статусу и природе конкретного человека. Достойным человеком считался не каждый: достоинство было зримым выражением авторитета, власти и социального статуса. По мнению Цицерона, «достоинство — это благородная личная власть какого-либо человека, достойная почитания, чести, уважения» [42]. В этом контексте страшная болезнь, предполагающая мучения, физическую и ментальную деградацию, не соотносилась с образом благородного мужа, а эвтаназия рассматривалась как статусная привилегия: достойная смерть от яда из рук врача — как логичное продолжение достойной жизни [43].
В «темные века» европейской истории отношение к эвтаназии резко изменилось. В связи с кардинальным религиозным переосмыслением человеческой природы люди стали мыслиться в первую очередь как божественные создания и «носители» первородного греха. Главной задачей средневекового человека было искупить его через физическое страдание — так, как это сделал Иисус Христос. В средневековой культуре подобное искупление получает название «Imitatio Christi»; под изображением Христа понималось самоотречение, борьба со страстями и грехом. В такой логике процесс умирания превращался в искупительную практику. Прежнему пониманию «хорошей смерти» как безболезненной и быстрой процедуры места не остается. В середине XIII века философ Фома Аквинский в своей «Сумме теологии» закрепил и осуждение самоубийства (в том числе эвтаназии), сформулировав основные схоластические аргументы «против». Самоубийство, по Аквинскому, — не просто страшный грех. Оно онтологически противоречит естественной склонности человека к самосохранению. Философ полагал, что самоубийца выступает против своей природы, заданной Богом, и против мироустройства в целом.
После Реформации представления об эвтаназии вновь изменились. Философы новой эпохи указывали на зыбкость границ между мученичеством, жертвенностью и самоубийством и ссылались на жизнеописания библейских героев. В XVII веке к этим вопросам обратился английский поэт, юрист и священник Джон Донн, который структурировал существующую дискуссию в своей работе «Биатанатос». Обращаясь к Священному Писанию и работам Августина Блаженного, Донн проанализировал исторические кейсы самоубийств с правовой точки зрения. Он пытался разобраться, например, чем было самопожертвование плененного Самсона, который обрушил на себя и своих врагов каменную крышу дворца? Разве это не самоубийство: «Умри, душа моя, с филистимлянами!»? Постепенно автор подводил читателей к главному историческому кейсу — смерти Иисуса Христа. Донн полагал, что Христос не просто добровольно дал себя убить: он упорно искал смерти и нисхождения в ад, чтобы освободить души праведников и открыть им райские врата. А значит, Иисус вполне может считаться самоубийцей. Главный вопрос, который формулирует Донн, звучит так: в чем кардинальные отличия между альтруистическим и эгоистическим самоубийством? Почему мы поощряем одно и осуждаем другое? С этих вопросов начинается третий этап в дискуссии вокруг эвтаназии, длящийся до середины XIX века.
Интерес к теме самоубийства и эвтаназии в новое время был следствием расцвета европейской гуманистической философии, ковавшей новый проект человеческой личности. Общество бурно обсуждало фундаментальные проблемы вроде прав личности, свободы воли, злой или доброй природы человека. Философы того времени еще не видели разницы между самоубийством и эвтаназией, и их дискуссия по этим вопросам была всего лишь составной частью куда более фундаментальных споров о взаимоотношениях государства, церкви и месте человека в меняющемся мире. Кроме того, философы Нового времени активно черпали идеи из античной культуры и часто воспроизводили и развивали наследуемые категории. Например, все ту же категорию «достоинства» — на новом витке истории мыслители пытались ответить на вопрос: а что вообще значит «жить достойно»?
Одним из первых защитников эвтаназии в новую эпоху стал знаменитый юрист и философ Томас Мор. В своем политическом трактате «Утопия», написанном в 1516 году, он предложил умерщвлять безнадежно больных граждан, если они этого просят. Для ярого католика Мора эвтаназия была возможна только с одобрения священников и магистрата. Спустя почти век его аргументы развил английский философ Фрэнсис Бэкон, опубликовавший в 1605 году работу под названием «Совершенствование обучения». В ней он дал определение эвтаназии и определил ее связь с медициной [44]. Он заметил, что эвтаназия вполне укладывается в обязанности медика, ведь его функция не только в том, чтобы излечивать, но и в том, чтобы облегчать страдания. Кроме того, Бэкон разграничил подготовку души к вечной жизни и способы обращения со страдающим телом: боль последнего, по его мнению, для души бессмысленна. Здесь он следовал логике своего современника, философа Рене Декарта, который предлагал разделять в человеке тело и душу, а природу боли связывал не с необходимостью нести ответственность за первородный грех, а с обыкновенной физиологией.
В это же время французский философ Мишель де Монтень развивал юридический подход к эвтаназии. По его мнению, каждый человек имеет право распоряжаться собственной жизнью как частной собственностью. Раз уж общество поддерживает право на собственность как базовое и основополагающее, то логично, что у человека должна быть и возможность выбора — умирать или жить.
Впрочем, не все в Новое время были сторонниками эвтаназии. Британский философ Джордж Стюарт Милль предлагал следующий аргумент: главная ценность современного человека — это свобода выбирать; значит, поступки, приводящие к лишению этого права, должны пресекаться. Иммануил Кант с позиций «категорического императива» и вовсе пытался обосновать абсурдность самоубийства. Сергей Зенкин в статье «Гуманизм и забота о себе» резюмирует позицию Канта так: «Моральная недопустимость самоубийства, его несоответствие категорическому императиву доказывается Кантом от противного, через демонстрацию того, как природа, приняв самоубийство в качестве своего всеобщего закона, стала бы противоречить себе, делая противоположные выводы из одного и того же „ощущения“ (то есть скорее инстинкта) себялюбия» [45].
Уже с середины XIX века открывается новый, последний этап дискуссии, который длится до сих пор. Обсуждение права на смерть подразделяется на две самостоятельных ветви: самоубийство и эвтаназию стали обсуждать отдельно. Причем спорить об этом начали не только философы, врачи и литераторы: к полемике подключилось общество. XIX век стал временем расцвета кружков единомышленников, которые поддержали легализацию эвтаназии.
Актуализация темы в тот период была связана с несколькими предпосылками. Во-первых, продолжал развиваться декартовский проект европейского человека, связанный с концепцией «тела как машины». Философ предлагал рассматривать тело человека как страдающую хрупкую механизированную оболочку, которую в случае поломки нужно пытаться починить всеми доступными способами. При этом медицина в XIX веке развивалась бурно, продолжительность жизни увеличивалась, а умирающих в стенах медицинских учреждений становилось все больше. Мучения от болезней растягивались во времени, и с ними надо было что-то делать: идея крайне болезненного умирания, полного всевозможных биологических подробностей, не совпадала с концепцией «достойной и приличной жизни»; лондонский денди, в красивом фраке и с напудренными щеками, не мог умирать в блевоте и фекалиях, изъеденный опухолями [46]. Это стало триггером для интеллектуалов того времени, размышлявших о том, как сделать смерть более благовидной, — и эвтаназия стала одним из их практических предложений.
Во-вторых, на фоне набирающей популярность теории эволюции Дарвина развивалась позитивистская научная парадигма, в основе которой лежала вера в рациональную природу человека и неотвратимость прогресса. По этой логике все сообщества не просто движутся из точки А в точку Б, но и постоянно развиваются и улучшаются, адаптируясь к новым условиям. Канадский профессор Айан Доубиггин, автор двух книг по истории эвтаназии, полагает, что именно идеи дарвинизма спровоцировали общественные движения за эвтаназию: в ходе эволюции мир должен избавиться от страданий, а человек должен всегда быть счастлив. Любопытно, что эти идеи пришлись по сердцу и откровенным расистам, которые видели в эвтаназии способ очищения и дальнейшего совершенствования человечества, и гуманистам, верящим в добрую природу человека и видевшим в добровольном уходе из жизни реализацию его естественных прав [47].
Одним из первых активистов, борющихся за эвтаназию, стал американский военный, адвокат, публицист и политик Роберт Ингерсолл (1833–1899). Он утверждал, что общество должно стремиться к умножению счастья и уменьшению страдания, причем как отдельно взятых его членов, так и всего человечества в целом. И эвтаназия — один из способов приблизить идеальное положение дел. Борьба за эвтаназию для Ингерсолла была не просто важной частью биологической, социальной и политической эволюции мира, но и актом отторжения устаревшей христианской морали. Утилитарная логика Ингерсолла — классический пример функционирования идеологии гуманизма с ее верой в иллюзорное светлое будущее, где всё человечество будет счастливо.
В послевоенной Европе середины XX века тема эвтаназии становится важной частью повестки новых общественных движений за права человека. За легализацию борются члены групп «Смерть с достоинством» (США), «Право на смерть» (США, Бельгия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия) и многих других, а также независимые активисты: например, Филип Ничке из Австралии или Джек Кеворкян из США, речь о которых пойдет ниже.
Иезекииль Эмануэль отмечает, что характер споров об эвтаназии и содержание аргументов сторонников и противников за последние 150 лет практически не менялись. Речь все о тех же границах во взаимоотношениях человека и государства и, более глобально, о том, кто такой человек и где заканчиваются его возможности. Но почему же эти споры до сих пор остаются неразрешимыми? [48]
Проблема первая: биологическая граница между жизнью и смертью
Первый вопрос, мешающий однозначному разрешению дискуссий об эвтаназии: где пролегает граница между жизнью и смертью человека? Казалось бы, все предельно ясно: пока человек дышит, двигается, ест и пьет — он живой. Как только он прекращает всё это делать — умер. Но на деле все не так однозначно.
До XX века главным признаком смерти считалось отсутствие дыхания. Критерий, однако, часто подводил. Так, в 1564 году испанский анатом Андреас Везалий проводил показательное вскрытие трупа перед толпой в Мадриде. Когда он разрезал грудную клетку, оказалось, что сердце его подопытного все еще бьется [49]. В 1344 году знаменитого поэта Петрарку было признали мертвым и уже подготовили к погребению, а он неожиданно для всех очнулся, прожил еще 40 лет и написал все свои главные произведения.
С развитием медицины и появлением реанимации критерием смерти стало отсутствие сердцебиения. Однако и тут случались парадоксальные контрпримеры. Ведущий российский биоэтик Елена Брызгалина в интервью на «ПостНауке» приводит такую историю английского военного: «Один полковник, служивший в Индии и обучившийся практикам йогов, перед консилиумом английских врачей демонстрировал остановку сердца. В соответствии с принятыми тогда правилами ему выписывали свидетельство о смерти. Он его забирал, уходил, а потом возвращался заново» [50].
Нечеткость критериев смерти была связана не только с низким уровнем диагностики, но и с контекстом установления факта смерти: например, на поле боя или далеко от госпиталя. Не зря одним из главных европейских страхов Нового времени был страх оказаться погребенным заживо. Во второй половине XX века медицинское сообщество все же пришло к консенсусу: с 1967 года считается, что смерть наступает в момент остановки работы мозга. Произошло это через год после первой успешной трансплантации сердца — стало ясно, что, раз сердце можно пересадить, оно больше не может считаться главным жизнеобеспечивающим органом. На сегодняшний день человеческий мозг — единственное, что невозможно искусственно воссоздать или пересадить (по крайней мере пока), а значит, человек и есть его мозг.
Забавно, что новый критерий не просто не решил проблему границы между жизнью и смертью, но и вывел дискуссию об эвтаназии на новый виток. Оказалось, что технологии трансплантации и новые медицинские аппараты размывают границы человеческого. Можно ли считать человеком не реагирующее на раздражители существо с торчащими из тела трубками и проводами, подключенными к системе жизнеобеспечения? Идея смерти мозга заставляет нас считать, что, если мозг мертв, но тело еще функционирует — пусть и с помощью различных аппаратов, — это всё равно смерть. И наоборот: если мозг жив, а остальное тело бездыханно, то человек еще жив. Но как быть, если человек пережил частичный некроз мозга: ствол работает, базовые физиологические функции сохранены, но сознание утрачено? Развитие технологий поддержания жизни создает не только моральные, но и спиритуальные вопросы [51]. Например, в каком органе сокрыто то, что делает человека человеком? Человек — это только его тело? Единого мнения по этим вопросам у общества пока нет.
Представители некоторых христианских движений в США отказываются признавать смерть мозга смертью человека и продолжают считать сердце священным сосудом, в котором хранится душа. Представители других религий (например, ислама) и вовсе не признают трансплантацию органов и искусственное поддержание жизни, так как считают, что это ставит под вопрос божественный замысел [52]. Наука же развивается своим чередом: судя по последним исследованиям, даже смерть мозга обратима. Так, в апреле 2019 года группа ученых из Йельского университета смогла частично оживить мозг погибшей свиньи с помощью специального аппарата BrainEx. Исследователи полагают, что их изобретение позволит раздвинуть границы определения «смерти мозга» в будущем. В 2019 году группа японских ученых из Центра исследований динамики биологических систем Riken сумела почти месяц поддерживать 97% первоначальной активности мозга контрольной группы мышей после того, как их мозг признали мертвым. По сути, им удалось заново вернуть мозгу часть функций уже после его биологической смерти.
Рис.5 Найла Уинкфилд и ее дочь Джахи Макмат
Еще один яркий пример, мешающий дать окончательный ответ на вопросы «что есть жизнь» и «в каком органе сокрыта человеческая сущность», — случай 13-летней Джахи Макмат. 9 декабря 2013 года девочку госпитализировали для простой операции по удалению миндалин. По неосторожности медсестра задела артерию, расположенную аномально близко к миндалинам, девочка стала быстро терять кровь. В результате мозг Макмат умер, в то время как вентиляция легких и кровообращение успешно поддерживались с помощью медицинских аппаратов. Врачи зафиксировали факт смерти, однако родители Макмат, набожные баптисты, отказались его признавать и потребовали не останавливать работу жизнеобеспечивающих систем. Между больницей и семьей Джахи начались судебные разбирательства. 24 декабря 2013 года, спустя две недели после инцидента, суд всё же признал девочку мертвой, и больница передала тело родственникам. Те наняли новых врачей, которые вставили в Джахи трубки, необходимые для поддержания кровообращения, вентиляции легких и питания, и перевезли тело в штат Нью-Джерси, законы которого позволяют не признавать человека мертвым после смерти мозга. В следующие несколько лет родители Джахи публиковали в интернете видеозаписи с реакциями тела дочери на внешние раздражители. Тело девушки взрослело — в какой-то момент у нее даже начались менструации. Впрочем, в конце 2018 года у Джахи развилась почечная недостаточность. Девушку отключили от всех систем, и она умерла во второй раз.
Случай Махмат подчеркивает: медицина, которая так отчаянно и героически пытается сохранить биологическую жизнь человека, не всегда может объяснить, что это будет за жизнь.
Проблема вторая: социальная граница между жизнью и смертью
15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» случилась давка, в которой пострадали 96 фанатов футбольного клуба «Ливерпуль». Среди жертв был молодой парень, двадцатидвухлетний Тони Бленд. Они не погиб, но получил серьезную травму головы и впал в кому. Спустя четыре года, в 1993 году, врачи, не зафиксировав серьезных улучшений состояния, отключили его от аппаратов искусственного поддержания жизни. Происходившее в эти годы американский психолог Роберт Кастенбаум называет «феноменологической смертью», когда, «оставаясь по формальным признакам живой, личность внутри тела вряд ли продолжает существовать». Этот случай, как и сотни аналогичных, отсылает нас к пониманию жизни как социального процесса.
Медицинский диктат свел понимание человека к набору биохимических показателей и активности мозга. Такому взгляду противостоит социальная концепция жизни — жизни как коммуникации [53]. Человек в этом подходе остается человеком (личностью), если он способен чувствовать, переживать и общаться. Соответственно, чтобы быть живым, недостаточно одной лишь мозговой активности, фиксируемой медицинскими приборами, — важно продолжать быть субъектом, источником действий и суждений. Выходит, что Тони Бленд или Джахи Макмат мертвы, оставаясь при этом живыми по некоторым биологическим показателям. Впрочем, ясно, что коммуникация без функционирующей физиологии невозможна: даже если мозг человека сохранен, но все остальное в его теле дисфункционально, он не может считаться субъектом в полной мере. Возникает вопрос: достаточно ли нормален человек, который лишен практически всех двигательных функций? Жизнь ли это?
Противоречива и показательна в этом плане история испанского моряка Рамона Сампедро, который 23 августа 1968 года в возрасте 25 лет неудачно прыгнул со скалы в море и сломал позвоночник. После несчастного случая он оказался парализован и прикован к кровати на 30 лет. Всё это время он активно добивался права на эвтаназию через суды. А еще за эти три десятилетия он выпустил две книги стихов, влюбился и активно общался с людьми со всего света. После того как в праве на эвтаназию ему отказали во всех возможных судах, друзья перевезли его в уединенное место, где он все же смог выпить цианистый калий через трубочку. Сампедро оставил последнее письмо, в котором есть обращение к чиновникам и судьям: «После того как вы увидели, как ухаживают за атрофированным и деформированным телом — моим телом, — я спрашиваю вас: что для вас значит достоинство? Что бы ни ответила ваша совесть, для меня это не достоинство. Это не значит жить достойно! Мое сознание оказалось заперто не в моем изуродованном, атрофированном и бесчувственном теле, а в уродстве, атрофии и бесчувственности вашей совести». По истории Рамона режиссер Алехандро Аменабар снял фильм «Море внутри» (2004), который получил премии «Оскар», «Золотой глобус» и множество других наград.
Рис.6 Хавьер Бардем в роли Рамона Сампедро в фильме «Море внутри»
Споры об эвтаназии всегда упираются в оценку того, кто решился на ассистируемое самоубийство. Являлась ли жизнь Рамона, полная физических страданий и лишений, но такая активная и яркая в духовном смысле, жизнью нормального человека? Человек он или уже не совсем? За время своего якобы недостойного и ужасного существования Рамон смог сделать гораздо больше значимого для мира, чем когда был простым моряком. Будучи прикованным к кровати, он стал всемирно известным и продемонстрировал необычайную силу духа, вдохновляющую миллионы людей. Его проект эгоистической смерти стал мощным публичным высказыванием: гимном индивидуализма, символом борьбы за свободу личности.
Пример Рамона напоминает и историю Стивена Хокинга, физика с мировым именем, который на протяжении всей жизни боролся с болезнью Лу Герига, приковавшей его к инвалидному креслу и лишившей не только движения, но и способности говорить. Несмотря на нее, Хокинг продолжал писать книги, вел активную социальную жизнь и общался с людьми посредством синтезатора речи. Ученый умер в возрасте 76 лет, и вопрос о том, была ли его полная физических лишений жизнь достойной, я считаю риторическим.
Проблема третья: права индивида
Рене Декарт, подаривший европейской цивилизации концепт свободы воли и понятия «субъект» и «индивид», не знал, что открывает ящик Пандоры. Постепенно европейская общественно-политическая мысль дошла до того, что субъект имеет права и может за них бороться, в итоге вся дальнейшая история западной цивилизации крутилась вокруг субъектов, которые занимались именно этим; постепенно дело дошло и до права на смерть [54].
По большому счету, современные сторонники эвтаназии выступают против неравенства (потому что смерть уравнивает всех) и за право на автономность (потому что жизнь человека принадлежит только ему и он сам должен решать, что с ней делать). Если субъект физически не может принять решение — например, находится в коме, — это право переходит к его близким, которым он неким сакральным образом делегирует свою субъектность. Чтобы оспорить или согласиться с такой точкой зрения, нужно выяснить, является ли право на принятие решения о прекращении жизни врожденным и неотчуждаемым (например, данным Богом) или же оно даруется государством и только после соответствующего решения (в результате общественного договора, когда между участниками распределяется набор прав и обязанностей). Кроме того, нужно разобраться, в какой момент и почему мы решили, что любой человек обладает полной свободой воли.
Если предположить, что право распоряжаться собственной жизнью даруется в результате общественного договора, выходит, что государство превращает право на жизнь в обязанность жить. Тогда выходит, что, пока государство не разрешит вам распоряжаться жизнью, этого права у вас не будет. Философ Мишель Фуко, рассматривая эвтаназию в рамках своей концепции биополитики (предполагающей, что политическую власть необходимо понимать как физическое управление людьми), отмечает, что отказ от жизни есть нарушение договорных отношений человека и государства. Добровольный отказ от жизни противоречит природе политической власти, обязанность которой — заведовать жизнью граждан [55].
До Фуко тот же логический парадокс сформулировал Джон Стюарт Милль. В эссе «О свободе» Милль писал, что главная ценность человеческой жизни — свобода выбора; соответственно, запрещены могут быть только поступки, лишающие личность этой опции. Выходит, что общество должно пресекать попытки отказаться от свободы, будь то добровольная продажа себя в рабство или самоубийство. Милль наметил связь между свободой и обязанностью, которая в ХХ веке станет непомерно крепкой. Так, важный современный аргумент против эвтаназии — ее потенциально негативное воздействие на общество. Некоторые, к примеру, полагают, что легализация эвтаназии может затормозить развитие медицинских технологий и поддерживающей терапии, снизить число хосписов и отбросить назад паллиативную помощь. Соответственно, она представляет угрозу системе здравоохранения.
В 2010 году австралийский врач-активист Филип Ничке инициировал рекламную кампанию за легализацию эвтаназии. По ночному телевидению должны были крутить видеоролик, в котором пожилой, неизлечимо больной человек размышляет о принятых в жизни решениях: профессия, семья, хобби. В конце ролика старик, глядя в камеру, произносит: «Почему вы не даете мне выбора теперь?» В конце рекламы на экран выводится сообщение: «85% австралийцев поддерживают легализацию эвтаназии, а правительство — нет». Рекламная кампания не была одобрена телеканалами.
В 2013 году мужчина привез находящуюся без сознания жену — американку Марлиз Муньоз в клинику штата Техас. Врачи диагностировали у нее легочную эмболию, а через несколько дней констатировали смерть мозга. Юридически Марлиз считалась мертвой, но так как женщина находилась на 14 неделе беременности, ее не стали отключать от аппаратов искусственной поддержки жизни. Мистер Муньоз решил судиться с правительством штата: и он, и его жена по профессии фельдшеры, и он считал, что необходимо признать факт смерти тела — якобы раньше он обсуждал с женой эти вопросы, и она высказывала свое мнение против поддерживающей терапии. После прений Марлиз все же отключили от систем жизнеобеспечения. Плод погиб вместе с матерью. Впрочем, к тому моменту у него уже были диагностированы серьезные проблемы со здоровьем, и он в любом случае вряд ли бы выжил самостоятельно. Пример Муньоз показывает, что ваше тело могут заставлять жить, даже если и юридически, и биологически вы будете считаться мертвым.
Выходит, что на практике эвтаназия не может стать правом любого субъекта. Как отмечает Сергей Зенкин: «Самоубийство, вопреки саркастическому заявлению Бодлера [56], нельзя считать одним из „прав человека“ — потому что на самом деле оно неизбежно признается правом не всех, а лишь особо привилегированных лиц, хотя бы только тех, кто способен в полной мере сознательно к нему отнестись». Фактически оказывается, что формула «каждый может выбрать — жить или умереть» относится только к тем, кто в силу личностных качеств, социального и экономического положения способен принимать подобные решения и нести за них ответственность. Иными словами, решение умереть достойно может принять только человек с определенными ценностями, образованием, статусом и взглядами на мир. Анализ данных по ассистированному самоубийству в США за последние 20 лет показал, что почти 85% выбравших эвтаназию — белые американские представители среднего класса, причем большинство из них — мужчины. Аналогичное неравенство было и в античной культуре: достоинство и достойная смерть в ней были привилегией правящего класса.
Неоднозначно и само определение субъектности. В какой мере ее сохраняет парализованный человек, не утративший способности говорить? Чем его субъектность и автономность отличаются от свободы физически здорового, но живущего в условиях тотального контроля со стороны государственных институций (например полиции и уличного видеонаблюдения) человека? Для многих людей сама возможность разговора об эвтаназии — это способ ощутить свою автономность и субъектность, ценность и необходимость собственной жизни [57]. По данным некоторых исследований, в 75% случаев пациенты, задумавшиеся об ассистированном самоубийстве и обсудившие его с кем-то, в итоге отказываются от этой идеи [58]. С другой стороны, множество ученых подтверждают, что среди основных причин выбора эвтаназии люди называют опасения за потерю дееспособности, нежелание жить в зависимости от кого-либо [59].
В определении субъектности есть и другие противоречия. Например, непонятно, в какой момент жизни она формируется, каждый ли ей обладает и можно ли ее лишиться? Может ли человек быть полностью автономен в своих решениях, если у него есть семья, финансовые обязательства, отношения с врачами, авторитет которых для него непререкаем? Разве он в состоянии принять решение абсолютно рационально? Может быть, миру нужны «консультанты по эвтаназии», помогающие рассчитать риски и выгоды? Особенно остро этот вопрос стоит в связи с детской эвтаназией: может ли ребенок быть субъектом и сам сформулировать решение о прекращении страданий? В Бельгии в 2016–2017 годах двое мальчиков 9 и 11 лет стали самыми молодым в истории пациентами, подвергнутыми эвтаназии. Согласно данным отчетов, перед процедурой дети были обследованы психиатрами, которые подтвердили, что они понимают последствия своего решения и на них никто не оказывает давления.
Вызывает вопросы и субъектность человека в случае ментальных расстройств. В 2019 году в Голландии 17-летняя Ноа Потховен добивалась права на эвтаназию. Она долго лечилась от тяжелой депрессии после того, как трижды стала жертвой изнасилования — в 11 и в 14 лет. Она даже написала книгу под названием «Побеждать или учиться» («Winning or Learning», 2018), в которой описала все свои страдания. Врачи посчитали, что ее депрессия неизлечима, но добиться права на эвтаназию девочке не удавалось. 2 июня 2019 года она умерла у себя дома после длительного отказа от еды и воды. Папа Римский Франциск отреагировал на смерть Ноа так: «Эвтаназия и помощь при самоубийстве — поражение для всех. Мы призваны никогда не оставлять тех, кто страдает, никогда не сдаваться, а заботиться и любить их, чтобы восстановить надежду».
Рис.7 Ноа Потховен со своей книгой «Побеждать или учиться» о тяжелых психологических и физических травмах, которые пережила Потховен к своим шестнадцати годам
В свете этих противоречий вокруг субъектности интересно разобраться, что за люди чаще всего выступают за эвтаназию, каковы их ценности и интересы. Любопытные данные на этот счет содержатся в психологических опросах об отношении к смерти (Death Fear Scale) [60]. Оказывается, зачастую противники эвтаназии — любители охоты, приверженцы патриархальных ценностей, приверженцы свободного ношения оружия и милитаристы [61]. В то же время сторонники эвтаназии — вегетарианцы, феминистки, антимилитаристы. Казалось бы, почему те, кто одобряет убийства (казни, охоту и войну), вдруг оказываются противниками добровольного отказа от жизни? Ответ прост: ваше отношение к смерти (и эвтаназии в частности) связано с тем, как вы представляете справедливое и правильное общество и государственное устройство. Те, для кого коллектив важнее права индивида, эвтаназию не поддерживают.
Врач и ярый противник эвтаназии Иезекииль Эмануэль отмечает, что исторически подъемы интереса к теме добровольного ухода из жизни в Британии и США связаны с периодами «обострения» идеологии индивидуализма. Дебаты об эвтаназии возникают во время экономической стагнации, потому что в эти моменты общество меньше доверяет государству и сильнее настроено защищать права каждого отдельного гражданина. А когда экономика растет и заметен социальный прогресс, люди скорее ожидают от медицины прорывов, а от государства — защиты [62]. Иначе говоря, когда мы чувствуем себя одинокими и брошенными, мы требуем права на смерть, а когда видим, что ситуация стабилизировалась, готовы поступиться правами инвалидов.
Проблема четвертая: достоинство и милосердие
Еще один камень преткновения в дискуссии об эвтаназии — мотивация решения отречься от жизни. Аргументация сторонников эвтаназии базируется на таких категориях, как «достоинство», «милосердие» и «сострадание», но проблема в том, что каждую можно истолковать множеством разных способов.
Исследователь Эрик Кассел указывает на сложность применения категории «достоинства» к смерти как процессу. Он задается вопросом, можно ли умереть с достоинством в большей степени, чем можно с достоинством родить или дышать [63], и как можно умереть при недостойных обстоятельствах? Получается, выступая за эвтаназию, мы отказываем смерти и болезни в праве считаться пусть неприятными, но нормальными составляющими человеческой жизни. Есть ли в дискурсе «достойной смерти» место для того, чтобы признать за телом право разлагаться? Иметь пролежни? Не сдерживать мочу? Граница между смертью «без унижений» и смертью «с достоинством» не просто размыта — от нее веет колониальными клише, будто бы «достойная смерть» — что-то вроде «смерти белого человека», и речь тут не столько об избавлении от страданий, сколько о соблюдении эфемерных приличий [64].
Умирание в клинике — сложный, технически выверенный процесс микроменеджмента деградирующего тела [65]. Любопытно, что медицина также пытается руководствоваться принципами «сохранения достоинства» в уходе за тяжелобольными пациентами. В апреле 1991 года в Европейском парламенте выступал доктор Леон Шварценберг с докладом о связи между категориями «достоинство» и «болезнь». Спикер полагал, что достоинство есть база того, что мы считаем человеческой жизнью. Болезнь же в любом случае несет боль и десоциализацию и, как следствие, ведет к утрате достоинства. Следовательно, эвтаназия является вполне гуманной практикой для сохранения достоинства. Достоинство и милосердие Шварценберг связывал с правом на жизнь, трансформируя его из права на любую жизнь в право на достойную жизнь и отказ от жизни недостойной.
Сторонники эвтаназии часто выступают с подобной риторикой. Например, американский врач Джек Кеворкян, получивший прозвище Доктор Смерть, назвал свой прибор для эвтаназии в домашних условиях «Мерситрон» (англ. Mercitron), то есть «машина милосердия». Агрегат представляет собой сложную систему шприцев с ядами, которые впрыскиваются в тело пациента после небольших усилий со стороны желающего умереть. Устройство и работа такого аппарата показаны в фильме «Вы не знаете Джека» (англ. You Don’t Know Jack, 2010) с Аль Пачино в главной роли. К милосердию апеллирует и австралийский доктор Филип Ничке, который ведет блог об эвтаназии тяжелобольных людей. В 2019 году он представил капсулу для «Милосердной смерти будущего» длиной, равной человеческому росту, с окошком для наблюдения, удобным ложем и кнопкой для подачи отравляющего газа. Внутри прибора установлена система для просмотра видео и прослушивания аудио.
Рис.8 Джек Кеворкян и его «Мерситрон». В общей сложности в 1990–1998 годах с помощью «Мерситрона» ушли из жизни около 130 человек
К праву на достойную смерть апеллируют и представители утилитаристской философской традиции, которые рассматривают удовольствие и радость как главный критерий «нормальности» человеческой жизни. С их точки зрения, жизнь тяжелобольного человека не может считаться жизнью как таковой.
Рис.9 Эвтаназийная капсула для «Милосердной смерти будущего». Её представил в 2019 году австралийский активист и основатель движения «Exit» Филип Ничке
Но что может быть недостойной жизнью? Жизнь закованного в немощное тело моряка Рамона? Или любая жизнь, которую сочтет недостойной сам человек? Австралийский геоботаник и эколог-статистик Дэвид Гудолл более 20 лет выступал как активный сторонник права на смерть, ссылаясь на то, что человеческая жизнь со временем может перестать приносить радость. Гудолл знал, о чём говорил, — когда он стал активистом, ему было почти 80 лет, и он столкнулся с множеством заболеваний. «Мне очень жаль, что я дожил до столь преклонного возраста», — говорил ученый. 1 мая 2018 года 104-летний Гудолл отправился в эвтаназийный тур в Швейцарию, где 10 мая, слушая Девятую симфонию Бетховена, ввел себе летальную инъекцию пентобарбитала и тихо умер.
Проблема пятая: контекстуальность смерти
Смерть всегда имеет контекст. Человек с уникальным характером и другими личностными особенностями, включая гендерную самоидентификацию, в определенном социальном статусе и семейном положении, имея те или иные материальные ресурсы, умирает в ту или иную эпоху при конкретных обстоятельствах. Поэтому универсальных ответов на вопросы об эвтаназии не существует. Нередко этот метод действительно становится избавлением от невыносимой боли и страдания. Но история ниже — пример того, как в одной конкретной ситуации совпали все спорные моменты, о которых мы говорили выше.
В 2005 году ураган «Катрина» обрушился на Новый Орлеан, штат Луизиана. Местные и федеральные власти убеждали население, что всех быстро эвакуируют, но этого не произошло. Под ударом стихии оказались не только жилые дома, но и медицинские учреждения, в том числе и Memorial Medical Center, где в тот момент находились 2500 тяжелобольных пациентов. Через пять дней после урагана выяснилось, что 45 пациентов клиники погибло. Экспертиза показала, что 23 человека подверглись эвтаназии или совершили суицид с помощью медикаментов, содержащих морфин. Началось расследование. Выяснилось, что после того, как ураган обрушился на город, в больнице практически сразу отключили электричество. Еды и воды не хватало, вентиляция не работала, температура в помещении быстро повысилась до 40 градусов, возникла угроза заражения. Не работали аппараты искусственной вентиляции легких и другие, необходимые для поддержания жизни инструменты, а многие пациенты были нетранспортабельны. Пять дней клиника жила на самоуправлении: медики и некоторые пациенты решали, кому и в какой очередности оказывать помощь, как распределять между больными дефицитные жизненно важные препараты и кого в каком порядке эвакуировать. Самым спорным был вопрос об облегчении страданий тяжелых пациентов, изъявивших желание умереть. Внутри медицинского коллектива возникли конфликты: вводить смертельную дозу препарата или пытаться спасти их жизнь всеми имеющимися способами, неизбежно обрекая пациентов на страдания? И по каким критериям определять необходимость проведения эвтаназии? В ходе споров один врач уплыл из больницы на резиновой лодке, не желая «участвовать в убийстве пациентов».
Расследование ситуации длилось несколько лет. Сперва власти штата предъявили нескольким медсестрам и врачу Анне Поу обвинения в преднамеренных убийствах. Оценивая сложившуюся ситуацию, способы совершения ассистированного суицида, комментарии и свидетельства очевидцев, суд заключил, что их «помощь в смерти» была антигуманной и не может расцениваться как эвтаназия. Пока расследование продолжалось, в Америке развернулась широкая публичная дискуссия, в которой эксперты обсуждали всё новые подробности этой истории и не стеснялись обвинять друг друга и фигурантов дела в жестокости и человеконенавистничестве. Однако в 2011 году следствие завершилось тем, что все обвинения были сняты, врачи реабилитированы, а судьи и прокуроры потеряли свои должности. В итоге Анна Поу пролоббировала поправки к закону штата о медицинской деятельности, исключающие возможность гражданских исков и оценки деятельности врачей в ситуациях, связанных с чрезвычайными происшествиями [66].
Достоинство, права человека и смерть в России
В 2018 году в газете «Комсомольская правда» вышла статья Дины Карпицкой, посвященная нелегальной эвтаназии в России. Согласно расследованию автора, тысячи россиян регулярно ищут возможность добровольно уйти из жизни по разным причинам. Среди них — неразделенная любовь, долги, бедность и бытовые неудачи; но всё же большинство пациентов хотят умереть из-за тяжелых болезней. В даркнете, анонимизированной части интернета, процветают клубы помощи, где проблему предлагают решить, купив специальные устройства и препараты или же отправившись в эвтаназийный тур (к примеру, в Швейцарию), а также обратившись за советом к более осведомленным в процессе безболезненного и быстрого умирания людям. Корреспондент «Комсомольской правды» встретилась с человеком, воспользовавшимся консультацией по эвтаназии в домашних условиях для своего близкого родственника и с платным «консультантом по самоубийствам». «Смерть — такое же право каждого человека, как и жизнь. Я знаю, как безболезненно умереть, и если кто-то тоже хочет узнать, почему нет», — говорит анонимный эксперт. В конце материала автор «Комсомолки» предлагает читателям поучаствовать в опросе о праве на смерть. Около 40% аудитории высказались за то, что тяжело больной человек и его семья вправе самостоятельно решать, жить ему или умереть.
Несмотря на такой воодушевляющий для сторонников эвтаназии результат, современная Россия практически полностью исключена из общемировой дискуссии о праве на жизнь и смерть. Сегодня в стране нет общественных движений или заметных активистских групп, которые бы актуализировали эту тему. И это неудивительно: разговор об эвтаназии — часть гуманизирующего дискурса, и его нельзя рассматривать отдельно от основных европейских общественно-политических дискуссий о правах человека, субъектности, допустимости вмешательства государства в частную жизнь и так далее. В России культура публичной дискуссии на эти темы пока не сложилась. Впрочем, к великому счастью, нет и обратной ситуации, когда эвтаназия становится частью тоталитарной человеконенавистнической идеологии, выращивания «нового человека» и умерщвления всех недостойных оставлять потомство.
Даже опыт небольшого журналистского расследования «Комсомольской правды» показывает, что запрос на подобный разговор у общества есть. А еще существует критика медицинской системы, запрос на изменение похоронной индустрии и появление доступной хосписной помощи. Может быть, интерес к этим темам в конце концов приведет к более глубоким, предметным и результативным разговорам о человеческом достоинстве в современной России?
В 2005 году вышла новая серия мультсериала «Южный парк», которая называлась «Лучшие друзья навсегда» (9 сезон, эпизод 4). Сюжет строится вокруг тяжелого состояния Кенни Маккормика, мозг которого почти погиб после того, как его сначала сбил грузовик, а потом ему оказали неправильную медицинскую помощь. Узнав о трагедии, одноклассник Кенни Эрик Картман пытается стать его официальным опекуном, заявляя, что они были лучшими друзьями. В качестве доказательства мальчик даже демонстрирует кулоны в виде двух половинок сердечка, которые они с Кенни носили в знак дружбы. Добившись статуса опекуна, Эрик предлагает побыстрее отключить Кенни от аппаратов искусственного поддержания жизни и дать ему спокойно умереть. Его цель прагматична: после смерти друга Эрик жаждет получить наследство — портативную игровую приставку PSP. Но отключить Кенни от аппаратов оказывается не так-то просто: оппонентами Картмана становятся два других друга мальчика, Стэн и Кайл, которые говорят, что Кенни хотел бы жить и иметь надежду когда-нибудь прийти в себя.
В ходе этого противоборства каждая из сторон пытается найти общественную поддержку. Например, Стэн и Кайл идут к консервативным политикам из партии республиканцев и к членам христианских организаций, а Картман находит союзников в профессиональном медицинском сообществе. Но неожиданно в истории открывается новый аспект: оказывается, что с помощью игры «Рай против Ада», в которой Кенни достиг небывалого мастерства и которую так мечтает наследовать Картман вместе с приставкой, Господь Бог планировал отобрать «нового Киану Ривза» — человека, способного спасти рай. Согласно божественному замыслу, новый герой должен возглавить армию ангелов и защитить небесное царство от коварной атаки Сатаны. Из-за того, что тело Кенни поддерживают в вегетативном состоянии, душа мальчика никак не может попасть на небеса, и божественная армия остается без командира, рискуя проиграть. В итоге Сатана и Бог, пытаясь решить ситуацию каждый в свою пользу, отправляют посланников на землю. Темные силы пытаются помочь Стэну и Кайлу оставить Кенни на медицинской кровати, а ангелы поддерживают корыстного Картмана. Серия заканчивает условным хеппи-эндом: в самый разгар Апокалипсиса Кенни все же отключают от аппаратов искусственного поддержания жизни. Рай оказывается спасен.
Эта серия вышла на фоне крупного публичного скандала вокруг американки по имени Терри Шайво. С 1990 по 2005 год девушка была подключена к аппарату искусственного поддержания жизни. Последние восемь лет муж Терри яростно судился с ее родителями за право дать ей умереть. Дискуссия выявила, что и сторонники, и противники эвтаназии грешат двойными стандартами. Например, политик-республиканец, конгрессмен Том Де Лэй, высказавшийся за то, чтобы оставить Шайво в живых, сам отказался от искусственного продления жизни своего отца в 1988 году. А президент США Джордж Буш, который, еще будучи губернатором Техаса, подписал закон, позволяющий администрациям больниц отключать безнадежных больных от аппаратов, даже если родственники против, — по медицинским показаниям. Оказалось, что тот закон был принят исключительно из экономических расчетов — содержание подобных пациентов дорого обходится американской страховой медицине. На следующий день после премьеры новой серии «Южного парка» Терри умерла, отключенная от искусственного питания.
Авторы сериала не только удачно иронизируют над сложной темой эвтаназии, но и обнажают все противоречия, существующие в американской публичной дискуссии. Любопытно, что по одну сторону условных баррикад в ней могут оказаться люди с очень разными позициями и взглядами, которые в любой другой ситуации бы вряд ли нашли общий язык. Например, мы видим, как всегда рассудительные Стэн и Кайл кооперируются с консерваторами, христианами и самим Сатаной, а противостоят им меркантильный Картман, ангелы и профессиональные врачи, дававшие клятву Гиппократа.
Реальность такова, что в обществе нет широкого запроса на обсуждение проблемы эвтаназии, потому что даже там, где она легализована, количество желающих умереть не столь высоко. Но эта тема принципиально важна для определения качества будущей жизни человечества и пути развития обществ, в которых мы живем. И перед тем как вы займете какую-либо позицию, я предлагаю честно ответить себе на главный вопрос: как бы вам самому хотелось умереть?
Глава III Между телом и душой: как появилась паллиативная помощь
В марте 2019 года в России приняли первый в истории страны федеральный закон, регламентирующий паллиативную помощь (№ 18-ФЗ). Он определил ключевые термины и понятия и установил практику домашнего ухода за тяжелобольными. Сразу после подписания документа руководитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» и бывшая глава крупнейшего российского хосписа Нюта Федермессер отправилась в рабочую поездку по 25 регионам страны. Эта командировка была частью нового правительственного проекта под названием «Регион заботы», посвященного помощи тяжелобольным и умирающим людям и предусматривающего активное развитие паллиативных институций по всей России. И закон, и проект стали логичным итогом роста общественного интереса к теме хосписной помощи: за последние 10 лет количество фондов, собирающих средства на помощь умирающим людям, выросло в несколько раз.
Интерес к уходу за умирающими в современной России не уникален. По мнению Кена Доки, главного редактора англоязычного научного журнала о смерти и умирании Omega, хосписное движение — пример самого успешного низового общественного движения XX века, которому удалось повлиять на социальную политику множества современных государств. Сегодня систематическая помощь умирающим реализуется более чем в 100 странах мира. В этот процесс вовлечено около 30 миллионов волонтеров и врачей, общий объем рынка исчисляется сотнями миллионов долларов [67] (оценивается торговля препаратами, оборудованием, услугами сиделок и медсестер и т. д.). В чем же причины такого успеха?
Хосписное движение — закономерное следствие тотального старения населения планеты и медикализации смерти. Люди все чаще умирают от комплекса тяжелых болезней, и этот процесс оказывается растянут на долгие годы, часть из которых проходит в медучреждениях. В этих условиях формируются профессиональные сообщества, функция которых — ухаживать за умирающими, облегчать их страдания и проблемы, причем не только физические, но и психологические и юридические.
Но почему помощь умирающим устроена именно так? Откуда взялись хосписы и могли бы они появиться на век раньше? Чем то, как смерть обсуждали сто лет назад, отличается от дискуссии вокруг умирания сегодня? И почему мы так уверены, что теперь точно знаем, что нужно умирающим?
Неизлечимые болезни: ars moriendi и cura palliativa
Очевидно, что люди болели и умирали на протяжении всей истории. Рядом с больным зачастую находился кто-то, кто помогал облегчить его страдания, будь то любящий супруг, знахарь или местный священник. Однако практики ухода за умирающим, которые мы видим сегодня, значительно эволюционировали.
В позднем европейском Средневековье был распространен иконографический сюжет ars moriendi («искусство умирать»). Это изображение последних часов жизни умирающего грешника и других ситуаций, связанных со смертью и облегчением страданий. Строго говоря, «Ars Moriendi» — это два текста, опубликованных между 1415 и 1450 годами, которые были посвящены «хорошему» или «достойному» умиранию, но в широком смысле так называют целый пласт представлений средневекового человека о последних днях праведного христианина. Своим появлением тексты и изображения обязаны «черной смерти» — второй в истории человечества пандемии чумы, пик которой пришелся на середину XIV века. В основе ars moriendi лежит идея о происходящей на смертном одре борьбе ангелов и демонов за душу умирающего, поэтому эти практики и нарративы носили спиритуальный, но не прикладной медицинский характер. Облегчение телесных страданий средневековых людей заботило меньше, чем спасение души и успешное вхождение в Царство Божье, — зачастую тяжелобольных предлагалось попросту не трогать, ведь на всё воля Божья [68]. Всё, что требовалось от близких умирающего (и от него самого), — молитва и покаяние. Большинство умирающих попадали под надзор монашеских орденов, где им помогали не медикаментозно, а спиритуально: с IX века госпитали были практически при каждом христианском монастыре, а сам термин «госпиталь» происходит от французского «hôtel-Dieu» или английского «hostel of God», то есть «дом Бога» [69]. «Для больного или умирающего крайне печально остаться в одиночестве, так как такое отсутствие внимания может быть бо́льшим бедствием и страданием, чем сама болезнь», — наставлял паству один из Отцов Церкви Святой Афанасий [70].
Большинство болезней в Средневековье провозглашались наказанием за грехи, и потому все сопутствующие физиологические проявления воспринимались как справедливое наказание. Девиз средневековой медицины — «Medicus curat, deus sanat», что переводится как «врач заботится, Бог лечит». Автор книги о культурной истории боли Хавьер Москосо анализирует трагический случай страдания умирающей королевы Анны Австрийской, жены Людовика XIII, подробно описанный в мемуарах Франсуазы де Мотвиль [71]. Как отмечает Москосо, королева интерпретировала свое страшное заболевание в религиозном контексте и боль расценивала как способ искупления грехов. Так сама королева «объясняла королю, что это Бог выбрал ей такой путь для покаяния в прошлых грехах, что она счастлива и готова к смерти». Согласно Москосо, здесь мы сталкиваемся с крайне показательным для мира Средневековья и крайне отличным от нашего измерением боли — религиозно-духовным, символическим [72].
Рис.10 «Искусство умирать» («Ars Moriendi») — два латинских текста (публиковались примерно с 1415-го по 1450-й) о том, что нужно делать добропорядочному христианину, дабы правильно умереть. В книге рассказывается, что смерти не нужно бояться, ведь это дорога к вечной жизни; уделяется особое внимание искушениям, которые ждут умирающего человека (отсутствие веры, отчаяние, нетерпение, гордыня и алчность), и советам, как их избежать. В заключении приводится список спасительных молитв. На фото: иллюстрация к одному из изданий «Ars Moriendi» (1450), показывающа искушение маловерием
Физическое страдание наделялось подобным смыслом вплоть до Реформации. Кризис схоластической философии и становление медицинского знания привели к появлению в медицинских трактатах термина «cura palliativa», который означает «забота о неизлечимом». В 1543 году в книге итальянского врача Джованни да Виго, посвященной онкологическим заболеваниям, впервые появляется термин «palliative» в его современном понимании, обозначающем «особую фазу заболевания» [73]. Виго пишет о терминальной фазе болезни, когда доктор уже не в силах помочь пациенту. Он не дает прикладных советов, но описывает общую симптоматику, концептуализируя само состояние паллиативности. В первой половине XVII века термин «паллиативный» появляется и в медицинских энциклопедиях, и в справочниках — например, в Lexicon Medicum Graeco-Latinum авторства итальянского врача Бартоломео Кастелли (1598). Несколькими годами ранее другой врачеватель, голландец Питер ван Форест, пишет о паллиативной помощи как о конкретном общеизвестном пуле практических советов — например, как облегчить для умирающего процесс дыхания.
В XVII веке медики научились классифицировать болезни не только исходя из их локализации и причин появления. Сформировалось понимание, что есть недуги обратимые, а есть те, где врач бессилен. Поддающиеся излечению болезни гораздо больше волновали ученых-врачей, а рекомендации по обращению с неизлечимо больными и умирающими носили максимально прагматичный характер: например, многие авторы советовали вообще изолировать умирающих от здоровых. С этим было связано появление лепрозориев и резерваций для больных чумой, где им хоть и оказывали элементарный уход, но не из сострадания, а из нужды поддерживать изоляцию. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что врачи не были совсем уж равнодушны к умирающим. Во многом потому, что они понимали: по мере ухудшения состояния пациенту требуются всё более частые визиты специалиста, что открывало перспективы для получения дополнительного заработка [74]. В целом же паллиативная помощь понималась как бесполезная и долгое время противопоставлялась настоящей врачебной помощи [75].
Боль неприятная и боль недостойная
В Новое время священников и народных знахарей как носителей медицинского знания стали теснить профессиональные врачи. Физическую боль постепенно перестали рассматривать как небесную кару за грехи, а тело «механизировалось»: отныне каждому органу соответствовал не небесный покровитель, мистическая сила или «неправильные соки», а конкретная дисфункция в работе организма. Главным образом это было связано с проникновением математических методов в медицину и экспериментами профессора Пандуанского университета Санторио Санторио и английского врача Уильяма Гарвея, которые использовали для описания болезни множество измерительных приборов. Они первыми стали измерять пульс и температуру, а Гарвей описал и объяснил процесс движения крови в организме.
Окончательно понимание боли как особого физиологического процесса закрепил Рене Декарт в XVII веке. Он рассматривал физическое страдание в своем «Трактате о человеке» 1664 года: боль в труде описывалась как функция нервной системы, подразумевающая реакцию организма на «поломку». Чтобы наглядно объяснить, как это работает, Декарт описывал опыт с колокольчиком, трубкой и ударом молотка, в котором угадывалось метафорическое представление о работе человеческого тела: мозг (колокольчик) реагирует звоном на удар молотка (раздражителя) через трубку-проводник (нервную систему). Свои выводы он подкрепляет совсем уж простым примером, когда, обжигаясь, человек отдергивает ногу от открытого огня [76].
Рис.11 На этой иллюстрации 1644 года из книги Рене Декарта демонстрируется принцип действия боли в человеческом теле. Мальчик сунул ногу в огонь, частицы теплоты А обжигают кожу в точке B, которая связана с точкой С в сердце и с точками D и E в мозге. Боль заставляет дух течь из точки F в мышцы, что приводит к отдергиванию ноги. Главное, что пытался доказать Декарт, — боль вызвана не грехом, она является следствием физиологических процесса в теле-машине.
Несмотря на то что идеи Декарта навсегда изменили язык разговора о боли с сакрально-мистического на физиологический, в повседневной жизни людей еще долго преобладали спиритуальные представления о телесных муках. Вплоть до XIX века боль рассматривали как необходимость болезни, ее естественный атрибут, который в некоторых случаях даже помогает человеку бороться за здоровье. А потому лечения боль требовала лишь в исключительных случаях [77]. Анестезию, впрочем, практиковали уже в позднем Средневековье: так, знаменитый Парацельс готовил лечебную настойку на основе опиума. Примеры прикладного обезболивания есть и в литературных текстах, и в изобразительном искусстве: например, на картине «Врач-шарлатан» голландского художника Яна Стеена изображен несчастный молодой человек, окруженный медиками-шарлатанами. Справа от него — лекарственные спиртные напитки, а сам пациент лежит в тележке и пьет свое послеоперационное обезболивающее пиво. Первые настоящие лекарства от боли появляются только в XIX веке, с открытием и массовым распространением морфина. Среди них — знаменитый бромптонский коктейль: спиртовая смесь морфина и кокаина, которую часто давали больным в терминальных стадиях болезней. Свое название средство получило благодаря Королевскому Бромптонскому госпиталю, где его широко применяли, а рецептуру изобрел врач Герберт Сноу в 1896 году.
Постепенно появляется понимание, что боль — еще и социальное явление, ведь она может быть зафиксирована или измерена исключительно через слова пациента. Несмотря на опыты Декарта, у нас до сих пор нет никаких инструментов, которые бы измеряли боль с той же точностью, с какой мы измеряем вес, объём и другие физические характеристики объектов [78]. В своей классической статье «Терапевтическая революция: медицина, смыслы и социальные перемены в Америке XIX века» (1977) [79] историк медицины Чарльз Розенберг отмечает, что гуморальная медицина [80] и вовсе не имела никаких диагностических возможностей для объективизации боли, кроме визуального наблюдения за больным.
Важно отметить, что боль можно понять и уловить только через переживание и публичное проговаривание собственных ощущений (pain narratives), то есть через взгляд пациента на свое болеющее тело, через его субъективизацию «боли как самого себя» и соотнесение с реакцией окружающих на эту боль. Поэтому страдающий человек должен научиться говорить о болезни и чувствах, которые она приносит. Впрочем, вплоть до начала XX века физическая боль, сопровождающая процесс умирания, осмыслялась как неприличная эмоция, слишком натуральная, чтобы выражать ее вслух. Историк и культуролог Джоанна Бурк, исследуя трансформацию представлений о боли, отмечает, что до середины XIX века боль и вовсе описывали как животное чувство, не свойственное приличному человеку из высшего света. Испытывать боль значило потерять контроль над собственным телом, озвереть [81]. Как отмечает историк Игорь Кобылин, описывая феномен боли в культуре Нового времени: «Физические мучения постоянно сопровождаются страхом „потерять достоинство“ и чувством унижения в случае этой „потери“. Тем более что свидетели — от медицинского персонала до членов семьи — часто подтверждают опасения больных, раздраженно реагируя на открытое выражение слабости. Люди-в-боли воспринимают себя в качестве изгнанников <…>, в качестве тех, кто, утратив контроль над своими телами, корчится, прыгает, трясется и катается по земле, словно „низшее существо“» [82]. Эта борьба между желанием выразить боль и страхом потерять человеческий облик замечательно показана в фильме Альберта Серра «Смерть Людовика XIV» (2016). В киноленте, снятой максимально натуралистично, рассказывается история медленной мучительной смерти французского монарха от гангрены ноги — ампутацию конечности он счел для себя неприемлемой, не соотносящейся с его высоким статусом.
Рис.12 Гравюра Джозефа Брауна «Невеста смерти» (1849) по мотивам одноименного романтического стихотворения, которое оставил после себя скончавшийся друг художника.
Связь страдания с состоянием стыда и замалчивания приводит к необходимости борьбы с физической болью. Поэтому можно сказать, что разговоры о паллиативной помощи как о помощи по обезболиванию приобретают значимость тогда же, когда формируется дискурс «достоинства» как маркера цивилизованности и статусности. Показательно, что в общественной дискуссии XIX века проблема «хорошего умирания» зарождается в плотной связке с дискуссией об эвтаназии. Одна из первых книг в викторианской Англии, в которой проблема паллиативной помощи обсуждается как прикладная, — работа Уильяма Мунка «Эвтаназия: медицинский уход и легкая смерть» (1887). Вторая половина XIX века — время, когда смерть в «недостойных условиях» (с болью, невозможностью контролировать и очищаться от испражнений) становится культурно неприемлемой. Тогда же намечается граница между «помощью умереть» (эвтаназией) и помощью умирать (паллиативом).
Рис.13 Важная часть представления о хорошем умирании в XIX веке: спокойная смерть в кровати в окружении близких. Без боли и без безобразных физиологических проявлений болезни — иными словами, достойная смерть, соизмеримая со статусом человека. В поисках хорошего умирания люди осмысляли феномен эвтаназии — она представлялась хорошим способом избежать страданий и унижений. Изображение: фотоколлаж Генри Пич Робинсона, 1858 год
Концептуализация боли как индивидуального чувства происходила на фоне растущего индивидуализма и разворачивающейся дискуссии о правах человека. В конце XVIII — начале XIX века все главные государства Европы отменили телесные наказания как бессмысленные, бесчеловечные и унижающие личность: Франция — в 1791 году, Пруссия — в 1845 году, Австрия — в 1864 году. Объектом наказания становится не тело преступника, но его жизнь как временной процесс — ее, частично или целиком, можно было забрать, отправив человека на каторгу или в застенок. Физическое страдание белого человека [83] мыслили уже не как необходимую для спасения души практику, а как эмоцию, не соотносящуюся с «хорошим умиранием». Иван Ильич из повести Льва Толстого привык вести «приличную и приятную жизнь», но неожиданно оказывается настолько изуродован болезнью, что за короткое время превращается из важного человека в изгоя и обузу, причем не только для коллег и друзей, но и для семьи:«незаметно, но сделалось то, что и жена, и дочь, и сын его, и прислуга, и знакомые, и доктора, и, главное, он сам — знали, что весь интерес в нем для других состоит только в том, скоро ли, наконец, он опростает место, освободит живых от стеснения, производимого его присутствием, и сам освободится от своих страданий» [84].
Таким образом, концепт паллиативной помощи как практики ухода за умирающим человеком, который испытывает физическую боль и от этого получает эмоциональные и социальные страдания, формируется ко второй половине XIX века — тогда же, когда и концепт «достойного умирания», о котором мы говорили в предыдущей главе.
Сестры милосердия и первые хосписы
В XIX веке уход за тяжелобольными обретает институциональную поддержку. Наиболее важная из них — профессионализация медицинской сестры.
Тяжело представить, но до середины XIX века уходом за тяжелобольными и умирающими людьми занимались исключительно монашеские ордены и сестринские службы при них — например, в госпитальерских больницах. Первые общины таких сестер милосердия возникли еще в XVII веке благодаря усилиям французского священника Викентия Поля. Такие общины сестер милосердия состояли из вдов и девиц, которые не были монахинями и не давали никаких постоянных обетов, однако несли молитвенное послушание и надевали религиозное облачение. Их помощь больным и умирающим заключалась в исполнении элементарных гигиенических потребностей пациента и его спиритуальной поддержке — чтении молитв, разговорах на религиозную тему.
К началу XIX века в Европе действовало почти 500 подобных христианских организаций, в которых несли службу около 15 тысяч сестер милосердия [85]. Причина популярности подобного служения проста: женщины не имели возможности стать профессиональными врачами (врачевание было исключительно мужским ремеслом), но зато могли заниматься общественно одобряемой деятельностью, близкой к медицине, — например, уходом, в рамках христианско-социального служения.
Основы современного понимания медикализированного ухода за тяжелобольными и умирающими были заложены только во время Крымской войны, то есть в середине XIX века. Первой секулярной медицинской сестрой стала англичанка Флоренс Найтингейл, работавшая в полевых британских госпиталях. Найтингейл продвигала идею ухода за больными как главного фактора их выживаемости и показывала, что гигиена, хорошее питание и душеспасительные беседы повышают уровень выздоровления в армии. А еще Флоренс добилась того, чтобы британские больницы были оснащены системами вентиляции и канализации.
Рис.14 Флоренс Найтингейл. Гравюра неизвестного автора из книги «Выдающиеся люди Европы и САСШ», 1873 год.
В процессе обучения других сестер Найтингейл использовала инфографику и рисунки как способ представления данных — это облегчало ее не всегда грамотным последовательницам доступ к информации. Считается, что она изобрела круговые диаграммы, а еще ввела систему сбора статистики в больницах Великобритании. Благодаря техникам ухода, разработанным Флоренс, в местах, где она работала, в десятки раз снизилась смертность. Среди прочего она практиковала регулярные ночные обходы раненых, за что впоследствии получила прозвище Леди с лампой. Уже после Крымской войны Найтингейл основала несколько школ для медицинских сестер, а впоследствии ее рекомендации стали одним из источников стандарта Красного Креста [86].
В Российской империи, которая была противницей Англии в Крымской войне, помощь тяжелобольным и умирающим тоже институализировалась в XIX веке: больными активно занимаются сестры милосердия, представительницы монашествующих и многочисленных благотворительных организаций. Знаменитый русский врач Николай Пирогов полагал, что именно русские сестры заложили основу современного сестринского дела в мире, и одной из самых влиятельных женщин в этом процессе считал великую княгиню Елену Павловну, супругу Михаила Павловича. В письме к баронессе Раден Пирогов доказывает: «„Крестовоздвиженская община сестер попечения о раненых и больных“ была учреждена в октябре 1854 года, а в ноябре того же года она уже находилась на фронте. О мисс же Нейтингель и о ее высокой души дамах мы в первый раз услыхали только в начале 1855 года».
К 1910 году в Российской империи было около 3500 сестер милосердия, помогавших умирающим не только на войне, но и в мирной жизни [87]. Эти женщины получали зарплату и, в отличие от монахинь, не давали пожизненного обета, не несли молитвенного послушания и были обязаны закончить медицинские курсы. Их помощь высоко ценилась и была востребована. Мария Казем-Бек, дочка Льва Толстого, так вспоминает в своих дневниках смерть мужа: «Сегодня Александр провел мучительную ночь, страдая и от боли в кишке, и от боли в животе, и от пролежней… Пришлось взять сестру милосердия. Мне грустно. Я мечтала сама, одна ходить за Александром до самого конца. Но это оказалось невозможным. Он больше не может двигаться; его приходится поднимать; одна я не в силах; нужна умелая помощь» [88].
Рис.15 Две сестры милосердия: родные сестры из небогатой дворянской семьи Де Кампо Сципион. Снимок начала XX века из коллекции фотографа Сергея Максимишина
Но если Найтингейл (или Елена Павловна — как кому больше нравится) основала сестринское дело как практику ухода за всеми типами больных, то пионером в уходе именно за умирающими стала француженка Жанна Гарнье. В 1842 году 24-летняя вдова, потерявшая еще и двух детей, собрала вокруг себя единомышленниц-христианок и основала в Лионе «Ассоциацию женщин Голгофы» (исп. L’Association des Dames du Calvaire), которая в 1850-х годах превратилась в хоспис. На входе в учреждение были выгравированы цитаты из Евангелия от Матфея: «Я был болен, и вы пришли ко мне», — в которых, по замыслу Гарнье, заключалась миссия — ее и ее коллег. Таким образом, первый в мире хоспис открыла женщина [89].
Рис.16 Общая палата неизлечимо больных в хосписе «Фриденхайм» в Лондоне, 1890 год.
Деятельность Гарнье оказала колоссальное влияние на развитие паллиативной помощи в Европе. Ее примеру последовали в Париже и Сент-Этьене в 1874-м; в Марселе — в 1881-м и в 1894-м; в Брюсселе — в 1886-м; в Руане — в 1891-м; в Бордо — в 1909-м. Ее именем названы несколько европейских госпиталей и ассоциаций работников хосписной помощи, которые действуют до сих пор.
В США дело Гарнье развивала Роза Готорн, дочь знаменитого американского литератора Натаниэля Готорна. В молодости она пережила смерть ребенка, а чуть позже наблюдала, как ее подруга, поэт Эмма Лазарус, умирает от рака. В 1891 году Роза приняла католичество, а через пять лет решила посвятить себя помощи больным раком. Пройдя трехмесячный сестринский курс в Нью-Йоркской онкологической больнице летом 1896 года, в сентябре того же года она основала первый хоспис в Америке, где неизлечимым раковым больным помогали бесплатно. Вскоре с ней стали работать сестры милосердия из организации «Служители больным раком». Роза и ее хоспис стали примером активно распространяющегося среди женщин среднего класса тренда на занятия благотворительностью.
К началу Первой мировой войны хосписы на базе монашествующих орденов и общественных организаций работали во Франции, Германии, Италии, Англии, Австралии. Несмотря на то что они все еще имели яркую религиозную ориентацию, сотрудники этих учреждений проходили обязательное обучение. В Российской империи в 1906 году появился первый хоспис: на деньги богатого купеческого рода Морозовых в Москве построили онкологическую клинику с палатами для безнадежно больных. А в 1909 году в империи заработало общество борьбы с раковыми болезнями — на несколько лет раньше, чем в Америке и многих европейских странах.
Примерно в то же время в европейском обществе развивалась дискуссия о том, с какого момента человека стоит считать безнадежно больным. Один из сотрудников лондонского хосписа доктор Перси Раш в 1904 году так писал о главной стратегической проблеме организации работы хосписа: «Наша проблема в том, чтобы […] каким-то образом понять и идентифицировать пациента, который не будет жить более двух-трех месяцев. […] Ведь каждый пациент, который занимает кровать, скажем, двенадцать месяцев, предотвращает прием трех или четырех действительно умирающих». Пока критериев терминальных стадий болезней не существовало, хосписы помогали больным в тяжелом состоянии. Четче определить свой специфический объект опеки хосписам предстояло в послевоенное время.
Послевоенная гуманизация на Западе
Как вышло, что в Европе уход за умирающими так быстро проделал путь от первых инициатив в конце XIX века до самого успешного низового движения XX века?
После Второй мировой войны США и европейские государства загорелись идеей «государства всеобщего благоденствия» (welfare state). В этой модели, сформулированной Джоном Мейнардом Кейнсом в «Общей теории занятости, процента и денег» (1936), гражданам были гарантированы равный доступ к образованию и медицине, минимальный доход и прочие безусловные блага и льготы. В таких государствах функция ухода за больными переходила от религиозных организаций к правительству. Страны озаботились здоровьем своих граждан и социальной помощью. В качестве примеров государств, приблизившихся ко «всеобщему благоденствию», обычно приводят Финляндию, Нидерланды, Канаду, Новую Зеландию, Швейцарию, Германию, Бельгию, Францию.
Другой важный фактор — рост общественных движений. В послевоенный период активно развивались женское движение, движения за права сексуальных и гендерных меньшинств, за мир, за гражданские права, антиядерный активизм и энвайронментализм. Такой всплеск был связан с активностью молодого послевоенного поколения, взрослеющего в эпоху бурного экономического роста 1950-х. Их многочисленные программы преобразования общества с акцентом на нематериальные ценности — экологию, права человека, равенство — стали ответом на бурное развитие капитализма. Также расцветали движения антимилитаристов, а в 1960-е ФРГ и Франция столкнулись с выступлениями либерально настроенной молодежи. Целое поколение литераторов вроде Джека Керуака и Уильяма Берроуза пропагандировало право на свободу от довлеющих общественных норм. Самый яркий пример молодого бунтаря той эпохи — главный герой «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера.
Не менее важным фактором, связанным с социальными движениями, было и появление малых частных благотворительных инициатив. Если в начале XX века больным и нуждающимся помогали в основном крупные меценаты, то начиная с 1960-х ресурсы стали собирать «на местах». Активисты не ограничивались выступлениями — они собирали и раздавали одежду и еду, помогали бездомным, наркоманам, сиротам и так далее. Случился бум волонтерства [90].
Пожалуй, ярче всего эти тренды проявились в Великобритании. В 1946 году в стране создается Национальная служба здравоохранения, предоставляющая гражданам бесплатные медицинские услуги (расходы покрывал бюджет страны). В начале 1950-х новое ведомство провело аудит качества работы врачей с одной стороны и потребностей граждан — с другой. Сначала проверяли, как функционируют роддома и хорошо ли с обязанностями справляются терапевты и медсестры, но впоследствии дело дошло до положения умирающих — причем почти случайно. Хирург Рональд Рейвен, возглавлявший ревизионную комиссию, инспектировавшую дома простых британцев, заметил, что десятки тысяч людей умирают от рака и других заболеваний, не получая элементарной медицинской помощи, полностью невидимые для государства [91]. Самым возмутительным было то, что пациенты не имели доступа к обезболивающим: это было их главной жалобой в ходе опроса.
К концу 1950-х в Британии действовало более тысячи микрохосписных учреждений, которые работали на базе общин сестер милосердия и финансировались за счет частных пожертвований, а к государству не имели никакого отношения. Работа Рональда Рейвена позволила плавно интегрировать эти дома милосердия и частные волонтерские инициативы в систему государственного обеспечения умирающих британцев. Первым опытом объединения стал хоспис под предводительством легендарной Сесилии Сандерс.
Рис.17 Сесилия Сандерс в своем хосписе общается с тяжелобольной женщиной. Согласно Сандерс, главный принцип хосписной помощи — избавление человека от «тотальной боли» (total pain): физического страдания, социальной немощности и психологического дискомфорта. Сандерс также сформулировала идею, что в хосписе должна быть домашняя обстановка
Получив в 1957 году диплом бакалавра медицины, Сесилия стала младшим научным сотрудником лондонской больницы Святой Анны. Впоследствии она работала в нескольких онкологических клиниках и пережила смерть любимого мужа. Долгие годы Сандерс вынашивала идею хосписа. Особое внимание в ее проекте уделялось пространству учреждения, которое должно было максимально отличаться от больничного. «Здание может помочь человеку в его страдании. Красота обладает целительными свойствами. Пациенты видят, что пребывают в очень хорошем, на совесть сделанном месте, и понимают, что ему можно доверять», — писала она.
Хоспис святого Христофора по проекту Сандерс открылся в 1967 году. Здание спроектировал архитектор-модернист Питер Смит. Пространство было поделено на три части — публичную, приватную и клиническую. В палатах были большие окна с занавесками и домашняя мебель, на столах стояли цветы. Пациенты занимались садом, писали картины, слушали музыку и читали стихи. К работе хосписа привлекались волонтеры. Так началось британское хосписное движение.
Сандерс стала амбассадором современной идеологии ухода за умирающими и тяжелобольными, вобравшей в себя лучшие наработки сестер милосердия: первые британские хосписы представляли собой традиционные дома ухода, в которых теперь были еще и врачи, а услуги предоставлялись в рамках национальной программы здравоохранения. «Хоспис — это философия, из которой следует сложнейшая наука медицинской помощи умирающим и искусство ухода, в котором сочетается компетентность и любовь», — утверждала Сандерс. Она отлично понимала, что нельзя отказываться от многовекового опыта сестер милосердия, и попыталась плавно интегрировать его в государственную систему паллиативной помощи. В итоге тысячи хосписов, функционирующих на базе монашеских орденов, получили государственные заказы на уход за больными в терминальной стадии.
Сегодня почти вся современная паллиативная помощь в католической Европе базируется на старой христианской волонтерской инфраструктуре — именно поэтому в Польше и во Франции, традиционных католических странах, паллиативная сфера так хорошо развита, несмотря на скромные государственные вложения.
Хосписное движение послевоенных лет подхватило идею о важности обезболивания и сделало ее частью большой социальной программы помощи тяжелобольным. Одной из первых задач активистов была декриминализация опиоидов и включение препаратов на их основе в программу обязательного медицинского страхования. В 1970-х Сесилия Сандерс сформулировала концепцию total pain — когда физическая боль настолько сильна, что причиняет человеку психологические и социальные страдания. Именно с такой болью боролись активисты хосписного движения на западе.
А что было в СССР?
Невидимая смерть в Советском Союзе
Будучи социальным государством де-юре, де-факто СССР не заботился о многих категориях своих граждан, в том числе об умирающих. Октябрьская революция уничтожила церковную инфраструктуру вместе с монашескими богадельнями и институтом сестер милосердия. Поначалу они перешли под надзор международного Красного креста, но потом в руководстве Союза решили, что это слишком буржуазная организация, и создали собственный аналог — Центрокрест. В 1920 году Народный комиссариат здравоохранения СССР издал циркуляр № 1026, согласно которому сестры милосердия стали именоваться просто «сестры». Милосердие, как и благотворительность, признавалось буржуазным пережитком, которому не должно быть места в советском обществе.
Тезис обосновывался двумя предположениями. С одной стороны, все социальные проблемы рассматривались как результат неравенства буржуазного общества, который будет изжит при коммунизме. С другой стороны, ресурсная помощь одного частного лица другим (само явление меценатства) рассматривалась как акт доминирования и поддержания классового неравенства. В советском словаре иностранных слов «филантропия» определялась как «помощь и покровительство нуждающимся в буржуазном обществе», а следом уточнялось: «Филантропия сама по себе оскорбительна для человеческого достоинства». Максим Горький в письме в редакцию журнала «Будущая Сибирь» придерживается схожих мыслей: «Малым делом считалась — и считается — филантропия, кормление бедных крошками со стола богатых».
Специализированной помощи умирающим, в том числе онкологическим больным, в СССР не оказывали. При городских больницах существовали «раковые корпуса», но пациентам в терминальной стадии оказывали только симптоматическую помощь — их обезболивали, лечили от последствий болезни вроде диареи. Жизнь внутри такого учреждения описывалась в романе Александра Солженицына «Раковый корпус». Автор показал механизмы «замалчивания болезни», когда одних выписывали якобы «с улучшениями», а других оставляли умирать в неведении.
Советская медицинская этика, деонтология, по сути была набором инструкций для медицинского персонала. Честное обсуждение диагноза с пациентом в эти инструкции не входило. Согласно представлениям идеологов советской медицины, сам факт сообщения смертельного диагноза способен нанести психологическую травму пациенту, что в итоге может иметь тяжелые социальные последствия: «Несмотря на пропаганду излечимости, слово „рак“ действует угнетающе. А всё, что может оказать негативное действие на пациента, сообщать нельзя». Врачу предписывалось «приготовиться играть роль без выходных и антрактов», чтобы оставить больного «в неведении того, что ему предстоит, и главное, что ему угрожает». Советские учебники по деонтологии содержали и прикладные советы, как обманывать пациентов: «Периодически необходима смена лекарств, вариантов их прописей, путей введения. Врач не может сказать больному, что все лечебные средства исчерпаны и добавить больше нечего». Больных советовали запутывать: например, специально обращать их внимание на неважные признаки болезни вроде цвета ладоней, размера ногтей, высыпания и так далее, чтобы отвлечь от действительно значимых проявлений: «Взаимоотношения онкологической патронажной сестры с больными имеют много специфического. Довлеет необходимость маскировки диагноза, заставляющая медицинскую сестру быть всегда начеку, в состоянии самоконтроля, не сказать лишнего и не забыть сказанное ранее» [92]. Подобный деонтологический подход в целом не позволял проблематизировать умирание и умирающих — для государства их просто не существовало [93].
Советские идеологи подчеркивали, что общество в СССР принципиально отличается от западного: коллективное в стране всегда было превыше частного, а субъектность человека реконструировалась через труд, а не через потребление. Полноценным признавался лишь тот гражданин, который мог что-либо производить, именно поэтому советская медицина так рьяно выступала за трудотерапию, а одним из критериев тяжести болезни являлось ожидаемое время возврата пациента к работе. Умирающий больной, не способный к производству и требующий постоянного ухода, в эту картину мира не вписывался. Советское общество в целом стремилось изолировать «других», к которым относились не только терминальные больные, но и инвалиды. По этой причине в советском спорте не было паралимпийцев, а дома призрения строились вдали от больших городов.
В советском взгляде на человека и на его тело персональная боль не концептуализировалась как проблема. Скорее наоборот: советский человек должен был страдать, испытывая повседневные тяготы существования во имя будущих великих свершений. Например, знаменитый физиолог Григорий Кассиль написал книгу «Наука о боли» (1975), где наряду с жестокими описаниями опытов над животными приводятся описания героических подвигов советских солдат и ветеранов труда, которые, «побеждая» свою телесность (боль), совершали великие дела. Героизм и страдание становились константами советского взгляда на предназначение человека, а жалоба на физическое недомогание воспринималась как что-то постыдное. Врачи выписывали умирающим и тяжелобольным обезболивающие средства, но скорее как симптоматическое лечение — у этой практики не было гуманизирующего смысла.
Общественные движения в СССР возникали, в основном, «сверху», поэтому ни о каких низовых хосписных инициативах, подобных западным, речи не шло. В стране существовала государственная программа волонтеров и добровольцев, но цели ее участников, как правило, были связаны с крупными проектами: например, со всесоюзными стройками вроде Байкало-Амурской магистрали или патриотической работой. Общественно-политические движения, требующие каких-либо изменений в законодательстве или управлении страной, возникали исключительно на базе диссидентского движения. Но советское диссидентство предполагало глубокий личностный нонконформизм и политическую оппозиционность, и участники этого движения едва ли могли развернуть борьбу за организацию системы паллиативной помощи.
Практики ухода за умирающими постепенно начинают формироваться в СССР к концу 1960-х годов. Из дневниковых воспоминаний граждан мы узнаем о существовании онкологических патронажных служб: например, в рамках Красного Креста РСФСР или одноименной патронажной сестринской службы. Предполагалось, что такие сестры следят за тем, как больной соблюдает режим, а еще собирают информацию для врачей и будущих исследований. Вопросами гигиены, уходом и психологической поддержкой они практически не занимались. В целом, болезнь и смерть по-прежнему оказывалась частью интимной жизни советского человека, и все проблемы неизлечимых больных решались внутри семьи.
Социальная политика СССР не предполагала появления специализированного и профессионального ухода за умирающими. Поэтому хосписное движение в стране появилось только в постсоветский период. Современной России пришлось выстраивать систему паллиативной помощи с нуля усилиями иностранных волонтеров — в том числе британского активиста с русскими корнями Виктора Зорза, который в 1996 году открыл первые хосписы в Москве и Санкт-Петербурге. Этим начинаниям потребовалось почти 25 лет, чтобы принести первые заметные плоды: всплеск российского хосписного движения случился после провала уличных протестов в 2011 году и ухода большей части активистов в благотворительность.
Неолиберальная идеология и пациент как потребитель
Несмотря на сильную преемственность идей, паллиативная помощь не стоит на месте. Сегодня Всемирная организация здравоохранения призывает признать новый императив хосписного движения — устранение физической боли — базовым правом человека. Право не испытывать боль перед смертью поставлено в один ряд с правом на жизнь, свободу вероисповедания и слова. Потому что боль и смерть — это то, что случается со всеми, вне зависимости от расы, пола и социального статуса.
Кроме того, паллиативная помощь органично встроилась в западную идеологию общества потребления, где субъектность человека определяется потребностью и способностью постоянно делать выбор. Тяжелобольной пациент — это прежде всего потребитель, просто с очень специфическим выбором. И хоспис как пространство продолжающейся жизни должен поддерживать эту иллюзию «жизни как выбора». Американский социолог Рой Ливне отмечает, что западное общество коммерциализирует не только практики погребения, но и уходовые практики, органично встраивая их в систему платного здравоохранения. Так, американские хосписы, подобно спа-курортам, предлагают своему клиенту бесконечно широкий ассортимент процедур — и за каждую манипуляцию ему придется заплатить отдельно, пусть и из страховки. Например, он может пойти на массаж, принять ванну, выбрать то или иное блюдо на обед. В таком контексте процесс умирания перестает восприниматься как экстраординарное кризисное состояние или чрезвычайное положение. Сотрудник хосписа, хватая умирающего человека, кричит ему: ты еще живой, так что выбирай — что хочешь на обед, пончики или борщ?
Одна из важнейших проблем современной паллиативной помощи — дороговизна инфраструктуры умирания. Если раньше сестер милосердия спонсировали богатые меценаты и прихожане, то с рождением концепции социального государства эту функцию на себя взяли госбюджеты. При этом хосписная помощь — довольно большая статья расходов и нуждается в оптимизации. Уже сейчас на статью «Хосписы» уходит одна шестая от английского бюджета на здравоохранение. Поэтому некоторые страны — например, Индия и Монголия — не строят стационарные хосписы и обеспечивают пациентам выездную помощь. Другие государства — например, Польша — решают проблему, привлекая волонтеров на место профессиональных оплачиваемых медицинских сестер. Россия в этом ряду стоит особняком и функционирует как типичная империя с богатой метрополией и бедной провинцией. Пока в Москве появляются хосписы, где на каждого пациента тратят более 5000 рублей в сутки [94], в регионах не всем хватает еды и подгузников.
Ухаживая за телом, в хосписах не перестают думать о душе. Уход не может существовать без чуткого и внимательного отношения к индивидуальным требованиям пациентов, поэтому современная паллиативная помощь — это не только про обезболивание, но и про разговор: умирающего — с врачом, умирающего — с близкими, близких — друг с другом. Зачастую эти разговоры превращаются в дидактическую историю побед и промахов и становятся источниками для селф-хелп-статей и поп-психологии. В России этот жанр пока только формируется, а на Западе книги-исповеди людей, который борются с раком или другими неизлечимыми болезнями, учатся принимать смерть сами и объясняют другим, «как нужно жить, чтобы потом ни о чем не жалеть», выходят огромными тиражами. Среди самых ярких примеров — книги Hospice Whispers: Stories of Life («Тихие разговоры в хосписе: истории жизни»), One Foot In Heaven («Одной ногой в раю») и многие другие.
Таким образом, разговор с умирающим становится еще и жанром публичного дискурса: мы наблюдаем за каждым словом и действием хосписных гуру, которые поняли смерть, а потому имеют право нести нам истину. Адепты паллиативной помощи не только стремятся дестигматизировать процесс умирания, придать ему статус естественного и нестыдного, но и интегрируют его в повседневную жизнь: открывают курсы по уходу за безнадежно больными, привлекают к паллиативному уходу родственников. Современные хосписы стали воплощением идеи «хорошего умирания» в том виде, в каком ее формулирует условный средний класс.
Как бы умирал Иван Ильич сегодня? Скорее всего, он лежал бы в хорошем хосписе в пределах Садового кольца, где получал бы качественные обезболивающие препараты. Его бы вкусно и разнообразно кормили, о нем бы заботились профессиональные медсестры, к нему бы приходили волонтеры-аниматоры. А еще кто-нибудь непременно снял бы документальное кино о его героической борьбе с болезнью и стойком принятии неизбежного конца. Возможно, он бы даже вел блог о борьбе со смертью или написал бы книгу «25 правил счастливой жизни и смерти».
Но сделало бы это Ивана Ильича счастливее? Стал бы он от этого более умиротворенным?
Глава IV Новые лики бессмертия: от идеи воскрешения до цифровых клонов
21 января 1924 года в возрасте 53 лет после тяжелой болезни скончался создатель первого в мире социалистического государства Владимир Ильич Ленин. Через шесть дней состоялись его похороны. Гроб с забальзамированным телом поместили внутрь спешно построенного на Красной площади деревянного Мавзолея и выставили на всеобщее обозрение.
Советское руководство озаботилось судьбой тела Ленина еще при жизни вождя, осенью 1923 года. Правда, поначалу бальзамация не казалась приоритетным решением — Владимира Ильича хотели кремировать. Тем не менее бальзамацию рассматривали как сильное идеологическое оружие: оставить тело нетленным значило превратить останки вождя в новую реликвию, альтернативу православным мощам, и это укладывалось в программу «богостроительства» [95].
Но есть и другая, более «практическая» версия того, зачем большевикам нужна была бальзамация: согласно ей, идеологи хотели сохранить надежду на будущее воскрешение вождя. В пользу этого мнения — непосредственное участие в засекреченной процедуре бальзамации первого наркома внешней торговли Леонида Красина. Он занимал высокое положение в партийной иерархии и искренне верил в грядущее воскрешение великих покойников. Кроме того, Красин был близок к другому советскому идеологу — ученому, врачу и писателю-утописту Александру Богданову. Известно, что последний ставил на себе опыты по переливанию крови ради омоложения, а впоследствии на этой процедуре у него перебывали многие партийные чины; позже он стал создателем всей советской гематологии.
Гипотеза, что часть номенклатуры верила в возможность воскрешения забальзамированного вождя, покажется еще менее абсурдной, если обратиться к философским и эстетическим основаниям ранних советских идеологов. На 1920-е годы пришелся расцвет ряда футуристических прогрессивистских концепций — прежде всего, космизма. Основы учения сформулировал религиозный философ Николай Фёдоров, который исходил из того, что глубинный смысл христианства — в воскрешении предков. Осуществит его Бог, но сделает он это человеческими руками: например, с помощью современной науки. При этом ясно, что миллиарды воскрешенных не уместятся на нашей планете, поэтому Фёдоров предлагал заселить ими другие. Так родился замысел освоения космического пространства.
Космизм и идея воскрешения легли в основу множества ранних советских художественных и литературных практик. В начале 1920-х годов в Москве и Петрограде сформировались группы поэтов-биокосмистов, воспевавших веру в скорое воскрешение мертвых и победу над смертью. Один из лидеров этого движения Александр Ярославский в своих стихах высказался об идее личного бессмертия через сохранение тела с помощью холодового анабиоза:
Позже эта идея ляжет в основание современной крионики.
Может показаться, что идеи биокосмизма и бессмертия были распространены лишь в узких кругах и не влияли на остальную советскую культуру. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что одержимость советских идеологов идеей бессмертия вышла далеко за границы художественных практик. Известно, что идеологическими последователями Николая Федорова были основатели отечественной космонавтики — Константин Циолковский и Владимир Вернадский. От идеи колонизации космоса для воскрешенных предков до первого полета в космос прошло чуть больше полувека. Кроме того, по мнению философа Алексея Козырева, марксизм и космизм — близкие по своей утопичности и футурологичности проекты, и интерес к бессмертию как к высшему проявлению «силы человеческого духа» силен в обоих.
Приблизить счастливое будущее человечества с помощью новых технологий стремились и советские медики. Например, все тот же Александр Богданов, переливавший кровь партийным руководителям для оздоровления. Впоследствии желание победить смерть стало основой и для советской реаниматологии и трансплантологии. Так, врач Владимир Неговский в молодости работал в культовом Институте переливания крови Богданова и принимал участие во всех опытах института «по оживлению организма». В 1936 году он добился создания лаборатории по вопросам «Восстановления жизненных процессов при явлениях, сходных со смертью», а сегодня его считают основателем советской реаниматологии.
Бессмертие как главная проблема человечества
Поиск бессмертия — классический сюжет множества художественных и мифологических произведений. Здесь и древний аккадский эпос о царе Гильгамеше, который отправился за бессмертием в страну мертвых, и славянский фольклор о Кощее Бессмертном, прятавшем смерть на конце иглы, и современные художественные произведения. Например, сюжет «Властелина колец» строится вокруг кольца всевластия, способного не только порабощать всё живое, но и дарить бессмертие. Бессмертие — главная тема и космической одиссеи «Стар Трек», и романов о Гарри Поттере, и произведений Филипа Дика и Уильяма Гибсона. Список можно продолжать бесконечно.
В чём же причина такой популярности этого сюжета и — шире — такого упорства человечества в поисках бессмертия? Классики антропологии Джордж Фрэзер и Бронислав Малиновский убеждены: бессмертие — ключевой мифологический сюжет подавляющего большинства религиозных практик, потому что страх смерти — базовое человеческое чувство. Социолог Зигмунт Бауман полагает, что поиск бессмертия — универсальная характеристика всей человеческой деятельности, которая не только формирует наши онтологические константы, но и создает самого человека и определяет его коммуникацию [97]. То есть в каком-то смысле желание бессмертия неотделимо от человеческой природы.
В разное время были актуальны разные концепции бессмертия:
1.Духовное бессмертие. После смерти физического тела душа продолжает жить вечно в ином мире.
2.Будущее физическое воскрешение. Душа отходит в мир иной, а потом возрождается в том же, но обновленном теле.
3.Реинкарнация. Тело умирает, а душа перерождается в абсолютно новом теле или продолжает жить в других, нечеловеческих материальных оболочках.
4.Вечная жизнь. Принципиальное не-умирание.
5.Символическое бессмертие. Физическое тело, а возможно и душа, умирают, но человек продолжает жить в чужой памяти о его персоне, в его творениях, поступках и так далее [98].
Фактически в этих сценариях отражен поиск ответа на вопрос: что же такое человек, как соотносятся его тело и душа и что первостепенно в этой связке? За длительную историю западной цивилизации ответы менялись много раз в зависимости от господствующего в конкретную эпоху философского подхода к человеческой природе [99]. В этой главе мы попробуем разобраться, как именно происходили эти изменения и, главное, что́ под бессмертием понимается сегодня.
Вечная душа в ненужном бренном теле
В Средние века люди верили, что главное в них — это душа, а тело — лишь хрупкая бренная оболочка. Душа представлялась бессмертной, а тело считалось источником первородного греха, пагубных искушений и страстей: чревоугодия, блуда и прочих дурных наклонностей. По определению блаженного Августина. душа считалась «правителем тела». Такой взгляд на человеческую природу диктовал необходимость постоянной заботы о духе через молитву. Телесной же оболочке предназначалось жесткое стращание через пост и даже физическое истязание: по наставлению Феофана Затворника необходимо было «разверзать себя для благодати, как готовый сосуд, полным Богу преданием». Поэтому монахи-аскеты не просто ограничивали себя в пище, но и носили тяжелые железные вериги, а в XIII веке в Европе и вовсе стало популярным движение флагеллантов или так называемых «бичующихся», которые «умерщвляли» собственную плоть специальными кнутами — фактически били себя до крови [100].
Важный момент: мучаться нужно было при жизни. После смерти, по мнению средневекового человека, душа попадала в чистилище, где пребывала до полного очищения от грехов или до самого Cудного дня, проходя все это время процедуры искупления. Они подробно описаны в поэме «Божественная комедия» Данте Алигьери: среди пыток и огонь, и дым, и одиночество. Пока душа находилась в Чистилище, с ней можно было контактировать и ее можно было спасти, то есть способствовать её попаданию в рай. Сделать это можно было не только усиленными молитвами, но и, к примеру, щедрыми подаяниями монастырю [101]. При этом мертвое тело поспешно погребалось на церковном погосте — там ему предстояло дождаться воскрешения. Погосты, к слову, содержались в безобразном состоянии: по ним разгуливал домашний скот, там устраивались городские ярмарки и театральные представления, работали проститутки. Тела хоронили без гробов, в общих могилах [102]: мертвое тело — как, впрочем, и живое, — не заслуживало уважения и каких-то особенных почестей. Причина такого положения дел — эсхатологические ожидания, пронизывающие повседневность средневекового человека. Люди постоянно искали знаки и тайные символы грядущего Апокалипсиса и не были заинтересованы в долговременном планировании своего будущего. Фактически в той картине мира не было четких границ между прошлым и будущим, живыми и мертвыми.
Средневековый человек искренне верил в свое скорое физическое воскрешение во время Судного дня. Воскреснуть ему предстояло в чудом обновленном физическом теле, которое дарует Господь. Предполагалось, что новые тела окажутся бессмертны и физически прекрасны, не будут болеть и стареть, нуждаться в еде, сне и сексе. В этом плане они уподобятся телу Христову: «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет; и когда ты сеешь, ты сеешь не тело будущее, а голое зерно… но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело… Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное» (1 Кор. 15:35–54). Физическое воскрешение обновленных тел — сюжет многих произведений европейской культуры позднего Средневековья и раннего Нового времени. Одно из самых известных — фреска художника Луки Синьорелли «Воскрешение плоти» (1499–1502), в мельчайших подробностях изображающая сцену Страшного суда: вылезающие из земли скелеты облачаются в красивые и стройные тела и устремляют взгляд в небо.
Корни подобного взгляда на бессмертие кроются в средневековой схоластической философии, а она, в свою очередь, — плоть от плоти древнегреческого идеализма, постулирующего: дух первичен, материя вторична. Философ Корлисс Ламонт, подчеркивая противоречивость и непоследовательность многих представлений средневековой церкви о смерти и бессмертии, видит в них попытку соединить дуализм с монизмом [103]. Философ Джанфранко Печчиненда считает подобный взгляд на человеческую природу христианским осмыслением аристотелевской концепции человека, в которой душе отведена бессмертная участь, а телу — лишь временное существование [104].
Рис.18 Лука Синьорелли. «Воскрешение плоти» (1499–1502). Орвието, Кафедральный собор.
Параллельно с представлениями о бессмертной душе и теле, которое воспрянет в Судный день, в Средневековье существовали и альтернативные концепции бессмертия. Например, алхимическая, приверженцы которой искали средство для вечной жизни в одном теле. Однако их практики считались маргинальными и осуждались Церковью.
Тело становится нужным
В раннее Новое время концепция бессмертия меняется. Конечно, христианская идея о воскрешении никуда не уходит, но будущая божественная технология этого процесса начинает вызывать у людей вопросы. Как именно разложившиеся скелеты станут красивыми молодыми телами? А что будет с обезображенными или утраченными останками? Это любопытство возникает под действием трансформаций, происходящих в европейском обществе эпохи Реформации. Секуляризация и рационализация общественной мысли изменили отношение человека к его телу. Накопился опыт наблюдения и диагностики телесных недугов, развивались медицина и прикладное врачевание. В начале XVI века пионер анатомии Андреас Везалий создал трактат «О строении человеческого тела», в котором подробно описал внутренние органы. Можно сказать, что человек Нового времени обрел интерес к своему телу: стал прислушиваться к нему и перестал исступленно укрощать плоть, как это делал человек Средневековья [105].
Становление экспериментально-позитивистского философского подхода, провозгласившего культ наблюдения, постепенно убедило человека Нового времени, что для будущего физического воскрешения необходимо максимально сохранное тело [106]. Как отмечает философ Корлисс Ламонт, писавший о влиянии научно-естественной революции на общество Нового времени, «биология не исключает полностью возможности бессмертия для человеческих личностей, но она настойчиво указывает, что любое бессмертие должно иметь в качестве основы естественные тела» [107]. Распадающееся, гниющее, уродливое мертвое тело отныне вызывало не только отвращение, но и страх и сомнения в возможности обещанного воскрешения.
Всё это повлияло и на отношение к похоронным практикам. Из чисто технической процедуры погребение превратилось в важную часть подготовки человека к будущему воскрешению, и такой подход сохранялся вплоть до начала XX века. Люди параноидально стремились сохранить тело в первозданном виде, потому что оно — основа для будущей вечной жизни. Так, в викторианской Англии могилы оборудовались специальными железными охранными клетками, воровство тел стало серьезным уголовным преступлением, а боязнь анатомического вскрытия стала одним из главных страхов Нового времени [108].
Рис.19 Философский камень долгие столетия занимал умы ведущих алхимиков. Считалось, что тот, кто сможет его создать, станет бессмертным или, по крайней мере, не будет стареть телом и страдать от болезней. На смену средневековым алхимикам пришли современные биохакеры
Желание сохранить тело в первозданном виде — причина, по которой состоятельные европейцы эпохи модерна увлеклись практиками бальзамации, роскошными гробами и семейными склепами. Одержимость нетленностью и целостностью приводила к комичным ситуациям. Так, в 1792 году монахи французского города Шательро пустили слух о чуде на местном капуцинском кладбище. Они выкопали неистлевшее тело человека и стали показывать его на городской площади, сообщая, что сила веры в Бога способна спасти даже от разложения. Обман скоро вскрылся: оказалось, это были человеческие кости, обшитые свиной кожей [109].
Еще одна важная перемена Нового времени — религиозная. В протестантизме чистилище было упразднено, а догмат о спасении души через молитву или подаяния терял актуальность. Это произошло в результате Реформации, благодаря усилиям Мартина Лютера. Согласно новой логике, спастись можно было только праведной жизнью и добрыми делами. Поэтому и общение с мертвыми, и их активное присутствие среди живых постепенно стали ненужными, а вера в возможность контакта с душой после смерти физического тела исчезала. Зато появились новые формы бессмертия, напрямую не связанные с воскрешением тела: например, идея, что продолжать жить вечно можно в своих потомках, учениках, благих делах, творчестве, памяти людей и так далее. Такой ход мысли стал возможным благодаря появлению темпорального восприятия истории: если для средневекового человека времени не существовало и он жил в постоянном ожидании скорого Судного дня, то у человека раннего Нового времени сформировалось представление о связи поколений; каждый человек оказался звеном в бесконечной цепи и вместе с возможностью продолжаться в своих детях обретал бессмертие. Люди стали соотносить себя и с другими, более долговечными, чем одна человеческая жизнь, формациями — например, с национальными сообществами.
Сравнивая Средние века и Новое время, историк Томас Лакер отмечает: если в пространстве средневековых погостов не было места персонализации смерти и адресному горю, то в Новое время каждый мертвый обрел имя, его судьба стала важна и значима [110]. Появилась и начала быстро развиваться похоронная индустрия — с крепкими гробами, бальзамацией и катафалками. Трансформация понимания бессмертия привела к изобретению нового вида кладбища: светского пространства, где существуют семейные захоронения и могилы, на которых написаны имена усопших и даты их смерти.
Бессмертие в XX–XXI веках
Несмотря на достижения науки и социальный прогресс, принципиально новых способов вообразить бессмертие у человечества в новейшее время не появилось — как, впрочем, и идей о том, каким образом это бессмертие можно получить. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, обращусь к вопросу, упомянутому в начале главы: что есть человек и что в нем первично — душа или тело? Современный взгляд на проблему сформировался под воздействием декартовской философии дуализма [111], в которой природа человека рассматривается как симбиоз души и тела с однозначным приоритетом первого над вторым. В таком раскладе физическому телу отводится роль пассивного и иррационального объекта, а сам индивид приравнивается к неосязаемой душе. Картезианский дуализм лег в основу современной клинической медицины и убедил нас в том, что тело — это непослушная машина, которую, однако, можно и нужно приручить с помощью скальпеля, микстур и таблеток, устраняя неполадки и системные ошибки в её работе.
Декартовский взгляд на человека развивался на протяжении 400 лет, но в последние 150 концепция немного изменилась. Идея души, представляющей собой сущность человека (индивида), прошла путь секуляризации, — сегодня в ее существование верит все меньше людей, в особенности среди сторонников естественно-научного подхода [112]. На место души пришел головной мозг [113]. Джанфранко Печчиненда описывает трансформацию так: картезианский человек сменился человеком нейронов или человеком-мозгом.
Впрочем, это никак не помогло человечеству продвинуться в деле поиска бессмертия. Если прежние вопросы о вечной жизни упирались в решение проблемы отделения души от тела и их последующего воссоединения, то когда на месте души оказался мозг, стало ясно, что это ещё более сложный и загадочный объект. Современную иммортальную дилемму можно сформулировать так: человек — это сам мозг как материальный орган или лишь функция мозга (совокупность нейронных связей, которые можно повторить, воспроизвести)? Каждому выбранному ответу соответствует своя концепция бессмертия.
Те, кто полагает, что человек — это его мозг, а значит, индивид неотделим от своей уникальной материальной оболочки, уверены, что для обретения бессмертия необходимо научиться сохранять и поддерживать функции тела, которое, в свою очередь, обеспечит мозг всем необходимым. Это поможет выиграть время и дождаться момента, когда станет возможна трансплантация мозга в новую технологическую оболочку. Такой концепции придерживаются члены общественных движений за отмену старения, биохакеры, фанаты имплантации, трансплантологии, киборгизации и криосохранения. Они уверены: человеческий мозг невоспроизводим, невозможно создать его копию [114].
Во второй парадигме идея мозга сближается со старой идеей души. Человек мыслится как сложный набор уникальных личностных характеристик (жизненного опыта, эмоций, характера, особенностей языка), которые можно записать и сохранить на электронном носителе или даже в цифровых аналогах мозга (Blue Brain Project, The Human Brain Project). Человек в этой парадигме есть его сознание, а сознание — это уникальная для каждого конфигурация языка. Продолжая жить, цифровая копия личности воспроизводится и дополняется с помощью языковых алгоритмов человека, его персональных инструментов познания. Копия при этом ничем не отличается от источника-донора. Фактически речь идет об идее «цифрового бессмертия»: когда каждый человек получит технологическую возможность записи своей личности, тело и мозг будут не нужны [115]. Первым подобные идеи высказал писатель, философ и футуролог Станислав Лем в своей книге «Сумма технологий» (1963 год).
Рассмотрим, как эти два конкурирующих дискурса бессмертия существуют в современном мире.
Борьба за сохранение тела
Идею воскрешения через сохранение физического тела нельзя считать недавним изобретением. Чтобы обрести бессмертие, боги Древней Греции пили амброзию, древнеиндийские — амриту, древнеиранские — хаому, древнеегипетские — воду бессмертия. Обычные же люди древних цивилизаций, пытаясь уподобиться богам, лишь безуспешно вычисляли формулы чудодейственных напитков. Позже средневековые алхимики трудились над созданием философского камня и синтезировали эликсир бессмертия из подручных реагентов, сутками выпаривая металлы и минералы в лабораторных котелках. По легенде, известному французскому алхимику Николя Фламелю в итоге удалось получить философский камень — говорили, что их с женой видели через столетие после официальных смертей. Также бессмертие якобы мог принести Святой Грааль, поисками которого занимались крестоносцы. Источник вечной молодости искали и испанские конкистадоры в жарких землях далекой Америки — а в итоге открыли штат Флорида. Легендами об источнике молодости были увлечены европейские феодалы и дворяне. На одноименной картине Лукаса Кранаха Старшего (1546) изображен водоем с фонтаном, в котором купаются несколько десятков старух. На берегу застолью и танцам предаются уже прошедшие водную процедуру помолодевшие красавицы [116].
Идея победить смерть через сохранение тела сыграла мощную роль в XX веке благодаря медицине. Тут можно выделить несколько трендов.
Трансплантология и киборгизация
На этом поле особенно преуспели отечественные медики; среди героев советского иммортализма — основатель реаниматологии Владимир Неговский. Он первым в мире предложил разделять клиническую и биологическую смерти, то есть фактически стал «оживлять» людей, которых раньше бы сочли мертвыми, потому что у них остановилось дыхание или сердцебиение.
Идеи советского бессмертия развивал и Сергей Брюхоненко. Работая с Владимиром Неговским в институте переливания крови имени Александра Богданова, он в 1926 году создал первый в мире аппарат искусственного кровообращения — автожектор. А в 1936 году Брюхоненко разработал пузырьковый оксигенатор («искусственные лёгкие») и запатентовал его. Третье имя в этом списке — Владимир Демихов. В 1937 году он, будучи студентом-третьекурсником медицинского университета, сконструировал и собственными руками изготовил первый в мире искусственный сердечный клапан и установил его собаке, которая прожила с ним еще два часа. В 1946 году Демихов впервые в мире успешно пересадил собаке сердце, а вскоре смог полностью заменить сердечно-лёгочный комплекс (правда, собаки все равно умирали в течение следующих суток). Его работы стали мировой сенсацией. Через два года Демихов начал подготовительные эксперименты по пересадке печени, а ещё через несколько лет впервые в мире заменил сердце собаки на донорское. Всё это давало надежду, что такие же операции можно будет проводить на людях. В 1960 году Демихов выпустил книгу «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте», которая стала первой в мире монографией по трансплантологии. Советский тренд на трансплантологию органов вырос из концепции биокосмизма и веры в возможность воскрешения. Про Сергея Брюхоненко и Владимира Неговского советский популяризатор науки Лев Фридланд в 1948 году написал книгу «Эликсир жизни», но тираж по каким-то причинам был уничтожен до поступления в продажу. Зато книгу успели перевести на эстонский язык и издать под названием «Продление жизни» в 1948 году в Таллине.
Трансплантология оказала сильное влияние на идеи киборгизации человека, согласно которой человеческое тело или его отдельные органы в будущем заменят на искусственные аналоги, а возможно и вовсе срастят организм с компьютером. Термин «киборг» появился в 1960 году, когда два дизайнера медицинского оборудования, Манфред Клайнс и Натан Клин, опубликовали статью «Киборги и космос», посвященную внешнему виду человека в покоряемом космическом пространстве. В том же году статью перепечатал советский журнал «Астронавтика». С этого момента идея киборгов прочла вошла не только в популярную культуру, но и в прикладные технологические и медицинские проекты.
Сегодня практически все человеческие органы имеют механический аналог, и все, кроме мозга, врачи научились успешно пересаживать. Конечности человека можно заменить технологическими аналогами, а некоторые протезы уже вовсю печатают на 3D-принтерах. Постепенно учёные учатся воспроизводить всё новые и другие органы человека: в 2017 году 33-летний художник Неил Харбиссон, страдающей врожденной ахроматопсией (неспособностью различать цвета), получил наконец-то возможность увидеть мир в цвете: с помощью специального шлема, передающего в его мозг импульсы. Это шлем помогает считывать вибрации и тепло от отдельных предметов и преобразовывать их в определенные сигналы в мозг. Прикладная киборгизация и вовсе уже совсем близко: ежедневно мы делегируем технически устройствам различные функции контроля за нашим телом — пульс, количество шагов и калорийность съеденного.
Исследования и эксперименты в области трансплантологии и киборгизации продолжаются, и не только на конечностях, но и на всем теле. Например, русско-американский программист Валерий Спиридонов на протяжении почти десятилетия ждал операции по пересадке головы на донорское тело. Её должен был провести итальянский хирург Серджо Канаверо. В 2018 году Спиридонов заявил, что отказывается от авантюрной идеи, так как не верит в счастливый исход. В итоге пациентом доктора Канаверо станет неизвестный китаец. Операция намечена на 2021 год. Если такая операция будет успешна, это значит, что потенциально возможна пересадка отдельного мозга на технологическое тело, буквально, как в фильме «Робокоп», где мозг бывшего полицейского Алекса Мерфи был пересажен на высокотехнологичную роботизированную оболочку. Популярный философ Славой Жижек считает, что фильм «Робокоп» имеет мощный философский подтекст и ставит вопрос о пролегании границ человека.
Показательно, что сама идея киборгизации как составная часть веры в бессмертие, а также более популярного западного «движения за осознание смерти» (death awareness movement) [117], вписывается в политическую дискуссию. В представлении большинства популяризаторов этой концепции, киборги меньше зависят от власти тела, гендера, подчинения [118]. При этом тело в этой картине будущего выглядит традиционно: все те же две руки и две ноги. Хотя, вероятно, человек, улучшенный дополнительными конечностями, мог бы быть более эффективным.
Сценарий спасения человеческого тела ради обретения бессмертия актуален и сегодня, не только для профессиональных медиков. Философский камень и прочие магические источники молодости заменили косметологические процедуры: подтяжки, инъекции, попытки напитать кожу кислотами и витаминами. Чудодейственным спасением тела стали чистки: от шлаков, грязной крови и даже глистов, которые якобы есть почти у всех и мешают организму полноценно жить [119]. Тут на смену средневековым знахарям пришли другие магические специалисты, которые предлагают освободить организм, а иногда и энергетическое или биополе, от всего лишнего. Вместе с эстетической медициной, правильным питанием и увлечением спортом идея победы над старением и, как следствие, смертью лежит в основе популярного увлечения биохакингом. Его суть в контроле над функциями (и дисфункциями) организма с помощью привычек, препаратов, режима питания и сна и других внешних стимулов. Один из самых ярких адептов биохакинга — молодой бизнесмен и стартапер Сергей Фаге, основатель сервиса бронирования отелей «Островок» и десятка других технологичных компаний. Он ведет онлайн-дневник и активно рассказывает о своем опыте. По собственным признаниям, Сергей потратил уже более 200 тысяч долларов на различные тесты, анализы и подбор индивидуальных лекарств. При этом он подчеркивает, что его цель — не жить вечно, а «точечно управлять своей биохимией, чтобы повышать те физические и ментальные состояния, которые мне полезны». Социолог Зигмунт Бауман описывает подобные поиски бессмертия так: «Забота о себе, напрямую связанная с группой забот „о выживании“, оказывается на самом деле заботой о здоровье — намерением и практиками увеличения длительности человеческой жизни при помощи последовательного предотвращения или борьбы со всеми состояниями, на которые ссылаются те, кто заполняет графу „причина смерти“ в свидетельстве о смерти» [120].
Рис.20 Джосиа Зайнер — один из самых известных биохакеров, глава стартапа Odin. В 2019 году собирался продавать наборы для домашней лаборатории: по его словам, они могли бы создавать эффективные сыворотки для борьбы со старением тела
В основе биохакинга — не только желание сделать свое тело бессмертным, но и глубокая мифологическая вера в то, что особые манипуляции с телом или какие-либо объекты, интегрируемые в него, могут сделать его принципиально иным, отличным от других тел [121]. Подобно нашим далеким предкам, поедающим тела врагов, чтобы обрести их силу, ловкость и смелость, мы глотаем чудодейственные ягоды годжи, пьем таблетки для контроля над гормонами и задумываемся о том, чтобы встроить в свое тело механическую руку или ногу, которые сделают нас сильнее и быстрее [122]. Между практиками ритуального каннибализма и современным биохакингом минимум различий: для аборигена самый быстрый и простой способ интегрировать что-то чудодейственное в свое тело — оральное поглощение; современный же человек дополняет его операциями и инъекциями. Так, бывший сотрудник НАСА и глава стартапа Odin Джосиа Зайнер несколько лет назад заявил, что сделал себе инъекцию, которая должна встроить в его ДНК «ген суперсилы». К сожалению, более точной информации о том, что это за ген, у нас нет, зато известно, что этого он пытался вживить себе ген медузы, чтобы его тело светилось зеленым в темноте. Эффекта Джосиа не добился, но и хуже не стало: по итогам своих опытов биохакер заявил, что подобные инъекции безопасны.
Отмена старения
Некоторые биохакеры предлагают и вовсе «отменить» старение путем медицинских вмешательств в гены человека. Российский бизнесмен и общественный деятель Михаил Батин в 2008 году основал и возглавил фонд «Наука ради продления жизни». Согласно взглядам Михаила и его сторонников, победить старение можно с помощью стволовых клеток, генетических анализов и основанных на их результатах индивидуальных диет с биодобавками, а также замены органов. Концепция бессмертия, достигаемого путем отмены старения, — политический манифест лучшей, то есть справедливой и счастливой, жизни человека, в которой нет места старости. Вот как Михаил Батин отвечает на вопрос, хотят ли все люди быть бессмертными: «Людей интересует не столько вопрос „сколько жить“, а, скорее, „как жить“. <…> Смысл как раз в том и состоит, чтобы человек смог максимально продлить активную фазу своей жизни, радоваться жизни в любом возрасте, оставаясь активным и деятельным членом социума. Мы хотим помочь людям не затягивать старость, а продлевать молодость» [123].
Так или иначе, способ стать бессмертным или хотя бы сделать свое тело менее восприимчивым к старению до сих пор не изобретен. Но научные оптимисты уже сегодня завещают замораживать свои тела вместе с мозгом — либо же только мозг — с помощью технологии крионики, чтобы, когда наука шагнет вперед, их смогли оживить. Первым предположение о том, что экстремальная заморозка может сохранять организм на долгие годы, высказал Роберт Этингер в книге «Вперед к бессмертию» (1964). Сегодня пациентами крионических клиник являются тысячи людей по всему миру. Одна только российская компания «КриоРус» заявляет, что в ее криохранилищах находятся 73 человека.
Цифровое бессмертие
В 1990 году на экраны вышел боевик «Вспомнить все» режиссера Пола Верховена. В главной роли — Арнольд Шварценеггер. В фильме, снятом по мотивам рассказа классика научной фантастики Филипа Киндреда Дика «Мы вам все припомним» [124], показано, как строитель Дуглас Куэйд обращается в компанию «Реколл, Инк.» (от англ. recall — «воспоминание») и вживляет себе фиктивные воспоминания о полете на Марс. Во время процедуры с Куэйдом случился приступ гнева, перешедший в помешательство. Куэйд вдруг понял, что в «прошлой жизни» действительно был на Марсе в качестве секретного агента по имени Карл Хаузер, но кто-то стер ему память о том времени. Осознав себя Карлом, герой Шварценеггера развязывает войну против могущественного мэра-колонизатора Вилоса Коухэгена, который монополизировал систему снабжения воздухом на Марсе. В одной из ключевых сцен фильма он сталкивается с проблемой: выясняется, что его личность привязана к вымышленным воспоминаниям, которые легко контролируются и переписываются. Реальность личности и воспоминаний Хаузера-Куэйда размывается. Кто же он на самом деле?
Рис.21 Генри Маркрам — руководитель проекта Blue Brain Project. Цель проекта — понять, как устроен и работает человеческий мозг, через его постепенное моделирование. Однако Маркрама считают не просто амбициозным теоретиком, но и потенциальным создателем цифрового бессмертия
Ответ, который предлагает фильм: человек есть его память, то есть совокупность впечатлений, переживаний и событий. Такой взгляд предполагает, что мозг каждого индивида — что-то вроде сложного процессора с индивидуальной настройкой. Если это так, обрести бессмертие можно, с одной стороны, через конструирование и создание искусственного автономного мозга, а с другой — через запись уникального опыта каждого человека на такой носитель и последующее воспроизведение информации. Всё это укладывается в концепцию современного иммортализма как попытки создать цифровую личность.
Один из самых амбициозных проектов в этой области — Blue Brain Project. Его цель — компьютерное моделирование головного мозга человека. В июле 2005 года проект запустили компания IBM и Швейцарский федеральный технический институт Лозанны (École Polytechnique Fédérale de Lausanne). Ученые полагают, что проект позволит изучить особенности работы отдельных участков мозга, познать его как паззл, поэтапно перенося изученные данные в цифровую среду. Хотя проект не ставит целью создать полноценную копию человеческого мозга (исследователи честно признаются, что пока не знают, что такое сознание и как оно работает) [125], с ним связывают большие исследовательские надежды.
Ещё один не менее амбициозный проект по цифровизации человека представляет Дмитрий Ицков, основатель фонда и движения «2045». Цель институции — к означенному сроку создать цифровой и биологический клоны человека. Взгляды Ицкова на человека типичны для современных имморталистов: он считает, что личность закована в постоянно стареющее, немощное и страдающее физическое тело, и всё, что нужно нашему виду, — скорее избавиться от предательской оболочки. Чтобы это произошло, работать нужно в двух направлениях: создавать возможности для жизни без тела, а также понять, как перенести «содержание» мозга на цифровые носители. Начать Ицков планирует с изобретения цифрового тела, а уже потом — насыщать его «духом», то есть оцифрованной личностью донора.
Концепция цифрового бессмертия содержит множество онтологических парадоксов и потому часто подвергается критике. Противоречий действительно хватает: если нам удастся создать точную копию личности, смогут ли несколько копий существовать одновременно? Является ли подобное цифровое бессмертие полноценным «переносом» личности или это всего лишь «копирование»? Будет ли копия отличаться от оригинала? Как опыт переноса скажется на личности? Приведет ли смерть материальной оболочки оригинала к «кризису личности» копии? Устойчива ли копия? Если кто-то утратит свою копию, испытает ли он негативные эмоции, будет ли этот опыт травматичным? Возможно ли существование человека без чувственного телесного опыта? [126]
Согласно точке зрения американского философа Корлисса Ламонта, личность человека нельзя отделить от тела с функциями вроде дыхания и пищеварения. Личность, по его мнению, — это качество тела, а не что-то самостоятельное. Американский философ Томас Нагель в 1974 году в знаменитой статье «Что значит быть летучей мышью?» писал: «Сознание — вот что делает проблему души и тела практически неразрешимой… Без сознания проблема души и тела была бы гораздо менее интересной. С сознанием эта проблема кажется безнадежной». И дело не только в соотношении сознания с телом как физической оболочкой; всё, что мы считаем человеческой жизнью в её культурном, социальном и политическом многообразии, — это прежде всего телесный опыт. Это опыт получения удовольствия и боли, эксперименты с ощущениями, переживания от еды, секса, тренировок, путешествий. И если человек теряет возможность проживать телесную жизнь, сама концепция жизни неизбежно рушится. Этой же точки зрения придерживается и молодой российский философ Максим Воробьев. «Жизнь — не в физиологическом, а в феноменологическом смысле — как последовательность всех ощущений, чувств, мыслей и действий, совершаемых конкретным индивидом, появившимся на свет в определенном месте в определенный момент времени — предполагает телесность субъекта для приписывания этого опыта себе, а не кому-либо другому. Более того, такое качество опыта, как преемственность, также предполагает, что сознающее существо является телесным существом. Если учесть это, то смерть тела даже при сохранении сознания означает смерть личности. А ведь именно на сохранение личности мы чаще всего надеемся, когда пытаемся доказать бессмертие души» [127].
В философии соотношение цифрового тела и оригинала еще в античности описывалось «парадоксом Тесея». Согласно греческому мифу, корабль, на котором Тесей вернулся с Крита в Афины, ежегодно ходил со священным посольством на Делос. Его регулярно чинили, постепенно меняя доски, и в какой-то момент среди философов возник спор: тот ли это легендарный корабль, или уже другой, новый? А если бы старый корабль разобрали на доски и из них построили копию, можно было бы считать ее оригиналом? Похожими вопросами задавались и философы XVIII века. Так, основатель Шотландской школы здравого смысла Томас Рид в 1775 году писал члену-основателю Эдинбургского философского общества лорду Кеймсу: «Я был бы рад узнать мнение вашего сиятельства относительно следующего: когда мой мозг утратит свою первоначальную структуру и когда, сотни лет спустя, из подобного же материала удивительным способом будет создано разумное существо, смогу ли я считать его собой? Или если два или три подобных существа будут созданы из моего мозга, то могу ли я полагать, что они — это я и, следовательно, одно и то же разумное существо?» Еще один вопрос, вытекающий из описанного парадокса: с какого момента человек считается личностью? И как мы можем полноценно передать уникальность конкретного человека?
Так или иначе, идея цифрового бессмертия личности кажется куда более футуристической, чем идея киборгизации тела и совершенствования физиологической оболочки путем биохакинга и победы над старением. Впрочем, пока обе парадигмы — источники этических и онтологических вопросов, а не практических решений.
Будущее бессмертия
Несмотря на упорные попытки человечества открыть секрет бессмертия, очевидно, что представления о конечности бытия позволяют конституировать социальный порядок. В рассказе аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса «Бессмертный» (1970) демонстрируется жизнь города бессмертных. Главный герой сталкивается на улице с давно умершим Гомером, беседует с ним и понимает, что жизнь без конечной точки есть бесконечное повторение одного и того же, лишенное уникальности и очарования. Потенциальное открытие способа жить вечно способно разрушить человеческую цивилизацию. Как будут наказывать бессмертных преступников, если перспектива провести в тюрьме несколько лет жизни перестанет пугать? Что будет с институтом семьи и брака, с налоговой системой и медициной? Как будет ставить цели человек, живущий вечно? Решит ли потенциальное бессмертие социальные проблемы человечества вроде бедности и насилия? Социальные и экономические последствия старения населения планеты заметны уже сегодня: например, американская программа медицинского страхования Medicare не справляется с нагрузкой, потому что обращающихся за помощью стариков становится все больше.
Все имморталисты исходят из того, что смерть — это зло, а бессмертие — безусловное благо; смертные люди убивают и грабят, а бессмертные живут счастливо и наслаждаются жизнью. Это глубоко христианский взгляд на мир, отсылающий нас к мифическому золотому веку до первородного греха, когда безгрешные люди были бессмертны и счастливы. Но как всё будет выглядеть вне библейских реалий? Вероятную картину будущего рисует сериал «Видоизмененный углерод» по одноименной книге Ричарда Моргана. Действие происходит в XXVII веке. Сознания людей хранятся на специальных носителях и загружаются в искусственные тела при необходимости. Технологией владеет особый класс богатых долгожителей, которые регулируют доступ к бессмертию. Смерть в этом мире остается товаром и инструментом социального разделения, овладение технологией бессмертия не сделало людей счастливее и не помогло человечеству создать рай на Земле.
Антиутопий, авторы которых размышляют о «будущем бессмертия», сотни. И во всех вечная жизнь не решает социальных проблемы, но усугубляет их — я не знаю ни одного нерелигиозного произведения о счастливом будущем человечества, победившего смерть. Робкие попытки конструирования благополучного «общества без смерти» предпринимались разве что отдельными советскими мыслителями — например, Георгием Гуревичем в его сборнике рассказов «Мы из Солнечной системы» (1965). Впрочем, они не выглядят убедительно: в них за аксиому принимается желание и способность человечества переродиться, избавившись от страха смерти. Но хотели бы бессмертия лично вы?
Глава V Смерть в поп-культуре
В десятку самых популярных телесериалов нулевых и десятых входят несколько произведений, построенных вокруг тем насилия и смерти и реалистичного изображения мертвого тела. Среди них «Декстер» — сериал о тайной жизни молодого судебного медэксперта, который в свободное от работы время убивает людей, — и «Ходячие мертвецы» о постапокалиптическом мире, в котором группа людей пытается выжить и не попасться блуждающим по Земле стадам зомби. Также в топе «Игра престолов», «Американская история ужасов», «S.C.I.: Место преступления» и «Настоящий детектив». В дополнение к этому списку можно вспомнить еще с десяток популярных книг и фильмов о смерти: «Молчание ягнят», «Кошмар на улице Вязов», «Сумерки» и даже детскую сагу о волшебниках «Гарри Поттер». В России это «Дозоры» Лукьяненко, всевозможные фильмы про военные подвиги и фантастически популярные криминальные сериалы от «Улицы разбитых фонарей» до «Метода». По мнению американского антрополога Майкла Керла, среднестатистический телезритель видит в год порядка 16 тысяч смертей [128].
Мы можем смело говорить о существовании огромной культурной индустрии смерти в современном мире. Среди ее продуктов — музыка, видеоигры, фильмы, комиксы, одежда с изображением черепов и костей, игрушечные фигурки серийных убийц, парки с хоррор-аттракционами [129] и многое другое. Современная поп-культура активно использует образ смерти, причем зачастую не в метафорической, а в довольно натуралистичной форме.
Задаваться вопросом «Почему тема смерти так популярна?» было бы наивно. Смерть — как и секс — всегда привлекала и, очевидно, еще долго будет привлекать внимание публики, эксплуатируя базовые страхи и желания человека [130]. Я бы сформулировал вопрос иначе: как именно и почему именно так смерть изображается в современной массовой культуре? Какие идеи и представления о человеке и окружающей его действительности ложатся в основу фильмов о зомби и вампирах, музыкальных направлений вроде death metal? Почему люди, которые, как считается, в массе своей боятся смерти, расслабляются после работы за очередным сериалом, в котором максимально детально показаны трупы и сцены жестоких убийств?
В этой главе я рассмотрю три разнородных поп-культурных феномена, репрезентация которых основана на смерти: зомби-фильмы, музыкальная субкультура блэк-метала и образы серийных убийц в кино и сериалах. Я выбрал их не случайно: мне представляется, что все это — критический ответ культуры на изменения, произошедшие с человечеством за последние сто лет.
Black metal: сатанизм как новый романтизм
В ночь с 10 на 11 августа 1993 года в Осло было совершено жестокое преступление: музыканта по прозвищу Евронимус убили двумя десятками ножевых ударов. Евронимус был участником блэк-метал группы Mayhem, а его убийцей оказался коллега по цеху — Варг Викернес, основатель другой блэк-метал команды Burzum. Мотивы преступления до сих пор ясны не до конца: многие полагают, что оно стало трагическим результатом идеологических разногласий между музыкантами и борьбы за лидерство на норвежской блэк-метал сцене. Викернес утверждает, что это была самооборона: якобы Евронимус первым попытался его убить, и большинство ранений получил, неаккуратно упав на разбитое стекло.
Убийство сделало обе группы и весь норвежский блэк-метал культовыми, стало апофеозом развития этой сцены. Преступлению предшествовали несколько лет, на протяжении которых представители направления регулярно шокировали публику эксцентричными выходками. Они то гуляли по улицам с лицами, раскрашенными пугающим черно-белым гримом, то сжигали старые христианские храмы (с 1992 по 1996 год в Норвегии было зафиксировано более 50 поджогов), то выносили на сцену мертвые туши животных в качестве реквизита. За два года до убийства Евронимуса вокалист Mayhem по кличке Дэд покончил собой, выстрелив в рот из ружья, а фотография его мертвого тела стала впоследствии обложкой одного из альбомов группы. В целом, то, что Варг убил Евронимуса, почти никого не удивило — это выглядело логичным исходом событий [131].
Вся эта история могла остаться лишь локальной криминальной драмой, известной в узких кругах. Однако за прошедшие с преступления 30 лет интерес к блэк-металу не только не пропал, но и вышел за пределы Норвегии, породив всемирную индустрию: десятки музыкальных групп, сотни тысяч фанатов. Исполнители и их выступления продолжают продуцировать скандалы, а кое-где люди и вовсе пытаются ограничить развитие этого музыкального направления. Например, в 2011 году правительство Малайзии запретило блэк-метал на всей территории страны, а в 2015 году российские православные активисты сорвали несколько выступлений польской группы Batushka. Множество заявлений в прокуратуру РФ с требованием запретить блэк-метал-концерты написал Дмитрий Энтео (в прошлом — скандальный православный активист). Свою деятельность он комментирует так: «Проблема — не в мрачной эстетике, которая присуща многим направлениям, а в тех случаях, когда люди делают себе имя на сознательном хулении Бога. Человек может слушать любую музыку, но если кто-то открыто и систематически хулит Бога и Христа, призывает жечь церкви, священников, использует казенную Библию как атрибут своего шоу, — это те случаи, когда их свобода задевает нашу свободу и провоцирует общественный конфликт».
Почему же эстетика блэк-метала, которая строится на сатанизме, крови и смерти, так притягательна? И что ее привлекательность может рассказать нам о современности?
Рис.22 Благодаря скандинавскому блэк-метаду корпспейнт — отличительная черта «экстремальной музыки». К концу 2010-х он вышел за пределы жанра — так могут выглядеть даже поп-звезды. На фото: Павел Фес из пост-блэк-метал группы «Последний завет»
Идеологическое ядро субкультуры — яркая антихристианская позиция, которая выражается во всех символах движения: перевернутом кресте, звезде Бафомета и изображениях козла (всё это — популяризированные французским оккультистом Леви Элифасом символы сатаны). Может показаться, что поклонники блэк-метала действительно верят в сатану, но это не так. Образ рогатого князя для них — символ антагонизма ненавистному христианскому образу мира [132]. Для подавляющего числа сторонников блэк-метала христианство — первопричина «заката Европы» и ее морального падения (а именно так современное положение дел оценивают поклонники жанра). Блэк-метал выступает против социальной политики мультикультурализма, толерантности и всеобщих прав человека, свободной миграции, а главное — против потери культурной и национальной идентичности. То есть образ сатаны — не то, что привлекает представителей субкультуры, а то, что раздражает их врагов, позволяет выразить свое несогласие с общепринятой позицией.
Сатанизм — хоть и канонический, но не единственный вариант антагонизма христианству и европейским ценностям. Из чувства протеста представители блэк-метала также обращаются к язычеству и к художественным образам зла — например, из вселенной «Властелина колец» [133]. Так, группа, в которой играл убийца Евронимуса, называется Burzum, что переводится как «тьма» с мордорского наречия. Сам Викернес на раннем этапе творчества называл себя Граф Гришнак — так в книге звали легендарного командира орков. А название другой популярной блэк-метал команды «Горгорот» (Gorgoroth) отсылает нас к одноименному горному плато в Мордоре, покрытому вулканическим пеплом.
Блэк-метал, таким образом, невозможен вне европейского культурного и символического ландшафта. Ведьмы, сатанизм и фашистские символы на сцене, в текстах песен и на обложках альбомов — образы, которые не являются самостоятельными и герметичными, а нужны для противопоставления конкретным ценностям. При этом представления об упадке цивилизации и эсхатологические мотивы можно найти в любой культуре, поэтому у блэк-метала множество локальных разновидностей по всему миру. Везде исполнители работают с местным контекстом: например, мексиканские группы (Calvarium Funestus, Nox Mortar, Ocularis Infernum) поют об ацтеках и ностальгируют по великому прошлому индейской культуры, греческие (Bacchia Neraida) — по Зевсу, Олимпу и борьбе мифических героев. Российские и украинские группы (Nokturnal Mortum, «ЧерноявЬ», «Сивый Яр») отсылают к славянской и языческой эстетике: к примеру, команда «Сивый Яр» использует в композициях сэмплы фольклорных записей поминальных плачей и патриотические стихи Сергея Есенина.
Вокруг радикального отрицания общеевропейских ценностей выстраивается и остальная символическая репрезентация блэк-метал-сцены. Например, если для христианина человеческое тело свято как вместилище души, то для блэк-металиста оно — всего лишь бессмысленная биологическая масса, не заслуживающая уважения. Осквернить его можно, не только обнажив или продемонстрировав биологические процессы вроде дефекации, но и расчленив, то есть прибегнув к самой радикальной с точки зрения христианства практике десакрализации. Поэтому обложки музыкальных альбомов пестрят растерзанными телами, а сценический грим делает исполнителей похожими на трупы. Ужасающая натуралистичность присутствует во всём блэк-метале: тот же вокалист Mayhem, Дэд, во время одного из туров подобрал на улице дохлого ворона и засунул его в пакет, а потом нюхал перед каждым выступлением, чтобы петь «со зловонием смерти в ноздрях». Чтобы еще больше походить на покойника, Дэд закапывал свою одежду за несколько недель до концерта, а откапывал только в ночь выступления; однажды он даже попросил закопать его самого — чтобы кожа выглядела бледнее. Группа «Горгорот» во время концерта в Кракове в 2004 году выставила на сцену овечьи головы, насаженные на колья, и «декорировала» площадку кровью и сатанинской символикой. На заднем плане стояли кресты с четырьмя обнаженными распятыми моделями. В какой-то момент одна потеряла сознание — пришлось вызвать скорую помощь.
Итак, смерть в блэк-метале — не то, что привлекательно само по себе, а структурный элемент антихристианского взгляда на мир. Публичные же проявления некрофилии, которые тоже становятся частью выступлений артистов, по мнению философов Жиля Делёза и Феликса Гваттари, свидетельствуют скорее о протестной составляющей высказывания и его революционности, чем о какой-то патологической любви к самой смерти [134]. Иисус победил смерть и обещал даровать людям вечную жизнь. Блэк-метал обещает только разложение, гниение и распад. По мнению представителей сцены, смерть — это боль, унижение и страдание, и в ней нет никакого очищения и искупления [135]. Именно поэтому христианское восхищение смертью как новой жизнью вызывает у поклонников блэк-метала отторжение и насмешку. В этом смысле данная субкультура эсхатологична по отношению не только к европейскому миру, но и к самой природе человека. Человек смертен, конечен и никакого мифологического воскресения ждать не стоит [136]. Неслучайно одна из самых популярных песен немецкого блэк-метал-коллектива Darkened Nocturn Slaughtercult называется «The dead hate the living» («Мертвые ненавидят живых»). В припеве поется: «Жизнь — это иллюзия, и только смерть реальна. Мертвые ненавидят живых!» Если христианская Европа так цинично восхваляет жизнь и противится смерти, то мы будем петь гимн смерти, говорят музыканты.
Еще один мотив блэк-метала — эстетизация мрачной северной природы, выраженная в идее опрощения (бегства от цивилизации) и ярого антиглобализма. Артисты полагают, что современная Европа не просто стремится к погибели, ведомая лживым христианством, но и сама активно уничтожает себя через индустриализацию, урбанизацию и технологизацию. Естественным ответом на это становится бегство от городской жизни в деревни и леса. Поэтому на обложках блэк-метал-групп часто встречаются изображения северных болот, лесов, полей и рек. В той же эстетике работают идеологически близкие блэк-металу художники. Среди них — норвежский фотограф Торбьорн Родланд, создавший серию работ «В норвежском ландшафте» [137], или фотограф Эрик Смит, снимающий мрачные урбанистические пейзажи [138]. Любопытно, что экологические мотивы возникают и у многочисленных адептов осознанного отношения к смерти (например, у участников так называемого death awareness movement, о котором подробнее будет сказано в последней главе этой книги). Это подтверждает гипотезу о том, что образы смерти становятся инструментом критики современного общества потребления.
В целом блэк-метал подпитывается из трех темпоральных измерений. Первое — презрение к европейскому прошлому, к так называемой культуре памяти, в рамках которой европейцы болезненно и долго перерабатывали опыты войны, концлагерей, фашизма. Блэк-метал не просто отрицает такой подход, но и эксплуатирует самые болезненные исторические факты и образы: нацистский строй, концлагеря, геноцид и массовые убийства в их лирике предстают предметом восхищения. Так, в марте 2007 года во время концерта в немецком Эссене вокалист норвежской группы Taake Хёст вышел на сцену с нарисованной на груди свастикой, а потом плевался со сцены и бросал в публику пивные бутылки. Все последующие выступления Taake в Германии были отменены. Считается, что группа задумала этот ход исключительно для «шокового воздействия» на публику, а не из-за симпатий к идеологии Гитлера. Вторая темпоральность — уродливое, «мертворожденное» настоящее. По мнению адептов субкультуры, богатая бюргерская Европа, открывшая ворота миллионам мигрантов, уничтожает сама себя, а ускоряют процесс самоубийства индустриализация, урбанизация и технологизация повседневной жизни. Антитезой индустриальному христианскому миру становится образ природы — отсюда меланхоличная эстетика северных просторов на обложках альбомов. Третий темпоральный пласт, запускающий ненависть к европейским ценностям, — эсхатологическое ожидание беспросветного будущего [139]. Сатанизм в блэк-метале — не путь к спасению и не альтернатива, но признание поражения человечества; вся эта музыка является эстетизацией разложения и падения.
Отдельного внимания заслуживает и исполнительский стиль блэк-метал-музыкантов. Звучание у таких команд нарочито грязное, темп композиций — быстрый. Как и в панке, тут ценится нарочито непрофессиональное исполнение, а музыка не воспринимается как род профессиональной деятельности или вид искусства. Это прежде всего способ выражения протеста, следовательно, играть может кто угодно и как угодно. Чем грязнее звук — тем ярче протест; главная цель композиций — раздражать, вызывать у аудитории эмоции, поэтому можно сказать, что блэк-метал запечатлел трансформации в мышлении и отношении к современности, но не в музыке. «Black Metal ist Krieg!» («Блэк-метал — это война!») — так называется второй альбом группы Nargaroth.
Как и мрачный романтизм начала XIX века, который диалектически сменил эпоху Просвещения и стал критическим ответом на промышленную революцию, урбанизацию и рост значения технологий, современный блэк-метал использует образы, противоестественные для прогрессистской европейской культуры. Романтизм восторгался не испорченным цивилизацией «благородным дикарем», вооруженным «народной мудростью»; просвещению, увлеченному всем новым и прогрессивным, он противопоставляет традицию в музыке, литературе и повседневной жизни (в ту эпоху стали популярными альпинизм и пикники на природе). Писатели эпохи романтизма исследовали темные и натуралистичные сферы: Эдгар По — болезни и смерть, Виктор Гюго — любовь, уродство и смерть. Композиторы-романтики обращались к народным мотивам (баллады и эпосы Франца Шуберта, Фредерика Шопена, Эдварда Грига). Также авторы восхищались падшими ангелами и образами смерти: можно вспомнить «Ангела смерти» Михаила Лермонтова или «Демона» Михаила Врубеля. Возможно, даже сам лорд Байрон, великий романтик и бунтарь, родись он сегодня, стал бы именно блэк-металлистом. Или, по крайней мере, с уважением относился бы к этому феномену.
Итак, блэк-метал — пример того, как музыкальный стиль стал воплощением мощного и символически наполненного социального протеста, а образы, связанные со смертью, — его главным инструментом.
Серийные убийцы
В последние полвека серийные убийцы стали полноценными героями массовой культуры [140]. Даже те, кто никогда не любил триллеры и хорроры, знакомы с главными элементами образов маньяков из кино: скрывающая лицо хоккейная маска, потрепанный джинсовый комбинезон, бензопила и старый домик на берегу озера как тайное логово. Про таких героев — вымышленных и существовавших в реальности — не только снимают фильмы, но и рисуют комиксы, сочиняют песни, записывают подкасты; их образы становятся прототипами детских игрушек, а в магазинах костюмов можно купить маски Джейсона Вурхиза из фильма «Пятница, 13-е» или убийцы из триллера «Крик». А еще настоящие убийцы и мертвые тела их жертв становятся продуктами потребления [141]. Существует несколько специализированных интернет-аукционов (например, Murder Auction, Serial Killers Ink и Supernaught), ориентированных на коллекционеров подлинных предметов, принадлежавших убийцам. На Западе такое хобби называется murderabilia [142].
Как вышло, что в последние десятилетия душители и потрошители стали так популярны? Сразу отброшу самое банальное объяснение, согласно которому создатели хорроров просто коммерциализируют базовые человеческие страхи. Я исхожу из того, что образ человека, убивающего, а зачастую еще и насилующего или поедающего останки незнакомых людей без внятной логики и мотивации, — это явление современности, а значит, оно отражает культурные и социально-политические трансформации [143].
Начнем с того, что убийство не всегда воспринималось как резко осуждаемое антисоциальное деяние, абсолютное и недопустимое зло. Люди убивали друг друга на протяжении всей истории, но лишь в последние полтора столетия убийство перекочевало из разряда нежелательных, но допустимых практик в чрезвычайные происшествия. Долгое время многие виды убийств оставались безнаказанными или вовсе оправдывались — если не законом, то хотя бы обществом. К ним относилась кровная месть в традиционных обществах или дуэли между двумя представителями аристократии в Новое время. Еще пару веков назад убийцу могли оправдать, если его жертва имела «неправильный» цвет кожи или «не тот» социальный статус — проще говоря, не считалась человеком в полной мере. Но на протяжении истории список социальных групп, представителей которых нельзя убивать, постоянно расширялся. О том, что неприятие насилия стало новой ценностью, говорит и постепенное исчезновение смертной казни. Человечество отходит и от менее тяжких телесных наказаний — они противоречат положениям «Всеобщей декларации прав человека» (1948) и «Международного пакта о гражданских и политических правах» (1966). Любое убийство, каким бы оно ни было, становится преступлением против всеобщего равенства людей, против всех достижений западного общества.
Масштабная переоценка человеческой жизни происходит после Второй мировой войны [144]. Именно тогда убийства стали осуждаться вне контекста их свершения и восприниматься как самое страшное преступление против личности, а жестокость и отсутствие прямой мотивации стали отягчающими обстоятельствами для преступников. В этом контексте рост раскрываемости тяжких преступлений — особенно серийных убийств — в последние полвека кажется закономерным. За последние пару сотен лет число убийств на 100 тысяч населения в Европе увеличилось в два-три раза; выросла и раскрываемость, но уже в пять-семь раз. Как отмечает историк Питер Спириенбург, рост преступлений связан прежде всего с разрастанием городов и ускорением мобильности, а раскрываемости — с нетерпимостью к антигуманным актам [145]. Также на это повлияло развитие криминалистики.
Как прикладное знание криминалистика стала развиваться только в конце XIX века, а институализировалась — в середине XX. Влиял на это все тот же прикладной дарвинизм, выразившийся в представлении о том, что особенности человеческого тела можно не только измерить и классифицировать, но и проанализировать их влияние на склонность человека к преступлениям. В конце XIX века итальянский криминолог Чезаре Ломброзо написал книгу «Человек преступный», в которой сообщил, что склонность к преступлениям заложена в природе некоторых людей, и перечислил антропологические параметры потенциальных убийц: «большой череп, короткая голова (ширина больше высоты), резкая лобная пазуха, объемные скулы, длинный нос (иногда загнутый вниз), квадратные челюсти, громадные глазные орбиты, выдающийся вперед четырехугольный подбородок, неподвижный стеклянный взгляд, тонкие губы, хорошо развитые клыки. Наиболее опасные убийцы чаще всего имеют черные курчавые волосы, редкую бороду, короткие кисти рук, чрезмерно большие или, напротив, слишком маленькие мочки ушей» [146]. В 1880-х французский полицейский чиновник Альфонс Бертильон придумал антропологический метод регистрации преступников, основанный на измерении тела человека по 11 параметрам (он стал известен как «бертильонаж»). Тогда же для каталогизации и поимки преступников стали использовать дактилоскопию.
До начала 1970-х в криминалистике отсутствовало определение серийного убийства, поэтому такие преступники не существовали как явление. Термин «серийный убийца» эпизодически использовался в литературе или СМИ; так называли исполнителей получивших огласку жестоких убийств, объединенных общими чертами. Главной сложностью криминалистов первой половины XX века было представление о мотивации преступника как о базовом факторе, с которого нужно начинать расследование. Предполагалось что любое убийство, в том числе серийное, совершается из-за чего-то. Разумеется, это не значит, что убийц, терзающих своих жертв просто так, не существовало до этого, но язык описания не формировал проблему и объект — самого серийного убийцу. СССР отставал от процесса еще сильнее: российский публицист и историк-любитель Алексей Ракитин в своей книге «Социализм не порождает преступности» отмечает, что советская криминалистика долгое время не развивалась, потому что высшее милицейское начальство запрещало сыщикам даже думать о том, что гражданин страны Советов может убивать соотечественников без особой цели. Серийные убийства могли существовать только в чуждом капиталистическом обществе [147].
Серийное убийство как криминальный феномен требует не только профессиональной концептуализации, но и особых социально-демографических условий. Характер этого преступления — внезапный и стихийный, это всегда деяние «незнакомца», незаметно появившегося из темноты и так же легко растворившегося в запутанных городских улицах. Незнакомец как человек, с которым ты сталкиваешься в общественном транспорте или местах досуга и от которого не знаешь, чего ожидать, — культурное явление поздней европейской урбанизации, результат массовой миграции рабочих из сельской местности в индустриальные города. Самый знаменитый серийный убийца, лондонский Джек-потрошитель, жертвами которого стали пять молодых женщин, орудовал именно на волне наплыва ирландских эмигрантов на окраины Лондона, сопровождающейся тяжелой социально-экономической ситуацией в Великобритании [148]. По статистике, большинство маньяков XX века проживали в США и в СССР: американский социолог и историк криминологии Питер Вронский оценивает количество серийных убийц в 1980-х в 150–200 человек в США и столько же в СССР [149]. Среди городов лидировали крупные индустриальные и экономические центры: например, в СССР такими были Москва и Ростов. Андрей Чикатило, действовавший в Ростовской области, органично встроился в широкие миграционные потоки индустриального советского Юга.
Серийный убийца способен нарушить социальный порядок, не имея прямой мотивации. Им вполне может оказаться сосед или коллега по работе. В силу своей типичности и способности сливаться с толпой большинство серийных убийц долго никак себя не выявляют — они слишком обычные [150]. В венгерском художественном фильм об Андрее Чикатило «Гражданин Икс» (1995, режиссер Крис Джеролмо), согласно словесному портрету и набору предполагаемых личностных характеристик, собранным следователями и генерализованным психиатром Александром Бухановским, преступник ведет стандартный образ жизни советского гражданина. Маньяк, по предположению лучших сыщиков Советского Союза, имел семью, детей, машину, квартиру и работал инженером или учителем. Они оказались правы: Чикатило преподавал в ПТУ, а позже работал снабженцем на одном из государственных предприятий. А еще по иронии судьбы был дружинником и участвовал в операции по поимке самого себя.
Рис.23 Феномен коллекционирования различных предметов, посвященных серийным убийцам, получил название «murderabilia». В интернете можно легко найти не меньше десятка онлайн-магазинов с сувенирами по теме серийных убийств и даже настоящими вещами, принадлежавшими маньякам. Изображение: картина маньяка Теда Банди, незадолго до своей казни признавшегося в 30 убийствах в период между 1974-м и 1978-м
Другой характерный пример — американский серийный убийца Родни Алькала. В 1978 году он участвовал в телешоу «Игра в знакомства». По правилам передачи одинокая женщина — в том выпуске Шерил Брэдшоу — задавала вопросы трем незнакомцам, не видя их, и выбирала по ответам того, кто понравится ей больше остальных. Родни произвел на нее хорошее впечатление, а публику, которая видела его всё это время, покорили не только его остроумные ответы, но и стильная прическа и опрятный костюм. Шерил выбрала Алькалу, при этом на момент участия в шоу он уже изнасиловал и убил не менее двух женщин. В течение нескольких следующих лет он сделает то же самое с еще тремя. Обычность потенциального серийного убийцы усиливает страх перед маньяками. «Мы, серийные убийцы, — ваши мужья и ваши сыновья. Мы — повсюду» [151], — говорил американский насильник и некрофил Тед Банди, лишивший жизни почти 50 человек.
Серийные убийства — всегда грубое преступление не только против человека, но и против общества и его устоев. Каннибал, разбрасывающий останки мертвых тел, или сексуальный маньяк — всегда нарушитель европейской морали и христианских табу. Чтобы эффект был максимальным, серийным убийцам требуются технические возможности для репрезентации и поддержания образа. Один из исследователей серийных убийств Дирк Гибсон отмечает, что именно медиа позволяют преступникам получить славу, превращают их в селебрити и тем самым способствуют появлению новых убийц [152]. Можно сказать, что медиа — это способ жизни серийного убийцы [153].
Серийные убийства, не важно — реальны они или изображены в фильмах и книгах, — имеют все черты реалити-шоу [154]. Расследование таких преступлений кинематографично само по себе, поскольку напоминает погоню или даже охоту, где всегда есть лучший сыщик-ищейка, таинственный серийный убийца, который оставляет подсказки и следы, и жертвы — пешки в этой игре. Один из самых первых и потому известных серийных убийц, так и оставшихся не пойманными, — американец по кличке Зодиак. С точки зрения медиа, он сорвал абсолютный джек-пот. Зодиак действовал в конце 1960-х и совершил всего несколько убийств, но после каждого присылал сложные криптограммы на адрес местных газет и полицейских участков. Предполагалось, что, разгадав их, полиция и журналисты смогут установить личность преступника, но многие его послания до сих пор не расшифрованы. Помимо криптограмм он использовал странные символы и знаки, в том числе рисовал на местах преступления свой фирменный кельтский крест [155].
Битцевский маньяк Александр Пичушкин, убивший больше 60 человек, радовался, когда видел в СМИ новости о себе: «Я приходил на работу, а все обсуждали мои убийства. Я ликовал внутри» [156]. У него была специальная шахматная доска, где каждая закрытая клеточка соответствовала жертве, а еще он оставлял различные знаки на местах преступлений, чтобы у журналистов и полицейских была возможность связать его убийства в единую цепь. Такой персонаж воплощает общественные страхи, связанные с непониманием мотивов его действий: маньяком оказывается не психически больной или выходец из социальных низов, а вполне обычный сосед, имеющий престижную работу и семью. Так почему же он стал убивать? И что нужно предпринять, чтобы не стать его жертвой?
Социально-игровой аспект серийных убийств часто приводит к публичной конфронтации, обидам и претензиям: люди принимаются спорить, кто и почему виноват в преступлении, винят власти в неспособности поймать преступника и бездействии. В 90% случаев требования общества сводятся к тому, чтобы запретить свободное ношение оружия, усилить контроль за миграцией, уничтожить террористов и т. д.
Итак, серийный убийца — опасность, которая всегда существует где-то рядом и готова прорваться в вашу действительность в любой момент. Как говорил психопат Джокер в одноименном американском фильме, «люди боятся, когда всё идет не по плану». И добавлял: «Безумие — как гравитация, нужно только подтолкнуть». Серийный убийца — безумие на расстоянии вытянутой руки, и именно поэтому он так привлекателен.
Зомби-апокалипсис
В 2016 году на экраны вышел очередной зомби-хоррор — «Новая эра Z» режиссера Колма Маккарти, снятый по мотивам книги «Дары Пандоры» Майка Кэри. Критики встретили картину прохладно, хотя, на мой вкус, у фильма (и у книги) довольно любопытный сюжет. Действие происходит через несколько лет после зомби-апокалипсиса. В результате эпидемии, источником которой стала поражающая мозг грибковая инфекция, миллионы людей превратились в голодных до плоти зомби. Малочисленные выжившие спасаются в военных бункерах. На одной из таких баз пытаются синтезировать спасительную вакцину, которая могла бы остановить заражение. Исследовательскую группу возглавляет доктор Колдуэлл, которая считает, что обязательные ингредиенты для антидота — головной и спинной мозг второго поколения зомби, то есть особей, которые заразились, когда были в утробе инфицированной матери. Эти дети имеют высокий интеллект, они социальны, хорошо адаптировались к новым условиям, а внешне неотличимы от обычных детей. Но есть одно «но»: как типичные зомби, они плотоядны и теряют контроль над собой, когда чувствуют человеческий запах. Поэтому работники лаборатории используют специальный крем для кожи. Одна из таких зомби — одаренная девочка по имени Мелани. Она быстро считает, легко запоминает таблицу химических элементов, любит литературу, и именно ее мозг должен стать финальным ингредиентом вакцины Колдуэлл.
После череды трагических событий исследовательская база разрушается, и компания выживших, среди которых несколько солдат, доктор Колдуэлл, Мелани и ее учительница Хелен Джастино (она успела полюбить ребенка и потому всячески ее защищает), пробирается в отдаленный бункер. Большую часть фильма занимают их приключения в пути, но для меня самая занимательная часть — споры между доктором Колдуэлл и Джастино о дальнейшей судьбе девочки. Они решают: этично ли убивать ее ради спасения человечества?
Ближе к концу фильма на экране появляется огромный гриб с инфекционными спорами. Он вот-вот лопнет, и разлетевшиеся по воздуху споры погубят всех выживших. Девочка Мелани, до этого проявлявшая чудеса гуманности по отношению к своим мучителям, неожиданно поджигает этот гриб и тем самым приближает гибель человечества: гриб горит, споры разлетаются по округе. Мотив этого поступка формируется во время разговора Мелани с доктором Колдуэлл. Девочка спрашивает, можно ли считать других детей-зомби живыми существами, и, получив утвердительный ответ, сообщает, что в таком случае не понимает, почему она должна умирать за каких-то других людей. После поджога гриба человечество действительно погибает. В финальной сцене дети-зомби во главе с Мелани рассаживаются вокруг стеклянного куба, в котором заперта учительница Хелен Джастино, и она начинает свой урок. «Времени теперь у нас много», — улыбается Мелани.
Идея фильма не уникальна. Как и в зомби-саге «Я — легенда», в фильмах про Блейда, «Ночном…» и «Дневном дозоре», в «Новой эре Z» встает вопрос, почему поедающие плоть людей существа (вампиры, зомби и т. д.) исключаются из сообщества, признаются врагами и подлежат истреблению? Обращаясь к выдуманным монстрам, авторы ставят старый, как мир, вопрос: кто, как и на каких основаниях устанавливает границы человеческого? Кто определяет, где добро, а где — зло?
Образ зомби в искусстве появляется в начале XX века. Долгое время он сводился к традиционным вудуистским представлениям о живых мертвецах, которых злой колдун поднимает из могил и использует как рабов для своих нужд — например, в домашнем хозяйстве. Источник таких представлений — книга 1920 года «Остров магии», которую написал репортер New York Times Уильям Сибрук. От Сибрука зомби перекочевали в художественную литературу, а потом и в кино. В 1932 году в Америке выходит фильм «Белый зомби» с Белой Лугоши в главной роли. Картина имела феноменальный успех и собрала в прокате восемь миллионов долларов при бюджете в 50 тысяч. Успех кажется закономерным — в христианской культуре и до вудуистских зомби было достаточно сюжетов с вылезающими из могил беспокойными упырями.
В 1970-х образ зомби значительно меняется [157]. Мертвецы проходят путь от глуповатых заколдованных рабов, которые орудуют мотыгой на сахарной плантации, к агрессивным и физически крепким (насколько это возможно) монстрам, главная цель которых — утолить свой каннибальский аппетит. Если раньше зомби становились из-за колдовства, то теперь — из-за вирусов, почти всегда провоцирующих пандемии. Чаще всего зараза распространяется через укус — вот и объяснение тому, что зомби показаны как людоеды. Обычно они охотятся за человеческой плотью и мозгом, а убить тварей можно, только уничтожив их центральную нервную систему — то есть разрушив головной мозг. Такая радикальная трансформация образа зомби связана с несколькими эпохальными страхами.
Первый — медиатизированный страх современного общества перед тотальной, но невидимой угрозой пандемии, неизвестной болезни, способной убить всё человечество. Он актуализируется во второй половине XX века, когда оказывается, что, несмотря на появление прорывных медицинских технологий, многие болезни не просто не побеждены, но и активно мутируют, а еще в мире появляются новые, доселе неизвестные вирусы. Среди них — открытый медиками в 1980-х ВИЧ, испугавший целое поколение. Еще один новый страх общества — биотерроризм и биологическое оружие, которые могут убить население страны или отдельную этническую группу. Особенно актуальным он стал на фоне холодной войны США и СССР.
Этот страх усугубляет и поп-культурный образ талантливого, но злого и сумасшедшего ученого [158] — генетика или биолога, разрабатывающего опасную бактерию, которая может навредить всему человечеству и миру. Его образ становится благодатной почвой для успеха множества книг и фильмов о зомби. Одна из самых популярных и кассовых серий — «Обитель зла» о корпорации Umbrella, которая разрабатывает биологическое оружие и случайно провоцирует эпидемию. Фильм пронизан идеями власти технологий, коварства капитализма и общей критикой консьюмеризма. Крупные корпорации порождают вирус зомби и в фильме «28 дней спустя», где активисты-зоозащитники случайно освобождают зараженную обезьяну из биологической лаборатории, разрабатывающей вирусы. Показательно, что доктор Колдуэлл из «Новой эры Z» также воплощает собой образ доктора без принципов, пусть и выступающего с якобы благими целями спасения человечества.
Меж тем фильмы о зомби-апокалипсисе продолжают старую европейскую эсхатологическую традицию. Зачастую грядущий конец света связывали с эпидемиями — то с бубонной чумой, то с лепрой, то с холерой, то с туберкулезом, то с испанским гриппом. И небезосновательно: три самые крупные пандемии в истории человечества (Юстинианова чума в VI веке, «черная смерть» в XIV веке и испанский грипп в начале XX века) унесли от 50 до 100 миллионов жизней. При этом пандемии всегда давали богатую пищу для творческого осмысления: так, средневековая чума породила Пляски смерти, а туберкулез создал портрет викторианской женщины — бледный цвет лица и блестящие выразительные за счет расширенных зрачков глаза. Неудивительно, что и современные авторы антиутопий также грезят массовыми пандемиями.
Ядро личности зомби в кино — его мозг. Он не только служит главной мишенью для таинственного вируса, но и зачастую является единственным уязвимым местом в теле монстра — все остальные его органы и члены могут существовать автономно. Кстати, идея раздельного существования органов до второй половины XX века была невозможна. Именно тогда завершается трансформация, которую я уже упоминал в этой книге: в 1968 году публикуется решение комитета Гарвардской медицинской школы, в котором констатация факта человеческой смерти должна следовать за прекращением деятельности его головного мозга. Концепция «живое может быть только нерассеченным» ушла в прошлое, и новый образ зомби стал реакцией на переопределение границ между жизнью и смертью. Еще один сюжет, возникший на этой почве, — приключения на фоне пограничных состояний, то есть в коме.
Авторы зомби-фильмов пытаются осмыслить культурные и социальные процессы, происходящие с телом человека и самим понятием «человек». Именно поэтому со временем такое кино становится всё более глубоким и проникновенным и всё менее натуралистичным [159]. Образ зомби постепенно усложняется — они становятся социальными [160]. Ходячие мертвецы пытаются быть похожими на себя прежних, существовавших до трагического опыта обращения, выполняя знакомые им действия — как, например, герой фильма Джорджа Ромеро «Земля мертвых» по кличке Большой Папочка, который по привычке заправляет автомобили, потому что до заражения работал на заправке. Зомби влюбляются, занимаются сексом, шутят. Так, в фильме «Тепло наших тел» зомби R пытается добиться любви милой девушки Джулии. Всё это — попытка ответить на вопрос: почему зомби ненормальны и нормальны ли мы сами?
Зомби-фильмы предлагают зрителям множество «тестов на нормальность». Первый связан с едой. Зомби едят людей — кажется, это ненормально; один из героев фильма «Блейд» Дьякон Фрост считает, что людей стоит специально выращивать на убой. При этом люди едят животных. Почему мы нормализуем собственную жестокость, но демонизируем существ, которые питаются людьми?
Рис.24 Зомби-мобы стали популярны в последнее десятилетие и активно поддерживаются любителями зомби-культуры. Участники одеваются и гримируются, чтобы максимально реалистично походить на живых мертвецов. Самый ранний зомби-моб прошёл в Милуоки (США) в августе 2000 года на ежегодном игровом фестивале Gen Con. 26 апреля 2009 года в Москве на Арбате прошла первая подобная акция в России. Интерес к зомби связан как с прикладными страхами современного общества (пандемии, биологического оружия), так и с философскими вопросами границы человеческого
Второй тест — про внешний вид и идеалы красоты. Например, в сериале «Во плоти» [161] и фильме «Третья волна зомби», где ходячие мертвецы вернулись к «нормальной» социальной жизни, но сталкиваются с неприятием и жестокостью по отношению к себе [162], «трупам» приходится маскировать мертвецкий цвет кожи, бледные глаза и запах плоти, то есть соответствовать стандартам красоты живых людей.
Третья проверка — бытовая жестокость. Герои фильма Джорджа Ромеро «Земля мертвых» попадают в подпольный ночной клуб для выживших и смотрят на местные развлечения. Среди прочего люди фотографируются с прикованными к стенам зомби и стравливают их друг с другом, и это очень напоминает современные цирки и собачьи бои. Реакцией на такую несправедливость становится бунт: Большой Папочка ведет толпу зомби на колонию выживших, чтобы прекратить развлекательные отстрелы и другие мучения своих собратьев-зомби. В этом контексте зомби, а не люди становятся проводниками гуманности и морали.
Разумеется, для обсуждения всех этих вопросов образ шатающегося мертвеца-каннибала, носителя опасной инфекции, не обязателен. Вопрос о границе человеческого может подниматься и в фильмах про вампиров, оборотней и другую нечисть. Тем интереснее, что именно на зомби чаще всего останавливают свой выбор режиссеры и писатели, а еще зрители — как активные потребители этого продукта.
Глава VI Перезахоронения и борьба за права мертвецов
В 1987 году на советские экраны вышел фильм «Покаяние» режиссера Тенгиза Абуладзе. По сюжету в провинциальном грузинском городке с почестями хоронят бывшего городского главу по имени Варлам Аравидзе. Наутро его тело, выкопанное из могилы, находят напротив дома его сына Авеля. Шокированные родственники заново хоронят Варлама, однако на следующее утро история повторяется. Тогда у могилы главы устраивают ночную засаду, чтобы узнать, кто и зачем оскверняет захоронение. Злоумышленников караулит внук Варлама по имени Торнике, ему удается настичь и подстрелить таинственного копателя. Им оказывается местная жительница Кетеван Баратели. На суде женщина рассказывает, что Варлам виновен в смерти ее родителей, которых по его приказу арестовали и жестоко пытали. Быстро выясняется, что это не единичный случай, и похожие истории есть еще у десятка местных жителей. Торнике, потрясенный этим рассказом и реакцией своего отца, который пытается оправдать деда, убивает себя из ружья. Увидев смерть своего сына, Авель идет на кладбище, выкапывает тело отца из могилы и сбрасывает его со скалы.
Фильм «Покаяние» вышел в самом начале перестройки. Помимо важного идеологического и христианского подтекста, фильм удивительно точно ухватил и показал один из самых ярких и странных феноменов периода распада Советского Союза: одержимость перезахоронениями. В 1980-х в стране набирает популярность поисковое движение, члены которого ищут останки пропавших без вести советских солдат. В мае 1989 года у деревни Мясной Бор Новгородской области — место гибели 2-й ударной армии — при поддержке Министерства обороны и ЦК ВЛКСМ прошла первая в советской истории Всесоюзная Вахта памяти. Спустя 30 лет, в 2019 году, Министерство обороны РФ сообщило, что около полутора миллионов солдат Красной армии остаются до сих пор не захороненными. 23 июля 2019 года правительство утвердило федеральную целевую программу «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы». У нее три главных цели: обустройство мест захоронения останков погибших, обнаруженных в ходе поисковой работы; восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений; нанесение имен погибших на мемориальные сооружения. На эти цели выделено 5 миллиардов рублей из бюджета страны.
Параллельно этому развивается и движение по поиску жертв сталинских репрессий. В 1987 году в рамках деятельности московского клуба «Перестройка» появился центр «Мемориал», выросший за 30 лет в мощную институцию. В 2013 году «Мемориал» признали иностранным агентом. Прямо сейчас продолжается судебное дело против историка центра Юрия Дмитриева, нашедшего советский расстрельный полигон в карельском Сандармохе.
В начале 1990-х в Петропавловской крепости с почестями перезахоронили останки расстрелянной большевиками царской семьи (впрочем, потом их снова эксгумировали для изучения — уже по требованию РПЦ, сомневавшейся в их подлинности). В 2005 году произошла торжественная репатриация и перезахоронение на престижном московском некрополе Донского монастыря останков белоэмигрантов — генерала Антона Деникина и философа Ивана Ильина.
Подобные некрополитические [163] практики можно наблюдать не только в постсоветских странах, но и по всему миру. В Аргентине не утихают споры о перезахоронении безымянных жертв военной хунты, в Чили — жертв политического режима Пиночета, в Испании — генерала Франко и гражданской войны 1930-х, в бывшей Югославии — серии военных конфликтов 1990-х, а в Германии перезахоранивают останки солдат вермахта. Список можно продолжать долго. Ясно, что в последнее столетие мертвые стали активными участниками общественной жизни независимо от страны, культуры и политического контекста. Мы обращаемся к их опыту, защищаем и нападаем на них, определяем для них специальные места, применяем к ним особые правила, говорим от их имени или активно пытаемся их не замечать. Почему же в XXI веке, когда процент людей, верящих в загробную жизнь, беспрецедентно мал, а общество прагматично как никогда, мертвецы так важны для нас? Какая нам разница, кто и где захоронен?
Средневековая некрополитика: спасение и наказание
Философ Мишель Фуко полагал, что человеческое тело, в том числе мертвое, стало объектом политики только после Реформации [164]. До того момента, на протяжении всего Средневековья, сохранялось своеобразное биополитическое безвременье: государство вспоминало о жизни и смерти простого человека, только если строю или самому суверену угрожала опасность, — например, мятеж. В этом случае карательный аппарат беспощадно расправлялся с бунтовщиками. Так было во время восстания майотенов во Франции XIV века или крестьянского восстания Уота Тайлера в Англии того же времени. Выражаясь языком Мишеля Фуко, средневековое государство было государством «вины и наказания», то есть власть определялась через страх наказания за неправильные действия. Если подданные представляли угрозу для государственной, а значит, и для божественной власти, их могли легко казнить. Прикладными же вопросами управления жизнью и смертью (например, регистрацией смертей, установлением их причин и демографическим учетом) в то время ведала церковь [165].
Такое положение дел было обусловлено прежде всего, теоцентрической картиной мира средневекового человека, в которой все происходящее объяснялось божьей волей, а перед Богом и смертью все были равны. Лучше всего она выразилась в средневековом изобразительном каноне, известном под названием «Пляска смерти». На таких картинах и фресках, взявшись за руки, танцевали Папа, король, рыцари, простые бедняки и разложившиеся трупы в истлевших лохмотьях. Каждый участник смертельного танца, как правило, был обрамлен надписью, содержащей фразу «к смерти иду я»:
На знаменитой пизанской фреске итальянского художника Буонамико Буффальмакко, расположенной в галереях средневекового некрополя Кампо Санто, изображаются три полуоткрытых саркофага с тремя разлагающимися трупами. По их телам ползают черви, а стоящие вокруг люди затыкают носы от смрада. По некоторым признакам мы можем понять, кому именно принадлежат останки: это король в богатой одежде из горностая, монах в рясе и бедный крестьянин. Рядом с саркофагами стоит почитаемый святой, отшельник Макарий Египетский. В его руках — свиток с надписью: «Мы были как вы; вы будете как мы». Смертельная демократичность подобных сюжетов должна была убеждать человека в скоротечности жизни и в приоритете божественного над земным. Известный медиевист Олег Воскобойников пишет: «Земная жизнь в те времена не ценилась. У абсолютного большинства средневековых людей неизвестна дата рождения: зачем записывать, если завтра умрет? В Средневековье был только один идеал человека — святой, а святым может стать только человек, уже ушедший из жизни. Это очень важное понятие, объединяющее вечность и бегущее время. Если еще недавно святой был среди нас, мы могли его видеть, а теперь он у трона Царя» [166].
Следствием теоцентрического взгляда на мир являлось не только особое представление о тесной связи жизни и смерти, но и специфическое понимание природы политической власти. Средневековые феодальные образования сильно отличались от известных нам модерновых национальных государств своим представлением о легитимности. Как отмечает современный исследователь Александр Марей, «два латинских слова — auctoritas (авторитет), [то есть церковь. — Прим. авт.] и potestas (мощь), [то есть монархия. — Прим. авт.] — являлись, безусловно, ключевыми для понимания сути средневековой концепции власти» [167]. В представлении средневекового человека, государство было особой формацией, в которой у каждого сословия была четкая и понятная всем функция. Духовенство наставляло простой люд на праведную жизнь, феодалы физически защищали население от врагов и следили за порядком, обеспечивая правосудие и справедливость. Долгое время «авторитет» в этой паре был выше «мощи»: власть любого монарха легитимизировала церковь, своим одобрением той или иной кандидатуры она переводила все ее действия в правовое поле, а лишенный поддержки церкви монарх признавался еретиком и тираном.
В итоге субъекта биополитики, то есть человеческого тела, которым можно управлять или властвовать над ним, не существовало. Смерть не имела иных интерпретаций кроме религиозных, а церковь не признавала иной власти над человеком, кроме божественного случая. Поэтому всё, что было связано с биосом, было сконцентрировано вокруг мест духовной жизни: начиная от практик покаяния и раскаяния, в том числе с помощью физического самоистязания, и заканчивая прикладными вопросами погребения. Церковь занималась родами, лечением больных, уходом за умирающими людьми, справляла похороны и содержала погосты.
Вполне логичным в этой ситуации биополитического безразличия выглядело отсутствие законов и норм, регулирующих смерть простого человека, и государственной демографической статистики. Впервые обязанность вести метрические книги, которые учитывали бы число родившихся и умерших, вменили священникам только в XVI веке, уже после Реформации (в Англии — в 1538 году, во Франции — в 1539-м).
Зарождающаяся средневековая некрополитика тоже определялась логикой наказания. Например, монарх мог наказать простолюдина неправильной формой захоронения или запретом на отпевание и молитвенное поминание, таким образом уменьшив его шансы на успешное вхождение в Царство Божье. Именно поэтому тела преступников не погребались должным образом или подлежали рассечению — предполагалось, что расчлененный труп не сможет воскреснуть в Судный день. Историк Ольга Тогоева отмечает: «Казнь политических преступников, обвиняемых в изменах и заговорах, могла занимать до нескольких дней: символически она длилась вечно. Преступника нельзя было похоронить, он должен был исчезнуть с лица земли. В некоторых случаях труп должен был разложиться на виселице, его нельзя было снять. Иногда труп расчленяли и развешивали на разных виселицах по разным городам — в назидание городским жителям или пришлым крестьянам» [168].
На первый взгляд может показаться, что логика Кетеван Баратели, которая не давала телу Варлама Аравидзе упокоиться на общественном кладбище, так как он совершил серьезное преступление, схожа с логикой средневековых людей. Аравидзе был виновен в репрессиях и убийствах ни в чем не повинных граждан, а значит, должен был быть наказан хотя бы посмертно. Но разница между поступком Кетеван и практиками средневековых политиков всё же есть. С одной стороны, она заключается в типе преступлений, за которые судят мертвецов, с другой — в субъекте правосудия. Если в Средневековье посмертному наказанию могли подвергнуться только те, кто посягнул на власть (а значит, божественный порядок), то в советской Грузии самый страшный преступник — тот, кто покусился на свой народ. И если в первом случае правом судить обладают только монархи и церковь, то во втором его обретает общество.
Дисциплинируя мертвецов
Первым следствием Реформации стало крушение теоцентричной модели мира — постепенно ее вытеснила антропоцентричная. Человека больше не мыслили как греховное животное, все беды которого были предопределены первородным грехом; он постепенно становился самостоятельным волевым субъектом. Параллельно копились научно-технические знания о мире, в том числе комплекс эмпирически подтвержденных фактов о самом человеке. На смену религиозному человеку приходит человек рациональный и биологический. Становится видимым и сам объект биополитики — тело.
Вторым следствием Реформации стала постепенная трансформация института государства: социальные отношения усложнились, принципы политической власти поменялись. В ходе секуляризации государство не просто отделилось от церкви, но и подчинило ее себе и отвоевало ее собственность. Обычно ее передавали местной знати: например, немецкие князья, поддержавшие Реформацию, получили свое после Крестьянской войны 1524–1526 годов, а в Голландии церковные земли отошли к буржуазии в ходе революции XVI века. В католических странах всё случилось на два века позднее: во Франции — в результате Великой революции 1789 года, в Австрии и Португалии — в результате политики просвещенного абсолютизма. Значение частной собственности росло, для ее охраны и регулирования потребовались не божественные, а светские законы. Церковь и государство окончательно поменялись ролями.
В следующие после Реформации четыре века происходит сложный процесс преобразования мелких феодальных княжеств в первые королевства, затем крупные империи, а позже — в современные национальные государства. Возникают новые политические категории: «народ» и «нация» [169]. Власть стала доказывать свою легитимность, апеллируя к принципу исторической общности, общей правовой культуры. Так, Джон Локк в своей работе «Два трактата о правлении» указывает на то, что вместо божественного права королей на престол теперь необходимы согласие и поддержка народа. Теоретик государства Боб Джессоп отмечает, что лучше всего стремительные процессы институционализации и абсолютизации государств того периода описывают два противоречащих друг другу высказывания монархов — Людовика XIV в XVII веке и Фридриха I в XVIII веке. Первому приписывают фразу: «Государство — это я», а второй якобы сказал: «Я — первый слуга государства». Таким образом, общественное благо становится главной ценностью политической жизни, а монарх и государственный аппарат — гарантами этого блага [170].
После Реформации десакрализованное человеческое тело попадает в новый политический контекст: сначала в ситуацию растущего авторитета суверена и падающего авторитета церкви, затем — в национальное государство, для которого источником власти становится сама совокупность человеческих тел. При этом отдельные человеческие тела не должны были мешать общему порядку и благу, а потому им предписывалось соблюдать правила сожительства. Мишель Фуко определил новую модель государства как «дисциплинарную»: в ней управленцам было важно не только найти каждому телу предназначение, но и воспитать из него верного подданного.
В процессе становления дисциплинарного государства воспитывать начинают не только живые тела, но и мертвые. После Реформации возникают первые секулярные кладбища, которые предстают институциями государственного контроля на местах — наравне с тюрьмой и психиатрической больницей. Они значительно отличались от старых погостов логикой организации пространства: на них возникают индивидуальные могилы, памятники с красивыми эпитафиями, семейные склепы. Впервые на памятниках и мемориальных табличках стали отмечать заслуги умерших и описывать их жизненный путь [171]. Постепенно кладбища стали парками памяти, где посетителям важны уникальные человеческие истории, демонстрирующие, что умерший был хорошим семьянином и добрым христианином.
Развитие представлений о гигиене и медицине привело к попыткам государства дисциплинировать человеческие тела — живые и мертвые. Новое понимание источников массовых заболеваний обратило внимание общества на кладбища как биологическую угрозу, поэтому государственный контроль за местами захоронений усилился. В новой картине мира мертвые должны были разлагаться согласно установленным правилам: на определенной глубине, подальше от сточных вод, в плотно закрытых гробах [172].
На развитие городских кладбищ (переформатирование церковных погостов в городские некрополи) повлияло появление национальных государств как огромных «воспитательных машин». Для строительства нации важны не только общий язык, символика, инфраструктура и власть, но и общая история — и чем она драматичнее, тем крепче получится общность. Один из идейных лидеров национального итальянского движения Рисорджименто Паскуале Манчини писал: «Нация — это бессмертное тело, объединенное метафизическим прошлым, настоящим и будущим» [173]. В этом контексте государству было важно вписывать умерших предков в единое «национальное тело», создавая и поддерживая мифы о погибших на освободительных войнах солдатах, которые храбро отдали жизнь ради будущего и свободной жизни своего народа. Поэтому особо достопочтенные покойники, представляющие хороший пример для будущих поколений, стали занимать почетное место на национальных некрополях.
В Европе национальные некрополи стали появляться с конца XVIII веке. В 1775 году за территорией Барселоны было основано кладбище Побленоу, в 1784 году начало работать кладбище в Вене, а в 1804 году во Франции открылось одно из самых знаменитых кладбищ мира Пер-Лашез. В 1804 году Наполеон построил в оккупированной Генуе монументальное кладбище Стальено, ставшее впоследствии национальным достоянием Италии, и несколько кладбищ в Испании и Португалии. К концу XVIII века национализация кладбищ дошла и до Российской империи — тогда крупные городские некрополи появились в Москве и Санкт-Петербурге: например, немецкое Введенское кладбище (1771), Даниловское (1771 ).
В фильме «Покаяние» показана очень схожая логика «дисциплинарного поощрения» мертвого тела: главу города хоронят с цветами, траурным шествием, памятными речами на специальном почетном участке кладбища. Именно против этого от лица народа выступает Кетеван Баратели, по мнению которой, Варлам Аравидзе не заслужил свое место. Его преступления антинародны, а потому он не только не имеет права на привилегии, но и не может быть похоронен рядом с людьми, которых убивал. При этом бунт вроде попытки перезахоронения Аравидзе вряд ли мог случиться еще сто лет назад. Сам жест физического отказа мертвому телу в особом месте погребения — воплощение современной идеи «преступления против человечества» и связанного с ней «суда над мертвым телом». И идея эта возникла в результате ряда трансформаций европейского общества в XIX–XX веках.
Мертвые тела в процессе гуманизации
В основе современной некрополитики и роста числа перезахоронений лежит парадокс развития европейского антропоцентризма.
С одной стороны, антропоцентризм стал причиной появления ряда «позитивных» идей, в центре которых оказался человек, его ценность и индивидуальность. Поступательное становление либеральной идеологии как ценностной основы европейского и американского обществ привело к отмене рабства, расширению избирательных прав, постепенному улучшению положения низших социальных слоев, формированию первичных институтов социального государства, которые уже в XX веке станут основой для welfare state. После Великой французской революции произошел подъем национально-освободительных движений, а американская Война за независимость и вовсе привела к возникновению первой нации, которая разработала конституцию на основе идеи, что правительство «руководит государством с согласия руководимых».
Рис.25 Анри Дюнан (1828–1910) — основатель Международного Красного Креста
Развитие гуманизма и человеколюбия привело и к прикладным решениям в области биополитики. О телах стали заботиться, воспитывать их, следить, чтобы они меньше болели, лучше выглядели, были умными и талантливыми. Причем мертвым телам внимание тоже доставалось: как сказано выше, им предписывалось не быть опасными и лежать в строго отведенных для них местах. Постепенно прикладные вопросы гуманизации мертвых тел вышли за границы заботы о кладбищах. В 1859 году молодой швейцарец Анри Дюнан, находясь недалеко от местечка под названием Сольферино, стал свидетелем кровопролитного сражения между франко-сардинскими войсками с одной стороны и австрийскими — с другой. Он был так поражен жестокостью битвы и отсутствием адекватной помощи раненым бойцам, что после возвращения домой написал книгу воспоминаний и развернул широкую общественную кампанию по гуманизации боевых действий (насколько этот термин вообще применим к войне). По инициативе Дюнана появился Международный Красный Крест и были разработаны правила доступа медицинского персонала на поля сражений. Большинство рекомендаций Дюнана касались тяжелораненых бойцов, но несколько нововведений затронули и мертвые тела: например, требование к перемирию для достойного погребения трупов, негативное отношение к мародерству и грабежу мертвецов, непочтительному и издевательскому отношению к телам. В 1864 году некоторые европейские страны подписали «Конвенцию об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях», разработанную на основе рекомендаций Дюнана. Так, благодаря усилиям молодого интеллектуала дисциплинарная некрополитика европейских государств смягчилась, а власти согласились с тем, что мертвое тело так же, как и живое, имеет право на достойное отношение. Впрочем, в основе новых норм все равно была дисциплинарная логика: отныне мертвым телам запрещалось гнить на поле боя, а живым предписывалось обеспечить им достойное захоронение даже в условиях боевых действий.
Однако европейский антропоцентризм имел и обратную сторону. Эта идеологическая платформа стала базой для попыток преобразования отдельных социальных групп в совершенные сообщества совершенных людей. С одной стороны, Европа увлеклась воспитанием и превознесением идеального свободного человека, с другой — исключением, иногда физическим, всех, кто не подходил под эти стандарты. Деление людей на достойных и недостойных привело не только к формированию тоталитарных фашистских режимов, но и к колониальной политике, предполагающей распад мира на первый, второй и третий порядки [174]. Французский философ Жак Деррида в книге «О духе. Хайдеггер и вопрос» утверждает, что и фашизм, и демократия были в равной степени склонны защищать субъектность. Вдохновляясь идеями Деррида, другой французский философ Филипп Лаку-Лабарт и вовсе напишет, что «фашизм — это гуманизм».
Европейский проект гуманизма, безусловно, стремился к справедливому, доброму и светлому будущему человека. Но на то, каким именно образом этого достичь, единого взгляда не было. Для части гуманистов человек был по природе глуп и порочен, поэтому его предписывалось держать в жестких рамках — всё ради его же блага и будущего других индивидов. Другая часть верила в добрую природу человека и защищала счастье каждого отдельного индивида. Этот парадокс известен как противостояние оптимистического и пессимистического гуманизмов и кроет в себе разный взгляд на природу человека.
Ужасы Второй мировой войны — геноцид, концлагеря, массовые убийства мирного населения, оружие массового поражения — окончательно убедили европейские общества в необходимости общей позитивной гуманизации. Изменилось и отношение к мертвым телам: согласно принятой в 1949 году Женевской конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях, у каждого погибшего солдата появилось право на индивидуальную могилу и процесс погребения, соответствующий его религиозным убеждениям. «Стороны, находящиеся в конфликте, должны наблюдать, чтобы умершие были погребены с честью и, если возможно, согласно обрядам религии, к которой они принадлежат, чтобы могилы уважали, чтобы они были сосредоточены, по возможности, согласно национальности умерших, содержались надлежащим образом и отмечались так, чтобы всегда можно было их разыскать. С этой целью и с начала военных действий они организуют официальную службу могил, чтобы сделать возможным в будущем эксгумации, обеспечить, каково бы ни было местонахождение могил, опознавание трупов и их возможную отправку на родину. Эти постановления также будут распространяться на пепел, который будет храниться службой могил до тех пор, пока в отношении его не распорядятся надлежащим образом, в соответствии с желаниями родины умерших», — читаем в 17-й статье документа.
Вызов европейскому обществу привел не просто к декларированию определенных требований к образу человека и его телу, как мертвому, так и живому, но и к конкуренции между дисциплинарными практиками (а по своей структуре практики остались именно дисциплинарными, несмотря на гуманизацию дискурса). Если раньше государство обладало монопольным правом определять, что и как именно нужно делать с телами подданных, чтобы это работало на общественное благо, то теперь у общества появилась возможность требовать иного (более достойного) отношения. Иными словами, старая дисциплинарная модель никуда не исчезла, но право определять места захоронения и характер отношения к останкам стало оспариваться разными группами. Некрополитика стала принадлежать не только государству.
Отныне право определять, кому, где и как разлагаться, превратилось в инструмент политической манифестации. Перезахоронение и эксгумация стали новыми инструментами некрополитических общественных движений, для которых важна логика постоянного переутверждения и поиска идентичности. Чтобы понять, как работают практики перезахоронения, обратимся к морфологии этого процесса.
Перезахоронение и эксгумация
Один из главных идеологических компонентов гуманизации — понятие достоинства. В основе программы борьбы за права человека лежит представление о том, что каждый имеет право на определенное качество жизни — и, как следствие, смерти. Второй важный компонент гуманизации — право на индивидуальность, то есть право быть личностью, обладающей волей и свободой выбора. Эти параметры находят отражение в практиках эксгумации и перезахоронения.
Мировые патологоанатомические стандарты, регулирующие процесс извлечения останков из мест захоронений, подчеркивают необходимость относиться к телам с «достоинством». Но, несмотря на широкое распространение термина «достоинство», четкого определения у него нет. Речь идет скорее о негласном своде этических норм. Например, о праве на частную жизнь, предполагающем, что публичная демонстрация тела человека вопреки его желанию унизительна. Мертвых тел это тоже касается: процесс разложения оказывается сродни другим интимным физиологическим актам, которые не должны демонстрироваться публично. Труп имеет право гнить в земле, будучи скрытым от посторонних глаз, а поиск и перезахоронение останков становятся ритуальной практикой, возвращающей телам достоинство.
Существует, однако, и обратная практика дегуманизации: например, при обращении с мертвыми телами политических диктаторов, которых народ лишает права на интимность и достоинство. Так было с телом Бенито Муссолини, труп которого болтался вверх ногами на автозаправке у площади Пьяцца Лорето в Милане, а затем несколько дней валялся в сточной канаве. Так было с телами Николае Чаушеску и его жены, расстрелянными у стены солдатского туалета, а затем лежавшими на газоне футбольного стадиона «Стяуа». Так было с телом Муаммара Каддафи — съемка его мертвого растерзанного тела облетела весь мир, а позже труп выставили на обозрение в холодильнике для овощей. В этом плане показателен недавний скандал с публикацией видео, где бойцы ЧВК Вагнера в Сирии обезглавливали труп предположительного боевика, расчленяли его и сжигали. В публичных дискуссиях они оправдывались тем, что убитый боевик «не был человеком», а значит, заслуживал такого отношения. Обезглавливание в этом плане можно считать максимально десакрализующей практикой — это радикальное разделение человеческого тела, символически отсылающее нас к идее «человека-машины», о которой мы уже неоднократно говорили.
Рис.26 Обезображенные тела Бенито Муссолини и Клары Петаччи, последней любовницы дуче, и еще пятерых высших партийных чиновников фашистской Италии
Если мертвое тело было радикально дегуманизировано (например, расчленено), судебно-медицинская экспертиза становится способом его регуманизовать путем соединения останков и идентификации личности умершего. В ходе процедуры труп вновь обретает пол, возраст, имя. Имя — один из главных признаков субъектности человека, свидетельство его индивидуальности. Неслучайно первичной целью возникших в 1980-х поисковых движений было установление имен павших солдат [175]. Так проявилась смена режимов публичной памяти в позднее советское время: ежегодные туристические походы по местам боевой, революционной и трудовой славы сменились поисковыми практиками, возвращающими личность обществу, привыкшему к обезличенности и коллективизму.
Исследовательница массовых захоронений Ирина Флиге так аргументирует необходимость поиска и идентификации захоронений политических заключенных: «В самом конце 1980-х годов родным наконец стали сообщать правдивые сведения о приговоре, дате его вынесения и дате расстрела — но не о месте казни и никоим образом не о месте захоронения. В разных городах страны проходили „недели совести“. На импровизированных „стенах памяти“ люди писали имена своих близких, не вернувшихся домой. На митинги выходили с плакатами „Где могилы наших отцов?“» [176] Еще один более поздний пример — российская гражданская акция памяти жертв политических репрессий, которая называется «Возвращение имен» и с 2007 года проходит каждое 29 или 30 октября. В Москве местом действия становится Соловецкий камень на Лубянской площади: с 10 утра и до 10 вечера люди по очереди зачитывают имена расстрелянных москвичей в микрофон.
Следующими шагами после установления имени неизвестного покойного становятся эксгумация и перезахоронение. Их можно считать попыткой восстановить разорванные семейные и общественные связи умершего, внести ясность в его статус и в конце концов произвести акт «человеческих» похорон. Эксгумация и перезахоронение включают широкий диапазон практик — это не только поиск тел и их извлечение из мест старых захоронений, но и попытки определить причины смерти. Мертвое тело становится не просто объектом изучения: оно — свидетель истории, источник знания. Благодаря развитию прикладной криминологии мертвецы «заговорили» — и буквально продолжили быть субъектами. В этом отношении показательна популярность сериалов про судебную медицину типа «CSI: Место преступления» и «Кости», главные герои которых раскрывают преступления, используя в качестве доказательной базы человеческие останки. И в «Костях», и в «CSI» тела не просто помогают раскрывать преступления, но и рассказывают историю, часто апеллируя к острым социальным проблемам. Например, сюжет 6-й серии 8-го сезона «Костей» («Патриот в чистилище») связан с терактом 11 сентября 2001 года. Эксперты пытаются понять: кем был человек, чьи останки они нашли, и как сложилась его судьба в тот трагический день? По ходу серии оказывается, что кости принадлежат ветерану войны в Персидском заливе, который стал бездомным и в тот трагический день погиб, спасая людей из-под завалов. В конце мы видим, как его хоронят, а начиналась серия со слов: «Наша задача — вернуть людям их имена».
Такой взгляд на мертвых позволяет переоценивать прошлое, вновь поднимать спорные вопросы и добиваться справедливости. Яркий пример — общественная дискуссия вокруг уже упомянутого мной расстрельного полигона в Сандармохе. На данный момент установлено, что Сандармох — одно из самых больших захоронений жертв сталинских репрессий, которое в 1990-х обнаружили историки Юрий Дмитриев, Ирина Флиге и Вениамин Иофе. Это большой участок в лесу, где найдено 236 расстрельных ям, в которых сотрудники НКВД тайно захоронили 6241 человека. В 2016 году коллеги Дмитриева, историки из Петрозаводского государственного университета, доктора наук Сергей Веригин и Юрий Килин, заявили, что в Сандармохе могут покоиться не только репрессированные, но и советские военнопленные, расстрелянные в 1941–1944 годах оккупационными финскими войсками. После этого против Дмитриева возбудили несколько уголовных дел, которые, по мнению нескольких правозащитных организаций, можно считать политически мотивированными и связанными с профессиональным интересом историка к сталинским репрессиям.
Рис.27 Раскопки на территории урочища Сандармох. Поиски ведут представители Российского военно-исторического общества. Они пытаются доказать, что останки принадлежат не политическим заключенным, а красноармейцам, убитым финскими военными
Некоторые места захоронений и перезахоронений превращаются в музейные комплексы, цель которых — работа с коллективной памятью. Иногда сами мертвые тела трансформируются в музейные экспонаты и становятся частями больших коммеморативных ассамбляжей, состоящих из пространства, символов и сложных, растянутых во времени, практик поиска и установления справедливости. Яркий пример — гора Герцля в Израиле. Это холм высотой 834 метра, где покоятся останки видных сынов земли обетованной. Подавляющее большинство похороненных на горе Герцля были перевезены туда из других стран. Смысл этой практики — вернуть всех евреев в Эрец-Исраэль.
В исторические мемориальные комплексы превращают и массовые захоронения жертв сталинских репрессий: в последние годы в России этот статус, благодаря усилиям центра «Мемориал», получили несколько десятков некрополей. В Испании же прямо сейчас бушуют страсти вокруг некрополя жертв гражданской войны: генерал Франко похоронен на одном кладбище с жертвами своего режима, и активисты требуют перенести его прах в другое место. Для сторонников генерала соседство важно, потому что оно позволяет поддерживать нарратив о «примирительной войне» и мирных действиях франкистов.
Рис.28 Dark tourism — посещение мест массовой гибели людей (катастроф, аварий, геноцида, терактов). Поиски и перезахоронения жертв военных действий так же можно рассматривать в рамках dark tourism. На фото — внутреннее убранство готического костела в Седлеце в Чехии, целиком состоящее из частей сорока тысяч скелетов
Музеефикация кладбищ и мест перезахоронений породила практику dark tourism [177] — так называют экскурсии по местам массовой гибели людей. В восьмисерийном фильме Netflix, посвященном этому феномену, рассказывается, как туристы посещают места, где происходили геноциды, войны и катастрофы [178]. К практикам dark tourism можно отнести и поисковое движение. По меткому выражению Кэтрин Вердери, автора книги «Политическая жизнь мертвых тел», посвященной практикам перезахоронения в постсоциалистических странах, подобные памятники служат мощным инструментом создания коллективной идентичности, помогают обществу провести границы между «мы» и «они». В этом фокусе кажется, что, если бы у современных режимов была такая возможность, они бы каждый год перезахоранивали одни и те же останки — Деникина, Ильина и кого угодно еще. Впрочем, что-то подобное уже происходит с телом Ленина: дискуссия вокруг его возможного погребения давно стала мощным политическим инструментом.
Голландский исследователь Антониус Роббен, изучая места захоронений жертв военной хунты в Аргентине, точно уловил темпоральность практик перезахоронения. По его замечанию, обществу важны даже не сами тела и имена погибших, а процесс установления справедливости, публичная дискуссия и возможность заявлять о своей позиции. Роббен приходит к парадоксальному выводу: возможно, чтобы оставаться субъектами критической политики, телам лучше оставаться безымянными. Ведь, будучи найденными, идентифицированными и подобающе захороненными, они замолкают навсегда и перестают влиять на ход истории.
Глава VII Позитивное отношение к смерти
В 2011 году 27-летняя владелица небольшого похоронного бюро в Лос-Анджелесе (США) Кейтлин Даути завела на YouTube видеоблог «Спроси у похоронного агента» («Ask a Mortician») [179]. В своих роликах Кейтлин подробно рассказывала о разных аспектах смерти в современном мире, а также отвечала на вопросы подписчиков с позиции эксперта. С помощью черного юмора, харизматичной подачи и активно используемого тематического реквизита (гробы, черепа, муляжи тел) она собрала значительную аудиторию: за первые три года существования блога ее видео посмотрели более полутора миллионов человек, а к сегодняшнему дню суммарное число перевалило за 120 миллионов. Среди самых популярных роликов Даути: «Что происходит с человеческими имплантатами после смерти», «Как выглядит кремация изнутри» и «Какие похороны лучше выбрать толстым людям».
Успех блога и высокая активность аудитории вдохновили Кейтлин. В 2012 году она создала сайт под названием «Орден хорошей смерти» (Order of the Good Death), где ведет текстовый блог, дублирует видео, публикует анонсы интересных мероприятий, материалы от партнеров и коллег, продает мерч. С помощью сайта Кейтлин продолжила формировать комьюнити единомышленников — ученых, активистов, бизнесменов и просто сочувствующих. На волне публичности Кейтлин написала две книги о своей работе, которые быстро стали бестселлерами: о похоронных обрядах в разных странах мира и о том, как она стала похоронным директором. Обе книги переведены на русский язык [180].
Рис.29 Кейтлин Даути — одна из самых харизматичных и известных активисток позитивного и осознанного отношения к смерти
Выступая с позиции профессионала похоронной индустрии, Даути говорит о грехах современного погребального бизнеса и критикует «американскую культуру смерти». Она рассказывает о дорогих гробах и искусственно завышенных ценах на похоронные аксессуары, о бальзамации, которая превращает мертвое тело в культурный фетиш, о том, как похоронные агенты наживаются на скорбных эмоциях [181]. Кейтлин и ее единомышленники высказываются за необходимость широкого переосмысления отношения к смерти в западной культуре. Смерть, заявляет Даути, — естественный процесс, его ни в коем случае не надо бояться, сакрализировать или избегать, как это делает современный человек с помощью разнообразных услуг похоронной индустрии; о смерти надо говорить легко и с юмором — как и о жизни [182]. В обобщенном виде посыл Кейтлин мог бы звучать так: со смертью в современном мире явно что-то не так — и с этим надо что-то делать.
Кейтлин не одинока в своем стремлении переосмыслить отношение к смерти. Она и ее сторонники — часть более широкого общественного движения за осознание смерти (Death awareness movement). В него входят люди из самых разных сфер — от работников хосписов, онкопсихологов и креативных похоронных предпринимателей, продающих биоразлагаемые урны для праха, до блогеров, фотографов, представителей нью-эйдж-движений и сторонников крионики или биохакинга. Все эти люди заявляют о своем праве переосмыслять смерть и создают новые площадки для диалога: тематические сайты (вроде TalkDeath), офлайн-встречи (например, Международный симпозиум смерти, проходящий в Торонто, Канада) [183], лектории и даже так называемые death cafe — встречи, на которых люди собираются в обычных кафе, чтобы в течение пары часов поговорить о смерти за чашкой чая и куском пирога [184]. В последние несколько лет попытки анализировать отношение к смерти проявляются и в России: в 2015 году был основан научный журнал «Археология русской смерти», который возглавил автор этой книги; на 2020 год в нескольких городах России (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж) открылись и успешно работают death cafe; темой смерти стали интересоваться СМИ.
Рис.30 В 2011-м Джон Андервуд открыл первое death cafe. В «Кафе смерти» люди встречаются, чтобы поговорить о смерти и умирании, выпить кофе и съесть кусок пирога. Предполагается отсутствие авторитетов — о смерти могут говорить все и что угодно. Death cafe работают в России с 2016 года
Обобщая все эти начинания, можно смело утверждать, что смерть в последние годы стала популярной и модной темой, и о ней говорят самые разные люди по всему миру. Но с чем связан этот бурный интерес и рост движений «энтузиастов смерти»? Откуда они взялись, что их объединяет и что стоит за публичными дискуссиями? Действительно ли со смертью в современном мире что-то не так?
Что не так со смертью
«Энтузиастов смерти» трудно назвать монолитным движением. Один из ведущих мировых исследователей смерти Кен Дока справедливо определяет его как «аморфную, не структурированную сеть индивидов, организаций, различных групп и даже институций, которые имеют отношение к теме смерти» [185]. Но есть ли что-то общее у множества разных инициатив?
На мой взгляд, существует несколько важных черт, которые объединяют представителей разных движений, осмысляющих смерть.
1) Неукротимое желание публично говорить о смерти. Более того: требование признать, что говорить о смерти может кто угодно и как угодно.
С развитием общества смерть стала сложным и многосоставным действием, в которое вовлечены самые разные институции: государство, церковь, медицина, политики, бизнес и многие другие. В результате, как мы увидели в первых шести главах этой книги, умирающие и мертвые оказываются на перепутье различных дискурсов. При этом, по мнению «энтузиастов смерти», смерть должна быть деколонизирована, то есть избавлена от монополии доминирующих институций. С чего врачи и священники взяли, что знают о смерти больше, чем кто-то другой? Как их социальный статус и властная позиция влияют на их мнение о смерти?
Впервые в европейской истории права на публичный и экспертный «разговор о смерти» заявляют сразу множество децентрализованных групп активистов. Так, в середине 2019 года появился сайт, целиком посвященный вопросам деколонизации смерти, — Radical Death Studies [186]. Цель ресурса, согласно манифесту,— «возвращение смерти самим людям». В манифесте также указано, что современному миру стоит быть более внимательным к дискриминации в вопросах смерти и чаще говорить о том, как умирают представители маргинализированных обществом групп. В конечном итоге сторонники RDS, среди которых — исследователи, активисты, журналисты, художники и музыканты, призывают пересмотреть отношение к смерти, которое сформировано белой христианской культурой.
2) Пересмотр табуированного отношения к смерти; признание смерти естественной.
Каждое новое программное заявление, интервью или любой другой публичный текст «энтузиастов смерти» начинается с аксиоматического утверждения о том, что современное общество отрицает смерть и не хочет говорить обо всём, что с ней связано. Подобное положение дел расценивается как однозначное упущение современности, а обществу предписывается отказаться от сакрализации мертвого тела и признать, что мертвый человек естественен и потому не должен быть причиной для страха или объектом отрицания и избегания. На сайте Order of the Good Death продается футболка с надписью «Future corpse», призванная напоминать окружающим, что смерть неизбежна, а любое человеческое тело однажды обязательно станет трупом.
Рис.31 Кейтлин Даути, как и многие другие сторонники позитивного отношения к смерти, призывает пересмотреть традиционную похоронную индустрию и активнее использовать экологические материалы — например биоразлагаемые гробы
В логике «натурализации смерти» развивается множество трендов. Самый заметный — ориентация на эко-и DIY-похороны, когда все приготовления осуществляются родственниками умершего человека, а само погребение соответствует принципам экологической безопасности. В интернете работают несколько сотен сайтов с информацией о том, как самостоятельно организовать свои похороны или погребение близкого человека, сделать гроб, заранее пригласить друзей на поминки, распорядиться, кому перейдут ваши аккаунты в соцсетях и, возможно, завещать превратить свой прах в виниловую пластинку или удобрить им корневую систему дерева. Адепты новых подходов предлагают не хоронить тела в шелковых саванах, а превращать их в компост и удобрения для растений, тем самым возвращая человека в природу, которая его породила. Так, компания UrnaBios предлагает специальные биоразлагаемые урны для праха, а итальянская фирма Capsula Mundi разрабатывает технологию переработки человеческого тела в компост.
Дискурс «натурализации» смерти распространяется и на медицинский контроль над телом — вопросы эвтаназии и ассистированного суицида, искусственного поддержания жизни и границ определения смерти (см. третью главу этой книги).
3) Позитивное восприятие смерти в противовес якобы массово распространенному — негативному.
Смерть — это нормально, и к ней надо относиться максимально позитивно. Позитивизация смерти — часть дискурса абсолютно всех групп «энтузиастов смерти», будь то похоронные стартаперы, которые предлагают превратить ваш прах в керамическую тарелку (фирма Chronicle Cremation Designs), или психологи, ведущие группы поддержки для переживающих утрату. Например, британское движение «Смерть имеет знание» (Dying Matters) использует два лозунга: «Давайте говорить об этом» и «Повышение осведомленности о смерти, процессе умирания и скорби» («Let’s talk about it» и «Raising awareness of dying, death and bereavement»). А основатели проекта ModernLoss [187] призывают делиться личными историями о потере близких людей в коллективном блоге, предполагая, что таким образом горе нормализуется как публичное явление. Сайт TalkDeath регулярно предлагает подборки различных позитивных активностей «энтузиастов смерти»: иллюстраций, подкастов, фильмов и так далее. Другой адепт движения death positive даже открыл собственную пекарню под названием «Кухня фокусника» (Conjurer’s Kitchen), где делает торты и кексы с декором на тему смерти, максимально реалистично показывая части мертвых тел.
Некоторые подобные проекты неплохо зарабатывают, однако небольшие масштабы их деятельности позволяют говорить скорее о ремесленном подходе и искренней вере в свое дело, чем о попытке нажиться на популярной теме.
В этой главе я попытаюсь ответить, откуда взялись адепты нового отношения к смерти, и рассказать, как сформировались их взгляды.
Современное общество начинает разговор о смерти
Вплоть до середины XX века смерть изучали лишь в рамках колониальной антропологии и социологии. Как правило, ученые фокусировались только на верованиях, связанных с представлениями о загробной жизни, идеях связи души и тела. Подобных вопросов, например, касались Эдвард Тайлор в своей работе «Первобытная культура» и Джеймс Фрэзер в культовой книге о мифологии и религии «Золотая ветвь» [188]. В первой четверти XX века вопросы, связанные со смертью и процессом ухода из жизни, попадают в поле зрения французской социологической школы. Значимые работы в этой области создали Роберт Герц, Эмиль Дюркгейм, Марсель Мосс, Арнольд ван Геннеп и другие. Так, Роберт Герц заложил основу для будущих антропологических исследований смерти, продемонстрировав на примере ритуальной жизни аборигенов острова Борнео, что умерший человек исключается из социальной жизни племени не сразу, а постепенно. Эмиль Дюркгейм провел блестящий анализ социальной природы самоубийства: по его мнению, суицид опосредован экономическими кризисами, отсутствием коммуникации (одиночеством), урбанизацией и другими социальными явлениями [189]. Главное, что сделали эти исследователи, — обозначили, что смерть имеет социальную и культурную природу и что ее невозможно полноценно объяснить лишь с точки зрения биологии.
Правда, все эти ученые исследовали не современный им западный мир, а далекие сообщества и племена, проживающие в колониях европейских стран. Такой антропология оставалась вплоть до послевоенного периода; в 1974 году антрополог Йоганнес Фабиан обвиняет коллег в «местечковости» — этому он посвятил статью «Как умирают другие: Размышления об антропологии смерти». Фабиан пишет, что куда легче изучать ритуалы смерти в сообществах, максимально отличных от твоего; однако миссия антрополога состоит в том, чтобы понять человека, а сделать это, не прибегая к анализу самого себя и своего социума, невозможно. Фабиан призывает коллег не бояться писать о собственном опыте столкновений со смертью и делиться рефлексией.
Одним из первых смерть как некий избегаемый объект описал Зигмунд Фрейд в своем эссе «Печаль и меланхолия» (1917 год). Фрейд сопоставлял природу скорби и меланхолии, отмечая, что негативные последствия для человека, переживающего скорбь, более тяжелые, чем у того, кто столкнулся с меланхолией. Скорбящий, по Фрейду, теряет интерес к жизни, лишается положительных эмоций, сталкивается с неврозами. Скорбные состояния автор описывал как реакцию на разрыв связей между индивидом и каким-либо объектом, будь то любимая вещь, работа или погибший близкий человек [190]. Вывод, к которому пришел Фрейд: подобные состояния для человека нежелательны, а потому он подсознательно стремится избежать не только переживаний утраты, но и любых тем, связанных с потерей и смертью [191]. Исторические корни подобных невротических расстройств Фрейд видел в «викторианской морали», вытесняющей темы секса и смерти на периферию сознания: нагота была настолько табуирована, что изобретатели создавали противомастурбационные приспособления, а женщинам не рекомендовалось оголяться даже при муже; смерть же жестко регламентировалась похоронными и поминальными ритуалами [192]. Таким образом, природу неврозов, в том числе вызванных скорбью, Фрейд связывал с эросом и танатосом.
Несмотря на то, что идея бинарности вытеснения и стремления к сексу и смерти не получила широкого развития в самом психоанализе [193], она быстро вышла за пределы дисциплины и стала достоянием большой гуманитарной науки. Так, спустя 40 лет после эссе доктора Фрейда тезис о «табуированности смерти» возник сразу в нескольких работах культурных и исторических антропологов — Джеффри Горера и Филиппа Арьеса. В своей книге «Порнография смерти» (1955) Горер впервые в истории европейской мысли попытался проанализировать западную культуру с позиции меняющегося отношения к смерти. Он, как и Фрейд, писал о роли пуританского воспитания в истории становления британского общества и отмечал связь между вытеснением темы секса в викторианской Англии и отношением к смерти у людей той эпохи. Горер делает вывод, что так же, как и секс, смерть стигматизировалась, обрастала стереотипами и предрассудками. Но самое главное: чем сильнее она вытеснялась, тем более интересной и желанной становилась и тем ярче приукрашивалась. Так, викторианская эпоха не только породила строгие правила по отношению к наготе, но и славилась возросшим интересом к проституции и порнографии. Сегодня смерть, будучи вытесненной на периферию сознания, возвращается к нам в фильмах, книгах, газетах и музыке. Ссылаясь на собственный опыт человека, выросшего среди представителей высшего класса британского общества 1910–1920-х, в котором о смерти старались говорить как можно меньше, Горер ввел в научный оборот концепцию «смерти как порнографии».
Его идеи развил французский историк Филипп Арьес. Он изучал историю смерти от Средневековья до наших дней и, используя фрейдистский тезис о ее особом значении для европейской культуры, выделил несколько последовательно сменяющихся парадигм обсуждения вопроса — от игнорирования смерти в Средние века к романтизации в XIX веке и отрицанию (и даже вытеснению) в веке XX. Арьес полагал, что с развитием моргов, паллиативной медицины и похоронной индустрии тело и смерть были исключены из сферы публичного; смерть стала постыдным феноменом и для умирающего, и для его близких, и для других наблюдающих.
Работы Горера и Арьеса оказали огромное влияние на антропологов и историков середины XX века — об этом можно судить по колоссальному количеству цитат и ссылок на их работы. Следующий знаковый труд середины XX века, в котором также развивался тезис о табуированности темы смерти, — сборник статей 1957 года «Значения смерти» под редакцией психолога Германа Фейфеля. Среди авторов — Герберт Маркузе, Карл Юнг, Пауль Тиллих, Роберт Кастенбаум и другие. В предисловии Фейфель постулирует программный тезис о «далекой смерти»: «Наш социально-репрессивный взгляд на смерть порождает невротическую тревожность, связанную с этим явлением. Воспитание и культура должны быть пронизаны более близким знакомством с нею». Книга имела схожий с работами Арьеса и Горера эффект на массового читателя, дополнила и развила прежние идеи, убеждая людей, что смерть в современную эпоху — «постыдное событие».
В конце XX века идеи о табуированности смерти, пришедшие из мира психоанализа, продолжили колонизировать работы ученых. В 1974 году вышла книга культурного антрополога Эрнеста Беккера «Отрицание смерти», за которую автор позже получил Пулитцеровскую премию. Беккер предположил, что вся человеческая цивилизация является ответом на парализующий и глубоко скрытый в подсознании страх смерти. Если этот страх не вытеснять и не подавлять, то он не даст развиваться и вести нормальную жизнь. С вытеснением и отрицанием смерти Беккер связывает такие элементы человеческой культуры, как героизм, общность и семья. Исследователь спорит с Фрейдом, который предлагал лечить неврозы вроде страха смерти, ведь без этого страха мир замрет, пораженный собственной конечностью. Идеи Беккера позже легли в основу прикладной теории об управлении страхом смерти (ТМТ, или Terror management theory; сформулирована Джеффом Гринбергом, Шелдоном Соломоном и Томом Пищински). Согласно TMT, главное оружие в борьбе со страхом — самоуважение, складывающееся из ощущения правильности своего мировосприятия и своих ценностей, а также способности рефлексировать по поводу своей жизни и будущей смерти.
В то же время вышла работа психиатров Роберта Лифтона и Эрика Олсона «Символическое бессмертие» (1974). Врачи выделили пять типов бессмертия:
1.Естественное бессмертие. Мы умираем, разрушаемся биологически, но остаемся в этом мире на уровне молекул и химических связей. Из этого понимания бессмертия рождаются различные анимистические представления (вера в переселение душ в другие биологические объекты).
2.Бессмертие через продолжение рода. Семейные отношения позволяют человеку не только ощутить течение времени, но и почувствовать сменяемость семейных ролей, испытать важные эмоции к предкам и потомкам.
3.Бессмертие через творчество и культурные продукты. Речь идет не только об объектах искусства, но о культуре в марксистском понимании. Учитель передает свой опыт ученикам, мастер обучает подопечного, ученый вносит вклад в мировую науку. Прогресс как непрерывный процесс накопления знания, в котором может поучаствовать любой, приводит к появлению того, что Роберт Лифтон и Эрик Олсон называют long heritage, буквально — «долгое наследие».
4.Бессмертие в религиозном представлении. Идеи загробной жизни, реинкарнации, вера в духов и магическое есть не что иное, как работа человека со страхом смерти.
5.Бессмертие трансцендентальное. Человек обращается к определенному сенсуалистическому опыту, рассуждая о чувствах и их свойствах, и приписывает отсутствие темпоральных границ, то есть неподвластность смерти, таким чувствам, как любовь, вера, преданность. Именно поэтому любовь, например, противопоставляют смерти: любовь создает жизнь и побеждает смерть.
В 1963 году вышла работа уже упоминаемой Джессики Митфорд об американской культуре смерти. В 1969 году появился труд Кюблер-Росс «О смерти и умирании», в которой тезис о табуированности смерти был встроен в стадиальную теорию переживания горя. Теория Кюблер-Росс легла в основу зарождающейся паллиативной помощи и психологической поддержки людей, переживших утрату. Наконец, в 1976 году вышла работа классика постмодернистской философии Жана Бодрийяра «Символический обмен и смерть», в которой он почти повторил тезис Фрейда: «Быть мертвым — совершенно немыслимая аномалия, по сравнению с ней все остальное пустяки. Смерть — это антиобщественное, неисправимо отклоняющееся от нормы поведение» [194]. Мысль об отрицании смерти так плотно вошла в западное гуманитарное знание, что со временем стала аксиомой. Но насколько она справедлива?
Отрицание отрицания смерти
Были среди исследователей и те, кто оспаривал точку зрения Фрейда и его идейных последователей. Так, Камилла Циммерман и Гэри Родин изучили специализированную литературу на тему смерти, выходившую между 1980 и 2002 годами и содержащую слова и сочетания вроде «отношение к смерти», «отказ», «принятие», «табуированность» [195], и обнаружили, что тезисы об отрицании и табуированности смерти в современной западной культуре чаще всего базируются на одних и тех же аргументах:
1.Табу на разговоры о смерти — якобы люди не привыкли говорить о смерти.
2.Медикализация и технологизация смерти — общество все чаще говорит о смерти как о медицинском событии.
3.Коммерциализация смерти — снижение значимости ритуалов оплакивания и их замена короткими практиками прощания; распространение практик, которые представляют собой «украшение» мертвого тела: например, бальзамация и похоронный мейкап. По мнению сторонников тезиса об отрицании смерти, это является показателем нашего нежелания видеть мертвое тело таким, как оно есть.
Разберем эти аргументы по пунктам.
Табуированность темы смерти
Существует множество явлений, о которых люди говорят редко и неохотно. Многие имеют социальную и экономическую природу: алкоголизм и наркомания, сиротство, попрошайничество. Можем ли мы сказать, что наше нежелание говорить на эти темы является признаком их табуированности? Кажется, справедливее будет замечание, что эти темы стигматизированы, — как и всё, что выпадает из дискурса «счастливой безоблачной жизни». Каждодневное обсуждение перечисленных вопросов не доставляет удовольствия, поэтому люди не спешат посвящать таким беседам свое свободное время.
При этом существуют политические активисты, выступающие за дестигматизацию социальных проблем. Они полагают, что современное общество должно перестать отворачиваться от маргинализированных групп. Схожей логикой руководствуются и энтузиасты смерти: нам нужно принять смерть такой, как она есть, и это поможет сделать общество лучше. Такая позиция отсылает нас к гуманизму, вере в счастливое будущее человечества и левой критике. Но разве каждый не решает сам, как и о чем ему говорить или молчать, что делать или не делать (если это не вредит окружающим)? Может, нужно оставить в покое всех, кто не хочет говорить о смерти за чашечкой кофе и куском пирога? [196]
Медикализация смерти
По мнению энтузиастов смерти, сегодня процесс ухода их жизни находится под юрисдикцией медицинского сообщества. Смерть стала действом, спрятанным за ширмами больничных палат. Но неужели это можно считать результатом осознанной деятельности врачей, ведущей к табуированию темы смерти?
Кажется, медикализацию смерти стоит рассматривать скорее в рамках развития медицинской культуры и трансформации коммуникаций между пациентами, их родственниками, врачами и государством, чем в фокусе культурно и психологически детерминированного отношения к уходу из жизни. Как отмечает антрополог Роберт Блаунер, исчезновения смерти из публичного поля и переход в застенки больниц произошли скорее по демографическим причинам [197]. В последнее столетие структура семьи изменилась, родственные связи стали слабеть, люди стали чаще умирать вне дома. Развитие медицинских учреждений было реакцией на эти процессы, но не их первопричиной.
Коммерциализация похорон
Делегирование организации похорон профессионалам тоже рассматривается как признак табуированности смерти. «Посмотрите, во что превратили смерть алчные похоронные компании! Они делают из мертвых тел красивые куклы с помощью бальзамации, хоронят людей в дорогих гробах и возят их на роскошных катафалках!» — возмущаются «энтузиасты смерти». Но можно ли считать это следствием табу на смерть?
Социолог и профессор университета Бас Тони Уолтер отмечает, что на изменение похоронного ритуала и практик горевания повлияло множество социальных процессов. Среди них — трансформация семьи, урбанизация, рост благосостояния населения, рост продолжительности жизни, проблемы гигиены и так далее [198]. Исследователи убедительно показывают, что многие современные похоронные практики стали возможны благодаря уникальной рыночной конъюнктуре, а не табуированности темы смерти в обществе. Социолог Алан Келлахер отмечает, что фетишизация мертвого тела в американской похоронной культуре объясняется экономической целесообразностью для агентов, а не культурными нормами [199]. В штатах, где законодатели, руководствуясь нормами гигиены, предписывают похоронным бюро иметь комнаты для бальзамации (считается, что бальзамация позволяет снизить риски от контакта с разлагающимися телами), кремация менее популярна, чем там, где такого предписания нет. В таких местах похоронщики просто не предлагают кремацию клиентам, ведь это невыгодно, зато, пытаясь окупить бальзамировочные камеры, которые им навязало руководство штата, активно продают услуги украшения мертвых тел. Но значит ли это, что в разных штатах разная сила табу на смерть? [200]
Смерть и критика современности в России
Разговор о смерти всегда сопряжен с обсуждением множества сложных и порой не менее значимых, чем сама смерть, тем: экологические катастрофы, гендерное и социальное неравенство, неконтролируемый технологический прогресс и так далее. Говорим ли мы о смерти, когда обсуждаем эвтаназию, или в этот момент мы пытаемся понять, какую роль в жизни общества должно брать на себя государство? И не является ли разговор о бессмертии попыткой определить, что сегодня значит быть человеком?
Критика современного общества, якобы извратившего смерть, — часть более широкого критического дискурса. Его носители, вооружившись инструментарием марксистской и постмарксистской философских мыслей, хотят разоблачить капитализм со всеми сопутствующими атрибутами — догматическими религиями, властными иерархиями, дискриминацией, стигматизацией. Смерть для них — мощный и эмоционально насыщенный инструмент, ярко подсвечивающий механизмы неравенства. В одной из своих статей Кен Дока постулирует, что «энтузиасты смерти» — продукт различных социальных движений за права человека и гуманизацию. Среди них — антимилитаризм, движения за сексуальную свободу и право на тело, феминистическое движение и многие другие [201]. Дока показывает, что идеи все этих активистов отражены в постулатах «энтузиастов», а тезис о табуированности темы смерти — скорее удобный предлог для обсуждения грехов современности, чем точное описание реальности.
Повторюсь: движение «энтузиастов смерти» связано с максимально широким пониманием базовых прав человека, главное из которых — самостоятельно распоряжаться своим телом и своей жизнью. В России, где базовые права и свободы граждан регулярно не соблюдаются, транслировать и отстаивать подобный дискурс сложно. О какой эвтаназии или паллиативной помощи можно говорить в стране, где практикуют пытки и покушаются на свободу слова? Как подчеркивает исследователь Олег Хархордин, категория «достоинства» в России традиционно связывается с социальным статусом, а не с врожденным качеством человека, как это принято на Западе. Значит ли это, что смерть россияне тоже осмысляют как-то иначе?
В последние годы в России стали чаще обсуждать отношение к смерти. В конце 2010-х усилиями онкопсихолога Екатерины Печуричко и других активистов в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и Калининграде заработали death cafe. В 2018 году в московском арт-пространстве ArtPlay благодаря активистке и дизайнеру Наталье Шипиловой прошел Memory Garden Day — однодневный фестиваль памяти, на котором люди обменивались воспоминаниями о своих умерших близких. В 2019 году в Нижегородском крематории заработал художественный проект арт-активиста Артема Филатова — мемориальный сад с акустическим сопровождением, в котором каждый желающий может высадить растение или дерево в память об умершем. О смерти и умирании в России регулярно пишут крупные СМИ: в разное время большие материалы о похоронном рынке, паллиативной помощи, death cafe, эвтаназии выходили в таких изданиях, как Lenta.ru, «Медуза», «Афиша», «Сноб» и других.
Смерть осмысляется и через сарказм и карнавал: например, появившаяся в 2017 году петербургская художественная коллаборация «Партия мертвых», представляющая собой, по словам основателя Максима Евстропова, своеобразный ответ на «попытки властей говорить от лица мертвых», устраивает костюмированные шествия с плакатами «Мертвых больше!», «Мертвые против войны», «Государство тебя убило» и так далее. По словам Евстропова, «Партия мертвых — реакция <…> на обилие некрофилии в современной культурной и политической ситуации в России. Создается впечатление, что граница между миром живых и миром мертвых в России нарушена, а культурное пространство просто наводнили мертвецы. С одной стороны, мертвые не вполне мертвы, с другой стороны, живые не вполне живы. Всё очень мертво, особенно в политическом плане» [202].
Власть пытается ответить на общественный запрос на разговоры о смерти, но получается пока не очень убедительно. Например, в 2016 году Роскомнадзор предложил изданиям отказаться от употребления слов «самоубийство», «суицид», «самоубийца»; тема развития крематориев наталкивается на противодействие со стороны церковных властей; вопрос создания законодательной базы для эвтаназии откладывается на неопределенный срок.
Как отмечает социолог и культуролог Светлана Еремеева, «отношение к смерти (или — со смертью) — способ (само)диагностики состояния общества и человека. Возвращение к понятию достойной смерти — признак поиска нормы жизни. Создание дискурса о смерти — признак жизни». Возможно, сегодня мы в России так активно пытаемся переосмыслить смерть, потому что для нас это — единственный доступный и уважительный повод серьезно поговорить о жизни в стране.
Так давайте поговорим о смерти.
Послесловие
Современный западный человек не умеет говорить о смерти. Но не потому что боится или избегает ее. Его неумение — продукт развития европейской мысли последних столетий. В центре внимания западной философии всегда находился вопрос противоречивой человеческой природы, причем не только физиологической, но и духовной. Обладает ли человек свободой воли? Добрый он по натуре или все-таки злой? Стремится ли он сделать мир вокруг лучше и справедливее? Как человек может быть счастлив? Дискуссии мыслителей, политиков и юристов на эти и другие темы повлияли на то, как мы говорим о смерти.
Как я не раз показал в этой книге, любой разговор о смерти — на самом деле разговор о жизни. Мы готовы признать горе опасной болезнью, требующей быстрого излечения, потому что наш идеал — счастливая жизнь, полная удовольствий. Наше знание о горе сформировано популярностью дарвинизма, психоанализа и утилитаризма на стыке XIX и XX веков, которые выдвинули концепцию жизни как постоянного поиска удовольствия. Вопрос эвтаназии приводит нас к разговору о достоинстве человека, его правах и возможностях их реализации. Основа современной паллиативной помощи — европеизированное представление о субъектности, в котором человек равно потребитель. Комфортное и достойное умирание для нас — это потребление услуг с иллюзией выбора, и именно в этой логике конструируется хосписное пространство и его наполнение. Наконец, прикладные технологии поиска бессмертия отражают историческую конкуренцию разных моделей «человека»: спор между идеалистами и материалистами, где для одних человек сокрыт в духе, сознании или опыте, а для других — в телесной оболочке или в отдельном органе. И даже современная популярная культура, так умело играющая с образами смерти, на самом деле занята поисками ответов на вечные философские вопросы: что есть человек?
Очевидно, что человечество продолжит переосмыслять смерть. Как мы будем говорить о ней в XXI веке? Попытаюсь смоделировать основные направления мысли уже сейчас.
Сегодня население Земли превышает 7 миллиардов, и эта цифра постоянно растет. А еще население стремительно стареет: если в 1900 году только 4% жителей планеты было старше 65 лет, то к 1960 году этот показатель вырос вдвое, а сейчас вплотную приблизился к 13%, причем в Европе он уже равен 25%. Если демографический тренд не изменится, то в середине XXI века каждый пятый будет старше 65 лет, а к концу века — каждый четвертый.
Достижения медицины не только увеличили продолжительность жизни, но и трансформировали умирание: теперь человек перед кончиной может десятилетиями бороться со множеством опасных изматывающих заболеваний. Это актуализирует сложный вопрос об осмысленном умирании, о достойной жизни и качестве смерти. Стареющее население, страдающее от болезней, ставит нас перед необходимостью переосмыслить эффективность затрат на здравоохранение и понять, откуда брать средства на всех нуждающихся. Возможно, уже к середине XXI века мы увидим небывалый всплеск интереса к эвтаназии не как к «праву на смерть», а как к вполне практическому решению накопившихся проблем.
Среди причин роста интереса к теме смерти можно назвать и разрушительные войны, геноциды, эпидемии, теракты и развитие новых медиа. Как в Средние века чума породила Danse Macabre, так и современная мортальность акцентирует внимание людей на смерти, требуя от них ее чуткого и тонкого осмысления. Пандемия коронавируса вскрыла множество страхов человечества, которые быстро вылились в теории заговора: кто-то должен быть виноват в распространении вируса, и не так уж важно, китайское правительство или Билл Гейтс. Показательно, что авторы таких теорий акцентируются на вопросах неравенства, власти, деспотизма: якобы вирус запустили специально, чтобы убить всех ненужных, лишних людей на планете, подарив жизнь и процветание избранным. Несмотря на параноидальный характер, эти теории точно схватывают главный вопрос, тревожащий человечество: необходимость решать, кому жить на переполненной планете, а кому умирать.
Вместе с развитием повседневных технологий меняется наше восприятие тела. Мы всё чаще отдаем различные повседневные задачи на откуп гаджетам. Приложения контролируют и анализируют наши тела, измеряя количество поглощенных калорий и сделанных за сутки шагов, а также меняют нашу привычную коммуникацию — мы всё чаще общаемся с другими людьми через интернет. Разумеется, этот тренд сказывается и на нашем восприятии смерти. Технологии удаленной коммуникации входят в похоронные практики и ритуалы прощания. И вновь примером могут служить коронавирусные реалии: онлайн-похороны, на которых люди присутствуют по видеосвязи, становятся вынужденной мерой, продиктованной изоляцией. Со временем этот опыт может войти в привычку и стать новой формой ритуала. Но станем ли мы менее трепетно относиться к похоронам, которые проходят онлайн? Возможно, впоследствии вокруг смерти выстроится новая система иерархий и привилегий: престижным и даже роскошным будет считаться умирать не в госпиталях, а дома; устраивать похороны со множеством живых гостей, а не онлайн.
Как мы будем говорить о смерти в XXI веке, решается уже сейчас. Одно можно сказать с уверенностью: смерть, как и 100, и 200 лет назад, является универсальным инструментом познания мира и человека. Чем больше мы говорим о смерти, тем лучше понимаем самих себя.
Список литературы
Глава I. Горе и скорбь: как и почему мы оплакиваем умерших
Бертон С.Анатомия меланхолии / перевод, статьи и комментарии А. Г. Ингера. М.: Прогресс-Традиция, 2005.
Ленинградцы. Блокадные дневники: из фондов Государственного мемориального музея обороны и блокады. Лениздат, 2014.
Линдеманн Э. Клиника острого горя. Психология эмоций / под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. ГиппенрейтеС.М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.
Сюами А. Елизаветинская Англия. М.: Вече, 2016.
Archer J. The Nature of Grief: The Evolution and Psychology of Reactions to Loss. London: Routledge, 1999.
Bowlby J. Attachment and Loss: Sadness and Depression. Vol. III. London: Hogarth Press, 1980.
Brinkmann S. The grieving animal: Grief as a foundational emotion // Theory & Psychology. 2018. № 28(2). С.193–207.
Buglass E. Grief and bereavement theories // Nursing Standard. 2010. № 24(41). С.44–47.
Clayton С., Desmarais L., Winokur G. A study of normal bereavement // American Journal of Psychiatry. 1968. № 125. С.168–178.
Clayton С.J., Halikas J.A., Maurice W.L. The depression of widowhood // British Journal of Psychiatry. 1972. № 120. С.71–78.
Corr C. Coping With Dying: Lessons We Should and Should Not Learn From the Work of Elisabeth Kübler-Ross // Death Studies. 1993. № 17. С.69–83.
Corr C. Enhancing the concept of disenfranchised grief // Omega. 1998. № 38. С.1–20.
Cunsolo A., Ellis N. Ecological grief as a mental health response to climate change-related loss // Nature Climate Change. 2018. № 8(4). С.275–281.
Darwin Ch. The expression of the emotions in man and animals. 1st ed. London: John Murray, 1872.
Davies B. Long-term outcomes of adolescent sibling bereavement // Journal of Adolescent Research. 1991. № 6(1). С.70–82.
Doka K. Disenfranchised Grief // Living with Grief: Loss in Later Life / ed. by Kenneth J. Doka. Washington, D.C.: The Hospice Foundation of America, 2002.
Engel G. Is Grief a Disease? // Psychosomatic Medicine. 1961. № 23.
Elias N. On human beings and their emotions: A process-sociological essay // The body: Social process and cultural theory / ed. by M. Featherstone, M. Hepworth, B. S. Turner. London: Sage, 1991
Furedi F. Therapy Culture: Cultivating Vulnerability in an Uncertain Age. London: Routledge, 2004.
Giles С. Reactions of women to perinatal death // Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology. 1970. № 10.
Granek L. Grief as pathology: The evolution of grief theory in psychology from Freud to the present // History of Psychology. 2010. № 13(1).
Granek L. Mourning sickness: The politicizations of grief // Review of General Psychology. 2014. № 18(2).
Harvey J., Miller E. Toward a Psychology of Loss // Psychological Science. 1998. № 9(6).
Kadar D., Ning С., Ran Y. Public ritual apology — A case study of Chinese // Discourse, Context & Media. 2018. № 26.
Kastenbaum R. Death, society, and human experience. Boston, MA: Pearson; Allyn and Bacon, 2007.
Lindemann E. The symptomatology and management of acute grief // American Journal of Psychiatry. 1944. № 101.
Marris С. Widows and their Families. London: Routledge and Kegan Paul, 1958.
Marris С. Loss and Change. London: Routledge and Kegan Paul, 1974.
Masten A., Best K., Garmezy N. Resilience and development: Contributions from the study of children who overcome adversity // Development and Psychopathology. 1990. № 2.
Miller М. Freud and the Bolsheviks: Psychoanalysis in Imperial Russia and the Soviet Union. New Haven: Yale University Press, 1998.
Neimeyer R. Lessons of Loss: A Guide to Coping. New York: McGraw-Hill, 1998.
Osterweis M., Solomon F., Green M. Bereavement: reactions, consequences, and care. Toward the biology of grieving. Institute of Medicine: National Academy Press, 1984.
Parkes C. Grief as an illness // New Society. London. 1964. № 3(80).
Parkes C. Bereavement in adult life // British Medical Journal. 1998. № 316(7134).
Rush B. Medical Inquiries and Observations Upon The Diseases Of The Mind. 1812.
Stroebe W., Schut H. Risk factors in bereavement outcome: a methodological and empirical review // Handbook of Bereavement Research: Consequences, Coping, and Care / ed. by M. S. Stroebe et al. Washington, DC: American Psychological Association, 2001.
Suleiman S. R. Crisis of memory and the second world war. Cambridge, MA; L.: Harvard University Press, 2006.
Thompson J. Psychological Aspects of Nuclear War. Leicester: British Psychological Society, 1985.
Tomarken A. et al. Factors of complicated grief pre-death in caregivers of cancer patients // Psycho Oncology. 2008. № 17(2).
Tyson-Rawson K. Bereavement in adolescence // Handbook of adolescent death and bereavement / ed. by C. A. Corr, D. E. Balk. New York: Springer Publishing, 1996.
Van Doorn C. et al. The influence of marital quality and attachment styles on traumatic grief and depressive symptoms // The Journal of Nervous and Mental Disease. 1998. № 186(9).
Walter T. A new model of grief: Bereavement and biography // Mortality. 1996. № 1(1).
Walter T. What Death Means Now: Thinking Critically About Dying and Grieving. Bristol, U. K.: Policy Press, 2017.
Worthen V. Psychotherapy and Catholic Confession // Journal of Religion and Health. 1974. № 13(4).
Глава II. Право на смерть и обязанность жить: история эвтаназии
Бадью А. Этика: Очерк о сознании Зла / пеС.с франц. В. Е. Лапицкого. СПб.: Machina, 2006.
Зенкин С. Работы о теории: Статьи. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
Федорова К., Маслов Б., Хархордин О. Жить с достоинством: сборник статей / под ред. О. Хархордина. СПб.: Издательство ЕУСПб, 2019.
Behuniak S. Death with “dignity”: The wedge that divides the disability rights movement from the right to die movement // Politics and the Life Sciences. 2011. № 30(1).
Bender L. A feminist analysis of physician-assisted dying and voluntary active euthanasia // Tennessee Law Review. 1992. № 59(3) (Spring).
Cassell E. The Nature of Suffering and the Goals of Medicine. New York: Oxford University Press, 1991.
Castano E. et al. Ideology, Fear of Death, and Death Anxiety // Political Psychology. 2011. № 32. Dowbiggin I. A Merciful End: The Euthanasia Movement in Modern America. New York: Oxford University Press, 2003.
Dowbiggin I. A Concise History of Euthanasia: Life, Death, God, and Medicine. Critical Issues in History. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2005.
Emanuel E. The History of Euthanasia Debates in the United States and Britain // Annals of Internal Medicine. 1994. № 121(10) (November 15).
Emanuel L. Regulating How We Die: The Ethical, Medical, and Legal Issues Surrounding Physician-Assisted Suicide // The Journal of Legal Medicine. 1999.
Fink S. Five Days at Memorial: Life and Death in a Storm-Ravaged Hospital. Crown, 2013.
Ganzini L. et al. Physicians’ experiences with the Oregon Death with Dignity Act // The New England Journal of Medicine. 2000. № 342.
Green J. Beyond a Good Death: The Anthropology of Modern Dying. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 2008.
Kaufman S. In the Shadow of “Death with Dignity”: Medicine and Cultural Quandaries of the Vegetative State // American Anthropologist: New Series. 2000. № 102(1).
Lester D., Templer D. Death Anxiety Scales: A Dialogue // Omega. 1992. № 26.
Lewy G. Assisted suicide in US and Europe. New York: Oxford University Press, Inc; 2011.
Math S., Chaturvedi S. Euthanasia: right to life vs. right to die // The Indian Journal of Medical Research. 2012. № 136(6).
McKhann C. A Time to Die: The Place for Physician Assistance. New Haven, CT: Yale University Press, 1999.
Meier D. et al. A national survey of physician-assisted suicide and euthanasia in the United States // The New England Journal of Medicine. 1998. № 338.
Norwood F. The Maintenance of Life: Preventing Social Death through Euthanasia Talk and End-of‐Life Care: Lessons from the Netherlands / ed. by С. J. Stewart, A. Strathern. Durham, NC: Carolina Academic Press, 2009.
Norwood F. End of Life Choices // International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences / ed. by N. J. Smelser, С. B. Baltes. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, 2015.
O’Malley C. Andreas Vesalius of Brussels, 1514–1564. Berkeley: University of California Press, 1964.
Paust J. The Human Right to Die with Dignity: A Policy-Oriented Essay // 17 Human Rights Quarterly. 1995. № 463 / University of Houston Law Center, № 2014-A-15.
Seymour V. The Human-Nature Relationship and Its Impact on Health: A Critical Review // Front Public Health. 2016. № 4.
Strathern M. After Nature. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
Van Hooff A. Ancient euthanasia: “good death” and the doctor in the graeco-Roman world // Social Science & Medicine. 2004. № 58(5).
Van der Maas С., Van Delden J. Euthanasia and other medical decisions concerning the end of life // The Lancet. 1991. № 338.
Wolf S. M. Gender, Feminism, and Death: Physician-Assisted Suicide and Euthanasia: A Multicultural Approach // Applied Ethics: A Multicultural Approach / ed. by L. May. 5th ed. Pearson Education, 2010.
Глава III. Между телом и душой: как появилась паллиативная помощь
Глебова М. Мероприятия по профилактике рака в СССР // Материалы пленума Всесоюзного общества онкологов. Ленинград, 1968.
Глебова М., Вирин И. Патронаж онкологических больных. Л.: Медицина, 1982.
Гнатышак А. Учебное пособие по общей клинической онкологии. М.: Медицина, 1975.
Казем-Бек М. Дневники. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2016.
Кобылин И. История боли: аффект, языковые игры и биополитика страдания // Новое литературное обозрение. 2017. № 3 (145).
Миркович Т. М. Российское общество Красного Креста и общины сестер милосердия: Заметка запасной сестры милосердия Красного Креста об одной из наиболее важных причин, вредно влияющих на постановку вопроса об уходе за больными и ранеными в России. СПб., 1910.
Петерсон Б. Ранняя диагностика рака и вопросы деонтологии // Медицинская этика и деонтология. М.: Знание, 1983.
Саламон Л. Финансовый рычаг добра: Новые горизонты благотворительности и социального инвестирования. М.: Альпина Паблишер, 2016.
Abreu L. Hospital Life: Theory and Practice from the Medieval to the Modern. Peter Lang International Academic Publishers, 2013.
Bowers B. The Medieval Hospital and Medical Practice. Ashgate Publishing Limited, 2007.
Borobio D. An Enquiry into Healing Anointing in the Early Church // The Pastoral Care of the Sick ed. by M. Collins, D. N. Power. Concilium, 19911992.
Bourke J. The Story of Pain: From Prayer to Painkillers. Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 2014.
Dallenbach K. Pain: history and present status // The American Journal of Psychology. 1939. № 52(3).
Fissell M. Introduction: Women, Health, and Healing in Early Modern Europe // Bulletin of the History of Medicine. 2008. № 82(1).
Fitts W., Ravdin I. What Philadelphia physicians tell patients with cancer // The Journal of the American Medical Association. 1953. № 7(153), issue 10.
Green M. Women’s Medical Practice and Health Care in Medieval Europe // Sisters and Workers in the Middle Ages / ed. by J. M. Bennett et al. University of Chicago Press, 1989.
Harkness D. A View from the Streets: Women and Medical Work in Elizabethan London // Bulletin of the History of Medicine. 2008. № 82(1).
Lynch T., Connor S., Clark D. Mapping levels of palliative care development: a global update // Journal of Pain and Symptom Management. 2013. № 45(6).
Moscoso J. Pain: A Cultural History / trans. by S. Thomas, С. House. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.
Meldrum M. A capsule history of pain management // The Journal of the American Medical Association. 2003. № 290(18).
Novack D. et al. Changes in physicians attitudes toward telling the cancer patient // The Journal of the American Medical Association. 1979. № 241(9).
Orme N., Webster M. The English Hospital. Yale University Press, 1995.
Rawcliffe C. Medicine and Society in Later Medieval England. Stroud: Sutton, 1997.
Rey R. The History of Pain. Cambridge, Mass: Harvard University Press; 1993
Robbins J. Caring for the Dying Patient and the Family. Taylor & Francis, 1983.
Rosenberg C. The therapeutic revolution: Medicine, meaning and social change in nineteenth century America // Perspectives in Biology and Medicine. 1977. № 20(4).
Saunders C. The evolution of palliative care // The Journal of the Royal Society of Medicine. 2001. № 94(9).
Глава IV. Новые лики бессмертия: от идеи воскрешения до цифровых клонов
Велманс М. Как отличать концептуальные моменты от эмпирических при изучении сознания // Методология и история психологии. 2009. Т. 4, вып. 3.
Власов В. Источник молодости // Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. СПб.: Азбука-классика, 2010. Т. 4.
Воробьев М. Очень краткое рассуждение о бессмертии души. 2017. URL: -kratkoe-rassuzhdenie-o-bessmertii-dushi.
Корбен А., Куртин Ж. Ж., Вигарелло Ж. История тела: в 3 т. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
Ламонт К. Иллюзия бессмертия / пеС.с англ.: А. В. Старостина. М.: Политиздат, 1984.
Abbott M. Life Cycles in England, 1560–1720: Cradle to Grave. Routledge, 1996.
Appleyard B. How to Live Forever or Die Trying: On the New Immortality. New York: Simon & Schuster, 2007.
Bynum C. Death and Resurrection in the Middle Ages: Some Modern Implications // Proceedings of the American Philosophical Society. 1998. № 142(4).
Cave S. Immortality: The Quest to Live Forever and How It Drives Civilization. London: Biteback Publishing, 2013.
Dartigues A. Resurrection of the Dead in Encyclopedia of Christian Theology. Vol. 3 / ed. by J.-Y. Lacoste. New York: Routledge, 2005.
Dick С. We Can Remember It for You Wholesale // The Magazine of Fantasy & Science Fiction. 1966. April.
Digital Death: Mortality and Beyond in the Online Age / ed. by C. M. Moreman, A. D. Lewis. 2014.
Florian V., Mikulincer M. Symbolic Immortality and the Management of the Terror of Death // Journal of Personality and Social Psychology. 1998. № 74(3).
Gollner A. The Book of Immortality: The Science, Belief and Magic Behind Living Forever. London: Scribner, 2013.
Haraway, D. A Cyborg manifesto: Science, Technology, and Socialist-feminism in the Late Twentieth Century // Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge, 1991.
Huberman J. Immortality transformed: mind cloning, transhumanism and the quest for digital immortality // Mortality. 2018. № 23(1).
Hughes J. The Politics of Transhumanism and the Techno-Millennial Imagination, 1626–2030 // Zygon. 2012. № 47(4).
Jacobsen, M. H. Sociology, mortality and solidarity. An Interview with Zygmunt Bauman on death, dying and immortality // Mortality. 2011. № 16.
Laqueur T. The Work of the Dead: A Cultural History of Mortal Remains. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2015.
Madoff R. Immortality and the Law: The Rising Power of the American Dead. Yale University Press, 2010.
Marcum J. A. Biomechanical and phenomenological models of the body, the meaning of illness and quality of care // Medicine, Health Care and Philosophy. 2004. № 7.
Mehta N. Mind-body Dualism: A critique from a Health Perspective // Mens Sana Monography. 2011. № 9(1).
Pecchinenda G. The Genome and the Imaginary: Notes on the Sociology of Death and the Culture of Immortality // International Review of Sociology. 2007. № 17(1).
Pecchinenda G. The neuronal identity: strategies of immortality in contemporary Western culture // Postmortal Society: Towards a Sociology of Immortality / ed. by M. H. Jacobsen. London: Routledge, 2017.
van der Kolk B. The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma. New York: Viking Press, 2014.
Глава V. Смерть в поп-культуре
Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / пер. с франц. и послесл. Д. Кралечкина; науч. ред. В. Кузнецов. Екатеринбург: У-Фактория, 2007.
Ломброзо Ч. Преступный человек. М.: Эксмо; МИДГАРД, 2005.
Павлов А. В. Телемертвецы: возникновение сериалов о зомби // Логос. 2013. № 3 (93).
Ракитин А. Социализм не порождает преступности. Серийная преступность в СССР: попытка историко-криминалистического анализа // Кабинетный ученый. 2016.
Allué S. The Aesthetics of Serial Killing: Working against Ethics in “The Silence of the Lambs” (1988) and “American Psycho” (1991) // Atlantis. 2002. № 24(2).
Christie I. Sound of the Beast: The Complete Headbanging History of Heavy Metal. HarperCollins, 2010.
Denham J. Collecting the dead: art, antique and “aura” in personal collections of murderabilia // Mortality. 2019. DOI: 10.1080/13576275.2019.1605985.
Durkin K. Death, dying, and the dead in popular culture // Handbook of death and dying / ed. by C. D. Bryant, D. L. Peck. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc., 2003.
Egger, S. The Killers Among Us: Examination of Serial Murder and Its Investigations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2002.
Foltyn J. Dead famous and dead sexy: Popular culture, forensics, and the rise of the corpse // Mortality. 2008. № 13(2).
Friedman L. Crime Without Punishment: Aspects of the History of Homicide. Cambridge University Press, 2018. May 31.
Gibson, D. Serial Murder and Media Circuses. Westport, CT: Praeger, 2006.
Graves Z. Zombies: The complete guide to the world of the living dead. London: Sphere, 2010.
Haggerty, K. Modern serial killers // Crime Media and Culture. 2009. № 5(2).
Huesmann L., Moise-Titus J. Longitudinal Relations Between Children’s Exposure to TV Violence and Their Aggressive and Violent Behavior in Young Adulthood: 1977–1992. 2003.
Jenkins С. Using Murder: The Social Construction of Serial Homicide. New York: Aldine de Gruyter, 1994.
Kearl M. Death in Popular Culture // Death: Current Perspectives / ed. by J. B. Williamson, E. S. Shneidman. 4th ed. Mountain View, CA: Mayfield, 1995. С. 23–30.
Khapaeva D. The Celebration of Death in Contemporary Culture. Michigan: University of Michigan Press, 2017.
Mudrian, A. Choosing death: The improbable history of death metal & grindcore. Los Angeles, CA: Feral House, 2004.
Nock S. The Costs of Privacy: Surveillance and Reputation in America, New York: Aldine de Gruyter, 1993.
Russell J. Book of the dead: the complete history of zombie cinema FAB. England: Godalming, 2005.
Seltzer M. Serial Killers: Death and Life in America’s Wound Culture. London: Routledge, 1998.
Soothill, K. The serial killer industry // The Journal of Forensic Psychiatry. 1993. № 4(2).
Spierenburg С. A History of Murder: Personal Violence in Europe from the Middle Ages to the Present. Cambridge: Polity Press, 2008.
Spierenburg С. Violence in Europe: historical and contemporary perspectives / ed. by S. Body-Gendrot. Springer, 2009.
Shakespeare S., S., Richard N. W. The swarming logic of inversion and the elevation of Satan // Helvet: A Journal of Black Metal Theory. 2015. № 2.
Tithecott R. Of Men and Monsters: Jeffrey Dahmer and the Construction of the Serial Killer. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1999.
Vronsky С. Serial Killers: The Method and Madness of Monsters. Penguin-Berkley, 2004.
Глава VI. Перезахоронения и борьба за права мертвецов
Воскобойников О. Кто такой средневековый человек? 2019. URL: .
Гуревич А. Я. Индивид и социум на средневековом Западе. М., 2005.
Джессоп Б. Государство: прошлое, настоящее и будущее. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019.
Марей А. О Боге и его наместниках: христианская концепция власти // Полития. 2019. № 2 (93).
Флиге И. Сандармох: драматургия смыслов / предисл. О. Николаева. СПб.: НесторИстория, 2019.
Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999.
Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. Алетейя, 1998.
Mbembe A. Necropolitics // Public Culture. 2003. № 15(1).
Nadelmann K. H. Mancini’s Nationality Rule and Non-Unified Legal Systems: Nationality versus Domicile // The American Journal of Comparative Law. 1969. № 17(3).
Глава VII. Позитивное отношение к смерти
Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.: Прогресс-Академия, 1992.
Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000.
Мохов С. В. Смерть как проблема исследования в социальной и исторической антропологии: генезис идей // Журнал социологии и социальной антропологии. 2016. № 3.
Мохов С. Рождение и смерть похоронной индустрии: от средневековых погостов до цифрового бессмертия. М.: Common place, 2018.
Руднев В. П. Введение в анализ депрессии // Логос. 2001. № 5
Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М.: Политиздат, 1983.
Хабермас Ю. Модерн — незавершенный проект // Вопросы философии. 1992. № 4.
Blauner R. Death and Social Structure // Psychology. 1966. № 29..
Boase T. A. Death in the Middle Ages: Mortality, Judgment and Remembrance. New York: McGraw-Hill, 1972.
Doka K. The Death Awareness Movement — Description, History, and Analysis // Handbook of Death and Dying / ed. by C. Bryant. London: Sage, 2003.
Doughty C. Smoke Gets in Your Eyes: And Other Lessons from the Crematory. New York: W. W. Norton & Company, 2014.
Doughty C. From Here to Eternity: Traveling the World to Find the Good Death. New York: W. W. Norton & Company, 2017.
Fabian J. How Others Die: Reflections on the Anthropology of Death // Death, Mourning, and Burial: A Cross-Cultural Reader / ed. by A. C. G. M. Robben. Malden: Black well, 2004.
Hart B., Sainsbury С., Short S. Whose Dying? A Sociological Critique of the “Good Death” // Mortality. 1998. № 3.
Jupp С. C., Howarth G. The Changing Face of Death: Historical Accounts of Death, Dying and Disposal. Basingstoke: Macmillan Publishers Limited, 1997.
Kellehear A. Are We a Death-Denying Society? // A SocioLogical Review. Social Science & Medicine. 1984. № 18.
Lifton R., Olson E. Living and Dying. New York: Praeger, 1974.
Mitford J. The American Way of Death. New York: Simon & Schuster, 1963.
Tradii L., Robert M. Do We Deny Death? Part II: Critiques of the Death-Denial Thesis // Mortality. 2017.
Walter T. Modern Death: Taboo or Not Taboo? // Sociology. 1991. № 25.
Walter T. Three Ways to Arrange a Funeral: Mortuary Variation in the Modern West // Mortality. 2005. № 10(3).
Walter T. Why Different Countries Manage Death Differently: A Comparative Analysis of Modern Urban Societies // The British Journal of Sociology. 2012. № 63(1).
Zimmermann C. Death Denial: Obstacle or Instrument for Palliative Care? An Analysis of Clinical Literature // Sociology of Health & Illness. 2007. № 29(2).
Zimmermann C., Rodin G. The Denial of Death Thesis: Sociological Critique and Implications for Palliative Care // Palliative Medicine. 2004. № 18(2).
Список иллюстраций
Рис. 1 — Общественное достояние.
Рис. 2 — Библиотека редких книг и рукописей Бейнеке, Йельский университет; общественное достояние.
Рис. 3 — Кен Росс.
Рис. 4 — Ян Николсон PA Images Getty Images
Рис. 5 — Линн Джонсон / National Geographic Society.
Рис. 6 — Кадр из фильма «Mar adentro» («Море внутри») by Alejandro Amenaba, 2004 / Legion-Media.
Рис. 7 — Марк Плюим.
Рис. 8 — Associated Press / East News.
Рис. 9 — Алекс Бэнник, ABID Design (NL), и Филип Ничке, Exit International (NL).
Рис. 10 — Общественное достояние.
Рис. 11 — Общественное достояние.
Рис. 12 — Общественное достояние.
Рис. 13 — Предоставлено музеем Джорджа Истмана.
Рис. 14 — GeorgiosArt / iStock by Getty Images.
Рис. 15 — Из коллекции Сергея Максимишина.
Рис. 16 — Общественное достояние.
Рис. 17 — Дерек Байес.
Рис. 18 — Общественное достояние.
Рис. 19 — Общественное достояние.
Рис. 20 — Предоставлено Джосиа Зайнером.
Рис. 21 — Валентин Флорауд / Reuters Pictures.
Рис. 22 — Иван Напреенко, Сергей Алый.
Рис. 23 — Стив Ичнер / WireImage / Getty Images.
Рис. 24 — Марко Угарте / Associated Press / East News.
Рис. 25 — Общественное достояние.
Рис. 26 — Общественное достояние.
Рис. 27 — Ирина Тумакова.
Рис. 28 — Руслан Кальницкий / Legion-Media.
Рис. 29 — Джефф Минтон.
Рис. 30 — Лиззи Майлс.
Рис. 31 — Холли Андрес.
Примечания
Walter, T. What Death Means Now: Thinking Critically About Dying and Grieving. Bristol, U. K.: Policy Press, 2017.
Например, на порталах grief.com и whatsyourgrief.com.
Cunsolo, A., Ellis, N. R. Ecological grief as a mental health response to climate change-related loss // Nature Climate Change. 2018. № 8(4). С. 275–281.
Kastenbaum, R. Death, society, and human experience. Boston, MA: Pearson/Allyn and Bacon. 2007.
Сюами, А. Елизаветинская Англия. М.: Вече, 2016. С. 333–334.
Книга переведена на русский язык. Анатомия меланхолии / перевод, статьи и комментарии А. Г. Ингера. М.: Прогресс-Традиция, 2005.
Rush, B. Medical Inquiries and Observations Upon The Diseases Of The Mind. Grigg, 1830.
Darwin, C. R. The expression of the emotions in man and animals. John Murray, 1872.
Archer, J. The Nature of Grief: The Evolution and Psychology of Reactions to Loss. Routledge, 1999.
Bereavement: reactions, consequences, and care / ed. by M. Osterweis, F. Solomon, M. Green / Глава 6. Toward the biology of grieving. Committee for the Study of Health Consequences of the Stress of Bereavement. National Academy Press, 1984.
Granek L. Grief as pathology: The evolution of grief theory in psychology from Freud to the present // History of Psychology, 2010. № 13 (1). С. 46–73.
Brinkmann, S. The grieving animal: Grief as a foundational emotion // Theory & Psychology. 2018. № 28(2). С.193–207.
Линдеманн, Э. Клиника острого горя. Психология эмоций. Тексты / под ред. В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.
Lindemann, E. The symptomatology and management of acute grief // American Journal of Psychiatry. 1944. № 101. С. 141–148,
Harvey, J. H.; Miller, E. D. Toward a Psychology of Loss // Psychological Science. 1998. № 9(6). С. 429–434.
Bowlby, J. Attachment and Loss: Sadness and Depression. Volume III. London: Hogarth Press, 1980.
Parkes, C. M. Bereavement in adult life // British Medical Journal. 1998. № 316(7134). С. 856–859.
Buglass, E. Grief and bereavement theories // Nursing Standard. 2010. № 24(41). С. 44–47.
Engel, G. Is Grief a Disease? // Psychosomatic Medicine. 1961. № 23. С. 18–22.
Giles, P. F. H. Reactions of women to perinatal death // Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology. 1970. № 10. С. 207–210.
Marris, P. Widows and their Families. London: Routledge and Kegan Paul, 1958.
Marris, P. Loss and Change. London: Routledge and Kegan Paul, 1974.
Parkes, C. M. Grief as an illness // New Society. 1964. № 3(80). С. 11–12.
Clayton, P., Desmarais, L., Winokur, G. A study of normal bereavement // American Journal of Psychiatry. 1968. № 125. С. 168–178.
Clayton, P. J., Halikas, J. A., Maurice, W. L. The depression of widowhood // British Journal of Psychiatry. 1972. № 120. С. 71–78.
Archer, J. The Nature of Grief: The Evolution and Psychology of Reactions to Loss. London: Routledge, 1999.
Corr, Charles A. Coping With Dying: Lessons We Should and Should Not Learn From the Work of Elisabeth Kübler-Ross // Death Studies. 1993. № 17. С. 69–83.
А также активное развитие фотографии и ее доступности, сделавшее поле битвы и жертв наглядным примером для жителей больших городов.
Suleiman, S. R. Crisis of memory and the second world war. Cambridge, MA; L.: Harvard University Press, 2006.
Miller, M. Freud and the Bolsheviks: Psychoanalysis in Imperial Russia and the Soviet Union. New Haven: Yale University Press, 1998.
К идее влечения к смерти (все люди подсознательно стремятся не только к созиданию, но и к деструкции) положительно отнеслись психологи Лев Выготский и Александр Лурия, которые написали предисловие к русскому переводу работы Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия». Однако в 1930-х советская школа психоанализа подверглась гонениям со стороны сталинского режима, и дальнейшего развития этих идей в советской культуре не произошло.
Как лечить инакомыслящих. URL: .
Elias, N. On human beings and their emotions: A process-sociological essay // The body: Social process and cultural theory / ed. by M. Featherstone, M. Hepworth, B.S. Turner. London: Sage, 1991. P. 103–125.
Выборочная часть из книги Шепер-Хьюз переведена и опубликована в журнале «Археология русской смерти», т. 6 Тема номера: «Смерть и технологии».
Thompson, J. Psychological Aspects of Nuclear War. Leicester: British Psychological Society, 1985.
Ленинградцы. Блокадные дневники: из фондов Государственного мемориального музея обороны и блокады. Лениздат, 2014.
Tomarken, A. et al. Factors of complicated grief pre-death in caregivers of cancer patients // Psychooncology. 2008. № 17(2). С. 105–111.
Doorn, C. van et al. The influence of marital quality and attachment styles on traumatic grief and depressive symptoms // The Journal of Nervous and Mental Disease. 1998. № 186(9). С. 566–573.
Stroebe, W., Schut, H. Risk factors in bereavement outcome: a methodological and empirical review // Handbook of Bereavement Research: Consequences, Coping, and Care / ed. by M.S. Stroebe et al. Washington, DC: American Psychological Association, 2001. С. 349–371.
Neimeyer, R.A. Lessons of Loss: A Guide to Coping. New York: McGraw-Hill, 1998.
Furedi, F. Therapy Culture: Cultivating Vulnerability in an Uncertain Age. London: Routledge, 2004.
Само горе, начиная с XIX века, превратилось в телесно-ориентированное переживание, проявление ментально-физиологического расстройства. Последователи Кюблер-Росс и Фрейда акцентируют внимание на том, как именно тело реагирует на горе: головная боль, злость, истерики. И все эти проявления телесности маркируются как негативные. Один из самых ярых критиков современной медицинской системы, философ Иван Иллич, в своей книге «Возмездие медицины» отмечает, что подобное положение дел как бы отказывает боли, страданию и другим важным частям нашей культуры в праве быть пережитыми, стать важной частью телесного опыта. Такие признаки, отмечает Иллич, всегда стремятся купировать или подчинить волевой сфере.
Worthen, V. Psychotherapy and Catholic Confession // Journal of Religion and Health. 1974. № 13(4). С. 275–284.
Kadar, D.Z., Ning, P., Ran, Y. Public ritual apology — A case study of Chinese // Discourse, Context & Media. 2018. № 26. С. 21–31.
Горе стало публичным, как и сама смерть. Характерен пример ныне покойной певицы Жанны Фриске, которой средства на операцию на головном мозге собирали с помощью цикла ток-шоу «Пусть говорят». Похожая история развернулась и вокруг болезни актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк: в августе 2019 года в прессе появились сообщения о том, что она больна раком головного мозга; за последние полгода вышло более десятка крупных репортажей и интервью с родственниками и друзьями актрисы о ее состоянии.
Walter, T. A new model of grief: Bereavement and biography // Mortality. 1996. № 1(1). С. 7–25.
Примеры: -ways-handle-grief-after-the-loss-loved-one и -tips-for-coping-with-forgetfulness-in-grief/.
We don't «move on» from grief. We move forward with it. URL: .
Davies, B. Long-term outcomes of adolescent sibling bereavement // Journal of Adolescent Research. 1991. № 6(1). С. 70–82.
Masten, A., Best, K., Garmezy, N. Resilience and development: Contributions from the study of children who overcome adversity // Development and Psychopathology. 1990. № 2. С. 425–444.
Tyson-Rawson, K. Bereavement in adolescence // Handbook of adolescent death and bereavement / ed. by C. A. Corr, D. E. Balk. New York: Springer Publishing, 1996. С. 312–328.
Интервью Сары Чавез: Sarah Chavez on Death Positivity, Grief, & Intersectional Feminism. URL: -chavez-death-positivity-feminism.
Granek, L. Mourning sickness: The politicizations of grief // Review of General Psychology. 2014. № 18(2). С. 61–68.
Doka, K. Disenfranchised Grief // Living with Grief: Loss in Later Life / ed. by Kenneth J. Doka. Washington, D.C.: The Hospice Foundation of America, 2002.
Corr, C. Enhancing the concept of disenfranchised grief // Omega. 1998. № 38. С. 1–20.
Norwood, F. The Maintenance of Life: Preventing Social Death through Euthanasia Talk and End-of-Life Care: Lessons from the Netherlands / ed. by P.J. Stewart, A. Strathern. Durham, NC: Carolina Academic Press, 2009.
Math, S. B., Chaturvedi, S. K. Euthanasia: right to life vs. right to die // The Indian journal of medical research. 2012. № 136(6). С. 899–902.
Paust, Jordan J. The Human Right to Die with Dignity: A Policy-Oriented Essay University of Houston Law Center, № 2014-A-15 / 17 Human Rights Quarterly. 1995. № 463.
Susan M. Behuniak. Death with “dignity” // Politics and the Life Sciences. 2011. № 30(1). С. 17–32.
Dowbiggin, I. A Merciful End: The Euthanasia Movement in Modern America. New York: Oxford University Press, 2003.
Федорова К., Маслов Б., Хархордин О. Жить с достоинством: сборник статей / .под ред. О. Хархордина, Издательство ЕУСПб, 2019.
Однако важно отметить, что в Греции эвтаназия была гораздо менее элитарна, чем в Древнем Риме. Греки полагали, что отказываться от жизни могут все «недостойные жизни» — преступники, больные, старики. В Древнем Риме же эвтаназия была соотнесена с правом немногих — к тем, кому вообще может применяться понимание «достойной жизни».
Hooff, Anton J.L Van. Ancient euthanasia: “good death” and the doctor in the graeco-Roman world // Social Science & Medicine. 2004. № 58(5).
Dowbiggin, I. A Concise History of Euthanasia: Life, Death, God, and Medicine. Critical Issues in History. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2005.
Зенкин, С. Работы о теории: Статьи. М.: Нов. лит. обозр., 2012.
В следующей главе мы скажем об этом подробнее.
Dowbiggin, I. A Merciful End: The Euthanasia Movement in Modern America. New York: Oxford University Press, 2003.
Далее я буду рассматривать все способы эвтаназии, не разделяя их на активные (когда пациент сам принимает решение и совершает действие, приводящее к смерти) и пассивные (когда пациента отключают от поддерживающей терапии). Под эвтаназией в этой книге я понимаю прекращение жизни в комфортных условиях, без боли.
O’Malley, C. D. Andreas Vesalius of Brussels, 1514–1564. Berkeley: University of California Press, 1964.
Философ Елена Брызгалина о легализации эвтаназии, ассистированном самоубийстве и доверии людей друг к другу и к медицине. URL: .
Strathern, M. After Nature. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
Green, James W. Beyond a Good Death: The Anthropology of Modern Dying. (Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 2008. С. 272.
Seymour, V. The Human-Nature Relationship and Its Impact on Health: A Critical Review // Front Public Health. 2016. № 4: С. 260. Опубликовано 18 ноября 2016 года. doi:10.3389/fpubh.2016.00260.
Bender, L. A feminist analysis of physician-assisted dying and voluntary active euthanasia // Tennessee law review. 1992 (Spring). № 59(3). С. 519–546.
Wolf, S. M. Gender, Feminism, and Death: Physician-Assisted Suicide and Euthanasia: A Multicultural Approach // Applied Ethics: A Multicultural Approach / ed. by L. May. 5th ed. Pearson Education, 2010.
Norwood, F. End of Life Choices // International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences / ed. by N. J. Smelser, P. B. Baltes. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, 2015. С. 594–605.
В статье «Эдгар По, его жизнь и произведения» (предисловии к «Необыкновенным историям» Эдгара По, март 1856 года) Шарль Бодлер отмечает: «В перечне многочисленных прав человека, который столь часто и охотно повторяют мудрецы XIX столетия, забыты два весьма важных права, а именно право противоречить себе и право уйти. А общество рассматривает уходящего как наглеца. Между тем иногда, под давлением известных обстоятельств, при серьезном рассмотрении известных несовместимостей, при твердой вере в известные догматы и превращения душ, — можно без всякой напыщенности и словесной игры сказать, что самоубийство бывает разумнейшим делом в жизни».
Ален Бадью утверждает, что субъектность человек обретает не как априорный носитель прав, а участвуя в процедурах утверждения этих прав через повседневные практики — то есть через политическую борьбу. Бадью, А. Этика: Очерк о сознании Зла / пер. с франц. В. Е. Лапицкого. СПб.: Machina, 2006.
Во многом, это объясняется тем, что такие пациенты значительно позже обращаются в подобные учреждения за квалифицированной помощью. Чем младше пациенты, тем они менее приспособлены к боли (ее обсуждению/принятию), гораздо меньше способны к адаптации к новым условиям
Ganzini, L. et al. Physicians' experiences with the Oregon Death with Dignity Act // The New England Journal of Medicine. 2000. № 342. С. 557–563.
Maas, P. J. van der et al. Euthanasia and other medical decisions concerning the end of life // The Lancet (North Amsterdam Edition). 1991. № 338. С. 669–674.
Meier, D. E. et al. A national survey of physician-assisted suicide and euthanasia in the United States // The New England Journal of Medicine. 1998. № 338. С. 1193–1201.
Lester, D., Templer, D. I. Death Anxiety Scales: A Dialogue // Omega. 1992–1993. № 26. С. 239–253.
Castano, E. et al. Ideology, Fear of Death, and Death Anxiety // Political Psychology. 2011. № 32. С. 601–621.
Ezekiel, E. The History of Euthanasia Debates in the United States and Britain // Annals of Internal Medicine. 1994. № 121(10) (15 ноября). С. 793–802.
Regulating How We Die: The Ethical, Medical, and Legal Issues Surrounding Physician-Assisted Suicide ed. by Linda L. Emanuel / The Journal of Legal Medicine. 1999.
Cassell, Eric J. The Nature of Suffering and the Goals of Medicine. New York: Oxford University Press, 1991.
McKhann, Charles F. A Time to Die: The Place for Physician Assistance. New Haven, CT: Yale University Press, 1999.
Lewy G. Assisted suicide in US and Europe. New York: Oxford University Press, Inc., 2011.
Kaufman. Sharon R. In the Shadow of “Death with Dignity”: Medicine and Cultural Quandaries of the Vegetative State // American Anthropologist. New Series. 2000. № 102(1). С. 69–83.
Fink, S. Five Days at Memorial: Life and Death in a Storm-Ravaged Hospital.Crown, 2013.
Lynch, T., Connor, S., Clark, D. Mapping levels of palliative care development: a global update // Journal of Pain and Symptom Management. 2013. № 45(6). С. 1094–1106.
Rawcliffe, C. Medicine and Society in Later Medieval England. Stroud: Sutton, 1997.
Abreu, L. Hospital Life: Theory and Practice from the Medieval to the Modern. Pieterlen Peter Lang International Academic Publishers, 2013.
Robbins, J. Caring for the Dying Patient and the Family. Taylor & Francis, 1983.
Borobio, D. An Enquiry into Healing Anointing in the Early Church // The Pastoral Care of the Sick / ed. by M. Collins, D. N. Power. Concilium, 1991–1992.
Королева жила не в Средние века, а после Реформации, но была католичкой — для нее Реформация мало что изменила в плане понимания боли. В мае 1664 года у Анны появляются первые симптомы рака груди, от которого она и умерла в январе 1666 года.
Moscoso, J. Pain: A Cultural History / trans. by Sarah Thomas, Paul House. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.
Как «смягчающий». При этом интересно, что самое латинское слово «pallium» использовалось и для обозначения «плаща» — некоторой формы защиты.
Bowers, B. S. The Medieval Hospital and Medical Practice. Ashgate Publishing Limited, 2007.
Abreu, L. Hospital Life: Theory and Practice from the Medieval to the Modern. Pieterlen Peter Lang International Academic Publishers, 2013.
Orme, N. Webster, Margaret. The English Hospital. Yale University Press, 1995.
Meldrum, M. L. A capsule history of pain management // Jama. 2003. № 290(18). С. 2470–2475.
Dallenbach, K. M. Pain: history and present status // The American Journal of Psychology. 1939. № 52(3). С. 331–347.
Rey, R. The History of Pain / trans. by L.E. Wallace, J.A. Cadden, S.W. Cadden.Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1993.
В этом проявилась ограниченность математических методов медицины Нового времени: человеческое тело измерялось и описывалось достаточно хорошо, но боль и другие ментальные проявления болезни практически не подлежали классификации.
Rosenberg, C. E. The therapeutic revolution: Medicine, meaning and social change in nineteenth century America // Perspectives in Biology and Medicine. 1997. №20(4): С. 485–506.
Концепция, впервые сформулированная Гиппократом; в ней здоровье организма зависит от соотношения и качества жидких сред: крови, слизи, черной и желтой желчи. — Прим. ред.
Bourke, J. The Story of Pain: From Prayer to Painkillers. Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 2014.
Кобылин, И. История боли: аффект, языковые игры и биополитика страдания // Новое литературное обозрение. 2017. № 3(145).
Боль концептуализировалась в числе прочего через социальные маркеры: так, бедные предположительно чувствовали ее менее остро, чем богатые, мужчины переносили страдания легче, чем женщины, а чернокожие — не так остро, как белые. Rey, R. The History of Pain / trans. by L.E. Wallace, J.A. Cadden, S.W. Cadden. Cambridge, Mass: Harvard University Press. 1993.
Толстой, Л. Смерть Ивана Ильича. 1886.
Green, M. Women’s Medical Practice and Health Care in Medieval Europe // Sisters and Workers in the Middle Ages / ed. by J. M. Bennett et al. University of Chicago Press, 1989. С. 39–78.
Fissell, M. E. Introduction: Women, Health, and Healing in Early Modern Europe // Bulletin of the History of Medicine. 2008. № 82(1).
Harkness, D. E. A View from the Streets: Women and Medical Work in Elizabethan London // Bulletin of the History of Medicine. 2008. № 82(1). С. 52–85.
В 1864 году в Женеве Анри Дюнан организовал Международное общество Красного Креста, взяв за основу рекомендации Найтингейл, изложенные в ее «Заметках».
Миркович Т. М. Российское Общество Красного Креста и общины сестер милосердия: Заметка запасной сестры милосердия Красного Креста об одной из наиболее важных причин, вредно влияющих на постановку вопроса об уходе за больными и ранеными в России. СПб., 1910.
Казем-Бек, М. Дневники. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2016.
Должен отметить, что это всё-таки не хосписы в современном понимании, скорее это дома сестринского ухода для умирающих людей.
Саламон, Л. Финансовый рычаг добра: Новые горизонты благотворительности и социального инвестирования. М.: Альпина Паблишер, 2016.
Saunders, C. The evolution of palliative care // Journal of the Royal Society of Medicine. 2001. № 94(9). С. 430–432.
Петерсон, Б. Ранняя диагностика рака и вопросы деонтологии // Медицинская этика и деонтология. М.: Знание, 1983. С. 231–245.
Глебова, М. Мероприятия по профилактике рака в СССР // Материалы пленума Всесоюзного общества онкологов. Ленинград, 1968. С. 55–58.
Глебова, М.; Вирин, И. Патронаж онкологических больных. Л.: Медицина, 1982.
Гнатышак, А. Учебное пособие по общей клинической онкологии. М.: Медицина, 1975.
Отмечу, что вплоть до конца 1960-х годов большинство западных врачей также не сообщало диагноза пациентам. Ситуация серьезно меняется к концу 1970-х.
Fitts, W., Ravdin, I. What Philadelphia physicians tell patients with cancer // JAMA. 1953. № 153(10). С. 901–904.
Novack, D. et al. Changes in physicians attitudes toward telling the cancer patient // JAMA. 1979. № 241(9). С. 897–900.
Один из советских деонтологов Борис Петерсон, оценивая эту практику в своей книге «Онкология» (1980), отмечает, что раскрытие диагноза губительно для медицины.
Нюта Федермессер, фонд «Вера»: «Милосердие и эмпатия — профессиональные навыки». URL: -federmesser-fond-vera-miloserdie-i-empatiya-professionalnye-navyki.htm.
Этико-философское течение в русском марксизме начала XX века, предполагающее интеграцию марксистской теории и религии. — Прим. ред.
Поэма анабиоза. Пг.: Ком. поэзии Биокосмистов-имморталистов. (Сев. группа), 1922.
Florian, V., Mikulincer, M. Symbolic Immortality and the Management of the Terror of Death // Journal of Personality and Social Psychology. 1998. № 74(3). С. 725–734.
Cave, S.Immortality: The Quest to Live Forever and How It Drives Civilization. London: Biteback Publishing, 2013.
Pecchinenda, G. The neuronal identity: strategies of immortality in contemporary Western culture // Postmortal Society: Towards a Sociology of Immortality / ed. by Michael Hviid Jacobsen. London: Routledge, 2017.
Bynum, C. Death and Resurrection in the Middle Ages: Some Modern Implications // Proceedings of the American Philosophical Society. 1998. № 142(4). C. 589–596.
Несмотря на то что xистилище отвергается православной догматикой, аналогичные молитвенные практики и помощь мертвым есть и в православной культуре.
Я подробно писал об этом в прошлой книге. См: Мохов, С. Рождение и смерть похоронной индустрии. Common place. 2018.
Корлисс, Л. Иллюзия бессмертия / пер. с англ.: А. В. Старостин. М.: Политиздат, 1984.
Стоит отметить, что воскрешение мертвых тел в древнегреческой философии не рассматривалось. Pecchinenda, G. The neuronal identity: strategies of immortality in contemporary Western culture // Postmortal Society: Towards a Sociology of Immortality / ed. by Michael Hviid Jacobsen. London: Routledge, 2017.
История тела в 3 т. / под ред. А. Корбена, Ж. Ж. Куртина, Ж. Вигарелло. Москва: Новое литературное обозрение, 2012.
Pecchinenda, G. The Genome and the Imaginary: Notes on the Sociology of Death and the Culture of Immortality // International Review of Sociology. 2007. № 17(1). С. 167–185.
Хотя вопрос физического воскрешения начинает быть все более острым и сомнительным. Dartigues, A. Encyclopedia of Christian Theology. Vol. 3: Resurrection of the Dead / ed. by Jean-Yves Lacoste. New York: Routledge, 2005. С. 1381.
Однако мы можем утверждать, что вера в физическое воскрешение была актуальна вплоть до начала XX века. Abbott, M. Life Cycles in England, 1560–1720: Cradle to Grave. Routledge, 1996.
Корлисс, Л. Иллюзия бессмертия / пер. с англ. А. В. Старостина. М.: Политиздат, 1984.
Madoff, R. D. Immortality and the Law: The Rising Power of the American Dead. Yale University Press, 2010.
Мохов, С. Рождение и смерть похоронной индустрии». Common place, 2018.
Laqueur, T. W. The Work of the Dead: A Cultural History of Mortal Remains. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2015.
Mehta, N. Mind-body Dualism: A critique from a Health Perspective. Mens Sana Monographs. 2011. № 9(1). С. 202–209.
При этом в посмернтное существование верит по-прежнему очень много! Почти 70%! Millennials are more likely to believe in an afterlife than are older generations. URL: -do-you-believe-in-life-afterlife.
Marcum J. A. Biomechanical and phenomenological models of the body, the meaning of illness and quality of care. // Med. Health Care Philos. 2004. № 7. С. 311–320.
van der Kolk, Bessel. The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma. New York: Viking Press, 2014.
Huberman, J. Immortality transformed: mind cloning, transhumanism and the quest for digital immortality // Mortality. 2018. № 23(1). С. 50–64.
Власов, В. Г. Источник молодости // Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. СПб: Азбука-классика, 2010.Т. 4. С. 210.
Подробнее о них в последней главе.
Haraway, D. A Cyborg manifesto: Science, Technology, and Socialist-feminism in the Late Twentieth Century // Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge, 1991. С. 149–181.
Appleyard, B. How to Live Forever or Die Trying: On the New Immortality. New York: Simon & Schuster, 2007.
Jacobsen, M. H. Sociology, mortality and solidarity. An Interview with Zygmunt Bauman on death, dying and immortality. // Mortality. 2011. №16. С. 380–393.
Hughes, J. The Politics of Transhumanism and the Techno-Millennial Imagination, 1626 -2030 // Zygon. 2012. № 47(4). С. 757–776.
Gollner, A. L. The Book of Immortality: The Science, Belief and Magic Behind Living Forever. London: Scribner, 2013.
Михаил Батин о нематодах, вечной молодости и умеренной дозе алкоголя. URL: -russia.ru/content/view/376/110/.
Dick, K. P. We Can Remember It for You Wholesale // The Magazine of Fantasy & Science Fiction. 1966, апрель.
Это так называемая «трудная проблема сознания человека». Современный философ Дэвид Чалмерс, предложивший эту формулировку, описал ее так: «Неоспоримо, что некоторые организмы являются субъектами опыта. Но остается запутанным вопрос о том, каким образом эти системы являются субъектами опыта. Почему когда наши когнитивные системы начинают обрабатывать информацию посредством зрения и слуха, мы обретаем визуальный или слуховой опыт — переживаем качество насыщенно синего цвета, ощущение ноты до первой октавы? Как можно объяснить, почему существует нечто, что мы называем „вынашивать мысленный образ“ или „испытывать эмоции“? Общепризнано, что опыт возникает на физическом фундаменте, но у нас нет достойного объяснения того, почему именно он появляется и каким образом. Почему физическая переработка полученной информации вообще дает начало богатой внутренней жизни? С объективной точки зрения это кажется безосновательным, однако это так. И если что-либо и можно назвать проблемой сознания, то именно эту проблему». Велманс М. Как отличать концептуальные моменты от эмпирических при изучении сознания // Методология и история психологии. 2009. Т. 4, вып. 3. —С. 42–54.
Digital Death: Mortality and Beyond in the Online Age / ed. by C. M. Moreman, A. D. Lewis. 2014.
Максим Воробьев. Очень краткой рассуждение о бессмертие души. URL: -kratkoe-rassuzhdenie-o-bessmertii-dushi
Kearl, M. C. Death in Popular Culture // Death: Current Perspectives / ed. by John B. Williamson, Edwin S. Shneidman. 4th ed. Mountain View, CA: Mayfield, 1995. С. 23–30.
При этом, согласно исследованиям, такое количество насилия в кино, видеоиграх и т. д. не вызывает всплеска насилия в реальной жизни. Huesmann, L. R. et al. Longitudinal Relations Between Children's Exposure to TV Violence and Their Aggressive and Violent Behavior in Young Adulthood: 1977–1992. 2003.
Durkin, K. Death, dying, and the dead in popular culture // Bryant C. D., Peck D. L. Handbook of death & dying. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc., 2003. С. 43–49.
Foltyn, J. L., PhD. Dead famous and dead sexy: Popular culture, forensics, and the rise of the corpse // Mortality. 2008. № 13(2). С. 153–173.
Christie, I. Sound of the Beast: The Complete Headbanging History of Heavy Metal. HarperCollins, 2010.
Kalis, Q. Black Metal: A Brief Guide. Chronicles of Chaos.
Справедливости ради стоит отметить, что сама вселенная «Властелина колец» пронизана христианскими образами, в чем не раз признавался и сам Толкиен.
Делёз, Ж., Гваттари, Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / пер. с франц. и послесл. Д. Кралечкина; науч. ред. В. Кузнецов. — Екатеринбург: У-Фактория, 2007.
«Only Black Is True, Only Death Is Fucking Real» — слова из песни группы Mayhem.
Mudrian, A. Choosing death: The improbable history of death metal & grindcore. Los Angeles, CA: Feral House, 2004.
.
.
Shakespeare, S., S., Richard, N. W. The swarming logic of inversion and the elevation of Satan // Helvet: A Journal of Black Metal Theory. 2015. № 2.
Soothill, K. The serial killer industry // The Journal of Forensic Psychiatry. 1993. № 4(2). С. 341–354.
Denham, J. Collecting the dead: art, antique and “aura” in personal collections of murderabilia // Mortality. 2019. DOI: 10.1080/13576275.2019.1605985
Soothill, K. The serial killer industry // The Journal of Forensic Psychiatry. 1993. № 4(2). С. 341–354.
Haggerty, K. Modern serial killers // Crime Media and Culture. 2009. № 5(2). С. 168-187.
Friedman, M. L. Crime Without Punishment: Aspects of the History of Homicide. Cambridge University Press, 31 мая 2018 года.
Spierenburg, P. A History of Murder: Personal Violence in Europe from the Middle Ages to the Present. Cambridge: Polity Press, 2008.
Body-Gendrot, S, Spierenburg, P. Violence in Europe: historical and contemporary perspectives. Springer, 2009.
Ломброзо, Ч. Преступный человек. М.: Эксмо; МИДГАРД, 2005.
Ракитин, А. Социализм не порождает преступности. Серийная преступность в СССР: попытка историко-криминалистического анализа. Кабинетный ученый. 2016.
Nock, S. The Costs of Privacy: Surveillance and Reputation in America, New York: Aldine de Gruyter, 1993.
Vronsky, P. Serial Killers: The Method and Madness of Monsters. Penguin-Berkley. 2004.
Spierenburg, P. A History of Murder: Personal Violence in Europe from the Middle Ages to the Present. Cambridge: Polity Press, 2008.
Интересен момент, что Родни Алькала учился в Нью-Йоркском университете, в киношколе под руководством Романа Полански, жену которого потом убьет другой культовый душегуб — Чарльз Мэнсон.
В общем массиве насильственных преступлений процент серийных убийств — менее одного; поэтому, как полагает Дирк Гибсон, сам факт чрезмерного интереса к подобного рода явлениям говорит об их культурной составляющей. Gibson, D. Serial Murder and Media Circuses, Westport, CT: Praeger, 2006.
Egger, S. The Killers Among Us: Examination of Serial Murder and Its Investigations, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2002.
Мой любимый портал strangeremains.com и его рубрика «Murder for the holidays».
Jenkins, P. Using Murder: The Social Construction of Serial Homicide. New York: Aldine de Gruyter, 1994.
Seltzer, M. Serial Killers: Death and Life in America’s Wound Culture. London: Routledge, 1998.
Tithecott, R. Of Men and Monsters: Jeffrey Dahmer and the Construction of the Serial Killer. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1999.
Vronsky, P. Serial Killers: The Methods and Madness of Monsters. New York: Berkley Books, 2004.
Allué, S. B. The Aesthetics of Serial Killing: Working against Ethics in “the Silence of the Lambs” (1988) and “American Psycho” (1991) // Atlantis. 2002. № 24.(2). С.: 7–24.
А. Пичушкин: За Навальным я бы пошел с удовольствием. URL: -krasnogorodskaia/za-navalnym-ia-poshel-s-udovolstviem.
Философ Александр Павлов полагает, что он был буквально переизобретен заново. Павлов А. В. Телемертвецы: возникновение сериалов о зомби // Логос. 2013. № 3(93). С. 139–154.
Образ известен в европейской культуре достаточно давно, однако своего расцвета достиг в конце XIX–XX века, с одновременным ростом влияния ученых и недоверия к ним со стороны простых людей. Самый популярный сумасшедший ученый — Виктор Франкенштейн.
Graves, Z. Zombies: The complete guide to the world of the living dead Sphere, London, 2010.
Russell, J. Book of the dead: the complete history of zombie cinema. England: FAB, Godalming, 2005.
Интересно, что первая попытка гуманизации монстров — это фильм «Интервью с вампиром».
Те же вопросы, что и в спорах об эвтаназии!
Существуют и более символические объяснения образов зомби, которые, однако, мне не близки. Как отмечает Александр Павлов: «Если Джордж Ромеро в своих фильмах часто проповедовал своеобразный марксизм и рассматривал проблемы мультикультурализма, расизма и т. д., то Славой Жижек утверждает, что живые мертвецы на самом деле могут отсылать к проблемам „забытых“ жертв холокоста и ГУЛАГа. Пока мы не интегрируем проблему жертв холокоста и ГУЛАГа в нашу историческую память, говорит Жижек, „мертвецы“ будут беспокоить нас постоянным напоминанием о себе». Павлов А. В. Телемертвецы: возникновение сериалов о зомби // Логос. 2013. № 3(93). С. 139–154.
Современный философ Аккиле Мбембе сформулировал концепцию некрополитики — производной от биополитики Мишеля Фуко. Некрополитика включает в себя механизмы управления смертью. Мбембе утверждает, что «в современном мире суверенитет определяется способностью решать, кто может жить, а кто должен умереть». По мнению Мбембе, некрополитика проявляется в радикальных действиях современной власти: устранении «ненужных людей», нарушениях прав человека, сексуальном порабощении, полицейском беспределе, наркоторговле. Но мы в этой главе будем говорить скорее о трупополитике — властных решениях вопросов, связанных с тем, где и как должны покоиться мертвые тела. Mbembe A. Necropolitics // Public Culture, 2003. № 15(1). С. 11–40.
Фуко, М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999.
Гуревич А. Я. Индивид и социум на средневековом Западе. М., 2005.
Воскобойников, О. Кто такой средневековый человек? URL: .
Марей А. В. О Боге и его наместниках: христианская концепция власти // Полития. 2019. № 2(93).
Тогоева, О. Преступление и наказание в Средние века. URL: /8.
Хобсбаум, Э. Нации и национализм после 1780 года. Алетейя, 1998.
Джессоп, Б. Государство: прошлое, настоящее и будущее. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019.
Подробнее — в моей книге «Рождение и смерть похоронной индустрии: от средневековых погостов до цифрового бессмертия».
Показательно, что в XIX веке также появляется и распространяется кремационное движение.
Nadelmann, K. H. Mancini’s Nationality Rule and Non-Unified Legal Systems: Nationality versus Domicile // The American Journal of Comparative Law. 1969. №17(3). С. 418.
Каким именно образом европейский порядок, провозглашавший принципы равенства и гуманизма, оказался способен сам производить неравенство и жесткую политику сегрегации? Этот парадокс обсуждается в рамках деколониальных исследований.
Интересно, что традиция установки памятника Неизвестному солдату появляется в начале XX века (впервые открывается такой памятник в 1920 году в Лондоне), как раз как следствие актуализации важности имени человека.
Флиге, И. Сандармох: драматургия смыслов / предисл. О. Николаева. СПб.: Нестор-История, 2019.
Замечательный сайт -tourism.com/index.php предлагает более 900 мест для посещения. А в Великобритании даже есть целый институт, изучающий явление. URL: .
.
Сложнопереводимая на русский язык игра слов: с одной стороны, mortician — это сленговое название гробовщика и похоронного агента, с другой стороны, Мортиша — имя одной из главных героинь знаменитого сериала «Семейка Аддамс».
Doughty, C. From Here to Eternity: Traveling the World to Find the Good Death. W. W. Norton & Company. 2017 и Doughty, C. Smoke Gets in Your Eyes: And Other Lessons from the Crematory W. W. Norton & Company. 2014. Даути, К. Когда дым застилает глаза: провокационные истории о своей любимой работе от сотрудника крематория. Эксмо, 2018; Даути, К. Уйти красиво. Удивительные похоронные обряды разных стран. Эксмо, 2018.
В своей критике Кейтлин точь-в-точь повторяет путь некогда крайне успешной писательницы и журналистки Джессики Митфорд. Последняя, выпустив в 1963 году книгу об американской похоронной индустрии (American way to death), не просто завоевала всемирную известность, но даже изменила американское похоронное законодательство. Более подробно о Митфорд и ее влиянии на американскую похоронную индустрию я пишу в своей книге «Рождение и смерть похоронной индустрии: от средневековых погостов до цифрового бессмертия» (Common place 2018).
Interview — Welcome the reaper: Caitlin Doughty and the «death-positivity» movement Kim Kelly. URL: -doughty-death-positivity
/.
Смерть стала объектом изучения междисциплинарной области знания death studies, существующей на стыке психологии, антропологии, социологии и прикладного знания; публикации ученых появляются в специализированных журналах, главные из которых — Omega; Death Studies; Loss, Grief and Care; Mortality. Существуют ассоциации исследователей смерти и умирания (ADAS), академические центры и институции (CDAS, The University of Bath); ученые проводят конференции, читают курсы студентам и проводят семинары.
Doka, K. The death awareness movement -- Description, history, and analysis // Handbook of death and dying / ed. by C. Bryant. London: Sage, 2003. С. 50–56.
.
/.
Фрэзер, Дж. Золотая ветвь. М.: Политиздат, 1983.
Трансформация данных идей достаточно подробно рассмотрена мной в статье: Мохов, С. В. Смерть как проблема исследования в социальной и исторической антропологии: генезис идей // Журнал социологии и социальной антропологии. 2016. № 3. С. 171–187.
Руднев, В. П. Введение в анализ депрессии // Логос.2001.№ 5.С. 15–35.
Фрейд, конечно, испытал влияние Сабины Шпильрейн, о чем мы говорили ранее.
Лапкина, А. От священнодействия до греха // Энциклопедия для детей. Человек. Часть вторая / гл. ред. В. Володин. М.: Аванта+, 2002.
Однако значение страха смерти в психической жизни человека исследовалось последователями З. Фрейда — К. Юнгом, Э. Фроммом, К. Хорни, Г. Салливаном и так далее.
Бодрийяр, Ж. Символический обмен и смерть (1976). М.: «Добросвет», 2000.
Zimmermann, C. Death denial: Obstacle or instrument for palliative care? An analysis of clinical literature // Sociology of Health & Illness. 2007. № 29(2). С. 297–314.
Zimmermann, C., Rodin, G. The denial of death thesis: Sociological critique and implications for palliative care // Palliative Medicine. 2004. № 18(2). С. 121–128.
Tradii, L., Robert, M. Do we deny death? II. Critiques of the death-denial thesis // Mortality. 2017. С. 1–12.
Walter T. Modern death: taboo or not taboo? // Sociology. 1991. № 25. P. 293–310.
Wood, W., Williamson, J. Historical changes in the meaning of death in the western tradition // Handbook of death and dying / ed. by C. Bryant. London: Sage, 2003. С. 14–23.
Blauner, R. Death and Social Structure // Illness, Crisis & Loss. 1992. № 2(2). С. 22-32.
Walter, T. Three Ways to Arrange a Funeral: Mortuary Variation in the Modern West // Mortality. 2005. № 10(3). С. 173–192.
Kellehear A. Are we a death-denying society? // A sociological review. Social Science & Medicine.1984; № 18(713). С. 23.
Позволю себе сослаться на свою книгу, в которой я анализирую становление и развитие похоронной индустрии и показываю, что в основе многих процессов лежат вполне рациональные экономические причины: зачастую, пытаясь снизить издержки, похоронные агенты конструируют товары и услуги так, чтобы потом было проще продавать сопутствующие. См. «Рождение и смерть похоронной индустрии: от средневековых погостов до цифрового бессмертия», Common place 2018.
Интересно, что все death positive инициативы почти целиком и полностью возглавляются женщинами.
«Живые не вполне живы». Партия мертвых на пути к некроинтернационалу. URL: .

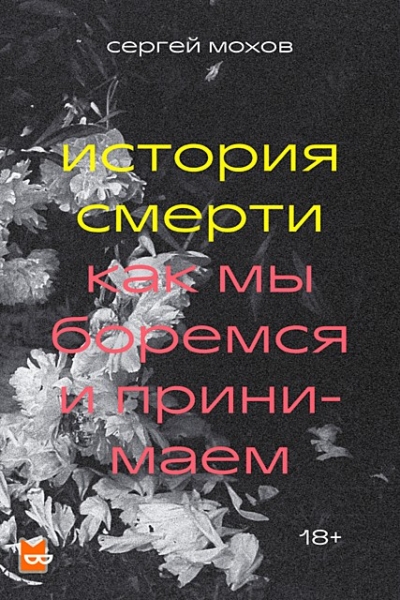


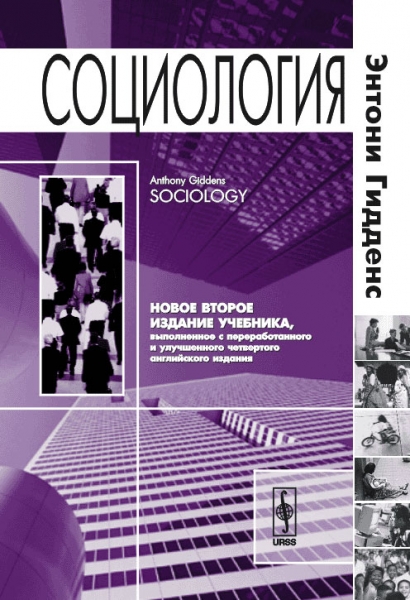
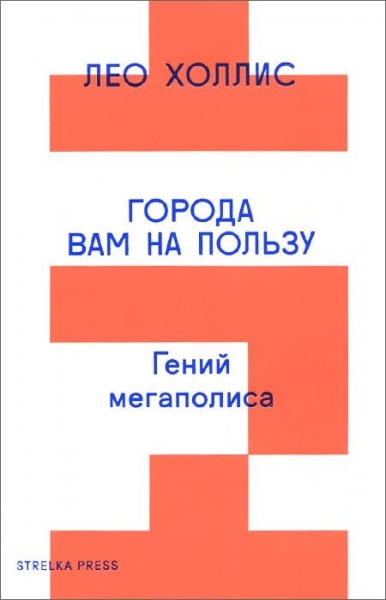
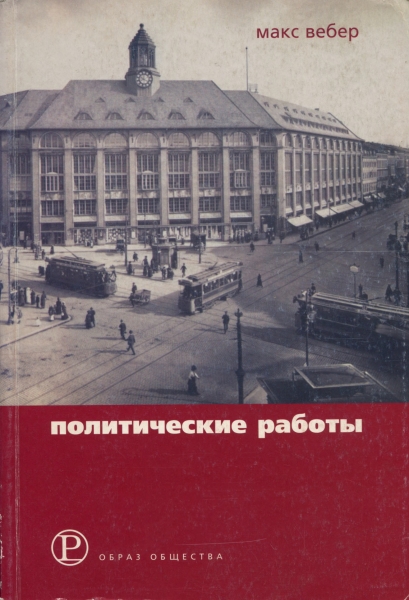
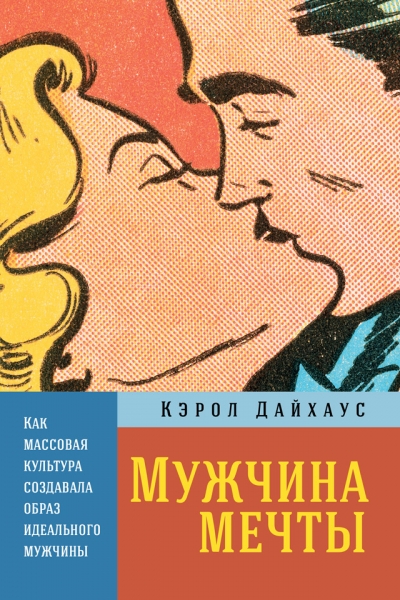
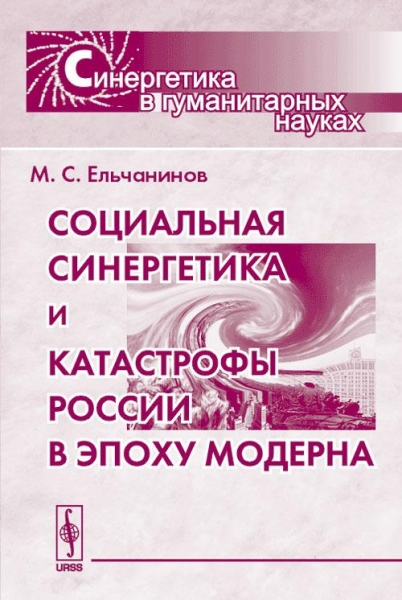
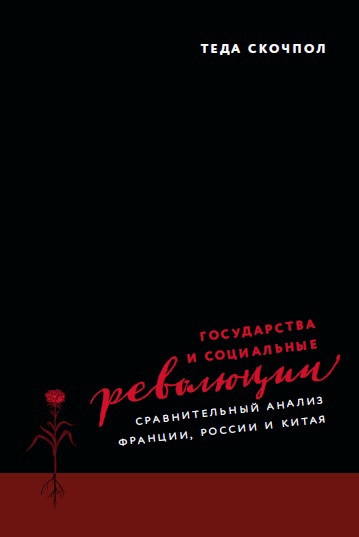
Комментарии к книге «История смерти. Как мы боремся и принимаем», Сергей Мохов
Всего 0 комментариев