Вадим Россман
Столицы. Их многообразие, закономерности развития и перемещения
Вступительное слово
ВАДИМ РОССМАН написал замечательную книгу, которая масштабна и энциклопедична по своим задачам и намерениям. Ему удалось на небольшом количестве страниц рассказать о том, как люди строят свои столицы, почему они делают это и зачем, как они перемещают их, создавая новые столичные центры. Собрав и проанализировав историю десятков столичных городов, он предлагает калейдоскопический взгляд на одно из ключевых явлений городской жизни – явление приматного города (primate city). Россман не просто представляет хронологию разрозненных историй, разделенных во времени и пространстве, но создает единый последовательный нарратив, который предлагает нам, живущим в данную историческую эпоху, несколько важных уроков.
Первый из этих уроков состоит в том, что перенос столицы является нормальной частью политической жизни. Как жителю Вашингтона мне иногда хотелось бы думать, что столицы являются неподвижными и статичными. Но они, конечно, не являются таковыми и никогда не были вполне устойчивыми. Сколько было столиц в Соединенных Штатах Америки? По крайней мере девять с того момента, когда начался процесс отпадения США от Британской империи[1]. Более того, рассмотрение различных сценариев развития и кандидатур на роль новой столицы продолжалось и в XIX веке, когда сторонники продвижения на запад выступали за перенос столицы в другой город на берегах реки Миссисипи, предлагая, например, кандидатуру Сент-Луиса.
Как свидетельствует американский опыт, столицы переносятся по многим причинам. Они могут переезжать в близлежащий город на короткое время в ответ на военную оккупацию силами противника. Они могут перемещаться в соответствии с курсом смены региональных или политических интересов. Они могут возникать как физическое выражение нового политического режима или идеологии. Если даже такое относительно молодое государство, как Соединенные Штаты Америки, неоднократно прошло через процесс смены столицы, то в государствах Европы и Азии с их многовековыми историями и традициями подвижность столичного города была значительно сильней. Оставляя в стороне примеры столиц древней Руси, а также других государств, которые периодически возникали на территории современной Российской Федерации, заметим, что только Российское государство после 1169 г. перемещало свои столицы четыре раза. Столица пребывала во Владимире (1169–1327), в Москве (1327–1712), Санкт-Петербурге (1712–1918) и опять в Москве (1918 – по настоящее время). Эти перемещения представляли собой драматические изменения в структуре российских элит, власти и в экономических реальностях. Между тем эра множественных столиц в Соединенных Штатах в период завоевания независимости сходным образом повторилась и воспроизвелась в целом ряде государств, освободившихся от колониального господства уже в XX веке.
Эта ситуация, как прекрасно демонстрирует Россман, имеет древнюю предысторию. Автор выявляет множество неочевидных закономерностей в этих процессах. Предлагаемый им анализ этого вопроса умело опирается на множество примеров, которые позволяют идентифицировать большое количество проблем и закономерностей, определявших жизнь столичных городов на всем протяжении мировой истории. Чрезвычайно интересен, например, анализ переноса столицы из Рима в Константинополь. Важно отметить, что сравнительный анализ, проделанный автором, особенно ценен, потому что включает в себя множество азиатских городов и цивилизаций наряду с западными, более знакомыми российской и европейской читательской аудиториям. Таким образом, перенос национальных столиц с самых древних времен и в разных географических условиях предстает как часть естественного цикла истории и что в самом этом явлении нет ничего необычного, сингулярного или уникального.
Монография примечательна и по другой важной причине. Автор не просто рассказывает историю перемещений столиц, но пытается создать теоретическую рамку такого переноса, а также анализирует успешные и катастрофические примеры, опыты успеха и фиаско переносов столиц. Разумеется, критерии успеха зависят в первую очередь от причин, вызвавших это решение. В то время как причины и критерии успеха исторически изменчивы, мотивации переносов неизменно остаются прежде всего политическими. Россман отстаивает точку зрения, согласно которой достижение политических целей через механизм переноса столицы во многом зависит и основывается на успешности или неуспешности политической системы, предпринимающей подобный шаг. Другими словами, акт переноса столицы сам по себе не может разрешить того спектра политических проблем, которые перед ней стоят. Он может только помочь политической системе должным способом ответить на вызовы времени. Столица не станет успешной, если политическая система, которая создала ее, является несостоятельной.
В период, когда многие политические режимы рассматривают возможность переноса своих столиц – Казахстан и Бразилия уже пошли на этот шаг – эта прекрасная книга является отличным напоминанием о том, что подобные переносы являются нормальным явлением, явлением, которое сотни раз имело место в истории. Еще более важно то, что книга служит дополнительным напоминанием о том, что перенос столицы сам по себе не может решить глубоких структурных, демографических, политических и экономических проблем, стоящих перед государством в каждый конкретный момент. Задача и вызов времени состоят не просто в том, чтобы построить успешный столичный город (и существуют десятки способов и критериев оценки их успешности); задача состоит прежде всего в том, чтобы построить и утвердить успешное государство.
Блэр А. Рубл, Институт Кеннана,
Директор программы по глобальной устойчивости и адаптивному развитию.
Вашингтон, Округ Колумбия, 1 марта 2013
Предисловие
Непосредственным поводом для написания данной книги стали размышления о возможности и желательности переноса столицы России. На мой взгляд, в настоящих дискуссиях по этому вопросу, которые периодически возгораются и гаснут в публичном пространстве России, отсутствуют достаточная строгость и структурированность. На очередном их витке важно взглянуть на эту проблему более систематически и в более широкой исторической перспективе, попытавшись охватить многообразие форм, аспектов, стратегий, мотиваций и исторических прецедентов, относящихся к мировому опыту в этой области. В таком случае обсуждение этого вопроса может стать более конструктивным.
Однако интерес и актуальность этой темы не исчерпываются российскими дебатами и в не меньшей мере определяются текущими глобальными процессами за пределами России. Переносы столиц становятся все более распространенным явлением в мировой политической практике. Вторая половина XX века в целом была ознаменована беспрецедентным ростом количества столиц вновь образовавшихся государств. Если в 1900 году в мире было всего 40 столиц, то к 2000 году их было уже более 200, то есть за сто лет общее количество столиц суверенных государств выросло более чем в пять раз. Другим знаменательным моментом этого века были достаточно частые переносы старых столиц на новые места, которые происходили на всех континентах и во всех регионах мира (см. таблицу 2 в приложениях). Согласно подсчетам российского географа Сергея Тархова в XVIII–XXI веках – в грубом приближении с эпохи Французской революции – столицы были перенесены в общей сложности в 69 странах мира (Тархов, 2008). При этом парад новых столиц государств, освободившихся от колониального господства, парадоксальным образом совпал с тем, что некоторые социологи назвали закатом идеи национального государства и с подъемом глобальных городов (Бауман, 2006; Sassen, 2011).
Во многих странах переносы столиц были успешно или относительно успешно осуществлены (Бразилия, Казахстан, Австралия, Германия, Нигерия, Белиз, Бирма, Пакистан, Турция, Малайзия). В других были сделаны важные шаги для реализации этих планов и началось строительство новых городов (Афганистан, Объединенные Арабские Эмираты). В третьих приняты принципиальные решения о переносе столицы, хотя до сих пор не были найдены окончательные кандидаты на эту роль или подходящие механизмы для осуществления этих планов. В таких странах, как Иран, Япония, Египет, Индонезия и Либерия, дискуссии о городах-кандидатах, различных опциях и возможных сценариях продолжаются. В целом ряде стран в ходе воплощения планов – во многих случаях уже по ходу строительства новых городов – возникали проблемы (финансовые, юридические или связанные со сменой политических лидеров), в результате чего принятые проекты были отложены, свернуты или заморожены. Примерами таких стран являются Аргентина, Венесуэла, Южная Корея, Монголия и другие; здесь обсуждаются или корректируются первоначальные проекты переноса столичных функций (см. табл. 3 в приложениях).
Наконец, в десятках стран ведутся интенсивные дискуссии о переносе столицы, публичные, конституционные или парламентские (в Тайване, Таиланде, Непале, Бангладеше, Венесуэле, Китае, на Гаити, а также во многих африканских странах, среди которых Зимбабве, Кения, Гана и Сомали). К этой же группе стран относятся некоторые постсоветские государства – Киргизстан, Таджикистан, Грузия, Азербайджан, Армения и Украина. Вопрос о переносах столицы вставал также на повестку дня и в некоторых крупных западноевропейских странах, таких как Франция или Великобритания, хотя здесь эти дебаты носили или носят, скорее, маргинальный характер.
Интересно понять общие элементы, последствия и импликации этих процессов для логики глобального развития. Каковы общие тенденции, которые в них отражаются? Как изменения характера политических центров вписываются в процессы глобализации, тенденции которых, казалось бы, им противоречат? Как соотносится парад новых столиц с распространенным тезисом об упадке национального государства и о подъеме и тотальном господстве глобальных городов в современную эпоху? Что в этих процессах является универсальным, а что специфическим для конкретных стран или регионов? В каком контексте и в каких категориях можно лучше осмыслить этот опыт? Какие методологические подходы и модели используют ученые и политики для анализа эффективности и реалистичности подобных проектов? Как можно примирить различные дисциплинарные подходы – а иногда и дисциплинарные предрассудки – в оценке этих планов? Насколько успешными можно считать уже осуществленные переносы столиц и как можно измерить их успех? Что может выступать более адекватным критерием их оценки – экономическая эффективность, к которой часто апеллируют их инициаторы, или какие-то иные параметры? Насколько выбор столичного места должен быть санкционирован специфическим географическим положением или другими особенностями места, которое предлагается на эту роль? Иными словами, существуют ли «правильные» места для столичного города? Обнаруживаются ли такие «правильные» места в процессе поиска или они придумываются и конструируются по каким-то особым законам?
К сожалению, насколько известно автору данной работы, в мировой литературе по урбанистике и политическим наукам явления такого рода еще не вполне отрефлектированы. Мало кто из авторов множества прекрасных и подробных описаний новых столиц, их планировок, истории, переименований или переносов, предпринимал попытки систематического осмысления переносов столиц как класса политических событий.
Тому, вероятно, есть несколько причин.
Многим историкам и политологам расположение столиц кажется явлением достаточно случайным, диктуемым конъюнктурой конкретных исторических ситуаций. Поскольку решения по этому вопросу принимаются отдельными правителями, существует соблазн рассматривать эту тему через призму субъективных и волюнтаристских решений, в которых по определению не может быть универсальной системы координат и объективной точки отсчета. В результате широко распространен нигилистический подход, согласно которому в этой области не может быть никаких универсальных закономерностей и общих схем принятия решения.
Исследование различных существующих моделей также трудно уместить в рамки дисциплинарно единого и целостного исследовательского проекта. Сложность такого рода исследования состоит среди прочего в его многоаспектности и неизбежно междисциплинарном характере. В выборе новой столицы часто присутствует слишком много различных переменных, которые редко поддаются всестороннему учету. Тема столицы, столичности и смены столиц в целом кажется слишком большой, многоаспектной и идеографической для общего теоретизирования, широких обобщений и универсальных рекомедаций. Здесь сам предмет анализа не вполне поддается и как будто сопротивляется таким большим и широким обобщениям.
Перенос столицы также иногда приобретает – особенно в глазах скептиков – репутацию темы, которая интересна и доступна, скорее, политикам и поэтам, чем ученым. Как иначе, чем в метафоре или вдохновенном призыве, можно схватить мечту нации о новом граде, волю народа и своеволие тиранов, вещие сны диктаторов, неуловимые зовы новых пространств, харизму вождей, пассионарные всплески народной воли, которые, как утверждают некоторые романтичные историки, внезапно увлекают народы в путь с насиженных мест на поиски обетованной земли новой столицы. Как можно схватить эти импульсы и их боговдохновенную географию в сухом жаргоне научных абстракций и цифр? И даже если мы на минуту допустим, что все это может быть исчислено и каталогизировано, то как вернуть выверенную и исчисленную механику переноса назад в гущу народного энтузиазма, в органику национального воображения, в спонтанность действия, в пламя и память коллективной интоксикации этой идеей.
Тем не менее потребность в более общезначимых и рациональных подходах к этому вопросу, очевидно, существует и становится все более настоятельной.
Чтобы сегодняшние дискуссии о новой столице России не превращались в субъективный, холостой и малопродуктивный обмен газетными репликами, поэтическими метафорами и политическими лозунгами, продиктованными сиюминутной конъюнктурой, необходимо привнести в них некоторую теоретическую структуру и хотя бы общий исторический контекст. Для более продуктивного ведения этого спора настало время для обращения к более строгим языку и аргументам для описания тех проблем, с которыми сталкивались различные правители и государства, а также обсуждению конкретных моделей принятия решений и более упорядоченной и последовательной оценки исторических прецедентов. Такой подход мог бы сменить спекуляции и обмен более или менее произвольными аналогиями, случайными примерами и досужими соображениями для обоснования различных сценариев развития событий и кандидатур на роль новой столицы. Хотя вряд ли можно превратить перенос столицы в какую-то строгую или тем более точную науку, вероятно, полезно и продуктивно наметить и обсудить общую теоретическую систему координат и ставки в обсуждении этой темы, а также богатство ее политических, исторических и прочих теоретических импликаций, чтобы предотвратить монологичное и одномерное обсуждение этой темы в рамках каких-то строго очерченных дисциплинарных рамок.
Одной из задач данной работы как раз и является попытка разработки более структурированного подхода к обсуждению данной темы и введение в оборот более строгих рамок и системы категорий для ее обсуждения, а также попытка более широкого географически анализа разнообразных исторических прецедентов и их типологизация. Это обсуждение позволит взглянуть на российскую ситуацию, во многом уникальную, с точки зрения международного опыта и дать оценку возможностям и многочисленным уже существующим проектам и предложениям по смене столицы. Более непосредственно применимость международного опыта к российским дискуссиям, а также сложившиеся парадигмы спора о новой столице России обсуждаются автором в другой книге (Россман, 2013). В этой книге речь идет главным образом об исторических прецедентах и недавних примерах такого рода и их результатах.
Пользуясь случаем, автор хотел бы выразить свою признательность тем друзьям и коллегам, беседы с которыми способствовали его размышлениям о проблеме столичности. Мысли автора на эту тему стимулировали переписка, личные беседы и критические замечания Сиднея Монаса, Блэра Рубла, Леонида Сторча, Николаса Пужо (Франция/США), Ирины Лабецкой (Канада), Владимира Николаева, Иосифа Россмана, Ярослава Шрамко, Петра Мирошника, Ольги Тулузаковой. Беньямин Паюк (Аргентина) и Ефим Шлугер (Бразилия) оказали помощь в идентификации статей, связанных с проблематикой Аргентины, Бразилии и Венесуэлы. Международный колледж по изучению проблем устойчивого развития в Бангкоке (International College for Sustainability Studies, Srinakharinwirot University), где автор в настоящее время преподает, создавал необходимые условия для работы над рукописью этой книги. Автор также признателен Валерию Анашвили за его неизменный интерес и сотрудничество в этом и других проектах.
Эта книга также отчасти писалась самими столичными городами. Улицы Москвы, Токио, Пекина, Канберры, Оттавы, Вашингтона, Катманду, Путраджайи, Лондона, Парижа, Рима, Брюсселя, Мадрида, Лиссабона, Вены, Праги, Берлина, Стокгольма, Амстердама, Гааги, Хельсинки, Тбилиси, Бангкока, Вьентьяна, Пномпеня, Рангуна, Стамбула, Иерусалима, Санкт-Петербурга и многих других столиц, городов и весей щедро делились со мной некоторыми своими тайнами и дарили неожиданные вдохновения и новые мысли.
Вадим Россман
Бангкок, 15 августа 2012
Введение Дисциплины, контексты и категории
РАЗЛИЧНЫЕ аспекты переносов столиц привлекали внимание специалистов во многих разделах социальных наук – истории, социальной и экономической географии, юриспруденции, теории национализма, изучении стратегий общественного развития (public policy debates), теории и истории международных отношений, истории архитектуры, археологии, политических науках, социологии, экономике, демографии, регионалистике и теории военной стратегии. Исследования столиц и проблемы переноса также имеют важные импликации для разработки эффективных публичных программ, международного права и международных отношений. Некоторые аспекты этой проблемы затрагиваются также девелоперами и экспертами в области недвижимости, туризма, экологии, планирования городов и муниципального управления, систем коммуникации, транспорта и автомагистралей. Не будучи специалистом ни в одной из этих областей, я тем не менее буду апеллировать к некоторым из этих дисциплин в поисках теоретических парадигм для анализа данных и исторических прецедентов переноса мировых столиц.
Все это, конечно, не означает, что читателю здесь будет предложена просто эклектическая амальгама различных дисциплинарных перспектив на функции и задачи столичности и их воплощение в реальных практиках. Но автор надеется учесть в своем анализе эти различные перспективы для того, чтобы предложить более универсальный и всесторонний анализ столичности, концентрируясь на политическом содержании решений о расположении или переносе столиц в глобальной сравнительной перспективе. В центре моего анализа будет находиться вопрос о том, как в различных географических, геополитических, архитектурных, градостроительных, юридических, технологических и прочих решениях воплощаются конкретные политические стратегии государств. Как, порой в драматических обстоятельствах, нации решают вопросы своей идентичности и политической и социальной организации через выбор своего центра. При этом основной парадигмой данного исследования будет изучение различных стратегий национального и государственного строительства, которые дадут ключ к пониманию значения и достаточно широкой практики подобных решений в наши дни.
Одной из задач автора является также создание общетеоретической системы координат для анализа феномена столичности, которая может обогатить также наше понимание более общих вопросов в социальных науках, одним из которых, безусловно, является вопрос о формах и средствах национального и государственного строительства. Именно отсутствие такого теоретического каркаса, на мой взгляд, делает обсуждение этой темы менее продуктивным и менее понятным также на практическом уровне. Именно теоретический подход позволяет опознать контуры проблемы и обратить внимание на ее многоаспектность в самом конкретном и осязаемом смысле. Здесь предварительно необходимо по крайней мере назвать и обозначить некоторые из этих теоретических проблем.
Теоретические вопросы, которые я имею в виду, относятся главным образом к более фундаментальным историческим, макросоциологическим и философским темам, которые придают более широкий смысл, масштаб и значимость обсуждаемой теме. Эти темы связаны, прежде всего, с пониманием различных культурных практик столичности и моделей отношений между властью и пространством.
С точки зрения автора, тремя главными из этих фундаментальных тем, интимно связанных с обсуждаемой проблемой, являются темы эффективности новой столицы (прагматика), проблемы справедливости (нормативность), воплощенные в самом ее расположении и внутренней структуре, и идентичности, прежде всего той идентичности, которая выражается в пространственных категориях. С этими тремя темами сопряжены три специфических круга вопросов. Какое месторасположение столицы может быть наиболее эффективно для решения государственных задач – военных, экономических и политических? Какое расположение может быть наиболее справедливо с точки зрения граждан или подданных государства? Какое расположение может быть наиболее органичным, аутентичным и отвечающим идентичности народа или цивилизации?
Все эти вопросы заостряют пространственный аспект общефилософской и общесоциологической проблематики. Речь здесь идет о прагматике, морали и онтологии сообществ и социальных коллективов в их соотношении с пространственными категориями – каким образом власть, справедливость и идентичность воплощаются в пространстве, как пространство способствует или препятствует осуществлению этих практических или идеальных элементов в реальных социальных и политических практиках. Могут ли пространственные формы служить эффективным проводником социальных изменений – более эффективной власти, более справедливой справедливости и более аутентичной идентичности?
Остановимся на каждом из этих аспектов и их особых императивах немного подробнее. Пространство и власть
Эффективность политической власти воплощается в эффективности управления пространством и в самой его организации. Расположение столицы с этой точки зрения выступает в качестве важнейшего элемента механики и логистики самой власти («доставки» публичных благ). В этой системе координат месторасположение и характер функций надлежит оценивать с точки зрения оптимальности того рычага, которые они предоставляют власти для контроля над территорией, а также для укрепления, удержания, сохранения и расширения самой власти.
В концепции столицы сливаются две самые древние и самые мистические из мистик – мистика власти и мистика пространства. Власть создает и использует столицы как политические центры для установления, утверждения и поддержания порядка. Новые столицы также позволяют государствам по-новому ориентировать себя в политическом и экономическом пространстве глобализирующегося мира. Они создают рычаги внутри государства для более успешной мобилизации ресурсов управления и расширения при условии минимизации издержек для контроля над территорией. В этом смысле столицы можно рассматривать в качестве начал и фундаментальных элементов государственности, термодинамики самой власти.
Изучение траекторий перемещения столиц заставляет посмотреть с новой точки зрения на успех или фиаско многих государств в мировой истории. Концепция столицы и столичности позволяет также иначе осмыслить идею локализации власти и отношения между ее макро– и микропространствами, различные модусы и акциденции власти, формы сосуществования и взаимодействия власти и пространства в практиках различных культур и цивилизаций.
Обсуждение столичной тематики выносит на повестку дня также чрезвычайно важный вопрос о чувствительности политической организации государства к обустройству его пространств. Власть формирует и организует пространство в соответствии со своими целями и задачами, но организация пространства, в свою очередь, оказывает обратное влияние на логику властных отношений и политические институты. Изменения политических форм власти часто диктуют изменения в организации пространства и в его символизме.
Если формулировать вопрос в более конвенциональном дисциплинарном ключе, то он состоит в формах взаимодействия политики и географии. Политические конфликты могут мистифицироваться как географические конфликты и в политической практике часто получают географическое воплощение. Политика формирует пространства, но пространства, в свою очередь, формируют политику. Пространственные изменения, в том числе и переносы столиц, могут стимулировать определенные политические изменения и воплощать определенные политические идеологии. Географический конфликт может совпадать с политическим конфликтом, обострять его или усиливать. Пространство обладает свойствами усиления и ослабления власти, ее обобщения, разделения и обмена. Пространство консолидирует, фрагментирует, фасует и по-разному упаковывает и представляет власть и властные отношения.
При этом мистика власти и пространства часто дополняется и усиливается мистикой центральности. Именно центральность, как мы увидим ниже на множестве примеров, часто предлагается в качестве пространственной формы разрешения конфликта между двумя или несколькими противостоящими друг другу фракциями внутри государства.
Постмодернистский взгляд на мир пытался разрушить и деконструировать идею центра как такового. По мнению постмодернистов, в современном мире больше нет центра, нет единой арены и иерархии. В представлениях многих социальных теоретиков, которые не обязательно разделяли постмодернистскую программу, но тем не менее пользовались ее терминологией и некоторыми теоретическими выводами, идея центра приобретала все более виртуальный характер. При этом с точки зрения этих теоретиков субстанция центра в современном мире замещалась и продолжает замещаться различными потоками и энергиями. Все это позволяло этим теоретикам говорить о принципиальной полицентричности или даже ацентричности современного социального пространства (Россман, 2009). В соответствии с этими, по сути постмодернистскими, представлениями само устройство власти в современном мире делокализуется и детерриториализуется. В результате этих процессов власть материализуется не столько в физических точках, сколько в сетях, энергиях и микровзаимодействиях.
Обсуждение проблемы столичности позволяет, на мой взгляд, усомниться в этих выводах и поставить вопрос о том, что центры и центральность во многом сохраняют свою конвенциональную роль и значимость. Хотя речь не всегда идет о физической или всем понятной конвенциональной центральности, цивилизации по-прежнему ориентируются на центры, разыскивают или конструируют их и перемещают по определенным законам. И это во многом способствует разрешению возникающих социальных, политических и религиозных конфликтов.
В числе элементов эффективности пространства с точки зрения власти является легитимность и легитимация этой власти. В современных обществах легитимность определяется главным образом принципами справедливости и идентичности, о которых, в связи с переносами столиц, мы скажем несколько слов ниже.
Проблемы политической философии
Наряду с идеей эффективности взаимодействия власти и пространства в столичной проблематике чрезвычайно заострена идея справедливости. Причем эти две темы пересекаются и тесно связаны одна с другой. В современных демократических государствах эффективность расположения столицы во многом определяется тем, насколько она удовлетворяет принципам справедливости и нейтральности.
В месторасположении столицы, а также в ее морфологии и внутреннем обустройстве находят свое выражение идеи политической философии. Связь с этими идеями обнаруживается, прежде всего, в представлениях об идеальном государственном устройстве, идеях о социальной справедливости, краткосрочных и долгосрочных задачах общества, которые отражаются в видениях новой столицы. В дискуссиях на эту тему можно также видеть меру осознания обществом своих текущих задач.
Принципы социальной справедливости воплощаются в дистанции от составляющих государство групп, принципах инклюзивности или эксклюзивности в построении самих центральных или столичных пространств, включенности и представленности в них различных социальных групп и классов. При этом центральность часто служит пространственным выражением принципа справедливости, и она во многих случаях может играть ключевую роль в вопросах организации всей территории государства. Расположение столицы балансирует или регулирует отношения между основными составляющими системы, между центром и периферией и столицей и провинциями. Оно структурирует само пространство, а также сами реальные и возможные конфликты. При этом конфликты, возникающие на политической почве, в некоторых случаях могут разрешаться пространственным путем. Сама форма организации пространства может осложнять и искажать всю систему политических, экономических и человеческих отношений, но она же может и способствовать воплощению принципов справедливости и реконституции социальных отношений. Идентичность
Наконец, вопрос о столицах – это всегда и вопрос об идентичности или даже об экзистенциальном выборе. Французский антрополог Андре Леруа Гурон считал, что ориентация в пространстве может быть не менее фундаментальна для общества, чем собственно производственная деятельность (Leroi-Gourhan, 1965: 150). В каждой столице есть своя экзистенция, связанная с выбором нулевой точки, нулевого меридиана, по отношению к которому идет отсчет национального времени и национального пространства. И такой выбор, часто вытекающий из концепции идентичности, может быть не менее ответственен и судьбоносен, чем выбор стратегической позиции в ходе военного конфликта. Именно поэтому выбор столицы часто окружен важными религиозными или мифологическими представлениями подобно выбору веры.
Поиск идентичности сообщества, возникающего в результате трансформации старой общности, нового военного союза, политического альянса или коалиции или других процессов, часто сопряжен с поисками нового центра. Сегодня эти явления особенно заметны в процессах формирования новых наций и национальных государств. Их поиски и конструирование новой идентичности часто сопрягаются с основанием новых столичных городов или крупными перепланировками старых центров. Однако парадоксальным образом эта тема была обделена вниманием как в классических, так и в более поздних теориях национализма, в том числе в работах таких важных теоретиков, как Бенедикт Андерсон, Эрнст Геллнер, Эрик Хобсбом или Энтони Смит (Anderson, 1991; Smith, 1995).
Реконструкция истории возникновения европейских столиц создает предпосылки для более адекватного взгляда на историю европейских наций и формирование национального самосознания, в генеалогии которых столицы принимали активное участие, а также на различные стратегии территориального и национального развития. Понимание символических элементов и аспектов возведения и жизнедеятельности столиц могут пролить новый свет на конкретные идеи и пути становления наций и национализма. Национальное мышление о пространстве
С концепцией идентичности тесно связано национальное пространственное мышление и национальные языки географического самоописания. Выбор столицы, помимо социально-политической прагматики, может определяться также этим национальным пространственным мышлением или даже пространственным бессознательным культуры. Именно национальное понимание и интуиции пространства во многом определяют логику обустройства и характер и механику восприятия пространства государства. В некоторых ситуациях именно пространственное бессознательное – бессознательные образы пространства и законы их конструирования – оказывает осязаемое или даже решающее влияние на политические построения и институты.
Выбор столицы в качестве центра или ее перенос – это своего рода акт конструирования образа пространства всей страны или всей нации в целом. Идентичность нации неизбежно служит одновременно источником и продуктом такого конструирования социального пространства. Конструирование пространства через выбор центра или столицы также сопряжено и с конструированием времени, о чем более подробно пойдет речь в одной из следующих глав книги.
Вопрос о столице поэтому – это, помимо всего прочего, всегда еще и вопрос о самом нашем мышлении о пространстве, которое специфично для различных стран и регионов мира и укоренено в национальной психее.
В этой связи стоит еще раз задуматься об уникальности российского пространственного мышления, в том числе и о свойственных ему фобиях, инерционных представлениях о государственности, концепциях центра и периферии, столице и захолустье, которые также органически вписаны в дискурс о столице и ее возможной смене. На мой взгляд, именно эти пространственные понятия и категории, возможно, лежат в основе некоторых устойчивых политических представлений и ориентаций, и их необходимо эксплицировать и расшифровать для более полного раскрытия нашей темы.
Пространственное мышление в целом играет особую роль в российской концепции идентичности, быть может, более важную, чем для большинства других народов. Россия – это страна, сосредоточенная на пространстве, зачарованная пространством, но часто и обманутая этим пространством. Не вполне отрефлектированная пространственная идентичность, возможно, лежит в основе многих широко распространенных российских географических представлений о самих себе. Амбивалентная и нестабильная концепция российской идентичности, бросающаяся в глаза в языках самоописания в сферах политики, религии и морали и включающая в себя множество противоречащих друг другу характеристик (страна богатая и бедная, великая и ничтожная, индивидуалистическая и общинная, аристократическая и простонародная, самая вольная и самая рабская), возможно, имеет одним из своих истоков пространственную неукорененность и неустойчивость. Концепции России как Евразии, Скандовизантии, Славянотатарии как будто также подчеркивают амбивалентность российской идентичности и ее привнесенный характер. И эта болезненная амбивалентность распространяется далеко за пределы чисто географических описаний и находит свое отражение и в сегодняшних спорах о новой столице страны.
Исследование некоторых ключевых стереотипов российского понимания пространства, ментальной освоенности этого пространства, не менее фундаментально и важно для понимания спора о новой столице, чем изучение российской географии и объективных свойств российской территории. В число таких стереотипов можно включить ложное освоение этого пространства, а также во многом проблематичные формы соединения пространства и власти.
После развала СССР многие из пространственных стереотипов россиян были подвергнуты тщательному критическому исследованию в специфически российском изводе пространственного поворота в общественных науках (spatial turn), который открыл новые ментальные измерения советского и постсоветского пространства наряду с прочими другими мнимостями русской политической геометрии. Постсоветские социальные науки во многом вернули географическое измерение в осмысление социальной реальности, заговорив о человеке как таковом уже во всей совокупности его пространственных, а не только чисто экономических отношений. Они подвергли жесткой критике тенденции платонического изъятия реальности из ее пространственно-географических покровов, которые преобладали в советской версии марксизма (настоящий марксизм, напротив, всегда был очень чуток к пространственным категориям, как это особенно ярко показал в серии своих работ британский географ Дэвид Харви).
Тем не менее постсоветский пространственный поворот и постсоветские идеологии в целом не только возродили интерес к забытому пространственному измерению реальности, но и во многом мистифицировали пространство и пространственность, в том числе и в споре о новых столицах. Они воспроизвели, воссоздали или вылепили заново множество новых мифов о российском пространстве. Многие из них расцвели подражательным пустоцветом геополитических теорий.
Метафизические спекуляции по поводу уникальности и экстраординарного устройства российского пространства, его особой мистике и необходимости его имперского удержания и расширения во многих случаях заняли место осмысления, освоения и реорганизации территориальных функций, анализа универсальных и специфических законов, которые управляют пространством и пространственными отношениями.
Неоевразийские спекуляции по поводу пространства, геополитическая мистика и поэтическая завороженность необъятностью российских просторов до сих пор занимают важнейшее место в структуре постсоветских дискуссий, а авторы подобных идеологических построений зачастую участвуют в этих спорах на правах ученых и знатоков пространства. Частью этих пространственных мистификаций реальных географических и политических проблем стала подчас маниакальная акцентация пространственных категорий и добавление приставки гео- практически ко всем существующим социальным понятиям и наукам вне зависимости от их уместности. В исполнении этих идеологов экономика, история и политика давно превратились в геоэкономику, геоисторию и геополитику. Бесконечное околопространственное словотворчество, которым изобилуют и околостоличные дебаты, вероятно, является своего рода гиперкомпенсацией пережитой советской аспациальности[2], которая, возможно, имеет и более глубокие корни.
Речь здесь идет не только о том пространственном мышлении, которое заявляет о себе в политических манифестах и прочих рефлексиях, но также и о тех ментальных принципах и привычках, которые воплотились в самой актуальной конфигурации и организации русского пространства, и в пространственном бессознательном, часто связанном с неприятием дуальности, бинарности и двоичности. В этих дискуссиях самому Большому пространству приписывается субъектность и оно позиционируется как активный агент истории, противопоставленный местническим и местным интересам. В дебатах о столице именно элементы такого пространственного русского бессознательного выявляются в наиболее рельефном и рафинированном виде. Но большая тема пространственного бессознательного, конечно, выходит далеко за рамки непосредственного интереса данной работы.
Некоторые предпосылки и гипотезы
В данной книге автор не предлагает какой-то принципиально новой программы переустройства российского пространства. Скорее, он приглашает к размышлению о различных концепциях столичности, мировом опыте переносов столиц, различных теоретических и практических парадигмах их анализа. Но в то же время, как уже было сказано, это и приглашение к размышлению о различных ментальных образах российского пространства и его множественных центрах, российском государственном мышлении, его стереотипах и фобиях, его представлениях о центральности и природе власти.
Прежде чем мы перейдем к анализу непосредственных и конкретных идей, концепций и историй, можно сделать несколько предварительных замечаний, которые отчасти предвосхищают наши выводы, а также высказать несколько гипотез и предположений, которые в известном смысле определили логику изложения материала. Они отчасти поясняют план и задачи этой книги.
Концепция нового времени. Популярность переносов столицы в XX веке, возможно, отчасти отражает особый интеллектуально-политический настрой или духовный климат эпохи модерна. Модерн – это время, когда самого себя надо не просто принять исторически сложившимся в совокупности своих географических, наследственных и архитектурных отношений, но когда себя, свою идентичность, свой центр, свою культурную принадлежность можно еще и выбирать. А иногда не просто выбирать, но и конструировать.
Старые государства наследовали свои столицы или были вынуждены их перемещать в соответствии с циклами военных побед и поражений. Новые государства, которым долго было отказано в выборе своего пути, часто предпочитают строить, конструировать и выбирать подобно тому, как современный человек выбирает свой облик и свою идентичность. Нации творят самих себя через свои центры. Они не просто находят их уже готовыми, а выбирают и созидают их, в том числе и в процессе выбора своих столиц.
Перспектива национального государства. Подход автора к концепции столицы в значительной степени связан с концепцией национального государства. Во многих исследованиях вопрос о переносе столиц рассматривается через призму проблемы экономической эффективности и мыслится как чисто экономическая проблема. С точки зрения авторов этих исследований, мегаполисы имеют свою меру эффективности, и многие экономисты и экономические географы пытаются подсчитать коэффициент полезного действия мегагородов как звеньев в системе мирового капитализма. Однако задача, на взгляд автора, должна ставиться шире и учитывать особые свойства столиц, отличающие их от обычных городов. Необходим учет многообразного опыта, связанного с многонациональными и многоэтническими государствами и с вновь освободившимися странами, которые стараются принимать во внимание в расположении своей столицы те факторы, которые выходят далеко за рамки экономических проблем – вопросы идентичности, демократизации, социальной справедливости и достижения этнической гармонии.
Столицы и политические режимы. Один из тезисов книги состоит в том, что идея столичности каждый раз преломляется по-своему в различных политических режимах. Сама урбанистическая иерархия городов в любой стране, с одной стороны, отражает ее политическую сущность и идентичность и соответствует политическим принципам ее устройства, а с другой – закрепляет эти принципы. Фундаментальные принципы либеральных демократий – такие как разделение властей, система сдержек и противовесов, принципы федерализма, механизмы контроля гражданским обществом деятельности корпораций и государства – находятся в соответствии со структурой городов, что наиболее четко видно на примере крупных многонациональных политических образований. В самой иерархии урбанистической сети уже скрыта особая мораль – принципы взаимодействия между регионами, принципы достойного управления (good governance) и социальной справедливости.
В деспотических и автократических политических режимах нестоличные города часто изъяты из системы международных экономических связей, а столицы монополизируют ресурсы и служат единственным окном в большой мир, что создает проблемы не только для экономики, но и приводит к колоссальным издержкам человеческого капитала и разрушению системы доверия в обществе. В более демократических обществах, которые наследовали европейским традициям, напротив, баланс интересов регионов или земель, отсутствие приматных городов в классическом смысле создают более благоприятную обстановку для развития экономики и социального взаимодействия.
В демократических режимах столицы тоже часто наделены особыми преимуществами, но у них есть и определенные неудобства; напротив, в коррумпированных и сверхцентрализованных государствах столицы в качестве центров не представляют нацию и являются привилегированными центрами, которые используют рынки для своих политических целей.
Многие ученые считают структуру урбанистической сети лишь следствием политического уровня централизации. Поэтому, с их точки зрения, перенос столицы является только борьбой с симптомом заболевания, а не с самой причиной возникновения приматных городов (primate cities), которые одновременно являются столицами. Напротив, другие исследователи считают, что сам характер урбанистической сети и ее иерархичность, будучи результатом определенного исторического процесса, является важной предпосылкой для формирования политических принципов, в том числе принципов федерализма. В таком контексте перенос столицы, будучи важной составляющей изменения пространственной структуры, может стать заметным фактором и предпосылкой для изменения политических принципов. Мне кажется, что эта вторая позиция более корректна и каузальные связи здесь действуют в обоих направлениях. Иллюзии пространственно-географического детерминизма не менее опасны, чем идеи о том, что пространственное расположение абсолютно нейтрально в отношении политической ориентации.
Место переносов столиц в процессах социальных трансформаций. Переносы столиц не являются ни панацеей, ни универсальным инструментом децентрализации или универсальным рычагом достижения социальной справедливости. Во многих странах такие переносы могли быть мотивированы как раз противоположными мотивами – самовозвеличением правителей, изоляцией политической оппозиции и дистанцированием политических элит от повседневных нужд и интересов граждан, легитимацией новой утопической идеологии и тому подобными мотивами. Парадоксальным образом такие решения часто инспирировались не соображениями снижения уровня централизации, а, напротив, мотивами закрепления и усиления уже чрезвычайно централизованной структуры существующих политических режимов. Именно такие автократические государства обладают лучшими способами мобилизации ресурсов и более эффективным характером лидерства для проведения таких крупных и затратных социальных проектов.
План изложения
План изложения материала в книге следующий.
В первой главе обсуждается вопрос о том, что такое столица, каково нормативное содержание этого понятия. Здесь мы дадим краткий исторический экскурс в историю столиц и генеалогию современной идеи национальной столицы. Этот исторический экскурс поможет нам сформулировать некоторые закономерности в формировании и эволюции столичных городов, корректируя или дополняя уже существующие определения и типологии. Далее мы также выделим несколько принципов расположения столиц, которые были связаны с географией, экологией, пространственными схемами и другими специфическими параметрами. Здесь также будет проиллюстрирована роль столиц в формировании наций и национальных государств.
Во второй главе даются более подробные описания и анализ переноса столиц в различных странах, цивилизациях и транскультурных регионах. Следующие вопросы занимают наиболее важное место в этой главе. В какой мере столичные города были эффективны для решения задач обсуждаемых государств? Как видоизменялись и изменялись ли в результате отношения между центром и периферией? В какой степени различные типы столиц подходили для решения насущных экономических и социальных задач и насколько логика столичности была для них важной и релевантной? Есть ли какой-то универсальный смысл и вектор во всех этих переносах, или их цели и задачи в каждом конкретном случае уникальны? Особое внимание в этом анализе уделяется причинам, организации и мотивациям переносов столиц в различных странах. Особенно подробно будут обсуждены и проанализированы переносы столиц в Турции, Бразилии, Малайзии, Германии, Нигерии и Казахстане. Именно опыт этих стран имел наибольший резонанс и оказал наибольшее влияние на соответствующие решения в других государствах. Здесь будут обсуждены и некоторые результаты этих проектов, а также их бюджеты и их администрирование. Кроме того, мы представим различные критические оценки уже завершившихся проектов, высказывавшиеся урбанологами, социологами и экономистами, а также некоторые попытки более всестороннего их анализа. Результаты нашего описания будут обобщены, во-первых, в девяти стратегиях, которые использовали различные страны, во-вторых, в общих уроках, которые можно извлечь из этого исторического опыта, в-третьих, в некоторых сравнительных наблюдениях и поисках общего знаменателя групп этих проектов. Помимо этого, мы рассмотрим несколько предполагаемых факторов успеха таких перемещений и показатели эффективности, которым они могут удовлетворять. Если понимание концепции столичности и ее исторических форм позволяет понять мотивы и организацию их переносов, то анализ переносов столиц, в свою очередь, проясняет и уточняет фактическую роль и задачи столичной функции.
В третьей главе разбираются различные теоретические и методологические подходы к анализу столичных функций и моделей принятия решений, в том числе теории урбанистических сетей, концепции пространственной экономики, теории точек роста и мир-системный анализ. Здесь также рассматривается вопрос о том, в каких категориях лучше всего оценивать этот опыт и как планировать подобные мероприятия с учетом существующих научных и управленческих моделей. В качестве наиболее важных критериев оценки обсуждаются контекст национального строительства, федеративность, экономическая рациональность и влияние размера и расположения столицы на экономическую деятельность, символическая адекватность столиц, а также возможные причины актуализации всех этих вопросов. В этой связи обсуждается символизм и архитектурный язык нескольких вновь спланированных городов и его взаимосвязь с национальным строительством. Особое место в этой главе займет анализ взаимоотношений между такими характеристиками городов, как глобальность, приматность и столичность, а также преимуществ и недостатков их соединения в одном городе.
Наконец, в заключительной части мы подведем итоги нашего анализа. Они будут касаться различных обоснований и причин, которые побуждают правительства различных стран осуществлять эти проекты (экономических, политических, военных и экологических), наиболее успешных стратегий, которыми они пользуются, общих современных тенденций в этом вопросе, зависимости между характером политических режимов и успешностью переносов столиц. Кроме того мы попытаемся наметить некоторые параметры применимости различных аспектов проанализированного международного опыта к анализу ситуации в тех современных странах, где эти вопросы еще только стоят на повестке дня. Глава 1
История и типология столиц
Как мы уже упомянули, несмотря на все более заметный рост количества столичных городов, проблематика столицы именно в качестве темы теоретической рефлексии до недавнего времени не привлекала достаточного внимания ученых, что кажется несколько парадоксальным. Хотя существует огромное множество монографий и статей по истории конкретных столиц, которые затрагивают различные аспекты столичной жизни – от архитектуры и социологии до политики муниципального управления, – столичная тема до недавнего времени не входила в число особенно популярных урбанистических тем. В специальной литературе преобладали идеографические исследования столичности и столичных городов в рамках национальных историй или работы, посвященные одному городу, своего рода биографии крупных столичных центров. Немецкий историк Андреас Даум подтверждает это наблюдение, замечая, что изучение столиц на сегодняшний день «находится в инкубационной стадии развития» (Daum, 2008: 4). Этой же причине приписывает теоретическую непроясненность концепции столичности авторитетный американский географ Скотт Кэмпбелл. Он, в частности, замечает, что столица, будучи «легко определимым явлением, остается недостаточно хорошо понятым в качестве особого класса городов» (Campbell, 2000).
Такие оценки состояния дел в дисциплине ни в коем случае не следует понимать в том смысле, что существует какая-то заметная нехватка или дефицит фактического и исторического материала о столицах в обширной литературе на тему конкретных столиц. В некоторых случаях высказывались даже упреки противоположного свойства – о том, что столицы часто заслоняют образ всей страны в результате предрассудков журналистов, историков и туристов.
И эти упреки часто вполне справедливы, так как провинции и прочие нестоличные территории часто не получают должного внимания в журналистских репортажах, исторических сочинениях и туристических путеводителях. Тем не менее столицы как класс городов также часто оказываются обделенными вниманием ученых, но в несколько ином смысле. Тема столичности не особенно хорошо отрефлектирована и не интегрирована в единую дисциплину. Нужный материал разбросан в работах из разных предметных областей со своими языками, внутренними логиками, категориями, стандартами и моделями объяснения. До недавнего времени существовало всего несколько более или менее общих научно-теоретических статей на тему, где предпринимались попытки осмысления роли и смысла столичности в современном государстве (Eldredge, 1975; Hall, 1993; Campbell, 2003; Gottman, 1985; Tyrwhitt & Gottmann, 1983). Таким образом, в географической и дисциплинарной иерархии знаний о городах, отличной от самой иерархии городов, столица до недавнего времени занимала не самое почетное место.
Призывы к созданию дисциплины – особой науки о столицах, – естественно, не предполагают простого механического и эклектического соединения данных из разных дисциплин. Они имеют в виду попытку учреждения особой синтетической области, которая в сравнительном ключе позволила бы обозначить более универсальные стандарты осмысления и модели объяснения закономерностей возникновения, функционирования и роли столиц и их место в современных глобальных процессах. Взгляд на столицы в сравнительной перспективе позволил бы более критически рассматривать многие урбанистические и социальные явления, преодолеть множественность дисциплинарных подходов и разрешать противоречия в их различных схемах объяснения. Такой подход позволил бы, например, дать более объективную оценку множественности объяснений мотивов какого-то конкретного переноса столицы, которые уверенно высказываются разными историками или географами. Например, перенос столицы в Константинополь объясняется различными историками тремя разными способами: необходимостью создания новой христианской империи и дистанцированием от римского язычества (Тойнби), экономическими преимуществами нового места или чисто военными мотивами. Применение сравнительного метода анализа было бы наиболее ценным и незаменимым способом понимания закономерностей функционирования и создания столичных городов.
Оценки состояния дел в изучении столичной проблемы, высказанные Даумом и Кэмпбеллом, также, вероятно, имеют в виду явный крен в урбанистической литературе последних двух десятилетий в пользу анализа и описания глобальных городов и урбанистических сетей. Можно сказать, что, помимо урбанистических иерархий, существуют также иерархии знаний о городах и процессах эволюции городов, и в этих иерархиях знаний столицы занимают далеко не первое место. Многие урбанисты и географы адаптировали экономические методы анализа и сосредоточились на обсуждении таких важных феноменов и концепций, как мировой или глобальный город, агломерации и кластеры развития. Однако эти темы и теоретические парадигмы их осмысления не всегда хорошо подходили и подходят для анализа городов столичных.
Кроме того, тезис о закате национальных государств, который часто служил не всегда специально оговоренной предпосылкой многих из этих исследований, неявно предполагал, что главными участниками исторического процесса сегодня становятся глобальные города и международные корпорации, а столицы теряют свою прежнюю роль и значимость. В этой теоретической парадигме столицы стали рассматриваться по преимуществу как места локализации экономических интересов и их эффективность стала оцениваться, прежде всего, на основании экономических параметров. Рынкам также стала приписываться роль чуть ли не единственных агентов формирования существующих городских сетей и иерархий, в то время как роль автономных политических факторов и политических сетей обмена систематически недооценивалась (Ringrose, 1998).
В то время как экономические модели иногда проливают интересный и неожиданный свет на происходящее, они вместе с тем могут искажать суть многих социальных проблем. Исключительно экономический подход к проблеме не учитывает, например, внутренних критериев эффективности столиц и тех задач и функций, которые они исполняют. В последние годы стало появляться больше работ, посвященных столицам и политическим сетям, которые их формируют (Therborn & Bekker, 2011; Therborn & Но, 2009; Therborn, 2002). При этом такие исследования стали проводиться не только в отношении современных городов, но и для оценки формирования средневековых городов и различных других исторических форм урбанистических сетей (Ringrose, 1999; Daum, 2008). Заслуживает внимания также относительно недавний сравнительный поворот (comparative turn in urban studies) в изучении городов в урбанистической литературе.
Предварительное определение
Самое общее определение столицы подразумевает место пребывания правительства страны, хотя в некоторых современных государствах столичность не вполне соответствует этой дефиниции. Так, в ряде стран (Швейцария, Южная Африка, Боливия) различные столичные функции могут быть разнесены по разным городам, а в Нидерландах правительство располагается в Гааге, то есть за пределами официальной столицы государства[3]. Но такие ситуации являются, конечно, скорее исключением.
Современная концепция столицы является достаточно новой политической категорией. В Европе она начала складываться в том виде, в каком мы ее знаем, только в XVII веке. До этого периода во многих обществах столиц или вообще не было, или их роль была весьма ограниченной и принципиально отличалась от той роли, которую мы приписываем им сегодня. Подъем столиц связан с возникновением наций в результате процессов, которые будут описаны в следующих главах.
Главная задача столиц состоит в представлении нации самим себе и окружающему миру. Столицы представляют собой идеализированные образы нации и национальной истории, своего рода образы нации в миниатюре. Именно в силу такой репрезентативной функции столицы в некоторых контекстах могут восприниматься как тождественные всей нации целиком.
Именно поэтому названия столиц в некоторых государствах совпадают с самими названиями этих стран. Это относится, например, к таким странам, как Алжир, Тунис, Мексика, Гватемала, Сальвадор, Бразилия или Белиз, в случае которых название страны и столицы совпадают или совпадали в прошлом. Гитлер планировал назвать новую столицу своей империи, которая должна была также стать столицей мира и заменить Берлин, Германией (Welthauptstadt Germania). Эта тенденция относится не только к современности, но и к периоду древности. Именем своей столицы назывались такие государства, как Аккад, Вавилон или Рим. Однако если в древности народы назывались именами своих столиц, то в новое время тенденция состояла, напротив, в том, чтобы столицы назывались именами наций и народов.
По той же причине символической субституции именами столиц называют целые периоды национальной истории некоторых стран (например, петербургский и московский периоды в русской истории). В историографии нередко предпринимались попытки представить всю историю народа или страны через калейдоскоп ее различных столиц: опыты такого изложения предпринимались, в частности, в отношении истории Китая, Персии или Арабского халифата (Hitti, 1973; Geil, 2005). Константин Аксаков в свое время описал всю историю России в оптике ее различных столиц: Русь Киевскую, Владимирскую, Московскую и Петербургскую. В некоторых случаях речь шла о представлении только отдельных отрезков истории, как, например, в истории средневековой Болгарии (Полывянный, 1994). И в таком представлении через столицы, безусловно, был свой интерес и свои резоны, хотя далеко не все национальные истории поддаются такому описанию.
Идея о том, что столица представляет всю нацию целиком и является ее символическим двойником, находит отражение также в военных стратегиях, в стандартных и принятых языковых практиках (мы говорим «Вашингтон или Лондон принял решение», хотя реальным субъектом этой фразы обычно служит вся нация целиком), в некоторых формальных или неформальных конвенциях международного права и международных отношений.
В ситуации гражданской войны в решениях международных организаций часто реализуется презумпция о том, что силы, которые осуществляют стабильный контроль над столицей, являются наиболее легитимной репрезентацией нации и носителями государственного суверенитета, хотя de iure международное право не содержит пунктов, которые бы фиксировали или закрепляли такое признание. На этот факт обратила внимание Марика Ландау-Уэллс в своей недавней статье, где она обращается к примеру решений по поводу легитимности власти в четырех африканских странах, принятых различными международными организациями (Landau-Wells, 2008). В глазах международного сообщества, таким образом, de facto столица часто служит привилегированным локусом суверенной власти или государственного суверенитета, особенно в ситуациях гражданской войны. Речь здесь, конечно, идет только о тенденции.
На этот же аспект – контроль над столицей часто приравнивается к победе в международной войне – указывается в некоторых классических работах по вопросам военной стратегии. Например, известный в прошлом немецкий военный теоретик Фридрих фон Бернгарди (1849–1930) в своем капитальном труде «Современная война» замечает по этому поводу:
Военная история вновь и вновь указывает нам своими многочисленными примерами на важность столиц в ведении войны. Неспособность Ганнибала завоевать Рим лишила его лавров победителя; Наполеон почти всегда выбирал столицы в качестве главных мишеней своих стратегических атак, повергая своего противника их захватом (Бернгарди, 1912: 196)
Хотя в работах Карла фон Клаузевица главным свидетельством победы в международной войне является разгром армии врага, он признает захват столицы противника вторым по значимости критерием победы в боевых действиях (Landau-Wells, 2008: 15)[4].
Военные историки также обращают внимание на большую значимость столиц в чрезвычайно централизованных и до-современных государствах. В таких государствах овладение столицей часто означало победу в войне. Примерами таких стран могут служить Франция и императорский Китай.
Как мы уже отметили, во многих столицах также осуществляется символическая репрезентация нации. Более подробно мы обсудим эту тему в одной из последующих глав книги. Здесь же обратим внимание лишь на то, что во многих столицах государств городская топонимика отражает всю географию страны целиком. Большое пространство государств моделируется в пространстве малом (в данном случае большое пространство государства – в пространстве столиц), как это было характерно для многих архаичных религиозных центров. Так, в Москве, например, есть районы, которые до сих пор воспроизводят в названиях улиц и проспектов физическую географию целых республик или регионов СССР (например, Крым или Украину на юге Москвы). Подобная же географическая символизация нации и воспроизведение большого пространства в топонимике столицы обнаруживается во многих странах мира как европейских, так и неевропейских (другие примеры подобного рода можно найти, в частности, в книге Radovic, 2008).
В большинстве государств существует только одна столица, и такая ситуация кажется нам естественной. Но в некоторых странах существует две или несколько столиц, функции которых различаются. Существовали и гораздо более необычные и оригинальные формы организации этого социального института.
В некоторых исторических обществах, например в средневековых тунгусо-маньчжурских государствах – таких как государства бохайцев, киданей (государство Ляо) и чжур-чжэней (государство Цзинь), населявших Дальний Восток и последовательно сменявших друг друга, – традиционно было по пять столиц (Воробьев, 1968; Е Лун-ли, 1979, гл. 22). Некоторые историки связывают такое устройство с китайской концепцией пяти первоэлементов (Задвернюк, 2002). В самом Китае, впрочем, концепция пяти столиц никогда не существовала[5]. Возможно, бохайцы действительно заимствовали известную китайскую концепцию пяти городов (у-ду) и переформулировали ее в концепцию пяти столиц (у-цзин), которую у них, в свою очередь, впоследствии заимствовали другие народы.
Каждая из столиц в тунгусо-маньчжурских государствах специализировалась на определенном круге проблем. Это были своего рода средневековые аналоги современных министерств, вынесенных в пять разных мест. Например, одна из столиц специализировалась в области военного дела, другая – в области сельского хозяйства, третья – в области торговли или транспорта[6]. Тем не менее даже в этих государствах только одна из столиц считалась верховной и, как правило, одновременно служила резиденцией князя или верховного правителя.
Функции столицы
Исследователи выделяют несколько фундаментальных функций столицы. Немецкий историк Андреас Даум к важнейшим функциям столицы относит функции администрирования, интеграции, символизации, а также охраны памятников, истории и ценностей национальной культуры. При этом интеграция, о которой он ведет речь, имеет два аспекта– социальный и этнический (Daum, 2008: 5–8).
Интегративная функция столицы состоит в ее способности фиксировать и воплощать в себе аспекты и элементы единства нации. Такое единство часто происходит за счет компромисса. Среди наиболее распространенных и важных из этих компромиссов можно выделить компромиссы между двумя или более этносами, религиозными или этнолингвистическими группами, составляющими нацию; компромиссы между местными и общенациональными интересами, между самыми крупными городами страны, между глобальностью и национальностью, а также между международным и партикулярным. В идеале столица становится своего рода временной точкой равновесия между различными силами и интересами, которые присутствуют в стране. Если определенные группы не имеют своего политического, социального или символического представительства, это равновесие становится хрупким. Пространство оказывается, таким образом, формой и локусом воплощения нормативных принципов, правовых и моральных. В столице отражается не только настоящее нации, ее наличное бытие, но и ее идеальный образ – то, как она себя видит и чем она хотела бы стать. Отсюда вытекает многосторонний характер интегративной функции, которую мы обнаруживаем в столице.
С символической функцией тесно связана также перформативная функция столиц, которая состоит в том, что столичный город является площадкой для проведения национальных праздников, массовых шествий, парадов и демонстраций, которые сплачивают нацию и, по сути, транслируют заявления об идентичности в действиях. Символическая функция в наибольшей степени отражается в архитектуре и в символах власти. В каждой национальной столице, как в книге или фильме, есть свой сюжет, воспроизводящий отредактированную версию национальной истории. В этом сюжете есть свои герои, свои злодеи, в нем закодированы ее национальные праздники и фестивали, образы прошлого и образы будущего. При этом воображенное сообщество нации включает в себя не только ныне живущих, но и эпических и мифологических героев, основателей и защитников нации.
Подобно Ленину, который пытался построить социализм в отдельно взятой стране, нация на первых порах строит себя своим воображением, пытаясь сначала представить себя в одном отдельно взятом городе. Столица представляет собой как раз такой образ нации в одном городе. Предполагается, что в идеале эта модель нации должна распространиться на всю страну. В обустройстве столичного города, в его архитектурном ансамбле и формах нация конструирует себя так же, как в национальной литературе и музыке, но этот поиск носит более сознательный характер и происходит с гораздо более серьезным участием государства.
Однако помимо перечисленных универсальных функций можно говорить о неоднородности тех функций и задач, которые выполняют столицы в различных странах. В основе многих их концепций лежат антропоморфические или анатомические метафоры. В некоторых странах столицы выполняют функции мозга или головы (об этом говорит латинская этимология слова: от caput – голова) и своего рода направляющей силы; в других более акцентированными оказываются культурные функции сердца или души государства или исключительно духовные и религиозные функции. В некоторых из них роль столиц является, скорее, наблюдательной. В соответствии с этим разные авторы описывали столицы в качестве головы, сердца, лица или даже глаз государства (так один из арабских путешественников назвал в свое время Багдад «оком Ирака»). Некоторые столицы обращены вовне и являются главным образом лицом нации. Другие столицы обращены на внутренние процессы и являются, скорее, ее сердцем. Продолжая эту метафору, можно сказать, что города образуют скелет нации, а главные торговые города – ее становой хребет.
Типологизация столиц, которой мы займемся ниже, объяснит некоторые закономерности в составе и распределении столичных функций в разных странах. Типология столиц
Ученые предлагают различные классификации столичных городов. Примером такой типологии может служить популярная среди урбанологов номенклатура столиц, предложенная авторитетным американским географом Питером Холлом (Hall, 1993). Питер Холл различает семь видов столиц.
1. Многофункциональные столицы, которые сочетают в себе большинство ролей национального уровня (Токио, Москва, Лондон).
2. Глобальные столицы, которые сочетают в себе национальные и наднациональные функции (Париж, Женева, Вашингтон).
3. Политические столицы, функции которых сводятся к национальному управлению (Лиссабон, Катманду).
4. Суперстолицы, которые служат штаб-квартирами крупных международных союзов и организаций. Классическим примером такой столицы могут служить Брюссель, Аддис-Абеба и Джакарта (столицы Европейского Союза, Африканского Союза и аСЕаН).
5. Бывшие столицы, то есть те города, которые утратили формальную роль столицы, но сохраняют важную историческую или религиозную функцию в стране.
6. Бывшие имперские столицы, которые раньше служили столицами целых империй.
7. Провинциальные столицы, имеющие только региональную значимость (Hall, 1993: 176).
Эта классификация столиц, на которую часто ссылаются географы, кажется логически проблематичной, поскольку разделение понятий здесь идет по разным основаниям.
Попытаемся скорректировать и привести деления к общим основаниям, одновременно несколько расширяя эту классификацию. Предложенные ниже таксономии учитывают масштабы столиц и уровень их амбиций, их исторические и культурные формы, характер их расположения, их функциональное содержание и специфические задачи, а также хронологические циклы их развития.
По географическому месторасположению и задачам, которые они решают, можно выделить центральные, тыловые и вперед смотрящие, или авангардные, столицы (forward-thrust capitals). Вперед смотрящие столицы характерны для расширяющихся империй или для государств, осваивающих новые территории; центральные столицы – для государств, которые решают свои внутренние задачи примирения этнических, конфессиональных или групповых интересов, интеграции страны и нации. Тыловые столицы характерны для государств, испытывающих внешние угрозы и нестабильность на границах. Смена столицы может быть продиктована изменением стратегической позиции этих государств, их военными победами или поражениями.
По функциям выделяются административные, военные, культурные, деловые, религиозные, индустриальные, морские и транспортные столицы (хабы), а также столицы многофункциональные. Наиболее важными и наиболее распространенными по функциональному типу являются политические, культурные, религиозные и экономические столицы. Глобальные столицы часто сочетают в себе экономические и другие функции.
По своим историческим формам выделяются сакральные, отчужденные, религиозные, национальные, имперские и бывшие столицы. Жан Готтман обсуждал бывшие столицы и отношения диалога, которые часто устанавливаются между старыми и новыми столицами. Подобный диалог столиц часто оказывает серьезное влияние на политическую и культурную динамику этих государств (Gottman, 1985). В некоторых случаях происходит конверсия имперских столиц в национальные столицы, что сопровождается определенными архитектурными и морфологическими трансформациями. Все эти типы столиц мы обсудим более подробно в следующих параграфах.
По масштабу можно различать периферийные, региональные, национальные и транснациональные столицы, а также сверхстолицы (например, столица Европейского Союза).
По истории возникновения и по характеру застройки выделяются естественные столицы, которые постепенно эволюционировали в столичные города в государствах Старого Света. Таковы Париж, Лондон, Токио, Рим или Пекин. Они, как правило, превращались из важных коммерческих, военных или религиозных центров в столицы империй, а потом национальных государств.
Противоположными им по типу являются столицы, специально отстроенные по особому плану (designed capitals). К этой категории столичных городов относятся Вашингтон в США, Нью-Дели в Индии, Канберра в Австралии, Анкара в Турции, Бразилиа в Бразилии. Хельсинки тоже вписывается в ряд спланированных городов. До того как сюда была перенесена из Турку столица Финляндии в 1812 году – старая столица находилась слишком близко к бывшей метрополии, то есть к Швеции, – этот город был военной крепостью и небольшим торговым поселением. Пожар 1809 года практически превратил перенос столицы в строительство нового города с чистого листа (Kolbe, 2006). Спланированные столицы – не обязательно новые города. Историк Византии Сирил Манго относит Константинополь к числу таких же спланированных столиц (Mango, 2005).
Спроектированные города стали не только новыми столицами, но и сценами для радикальных градостроительных экспериментов и для демонстрации новых для своего времени моделей планирования городов и веяний в архитектуре. Во многих из них утопическая энергия была направлена на преобразование окружающего социума. Специально спланированные города предоставляют гораздо более свободы для экспериментов и становятся лабораторией для конструирования нации через архитектуру и символы единства. В них часто в большей степени отражается сама суть столичности. Публичные пространства естественных городов старого мира, которые постепенно формировались в соответствии со своими изменяющимися задачами и функциями и в которых заметно сразу множество исторических слоев (layered cities), в меньшей мере подходили для этой роли. Примерами таких исторических, многослойных и естественных городов могут служить Рим или Москва.
В противоположность этому в спланированных столицах гораздо более акцентированно выражается и закрепляется определенная идеология национального строительства.
С момента своей постройки эти идеологические мотивы могли меняться и внутри них могли смещаться акценты. Примерами таких изменений могут служить переход Дели к национальной независимости или смещение акцентов в архитектуре и градостроительном плане Хельсинки с имперского на демократическое пространство после достижения независимости.
В какой-то степени к спланированным городам приближаются города с масштабной реконструкцией старых столиц. Токио и Берлин могут считаться весьма близкими к спланированным столицам, так как после масштабных разрушений в ходе войны большая часть этих городов была спроектирована и застроена заново. В несколько меньшей степени это относится к Мадриду, основательно разрушенному в ходе бомбардировок гражданской войны в Испании.
По степени пространственного единства можно выделить концентрированные и распределенные столицы. Последние особенно характерны для относительно небольших государств, построенных на принципах федеративности (Швейцария, Голландия, ЮАР, Боливия, Новая Зеландия). Некоторые города при этом могут быть столицами не будучи вместе с тем местами размещения соответствующих правительств (Амстердам, Ла-Пас, Абиджан). Если в вышеперечисленных странах столичные функции разделены между разными городами, то в некоторых странах столица разделена между разными народами. Такой разделенной столицей является, например, Иерусалим (Emet, 1996).
По степени стабильности и долголетию можно выделить стационарные или постоянные столицы в противоположность временным и блуждающим столицам.
Временные столицы часто возникают в государствах, находящихся в состоянии войны. В случае угрозы старой столице столичные функции обычно выносились в глубокий тыл, а по окончании военных действий возвращались назад. Так, во время Второй мировой войны столица России перемещается на восток страны в Куйбышев. Столица Испании выносится в Валенсию. Во время наполеоновских войн фактическая столица Португалии перемещается за океан, в Рио-де-Жанейро, а столица Пруссии – в Мемель (Клайпеду). С 1922 по 1940 год временной столицей Литвы стал Каунас, так как Вильнюс оказался на территории Польши.
Блуждающие столицы были типичным явлением для нескольких средневековых государств Африки (Эфиопия, Руанда и Уганда) и для некоторых кочевых обществ. В XV–XVII веках в Эфиопии в блуждающих столицах воплощалась особая стратегия партизанской войны против мусульманских завоевателей. Перемещение столицы при этом могло происходить почти каждый год или даже чаще, но при этом и в постоянно мигрирующей столице сохранялись важные символические и интеллектуальные функции (Horwath, 1969: 215).
Статичность или мобильность столиц была важной характеристикой различных государств и их стратегий господства и власти. В Риме была только одна столица, и падение города символически означало падение всей Римской империи, хотя фактически столицу просто перенесли в Константинополь. К числу чрезвычайно долгих столиц относятся тысячелетние столицы, такие как Хэйан в Японии или Константинополь. Напротив, в Корее за период с возникновения Трех Царств в первом веке до н. э. до возвышения династии Ли в 1392 году столица переносилась 22 раза (Yoon, Hong-Key. 2006: 18, 40, 231, 250; UNESCO, 2012). В истории Армении существовало 12 столиц, не включая столиц Киликии и отдельных армянских княжеств (Economist, 2006; Эджмиацинский, 2012).
По уровню контроля можно выделить жесткие и мягкие типы столиц. О таком критерии различения говорил итальянский писатель Умберто Эко в своем выступлении, посвященном обсуждению концепции и модели новой общеевропейской столицы Брюсселя, ее облика и основных требований к ней (Therborn, 2008: 70). Жесткие столицы (Эко называет их столицами «по модели Людовика XIV») характерны для более крупных централизованных государств; они доминируют в большинстве сфер жизни и часто являются громоздкими городами, объединяющими в себе сразу множество функций.
Мягкие столицы более характерны для небольших полицентрических государств Европы, таких как Бельгия или Швейцария. Как правило, они отличаются компактностью и ненавязчивостью. Если воспользоваться компьютерной метафорой, можно сказать, что мягкие столицы дают государству только один из скриптов или одну из программ (software), в то время как жесткие столицы более тотально определяют всю совокупность экономических и социальных отношений (hardware). (European Commission, 2001: 10–11). В соответствии с этой метафорой можно делить и государства. Так, в первой половине XIX века в Швейцарии было шесть чередующихся мягких столиц, включая Люцерн, Берн, Базель, Фрайбург, Золотурн и Цюрих. После религиозной гражданской войны 1847 г°Да и в результате революции 1848 года конфедерация превратилась в единую нацию, столицей которой стал Берн (Therborn, 2008: 63).
Критерии жесткости и мягкости играли заметную роль в выборе столицы во многих других странах. Например, в дискуссии по поводу новой итальянской столицы, которая состоялась в 1864 году, один из итальянских политиков (Феррари) высказался против модели жесткой столицы: «Сама идея доминирующей столицы была решительно всеми отвергнута… Нам не нужно итальянского Парижа или итальянского Лондона» (Djament, 2005: 376).
Тем не менее не все европейские жесткие столицы в виде гигантских городов или городов-гегемонов вполне сопоставимы друг с другом. Так можно говорить о заметных и существенных различиях между местом и статусом столиц в англосаксонских и континентальных европейских государствах.
Примером здесь может служить резкий контраст между Лондоном и Парижем. Хотя для обеих столиц характерен высокий уровень концентрации функций, Париж всегда затмевал Лондон в плане столичного блеска и монументальности. Еще Стюарты завидовали столичному великолепию и роскошеству Парижа и Мадрида[7]. Впрочем, предметом зависти для английских королей становились не только французская и испанская столица (последняя была реконструирована испанскими королями Филиппом I и II), но даже более скромные континентальные столицы, такие как Копенгаген или Прага, уже в начале XVII века. Известны не очень успешные попытки, предпринимавшиеся английскими Стюартами, превратить Лондон в полноценную королевскую столицу по модели европейских княжеских барочных городов, которые, однако, окончились провалом (Robertson, 2001: 38–41).
Причина такого различия состояла в том, что государство и политическая власть во Франции играли гораздо более заметную роль, в силу чего последняя могла более эффективно проводить централизованное планирование, мобилизовывать капитал и строить свою столицу за счет провинции. В результате градостроительные модели Парижа стали предметом подражания не только для Англии, но и для большинства других европейских столиц.
В Англии же столичный город находился под контролем частных интересов. Реконструкция Лондона в монументально-классическом стиле – тем более в тех масштабах, размахе и великолепии, с какими это было сделано в Париже Османа, – была не по карману городским властям британской столицы. При этом наблюдатели обращали внимание на то, что казалось им противоречием между статусом Великобритании как мощнейшей индустриальной и колониальной державы и образом ее столицы, которая не могла конкурировать со своими континентальными коллегами (Wagenaar, 2000: 5). Эта англосаксонская концепция экономной столицы, по-видимому, нашла свое отражение впоследствии и в идеях неброского столичного города в других англосаксонских странах– США, Австралии, Канаде, Южной Африке и Новой Зеландии.
Эта же концепция англосаксонской столицы, по-видимому, до сих пор определяет различия между муниципальными системами управления и административными культурами в Англии и Франции. Если управление Лондоном рассредоточено в 33 округах города (boroughs) и главную роль в управлении играет выборный мэр, то управление Парижем чрезвычайно централизовано и до сравнительно недавнего времени было сосредоточено в руках префекта департамента Сены (Röber & Schröter, 2004:10). Должность мэра Парижа возникла только в период Французской революции.
Можно ввести еще одно различение столиц – на основании характера экономик государства, центром которого она является, важность которого будет ясна из дальнейшего изложения. Размер столичного города во многом зависит от того, построена ли экономика государства, столицей которого он является, на основе распределительных или производственных отношений. В государствах, которые основываются на распределительных экономиках, столица обычно значительно превосходит остальные города. В государствах, которые построены на основе производящих экономик, рост столицы значительно больше на ранних стадиях их развития, когда факторы производства (стоимость капитала, земли и труда) еще не поднялись в цене. В таких государствах размер крупнейших городов постепенно падает или стабилизируется по мере того, как производство естественным образом разделяется между другими городами.
Знаменитый французский географ Жан Готтман предлагает также различать две модели столичных городов, которые он называет платоновской и александрийской моделями (Gottman, 1990: 67). Следуя другой терминологии, эти два типа столиц можно также назвать континентальными и атлантическими.
Идея платоновской столицы восходит к диалогу Платона «Законы», где греческий философ говорит о том, что главные города страны должны располагаться вдалеке от моря. «Близость моря, хотя и дает каждый день усладу, на самом деле это горчайшее соседство. Море наполняет страну стремлением нажиться с помощью мелкой и крупной торговли, вселяет в души лицемерные и лживые привычки. Море делает граждан недоверчивыми как по отношению к себе, так и друг к другу» (Законы, VII, 705а). Александрийские столицы, в противоположность платоновским, космополитичны, в них сочетается как коммерция, так и политика. Критерием их различения выступает, таким образом, близость к морю, с которым связывается интенсивность экономической жизни и особенно внешней торговли.
Географ Скотт Кэмпбелл предлагает другую интерпретацию александрийской модели: к александрийским относятся столицы такого рода государств, у которых нет единого центра. Существует история о том, что Александр Македонский на вопрос о своем выборе будущей столицы якобы указал пальцами сразу в нескольких направлениях на карте. По словам Кэмпбелла, если платоническая столица определяет государство нового времени (modern state), то александрийская столица определяет ситуацию ацентричности постмодерна, с которой он связывает идею виртуальной слабо локализованной сети, в которой воплощаются столичные функции (Campbell, 2000: 18). Такая идея отчасти вдохновляла проект Путраджайи в Малайзии. Эта интерпретация, будучи интересной и оригинальной, однако является фактически и исторически неточной, так как Александр Великий, как известно, мечтал о новой столице империи в Вавилоне (Boyi, 2004: 97), а связка платонизма со столицами модерна лишает саму изначальную дистинкцию Готтмана всякого реального смысла.
Гораздо более существенным в различении этих двух видов столиц мне представляется позиционирование и ориентация этих двух моделей, направленность континентальных платонических столиц вовнутрь и александрийских столиц – вовне. Примерами платонических столиц в такой интерпретации могут служить Кабул, Мадрид и Москва в противоположность Константинополю или Стокгольму. В другой терминологии их можно назвать внешними и внутренними столицами (outward & inward capitals) (Shevryev, 2003).
В связи с платоновскими и александрийскими столицами в качестве небольшого отступления уместно хотя бы упомянуть в этой связи Аристотеля, который был учеником Платона и учителем Александра Македонского. Хотя в корпусе его сочинений нет специальных обсуждений вопроса о столице, в его «Политике» есть фрагменты, которые с оговорками могут трактоваться как прямые рекомендации по этому поводу или во всяком случае по вопросу о естественном стратегическом центре Греции. Незаметно полемизируя с Платоном, Аристотель, во-первых, реабилитирует морские и космополитические города («Политика», книга VII), а в полемике с Александром Великим, желавшим переместить новую столицу на Восток, как будто выдвигает на роль политического центра Греции остров Крит.
Остров Крит как бы предназначен природой к господству над Грецией, и географическое положение его прекрасно: он соприкасается с морем, вокруг которого все греки имеют свои места поселения; с одной стороны он находится на небольшом расстоянии от Пелопоннеса, с другой – от Азии, именно от Трионийской низменности Родоса. Вот почему Минос и утвердил свою власть над морем, а из островов одни подчинил своей власти, другие населил (Политика, Книга II, глава ю).
Важно отметить в этой связи, что Крит был историческим центром минойской культуры, стоявшей у истоков культуры греческой, и его стратегические преимущества состояли, прежде всего, в его положении важного центра, соединявшего Африку, Азию и Европу, и таким образом выходили за пределы только общегреческих плюсов, на которые Аристотель указывает непосредственно. По сути дела, здесь идет речь о столице всего Средиземного мира с центром на острове – видение, артикулирующее архетипическую европейскую пространственную схему (Карапетьянц, 2000). Можно сказать, что в данном фрагменте Аристотель в некотором роде примиряет концепции Платона и Александра. Подобно Платону он сохраняет столицу на территории исторической Греции, но, вопреки ему и согласно Александру, делает ее космополитической и открытой другим цивилизациям. Такова аристотелевская столица, как будто следующая его принципу золотой середины.
В дополнение и в противовес пространственным столицам, вероятно, существуют еще и столицы самого времени. Вокруг таких столиц кружатся века, столетия и целые исторические эпохи. Одной из них был воспетый поэтами и историками Париж, который Вальтер Беньямин метко назвал «столицей XIX века» (1935) (Benjamin, 2002). Но эти столицы времени являются частью особой темы культурных столиц, которая не будет нас специально занимать в данной книге (о культурных столицах см. Charle & Roche, 2002; Van Damme, 2005).
Вышеприведенная типологизация столиц особенно важна не из-за желания автора как-то упорядочить или дополнить существующие классификации, хотя и такая задача была бы весьма полезной. Она важна главным образом потому, что указывает не только на историческое многообразие принципов размещения и возведения столиц, но и на различные и многообразные концепции, оттенки смысла и понимание функций столичности в различных странах или цивилизациях.
Эта типология позволит нам лучше ориентироваться в дальнейшей дискуссии и даст нам язык для именования городов и столиц, которые мы будем обсуждать.
Нашему анализу столичности уместно предпослать также небольшой исторический очерк, который как проиллюстрирует перечисленные нами типажи, так и позволит определить векторы исторического развития и эволюции этих городов. В последующих главах мы выделим пять исторических типов столиц по своим историческим манифестациям: мобильные, сакральные, королевские, имперские и национальные. Первые три из этих типов можно отнести к категории протостолиц. Помимо различных функций, каждый из этих типов столиц пользовался определенным символическим языком и системой кодов, которые отличали их друг от друга. Выделение этих типов имеет решающее аналитическое значение для понимания эволюции идеи столичности и ее модификаций в различных цивилизациях.
В первой главе будут обсуждены сакральные и королевские столицы, а также тесно связанные с ними по происхождению национальные столицы. О различных аспектах истории и символизма последних пойдет речь в нескольких последующих параграфах. Имперские и отчужденные столицы будут обсуждены уже во второй главе исключительно в контексте их переносов.
Исторические формы столиц
Мобильные столицы
В древности и в Средние века (примерным водоразделом здесь может служить период формирования вестфальской системы) столицы не играли критической роли в жизни государств. Строго говоря, до XVII века столиц в современном смысле слова попросту не существовало. В разных языках слово «столица» означает просто укрепленный город, крепость, королевскую резиденцию (как, например, стол, престол в русском языке) или «мать городов» (Emet, 1996). В мозаике форм человеческих поселений были заметные и успешные коммерческие центры, военные крепости, резиденции князей и королей, а также города-государства, города-империи и важные культовые и религиозные центры. Своих столиц не было даже в крупных имперских государствах древности, например в Македонской империи[8]. Разумеется, во всех этих государствах существовали сильные военные и политические центры. Но собственно столицы в современном смысле этого слова возникают в Европе только в период раннего нового времени. В контексте досовременных государств можно говорить, скорее, о протостолицах.
Можно выделить два типа мобильных или перипатетических столиц: переходящие, или чередующиеся, столицы (itinerant capitals) и блуждающие столицы (wandering capitals или roving capitals).
Если мы обратимся к устройству Священной Римской империи, то обнаружим, что у ее императоров даже не было постоянной ставки и канцелярии и соответствующих чиновников для регулярного ведения делопроизводства. Например, Карл Великий большую часть времени проводил в Аахене, но мог находиться также в Вормсе или в Рейнских землях. Столичная функция была переходящей и зависела от места пребывания императора. По большей части мобильная столица империи блуждала между Вормсом, Нюрнбергом, Прагой, Веной, Римом, Берлином, Франкфуртом и Майнцем. В Майнце первоначально происходила коронация императоров. Имена некоторых прославленных императоров Священной Римской империи были тесно связаны с их любимыми городами Германии, которые тем не менее не считались столицами: например, Бамберг – с Генрихом II, Вюрцбург и Нюрнберг – с Фридрихом Барбароссой, а Шпайер – с Конрадом III[9].
Эти традиции Священной Римской империи, возможно, заложили основы децентрализации и плюрализма столиц в период, когда складывалось древнее единство Европы. Столицы такого рода можно также назвать переходящими столицами. Именно такой тип движущейся столицы предлагали для Европы вместо Брюсселя некоторые приглашенные на встречу с Проди, специально созванную для обсуждения вопроса об образе европейской столицы, именитые и почетные гости, в частности Бронислав Геремек, польский диссидент, специалист по истории Средних веков, позже министр иностранных дел Польши и депутат Европарламента. Необходимость такой столицы для Европы он обосновывал отсылками к европейскому феодализму и опыту Священной Римской империи (Wise, 2002). И некоторые элементы такого подхода мы видим в актуальном распределении некоторых столичных функций между городами Европы: Страсбургом, Люксембургом и Франкфуртом.
У многих древних и даже относительно современных народов существовал другой тип подвижных столиц, которые некоторые историки называют «блуждающими». Такой тип столиц был вовсе не обязательно связан с кочевым образом жизни. В Японии столицы государства в течение многих столетий часто менялись в связи с представлением об обновлении харизмы нового правителя (место, где умер предыдущий правитель, считалось оскверненным). Первой постоянной столицей Японии стал город Нара (Wheatley & See, 1978; Goethem, 2008). В более позднее время – в XVI–XVII веках – непостоянные, блуждающие, столицы возникают в Эфиопии, где они служили особой стратегии ведения войны, будучи своего рода временными военными ставками (Howath, 1969).
У самих кочевников, вопреки распространенному мнению, как раз были свои – причем относительно стабильные – столицы, например Неаполь Скифский у скифов (в районе Симферополя), Сарай-Бату (в районе Астрахани) у татар или Шарукань (в районе Харькова) у половцев.
Важную роль в родословной современных столиц играют сакральные и королевские столицы, которые выступают одновременно и предшественниками и антиподами национальных столиц. Попытаемся проследить генеалогию и маршрут движения от сакральных и королевских столиц к столицам национальным.
Сакральные столицы
В контексте генеалогии современных столиц особого рассмотрения заслуживает феномен сакральной – то есть религиозной или ритуальной – столицы. Многие теоретики городов, в том числе такие блестящие историки и антропологи, как Фюстель де Куланж и Пол Уитли, указывали пз, религиозные истоки урбанизма (Coulanges, 2001; Wheatley, 1971). Наиболее показательна в этом плане книга последнего «Ось четырех кварталов: предварительное исследование истоков и характера древнекитайских городов», которая стала вехой в понимании урбанистической истории и антропологии. Сакральные столицы в различных формах сложились на всех континентах. Примерами таких ритуальных столиц могут служить Теотиуакан в Мексике, Персеполь в Персии или Большое Зимбабве, ритуальный центр предков народности шон, в Африке[10].
Сакральные столицы были, по существу, городами-храмами, городами, сложившимися и разросшимися вокруг храмовых комплексов. Особая важность этих сакральных столиц состояла в том, что они были встроены не только в социальный порядок государства, но и в космический порядок. При этом устроительная функция города мыслилась продолжением мироустроительных функций богов и первопредков. Смысл этих городов состоял не только и даже не столько в их географической центральности внутри древних государств, сколько в их роли связующего звена между небом и землей, божественным и человеческим порядками мироздания – своего рода космической центральностью. Так, например, в Вавилоне упорядочение хаоса богом Мардуком завершается устроением им жилища для себя и для других богов – возведением сакрального города Вавилона (Eisenstadt, 1986:186–187). Сакральные города строились как модель мира, и они обнаруживают архетипическое стремление моделировать большое пространство в пространстве малом (Leroi-Gourhan, 1986).
Американский антрополог Клифорд Гирц так описывает сакральные индуистские столицы Индонезии XIV и XV веков, замечая, что многие их черты сохранились и в гораздо более поздние эпохи.
Самой важной из концепций управления была так называемая теория центра-образца, – представление о том, что столичный город является микрокосмом сверхъестественного порядка… и материальным воплощением порядка политического. Столица была не просто ядром, двигателем или осью государства; она была самим государством. В эпоху индуизма королевский дворец охватывал практически весь город. Расчерченный на квадраты, построенный в соответствии с представлениями индийской метафизики, «небесный город» был больше, чем местом власти… В центре его находился божественный король, который воплощал божество; его трон символизировал гору Меру – местопребывание богов; по направлениям четырех священных ветров вокруг него по квадрату располагались здания, дороги, городские стены и даже, в период церемоний, его жены и свита. Считалось, что не только сам король, но и знаки его власти… наделены харизмой. Дворец и его жизнь составляли средоточие королевства, и тот, кто, часто подготовленный особой медитацией для достижения нужного духовного состояния, захватывал дворец, приобретал тем самым всю империю, овладевал харизмой и смещал короля, потерявшего свой священный статус (Geerz, 1985: 222–223).
Таким образом, в символизме многих древних столиц акцентирована не только властная, но и космическая составляющая, встроенность города в космическое время и мифологические нарративы. В некоторых культурах считалось, что сакральная столица находится не просто в центре государства, но и в центре мира. В определенных случаях такой город описывался как пуп земли или Axis Mundi (Россман, 2003). Так, например, ритуальная столица Вилькас находилась, по представлениям древних инка, на пересечении четырех сторон света. Сакральные столицы были особыми обетованными, или избранными, городами, выделенными из окружающего природного и социального ландшафта.
В древних государствах организация пространства была также важным инструментом политического контроля и средством политической и культурной пропаганды. Традиционные космографические модели, представлявшие сакральные города образами неба на земле, способствовали легитимации власти правителя. Такие космографические схемы и формы организации и представления пространства мы находим в цивилизациях Древнего Египта, Вавилона и Древнего Китая (Meyer, 1976: 109; Westenholz, 1998).
Сакральные столицы были единственными и главными столицами во многих древнейших цивилизациях. В них религиозная легитимация статуса правителя играла наиболее важную роль. В большинстве из вышеперечисленных государств сакральная столица первоначально совпадала с политической столицей или протостолицей, и смена политического курса в них часто сопровождалась важными религиозными реформами. Так, например, в Египте смена политических центров всегда была сопряжена со сменой культа или религиозными реформами[11]. Фараоны Египта вели свою родословную от богов. Император Китая считался сыном Неба. Правители инка именовались сыновьями Солнца.
Несколько менее выражена эта тенденция была в государствах Месопотамии. Интересно подчеркнуть, что в последних, собственно, коммерческие элементы городов были более выражены по сравнению с египетскими городами, где как раз больше акцентировались чисто религиозные функции. На это, в частности, обращал внимание Фернан Бродель в своей книге «Память и Средиземное море» (Braudel, 2001: 66–67)[12]. Возможно, такая ситуация объясняется географическим положением Месопотамии, через которую исторически проходили важнейшие торговые пути (например, лазуритовый путь возник уже в 3–2 тысячелетиях до н. э.).
Поэтому в государствах Месопотамии, а также в древнем Израиле и Греции, постепенно сложилось более четкое разделение труда между религиозными и политическими центрами. Общие ритуальные центры или духовные столицы играли критически важную роль в культурной интеграции различных племен и народов и служили нейтральными территориями, относительно автономными по отношению к политическим центрам. Первоначально они часто возникали в ситуации фрагментации политической власти или в условиях создания федераций для защиты от общих врагов.
Примерами здесь могут служить Дельфы в Греции, Силом в Древнем Израиле или Ниппур в Месопотамии, служившие главными религиозными центрами соответственно панэллинской, паниудаистической и паншумерской цивилизаций. В тот период эти народы представляли собой конфедерации племен или колен. В Силоме в эпоху Судей (XIII–XI вв. до н. э.) находилась Скиния Завета (Навл 8:1) и совершались общеизраильские празднества; в Дельфах находился оракул, или прорицатель человеческих судеб, одинаково важный для всех греческих полисов (Iannaccone, Haight, Rubin, 2011: 333–334). Нейтральность этих религиозных столиц, которые не пытались монополизировать ни одно из входящих в конфедерацию племен, определяла их роль в интеграции и разрешении межплеменных конфликтов[13].
Тенденция к отделению религиозных столиц от политических была сильной в Европе. Выделение Рима в общеевропейский религиозный центр с эпохи Раннего Средневековья во многом определило логику развития европейской истории и взаимоотношения светских и духовных властей. По сути дела, положение Рима в Священной Римской империи воспроизводило роль Дельф в Древней Греции.
Кентерберийское аббатство в Англии, Сантьяго-де-Компостела в Испании, Реймс во Франции (здесь происходила церемония миропомазания французских королей), Ватикан в Италии, Мцхета и Эчмиадзин в Грузии и Армении, Старая Уппсала в Швеции, город Ниш в Сербии (резиденция митрополита Сербской православной церкви), Гнезно в Польше (традиционная резиденция примаса Польши, архиепископа Гнезненского) стали отдельными от столицы религиозными центрами, пространственно отделенными от центров политической власти. В некоторых случаях, например в случае Ватикана, такие религиозные центры признавались в качестве отдельных и относительно независимых территориальных образований. Неевропейскими примерами таких религиозных столиц могли бы также служить Мекка и Медина в Арабском халифате, город Истахр в Персии, который стал духовным центром зороастризма, главным святилищем огня и хранилищем Авесты после разрушения Персеполя[14], а также инкская ритуальная столица Вилькас.
В некоторые исторические эпохи в Китае также существовали сакральные столицы, отдельные от административных столиц. Так в эпоху династии Чжоу (особенно это относится к периоду IX–VIII вв. до н. э.) в Китае было две столицы: сакральная столица в Цися на западе страны и меняющиеся административные и военные столицы (в эпоху Восточного Чжоу административно-политической столицей стал Лои в центре государства) (Khayutina, 2007, 2008). В своей статье, посвященной перемещениям столицы Чжоу и опирающейся на детальный анализ текстов и археологические данные, Марина Хаютина, синолог и специалист по этой эпохе китайской истории, обосновывает точку зрения, согласно которой более древний город Цися (или Цишань, названный так в честь священной горы Ци) продолжал оставаться сакральной столицей Чжоу и главным алтарем чжоуских ванов, где хранились их священные реликвии и где семейному клану Чжоу были явлены знаки его мандата на правление (фениксы и красные вороны) (Khayutina, 2008). Эта столица в некоторых аспектах была похожа на сакральные столицы греков и иудеев – Дельфы и Силом, – отделенные от центров политической власти. Если главной иудейской реликвией была скиния завета, то главной реликвией китайцев были девять жертвенных треножников, которые воплощали девять областей Китая и позже служили символом власти императора. В районе города Цися было обнаружено множество ритуальных предметов и бронзовые треножники (Khayutina, 2008). Следует отметить, что в последующей конфуцианской политической традиции именно ваны династии Чжоу (прежде всего Вэнь-ван и Чэн-ван), идеализированные Конфуцием, считались образцовыми правителями[15].
Роль религиозных, или культовых, столиц также часто приписывалась бывшим столицам, таким как Киото в Японии, Стамбул в Турции, Армавир в Армении, Гнезно в Польше (место, где короновался первый польский король) или Москве в эпоху Российской империи (Gottman, 1985).
Древний и средневековый исторический опыт дуализма или монизма политических и религиозных центров или столиц также оказывал заметное влияние на последующую структуру власти уже современных государств и устройство их урбанистической иерархии. В тех государствах, где произошло более четкое разделение на религиозные и светские политические столицы, как правило, более явственно обозначилась тенденция к разделению функций городов и разных типов властей, а также возникла более плюралистическая и полицентрическая система городов. В этих государствах произошло также более четкое размежевание на религиозные и светские элиты. Понтификальный элемент здесь могли представлять жрецы, священники, маги и чародеи. Политические элиты были представлены правителями, королями или императорами.
Напротив, ситуация цезарепапизма или государственной монополии на религию была наиболее ярко выражена в Египте в древности и в Византии в эпоху Средневековья.
В Византии сложилась система пентархии из пяти православных патриархатов: в Константинополе, Александрии, Антиохии, Иерусалиме и Риме. Однако они рассматривались, скорее, как проекции административной власти вселенского патриарха в Константинополе с его резиденцией в Софийском соборе и императора Византии, чем как сакральные центры сами по себе. На административный характер этого разделения указывает, например, первенство Александрии и Антиохии во вселенской церкви и позднее возникновение самого Иерусалимского патриархата, который из кафедры превратился в патриарший престол только в 451 году, хотя именно Иерусалим был колыбелью христианства. Решающее слово в избрании патриарха и пяти важнейших патриарших чиновников принадлежало императору[16].
Тенденция подобного рода проявилась и в русской истории. В России древний религиозный центр в Кремле постепенно превратился в центр политической власти. Если в императорской России «порфироносная вдова» была в какой-то степени отделена от своего мужа – государства – в качестве религиозной столицы, то в допетровскую и постсоветскую эпоху Россия гораздо теснее сближается с цезарепапистской моделью власти. В идеологии многих групп, которые участвовали в обсуждении проблемы переноса столицы России, Москва выступает одновременно как сакральный и как политический центр. При этом сакральный статус Москвы служит аргументом в пользу ее уникальных претензий на статус столицы.
Многие палестинские политические группировки и некоторые группы израильтян также апеллируют к сакральному статусу Иерусалима для обоснования своих претензий на превращение города в политическую столицу своих государств (Melman, 2009). В современном мире это достаточно редкие примеры представлений о том, что политическая столица должна непременно обладать атрибутом святости. В большинстве стран произошло ясное размежевание этих двух категорий городов.
Заметим в скобках, что выбор святых мест и сакральных городов во многих традиционных цивилизациях происходил гораздо более рационально, чем это кажется многим современным историкам и комментаторам. Исторически всегда подспудно происходила своего рода селекция из великого множества существовавших святых мест. Анализ расположения важнейших старинных религиозных центров – таких как Дельфы, Иерусалим или Мекка – показывает, что их выбор был часто продиктован вполне земными и понятными соображениями, в том числе и соображениями политической прагматики или даже конъюнктуры (Joffe, 1998). Современные фундаменталисты, кажется, действуют гораздо более непреклонно в своих попытках установления контроля или возвращения статуса столиц старинным сакральным центрам (Pipes, 2001).
Королевские столицы
Несмотря на многообразие конкретных исторических воплощений королевских столиц в европейских и неевропейских обществах, а также множественность форм монархической власти, можно говорить о некоторых типических чертах королевских столиц как особом классе городов.
В древности и Средневековье столичные функции не отделялись от тела короля или императора. Королевской или княжеской столицей обычно считался город, где находилась резиденция королевской семьи (стол), и потому они были гораздо более мобильны по сравнению с сакральными столицами. При этом сама фигура правителя обычно заслоняла собой пространственную локализацию этой резиденции. В некоторых случаях королевская резиденция могла совпадать с сакральным центром государства и король помимо государственных задач мог также выполнять различные религиозные и ритуальные функции. Религиозный символизм становился в таких случаях частью государственного ритуала. Происхождение монарха при этом часто связывалось с божественными первопредками для религиозной или космической легитимации его власти.
Центральной идеей архитектуры королевских столиц была идея высшего характера власти монарха, которому в некоторых случаях приписывалось божественное происхождение. Таковы королевские столицы многих стран Ближнего и Дальнего Востока. Во многих случаях постепенно происходило пространственное разделение между светскими и религиозными столицами, о чем мы уже упоминали выше.
Королевские столицы нового времени, хотя часто и находились в непосредственной близости от наиболее крупных городов страны, не всегда были достаточно укоренены в самом городе. В этих государствах власть часто локализовывалась в окрестностях большого города, смутно опасаясь его и чувствуя в нем враждебную силу. Во Франции, Испании и Англии, государствах, которые до сих пор остаются чрезвычайно централизованными, королевские столицы и двор, находясь неподалеку от большого города, никогда не сливались с ним и часто находились в конфликте с городскими интересами. Пройдет немало времени прежде чем политическая власть сможет более надежно обосноваться в самом большом и главном городе страны.
История взаимоотношений королевского двора и главного города страны проникнута противостоянием короны и городских классов. По мнению Жана Готтмана, именно история этого противостояния среди прочих причин заложила основы современных систем демократии (Gottman, 1990: 69–71).
В Париже столкновение короны и городских классов начинаются уже в Средние века. Парижский университет на левом берегу Сены добивается от Рима особой хартии, которая дает ему привилегии самоуправления. На правом берегу Сены оппозицию двору составляют купцы; для их лучшего контроля дворец перемещается на правый берег. Однако уже с XVI века двор редко пребывал в столице и передвигался между королевскими крепостями Луары, Сен-Жермена и Фонтенбло. В эпоху Марии Медичи королевский двор находился в Блуа. В XVII веке двор перемещается сначала в Сен-Жермен-ан-Ле (Saint-Germain-en-Laye), а потом в Версаль. При этом приезды короля в Лувр были связаны почти исключительно с формальными аудиенциями (Gottman, 1990: 69–71).
Подобное противостояние короны и главного города было характерно и для Англии. Попытки английских королей «приручить» город и превратить Лондон в королевскую столицу не увенчались успехом. Только в XIII веке казначейство переместилось из Уинчестера в Вестминстер, который постепенно стал столицей, где разместилась королевская администрация. Вестминстер был тогда небольшим городом недалеко от Лондона, коммерческого центра страны. Только в начале XVII века Вестминстер и Лондон сливаются в единое целое, но английским королям, несмотря на настойчивые попытки первых Стюартов, так и не удалось создать здесь полноценную королевскую столицу континентального образца. Серия конфликтов и гражданская война окончательно разрушила их королевские амбиции и планы на город (Robertson, 2001: 44–48).
В чем-то сходная ситуация взаимоотношений власти и города сложилась в Испании. Перемещения испанского двора из Толедо в Мадрид (1561), из Мадрида в Вальядолид (1601) и обратно в Мадрид (1606) были во многом связаны с противостоянием двору и, по крайней мере в первом случае, с конкретным социальным конфликтом – восстанием «коммунерос» в Толедо. Королевская столица Испании располагалась в Эскориале, в 50 километрах от Мадрида. При этом, как пишет историк Испании Дэвид Рингроуз, столица страны воспринималась лишь как своего рода «необязательное дополнение к двору» и сцена для демонстрации могущества. По сути дела, столичная функция Мадрида сводилась к процессиям и церемониям легитимации власти. Рингроуз подчеркивает, что до 1561 года у испанских королей вообще не было фиксированного двора. Монументальные королевские здания в Мадриде появляются только в эпоху Бурбонов в XVIII веке. Не случайно Габсбурги (Филипп II, III и IV) всегда последовательно и умышленно избегали этот город (Ringrose, 1983: 232–233).
Все эти примеры иллюстрируют то, что Жан Готтман называет «явной тенденцией к отделению большого города от центра политической власти, которая не может быть доверена беспокойному метрополису» (Gottman, 1990: 68). «Это состояние, – замечает он далее, – продолжалось целое столетие. Одним из первых актов революции 1789 года было возвращение короля и двора из Версаля обратно в город. После волнений 1848 года барон Осман (Haussmann) осуществляет план перестройки города, задачей которого было сделать его более безопасным для пребывания правительства» (Gottman, 1990: 70).
Таким образом, вне зависимости от того, находился ли королевский двор в столице или за ее пределами, важно понять, что политическая власть не была интегральной частью самого города. В королевских столицах власть и город еще разделены и противостоят друг другу, и город с его клеточной памятью о хартиях вольностей и средневековых формах самоуправления оказывается чуждой и часто враждебной средой для локализации власти. Но королевский двор и город как бы растут навстречу друг другу. Лишь постепенно, с возникновением национального государства и новой национальной идентичности, происходит закрепление политической власти в столичном городе.
Тем не менее следует признать, что сам рост королевских столиц в некоторых странах и их амбиции подготовили движения европейского национализма. Режимы абсолютизма в Европе с их тенденциями к сверхцентрализации и бюрократизации власти и ресурсами политической мобилизации и перераспределения доходов между центром и периферией уже заложили ту основу, на которой впоследствии смогут возникнуть национальные столицы и национальные государства. Попытки монархов привнести или выплеснуть королевскую благодать на город обернутся впоследствии национализацией самой монархии. То, что не удалось монархам, удалось новому субъекту истории – нациям.
Как мы покажем в следующих главах, национальные столицы обязаны многими своими важнейшими формами и идеями своим предшественницам – сакральным и королевским столицам. Следующие несколько параграфов этой главы будут посвящены различным аспектам истории и конституции национальных столиц. К имперским и отчужденным столицам, которые мы упомянули в качестве исторических форм столичных городов, мы перейдем лишь в третьей главе и обсудим их главным образом в контексте их переносов.
Аспекты истории и конституции национальных столиц
О богатстве столиц: XVII век
В XVII веке наметилась тенденция исключительно высоких темпов роста именно столичных городов по сравнению со всеми остальными европейскими городами. В предшествующие периоды рост шел приблизительно равномерно и пропорционально во всех городах европейских стран. Однако в XVII веке происходит переход от господства мир-экономик, связанных с торговыми городами, такими как Генуя, Венеция и Антверпен, к подъему крупных национальных экономик, которые были сосредоточены в столицах. На этот факт впервые обратил внимание Фернан Бродель в своей истории европейского капитализма (Braudel, 1987). Впрочем, некоторые современные историки называют его соображения и наблюдения по этому поводу «импрессионистическими» (Ringrose, 1998: 155). В относительно недавних сочинениях по урбанистической динамике, в частности в работах Жана де Вриза, «импрессионистские» впечатления Броделя получили надежное количественное подтверждение (Vries, 1984).
Согласно подсчетам историков урбанизации в Европе треть роста европейских городов в XVI–XVII веках приходится именно на столичные города (Clark, Lepetit, 1996: 36). Экономически они зависели от роста королевских дворов и государственной бюрократии, а также притока крупных землевладельцев и развития торговли предметами роскоши. Они становятся международными центрами моды и предметом для подражания в одежде, образе жизни, архитектуре, манерах, способах потребления материальных благ и формах проведения досуга.
С 1600 по 1700 год городское население в Англии выросло с 8 до 17 %. За этот же период доля Лондона в общем населении страны выросла с 5 до 11,5 %, а его доля в городском населении увеличилась с 60 до 67 %. Такая динамика роста города вызывала беспокойство короля Джеймса I, который иронически заметил, что «скоро Лондон станет всей Англией» (Robertson, 2001: 42; Vries, 1984: 64).
Темпы роста столичных городов были не менее высоки в континентальной Европе, и случай Лондона только подтверждал общие тенденции урбанистической динамики. Париж вырос с 200000 жителей в 1590 году до 550000 в 1700; Мадрид с 40000 человек в 1560 году до 170000 в 1630; Берлин с 10000 жителей в 1650 до 170000 к 1800 году. Другие европейские столицы, население которых увеличилось более чем в два раза, включали в себя Копенгаген, Дублин, Стокгольм, Вену, Лиссабон и Рим (Ringrose, 2008: 177).
Как известно, Адам Смит назвал свое главное магистральное сочинение «О богатстве наций». Известный американский социальный теоретик городов Джейн Джейкобс сделала значимую поправку к Адаму Смиту: с ее точки зрения, реальными историческими субъектами роста и богатства выступают не нации, а города. Поэтому, считает она, гораздо правильнее было бы говорить не о богатых и бедных нациях, а богатых и бедных городах и регионах в силу неравномерности экономического развития внутри национальных границ (Jacobs, 1984). Применительно к XVII веку, однако, как следует из вышеприведенных цифр, было бы правильнее говорить не о богатствах городов, а о богатстве столиц, где в ту историческую эпоху концентрировались практически все ресурсы и возможности страны. Именно такими нациями были европейские общества XVII века, и именно концентрация богатств в столичных городах во многом определила траекторию дальнейшего развития Европы.
Многие историки экономики традиционно связывали драматический рост европейских столиц, прежде всего, с рыночными отношениями и рассматривали их только в качестве чрезвычайно разросшихся коммерческих центров. С их точки зрения, столичность вырастает из экономического могущества и из всей системы рыночных отношений. Ключевые экономические центры государств становятся политическими центрами, конвертируя свою экономическую власть в политическую. Именно структурой рыночных сетей историки экономики склонны объяснять широкую интеграцию урбанистических рыночных и политических пространств в XVII веке, которая сменяет собой фрагментированные урбанистические системы и сети.
По мнению Дэвида Рингроуза, в каком-то смысле такое объяснение продиктовано дисциплинарными предрассудками историков экономики. Сам Рингроуз, следуя идеям Броделя, обращается к истории Мадрида в контексте социально-политической жизни Испании в XVII веке. Он показывает, что подъем Мадрида, куда стали стекаться чиновники, королевские курьеры, просители, лоббисты и королевская гвардия со всей страны, во многом ответственен за то, что прилегающие к нему области были обескровлены (Ringrose, 1998: 179).
Дэвид Рингроуз считает, что именно политические факторы, а не экономические урбанистические сети создают предпосылки роста крупных европейских столиц, которые впоследствии становятся моторами экономического развития этих стран и всей Европы (Ringrose, 1998: 156, 181). Для доказательства этого тезиса он, в частности, демонстрирует, что интеграция урбанистических сетей Европы происходила не столько в результате естественного развития экономических рыночных отношений, сколько за счет новой политической урбанистической иерархии, во многом связанной с подъемом новых политических столиц. Экономические историки, считает он, насытили историю городов множеством экономических предрассудков, полагая, что формирование урбанистических сетей происходило под доминирующим или даже исключительным влиянием рыночных отношений и сформировавшихся под их влиянием сетей обмена. Это представление оставляет в тени те политические отношения, которые сформировали сами рынки и определили направление и основные векторы их развития. Мировые рынки, считает американский историк, во многом формировались как раз под политическим прессом столичных городов, которые определяли и формировали их конфигурацию.
Бродель обращал внимание на то, что столичные города больше не могли обеспечивать себя за счет местного сельскохозяйственного рынка средневекового образца. Стандартными для средневековых городов были зоны снабжения в радиусе 40–50 километров от города (Fields, 1999: 110–112). Растущее население столиц больше не могло обеспечиваться этими близлежащими рынками, что привело к развитию дальней торговли и подъему крупных коммерческих структур, которые могли ее организовать[17]. Именно в качестве центров, или машин потребления, столицы упрочивали капиталистическую систему (отличную от рынка) за счет интенсификации деятельности крупных торговых сетей, осуществлявших снабжение столичных городов. Бродель иронично замечает в этой связи, что наибольший инновационный импульс надо приписать желудкам Лондона и Парижа, которые революционизировали снабжение и производство продовольственных товаров, организованное крупными торговцами (Braudel, 1977: 22).
Сосредоточиваясь в своем анализе на примере Мадрида, Дэвид Рингроуз также показывает, что малопродуктивные с точки зрения экономики типы рынков определяют динамику роста столичных городов и формируют рыночные сети в Европе. Спрос на специфические группы продуктов, – прежде всего, на предметы роскоши и экзотические товары, потребляемые двором и доставляемые путем дальней морской и сухопутной торговли, – а также системы перераспределения богатств в пользу столицы, где находится королевский двор и концентрируется спрос на эти группы продуктов, формирует конфигурацию мировых рынков. Эти процессы практически спровоцировали перераспределение богатств в пользу столицы, неизбежно за счет провинции и сельской местности.
Механизм этого процесса также подробно описан историками. Изъятие излишков сельскохозяйственной продукции делает невозможными инновации в сфере аграрного производства. Мобилизация продуктивных ресурсов на дорогостоящую транспортировку товаров и особое снабжение Мадрида спровоцировало обнищание и запустение других кастильских городов (Ringrose, 1998: 177; 1983).
Подводя итог, можно сказать, что эффект масштаба и локализации в области спроса, который обеспечили столичные города, стимулировал также и индустриальное производство. Хотя потребление в крупных городах часто носило паразитический характер, агломерация огромного количества населения в одном городе приводила к пространственной консолидации спроса, сокращению транспортных издержек и к укрупнению коммерческих структур, которые обеспечивали снабжение крупных столичных городов. В известном смысле здесь действовал экономический закон Сэя, согласно которому совокупный спрос поглощает весь объем продукции при гибких ценах (по аналогии с агломерационным эффектом в области производства и обмена). В XIX веке эта концентрация спроса нашла свой баланс в концентрации предложения, которая воплотилась в индустриальной революции.
Централизация и столичные города в формировании национализма
Тенденции централизации, которые первоначально координируются и направляются под эгидой королевской власти, служили нескольким важным целям. Главными из них были внутренняя стабильность, формирование крупных внутренних рынков и создание экономики, основанной на масштабе и инновациях.
Алексис де Токвиль справедливо видел Французскую революцию продолжением и логическим завершением тенденций централизации и бюрократизации французского государства и элиты, которые начались еще при старом режиме. Историки обращают внимание на тенденции сверхцентрализации во Франции начиная со времен Ришелье и постепенное превращение страны в систему провинций, схожих с восточными сатрапиями. Подрыв аристократической системы и смена аристократов шпаги на бюрократов и интендантов закладывает основы той новой системы, в которой национальная идентичность приобретает решающую роль (Tocqueville, 1856).
Успешное ведение хозяйства требовало сильного централизованного государства, которое могло обеспечить устойчивые рынки сбыта и формирование стабильных рыночных сетей. Купцам был необходим политический спонсор. Более крупный национальный рынок позволял более успешно торговать на международных рынках. Кроме того, новые проекты, в которых все большее место занимали инновации, требовали более узкой специализации для успешной международной торговли, и для этого необходимо было мобилизовать крупный капитал. Более централизованные и политически крепкие государства могли более эффективно мобилизовывать капитал для создания мощного внутреннего рынка и для ведения войны. В результате они получали конкурентные преимущества в экономическом соревновании со старыми коммерческими городами.
В эпоху Возрождения и раннего Нового времени главными двигателями экономики были города-государства, такие как Венеция, Генуя или Флоренция. Экономическое соревнование городов за господство не могло дать решающих преимуществ ни одному из них. У них не могло сложиться долгосрочной специализации, необходимой для широкомасштабной индустриализации. Поэтому возникла необходимость в опоре на политическую и военную мощь государства. В наибольшей степени для такого перехода оказались приспособлены именно крупные централизованные национальные государства.
Процессы централизации идут на фоне широкомасштабных религиозных войн и гражданских конфликтов. Более централизованная власть в состоянии жестко контролировать гражданские конфликты и противоречия, что минимизирует насилие внутри страны и способствует созданию устойчивого и стабильного внутреннего рынка. Не случайно идея сильной власти Томаса Гоббса захватывает умы именно в XVII веке (и не только в Англии).
Но для более эффективной централизации необходима была также новая идентичность и новая система социальной солидарности. Концепция нации как раз и служила целям этого нового социального заказа. Три базы лояльности, сформировавшиеся в недрах феодального общества, – город, религия и вассальная зависимость – подверглись фундаментальной коррозии в результате экономических изменений и более не отвечали интересам государств. Идея нации, которая заступила место старых форм идентичности, позволяла более эффективно решать государственные задачи. Нации становятся новым субъектом исторического процесса и новыми базами лояльности и постепенно вытесняют и замещают устаревшие формы социальной солидарности.
Национальное самосознание играет важную, компенсаторную, роль в период, когда действия рынка ломают прежние, более простые формы социальной солидарности. В эпоху крупномасштабных боевых действий оно приобретает еще большее значение. Как справедливо заметил Чарльз Тилли: «Из-за своих преимуществ в способности преобразовать народные ресурсы в успех в международной войне большие национальные государства вытесняют империи, федерации, города-государства и всех других конкурентов в качестве господствующих европейских политических организаций и моделей для образующихся государств» (Tilly, 1992:167)[18].
Но если первоначально государства используют нации для своих целей, то постепенно во многих европейских странах начинается и обратный процесс. Нации начинают использовать государство для достижения своих целей и удовлетворения своих амбиций. Такова была общая тенденция в западноевропейских странах. Спровоцированные режимом абсолютизма, централистские преобразования послужили базой для дальнейшей национализации государства, включая саму королевскую власть, экономику, религию и даже инородцев, хотя и в определенных пределах.
Из некоей удобной фикции, к которой апеллировали правители для решения своих задач ведения войны и государственного строительства, нация сама становится агентом истории и постепенно начинает извлекать преимущества из своего нового положения. На начальных этапах государство использует нацию для создания более дешевой и дееспособной армии. В дальнейшем некоторым нациям в Западной Европе удается национализировать – одним более, другим менее успешно – государство и аппарат насилия в своих собственных интересах. Общая тенденция, таким образом, состояла в том, что сначала государства подчиняли себе идею нации и превращали их в инструменты для более эффективного государственного строительства. Впоследствии наиболее удачливым нациям удается превратить государство в инструмент для достижения своих национальных и гражданских целей. В такой трактовке нация постепенно становится тождественной самому гражданскому обществу.
Роль столиц в формировании нации
Какова роль национальных столиц во всех этих процессах?
К сожалению, эта роль в формировании европейского национализма и идеи нации недостаточно хорошо осознана и артикулирована историками и социологами национализма. Бенедикт Андерсон пишет о роли газет, картографии и европейских романов в деле конструирования новой виртуальной идентичности, но практически не упоминает о столицах (Anderson, 1991). Но роль европейских столиц в этих процессах конструирования новой идентичности в деле эмансипации народа от интересов религии, аристократии, королевской власти была не менее важной, если не ключевой. Столица становится подлинным центром национальной консолидации и своего рода визуальной лабораторией национального воображения.
Нации для своего появления нужен центр, который сплачивает разрозненные группы и создает символы, которые легитимизируют существующую власть, создавая для нее более широкую социальную базу, и таким образом позволяют более эффективно вести государственное строительство. Такой центр, как мы видели, уже начал создаваться при режиме абсолютизма, но он был еще не совершенен, так как городское начало в столицах не позволяло им стать прочной и надежной базой власти монархов. Подъем нации позволил изменить эту ситуацию.
Национальная столица возникает как новая модель локализации власти – как альянс города и власти, экономики и системы насилия. Если пользоваться категориями Чарльза Тилли, можно сказать, что столица становится своего рода компромиссом между городами как центрами мобилизации капитала и государством как центром мобилизации насилия. Такой альянс становится возможным за счет создания новой, национальной, идентичности.
Один из городов, будучи агентом государства в урбанистической сети, встает на сторону государства в мобилизации политической власти, распространении ее на всю территорию страны. Столица реорганизует рынки, экономику и военное дело. Она становится посредником между государством и нацией: нация впадает в государство и образует с ним единый водный бассейн через свою столицу. До возникновения национальных столиц государство было бездомным. С появлением национальных столиц государство более плотно локализуется в урбанистической сети, прежде чуждой или даже враждебной ему.
Концентрация населения в столице служит тому, что последняя может с гораздо большими основаниями представлять себя в качестве легитимного центра представления интересов всей нации. Смещение демографического центра государства в сторону главных городов и резкий рост их населения давал столицам больше оснований для того, чтобы они могли представлять себя в качестве репрезентативных носителей интересов всего народа.
Кроме того, столицы становились «плавильным котлом нации» (Toynbee, 1970: 67). Стягивая людей из различных регионов и провинций страны, они, таким образом, символически замещали взаимодействие лицом к лицу, которое лежало в основе социальной солидарности в физических сообществах, на новый тип социальных уз и взаимодействия, подпитывая тем самым идею виртуального воображенного сообщества. Концентрация богатства в столице создавала условия для формирования консолидированного национального рынка и агломерации спроса.
Однако альянс насилия и города происходит за счет уступок и компромисса с обеих сторон.
Укрепление централизованных государств и бурное разрастание столиц породили проблемы, масштаб которых превосходил собственные ресурсы городов, что привело к активному вмешательству государственной машины в городскую жизнь. Столица становится не совсем городом, так как урезаются ее собственно городские функции. В результате компромисса город становится воплощением не собственно городских интересов, а интересов всей территории. Кардинальные перемены происходят в системе лояльности. Первичной в идентичности жителей становится верность нации или государству, а уже потом – городу.
Изменяется социальный облик города. Подъем столицы закрепил подъем социальных классов отличных от духовенства и аристократии. В традиционном обществе у каждого сословия было свое пространство. У короля – дворец, у аристократии – замок, у крестьянина – деревня, у духовенства-церкви и монастыри, у буржуазии и ремесленников – город. Подъем абсолютистского государства и последующее рождение национальной столицы ведет к появлению нового класса – государственной бюрократии, административных и гражданских служащих, с которыми старые городские сословия вынуждены делить свое жизненное пространство. Слуги короля и бога уступают свое место не только бюрократии, но и другим растущим городским классам и профессиональным сообществам. При этом столица еще с эпохи абсолютизма нередко затмевает даже сам двор.
Но в результате этого компромисса преобразуется и сама власть; она перестает быть абсолютной, постепенно уступая часть прерогатив парламенту и всему народу в лице его различных классов, который ищет представительства в парламенте и в столице.
Идея города и привилегии горожан – во всяком случае многие из них – распространяются на все население территориального государства. Столбовая дорога развития всей Европы – перенесение городских форм самоуправления и самоидентификации и отчасти даже быта на всю территорию страны и на все население. В результате все жители становятся в какой-то мере горожанами, то есть гражданами[19].
Все эти процессы, подготовленные режимом абсолютизма, создавали лучшую базу для легитимации политической власти, способствовали созданию интегрированных вокруг центра национальных рынков, более эффективной армии и более широкой базы лояльности власти.
Таким образом, столица оказывается в центре процессов образования нации не только в смысле результата этого процесса[20], но и в качестве одного из важнейших катализаторов и инструментов формирования нации. Королевские столицы уже подготавливают саму национальную революцию и трансформацию государства. Кроме того, они становятся теми органами, через которые нации создают или изобретают себя. Визуально они позволяли нациям представить себя через свою архитектуру и становились своего рода экранами, на которые нации могут проектировать образы своей идентичности. Именно в столицах как лабораториях национального воображения происходит также изобретение самой провинции и в какой-то степени и деревни в качестве одной из манифестаций национальной идентичности. Парижи были местом рождения идиллических бар-бизонов и прочих буколических местностей. В недемократических странах, где все ресурсы стянуты в столицу, эти экраны национального воображения превращаются в ширму, своего рода потемкинскую деревню.
Итак, в столице соединяются три прежде разрозненных элемента – благоговение, власть и собственно городская среда и формы самосознания, которые теперь распространяются на всю территорию страны. Именно соединением этих прежде разрозненных элементов определяется сила нации, ее жизнеспособность и устойчивость, а также кардинальные особенности столицы как особой категории городов.
Крупные государства быстрее достигают фазы национального самосознания. Столицы служат катализаторами этих процессов, так как здесь формируется гражданская идентичность и наиболее интенсивно идут процессы формирования нации в одном отдельно взятом городе. Столица становится микрокосмом всей нации и ее ретортой самопознания.
История процессов модернизации, реконструкции и перепланировки национальных столиц отражает логику развития и созревания национализма. Известный шведский социальный теоретик Горан Терборн выделяет три момента в развитии и эволюции национальной столицы. Первый момент он называет собственно национальным. В этот период нация созревает и объявляет о своем существовании. Второй момент связан с народной поддержкой идеи нации. В Европе кульминация этих популярных процессов, по его оценке, приходится на период после Первой мировой войны. В это время идеи национализма демократизируются, попадают в рабочие кварталы, адаптируются социал-демократией. Наконец, третья фаза развития национализма связана с его включенностью в глобальные процессы. Национальные столицы приобретают глобальное измерение, и символы глобализма и модернизации полноправно входят в иконографию национальных столиц, причастных международным глобальным процессам. Все эти три фазы отражаются в эволюции морфологий города и в констелляции символов и смыслов в его схеме, планировке и архитектуре. Таким образом, Горан Терборн представляет достаточно нюансированный подход к вопросу, интегрируя глобальность и национальность как две фазы одного и того же процесса (Therborn, 2008: 64–65).
Один отдельно взятый город оказывается гораздо более податливым и благодатным материалом для утопического творчества и архитектурного эксперимента. Подражая великим утопистам Кампанелле и Томасу Мору, нации пытаются построить свою социальную утопию в отдельно взятом городе, масштаб которого гораздо лучше соответствует ее целям. Нация первоначально представляет себя в урбанистических формах столицы – воображенного города, где отчуждение городской жизни снимается метафорой «воображенного сообщества». Столица становится лабораторией национального творчества, где обкатываются различные видения нации, ее ценностей, видения ее прошлого и будущего. Воображение нации как бы воспитывается самими городскими формами – столицы становятся ее педагогами.
Наконец, стоит сделать небольшое, но важное уточнение или разъяснение к нашему пониманию концепции «воображенного сообщества» Бенедикта Андерсона, которая пояснит концепцию столицы как «воображенного города». Некоторые читатели восприняли концепцию imagined community таким образом, что наций как таковых не существует – они являются только фикцией и плодом воображения. Закрепившийся русский перевод термина imagined community как «воображаемого сообщества» создает и усиливает это неверное впечатление. Но у Андерсона речь идет о нации как о продукте фантазии только в очень особом смысле. Он употребляет слово воображение, скорее, в кантианском смысле: это воображение следует понимать как форму познания и самопознания. Мы опознаем реальность нации через акты коллективного воображения подобно тому, как конституирующая сила воображения необходима для познания целой группы внешних и внутренних предметов. Именно поэтому в понимании Андерсона нация не менее реальна, чем, скажем, человеческое тело: сознанию удается понять и соединить себя с телом только в результате серии актов воображения. Нация является плодом воображения в том же смысле, в котором плодом воображения является единство личности.
Источники архитектурных и других форм для национальных столиц
Главной точкой отталкивания в формировании облика национальных столиц стало обособление от религии и от королевской власти, а также от внешнего политического господства в случае колонизированных или зависимых государств. Династические и религиозные формы идентичности, которые носят более универсалистский характер, составляют конкуренцию или бросают вызов новой национальной идентичности. Но при этом происходит щедрое заимствование форм со стороны новых столиц из старых репертуаров и резервуаров аристократии, королевской власти и режима сакральности. Эти старые формы становятся строительным материалом для оформления национальной субстанции, иконографии и архитектурных решений. В своем отталкивании от этих старых идентичностей столица во многом подражает формам сакральной столицы и королевского дворца. Победитель, как это часто бывает, подражает побежденному.
Уже в эпоху позднего абсолютизма столица отчасти затмевает дворец. Столичная жизнь становится интереснее светской и аристократической жизни, хотя прежде столица, наоборот, подражала двору. «Столица отбивает охоту жить в провинции, двор открывает нам глаза на столицу и вылечивает от стремления ко двору», – писал по этому поводу в «Характерах» Лабрюйер (Лабрюйер, 1974: 334).
Луис Мэмфорд справедливо видит истоки национальной столицы в барочных столицах XVII века (Mumford, 1968: 356, 380,391–392; об архитектурной и политической концепции барочных городов подробнее см. в Cohen & Szabo, 2008). В столичный город выносятся в модифицированном и значительно гипертрофированном виде некоторые элементы убранства и жизненного распорядка и уклада королевского двора.
Архитектурные формы национальной столицы – это как бы вывернутый наизнанку дворец, растянутый по центральной оси площадей и проспектов. Из дворцового театра возникает национальный театр, опера и концертные залы, из королевских или аристократических коллекций искусства и собраний различной экзотики и курьезов – национальные музеи, из дворцовых парков – ландшафтные парки, из королевского зверинца – зоопарк (Mumford, 1968: 381). Латынь дворцовой архитектуры превращается в разговорный язык городских проспектов и улиц. Двор как бы первым опробует и визирует типичные для столиц урбанистические функции и элементы опыта, которые впоследствии становятся классическими выражениями столичного этоса и формами репрезентации нации. В площадях преображенных столиц часто чувствуется торжественность и праздничность королевских парков, дворцов и резиденций. Нация также подражает аристократии и в своей озабоченности (или ее имитации) вопросами крови, происхождения, историей своего рода или родословной в формах национальной истории. Все эти королевские или аристократические культурные элементы и формы постепенно национализируются и демократизируются. Победители подражают побежденным.
В своих формах ритуала нации в большей степени подражают сакральным столицам, модифицируя их ритуалы и церемониал. Нации создают свои культы, свои символы, параферналии и церемонии, альтернативные религиозным. Канадский географ Теренс Макги метко назвал столичные города «культовыми центрами национализма» (McGee, 1967). Действительно, элементы устройства и церемониал сакральных столиц становятся строительным материалом в создании культовых форм праздников, торжественных шествий, парадов, фестивалей и самого культа нации и национальной истории, вокруг которого они формируются.
В новом пантеоне святые и мученики за веру сменяются иными мучениками – жертвами борьбы за национальное освобождение и национальное единство нации, увековеченными и множество раз оплаканными в памятниках и скорбных мемориальных комплексах. Создаются капища героям и национальным святым, в особенности национальным писателям и поэтам, погибшим, как правило, молодыми. Памятники увековечивают прерванный полет их молодости, предугадавшей триумфальное утро национальной славы. Можно сказать, что центральные площади города становятся вывернутыми наизнанку церквями со своим иконостасом, памятниками героям борьбы с иностранными угнетателями и интервенциями, религиозным догматизмом или неограниченной властью короля. Это искупительные жертвы на алтарях национальной правды.
Но наряду с явными заимствованиями происходит и создание новых форм и смена акцентов в устройстве столичного города. Главными его центрами становятся парламент и биржа, которые сменяют в этой роли церковь и замок. Крепость, утратившая непосредственное военное значение и предназначение защитницы города, сменяется на символическую демонстрацию военной силы, воплощенную в самой грандиозности столичного города и в его подчас циклопических формах. Символизация и гиперболизация военной мощи заменяет таким образом реальные военные укрепления. Производство, обмен и потребление выделяются в отдельные части города.
Меняется также и нарратив национальной истории. Преображенный воображением, хронос этого нарратива вливается в визуальный топос столичного города, образуя воронки из национальных достижений, площадей побед и памятников героям освободительного движения. Столица становится книгой национальной истории в миниатюре. В некоторых случаях происходит символическая адаптация старых символов королевской или имперской власти, которые интерпретируются уже только в качестве глав или декоративных элементов в нарративе национальной истории.
По словам Мишеля Вагенара, градостроители европейских столиц XIX века пытались создать «музеи нации под открытым небом» (Wagenaar, 2001: 350). Столица пытается отобразить и структурировать не только национальное время, но и национальное пространство: топографические названия столицы и ее иконография воплощают при этом различные части и конституирующие элементы нации. Власть воспевает в столице свое величие и славу. Столица превращается в архитектурный гимн нации, а ее улицы и площади звучат национальным маршем. Параллельно происходит и своего рода музеификация старых смыслов и символов, которые вплетают их в гирлянды героики национальной истории.
Национализация столицы завершает процесс формирования нации. Городское начало, начало религиозного благоговения и восторга, а также государственная власть, прежде разрозненные и пространственно разделенные, теперь соединяются в столичном городе. Возникшая незадолго до нации, столица, таким образом, позволяет нации консолидироваться, конденсировать свои смыслы и символы и осознать себя как нечто реальное и единое.
Теория Стейна Роккана
Теория известного норвежского политического социолога Стейна Роккана (1921–1979) позволяет ответить на вопрос, почему в некоторых странах возникали «жесткие» политические столицы, а в других – более мягкие.
Как мы уже отмечали выше, в Европе существует два типа столичных городов – те, которые полностью доминируют над системой городов, и те, которые особенно не выделяются среди других городов. Следуя Умберто Эко, мы назвали такие города соответственно жесткими и мягкими столицами.
Стейн Роккан предложил оригинальное объяснение причин различия стран с моноцефальной и полицефальной структурой городов. С его точки зрения, сформулированной в Концептуальной карте Европы, это различие объясняется периферийным или центральным положением страны по отношению к урбанистическому эпицентру континента, где плотность городов достигает особой густоты и где традиционно концентрировались торговые пути и коммерческие города Старой Европы (Rokkan, 1999,1976,1980).
Роккан обращает внимание на ось Север-Юг в Центральной Европе, где располагались важнейшие торговые пути, связывавшие северную ее часть, Ганзу, с Италией и Средиземноморьем. Роккан называет эту ось поясом городов, который и сегодня плотно охватывает города Бельгии, Голландии, Германии, Швейцарии, Северной Италии и Южной Франции (Rokkan, 1999: 128,145,156).
Чем дальше от торговых трактов располагается политический центр, вокруг которого происходит государственное строительство, тем более крупной и весомой столицей он становится как с точки зрения концентрации населения, так и с точки зрения функций по отношению к целому. Чем ближе к торговым трактам, тем менее самодовлеющей оказывается такая столица.
Тезис Роккана также состоит в том, что чем гуще сеть городов в стране, тем менее значим центр и тем больше шансов формирования полицефальной урбанистической структуры. Чем реже сеть городов, тем, напротив, более значим политический центр. Территории к западу и к востоку от торгового пояса, считал Роккан, строились вокруг сильных центральных районов, связанных с государственным строительством, и у них не было серьезных конкурентов среди городов близких к старым торговым трактам.
Одной из импликаций теории Роккана является также идея о том, что развитая система городов выступает важным буфером против абсолютистской власти и сверхцентрализации (Rokkan, 1973; 1980). Не случайно крупные централизованные европейские государства возникают на перифериях пояса городов, консолидируясь вокруг Парижа, Лондона, Вены, Мадрида, Берлина, Москвы и Стамбула, – боевых ладей, обрамляющих мобильные фигуры коммерции и торговли.
В соответствии с этими закономерностями, отмеченными Рокканом, на западе от этого пояса сформировались такие централизованные моноцефальные государства, как Франция, Испания, Португалия, Великобритания и Скандинавия (Rokkan, 1999: 159). На востоке от нее властвовали централизованные государства – Австрия, Османская империя и Россия. Высокоцентрализованные государства также складывались на севере, в Скандинавии. В центре же этой системы, в густоте городов, лежала группа полицефальных государств, политическая и урбанистическая структура которых определяется полицентричностью и большей автономией по отношению к государственному целому.
Стейн Роккан не распространяет свой анализ на Восточную Европу, но замечает, что пространство между Москвой, Веной и Константинополем характеризуется чрезвычайно низкой плотностью городов и, таким образом, значительно предрасположено к моноцефальности. Необходимо подчеркнуть и качественную разницу между западно– и центрально-европейскими городами, которые традиционно являлись независимыми коммерческими или ремесленными центрами с развитыми формами самоуправления, и восточноевропейскими и русскими городами, которые гораздо чаще формировались как административные центры или военные крепости.
Развитие индустриального сектора в Великобритании и Франции в XVIII–XIX веках, которое требовало достаточной централизации политического управления и организационной мобилизации ресурсов, было определено подъемом и триумфом национальных экономик целиком в противоположность фрагментированным экономикам, основанным на автономных коммерческих городах. Вероятно, поэтому такие страны, как Бельгия, Швейцария, Германия и государства северо-западной Италии с некоторым опозданием ступили на путь индустриализации и несколько позже стали превращаться в национальные государства.
Для ранних этапов индустриальной революции была фундаментально важна ситуация политической централизации и экономического развития, которая подпитывалась государственной машиной. С этой централизованной структурой были также связаны крупнейшие частно-государственные предприятия, способные более эффективно мобилизовывать человеческие, технические, транспортные и другие материальные ресурсы страны, прежде всего капитал и насилие. Примерами таких частно-государственных корпораций были Вест-Индская и Ост-Индская компании, которые доминировали в экономической и политической жизни Великобритании и Голландии, странах, которые оказались в центре развития мирового хозяйства. Столичные города, не располагая самыми активными производственными мощностями, тем не менее оказались в центре этих экономических процессов.
Наиболее централизованной из тех стран, которые сложились на западе от пояса городов, – как в демографическом плане, так и в плане устройства ее урбанистической иерархии – была Великобритания. Это отразилось и в более высоком уровне приматности ее столичного города, первенство которого в стране имело длительную историческую традицию. Известный британский историк Джон Моррилл видит истоки такой первичности далеко в истории, противопоставляя в этом отношении Лондон другим европейским городам:
В Париже, самом большом городе Франции, в середине XVII века было 350000 жителей. Вторым и третьим по величине городами в стране были Руан и Лион с 80000-100000 жителей. В Европе в это время было всего пять городов, население которых превышало 250000 жителей, но более ста городов с населением свыше 50000 человек. Однако в Лондоне в 1640–1660 годах насчитывалось уже более полумиллиона жителей. В Ньюкасле, Бристоле и Норвиче, которые боролись за статус второго города, едва набиралось по 25000 человек. Лондон был больше, чем следующие пятьдесят городов, вместе взятые (Morrill, 2000: 87).
Роккан не занимался описанием торговых городов, их взаимодействиями с централизованными государствами и устройствами урбанистических сетей за пределами Европы.
Тем не менее во многих регионах мира существовали свои «пояса городов», которые определяли международную торговлю в своих регионах и структурировали пространство. Вокруг этих неевропейских поясов городов также складывались относительно централизованные государства. Примерами подобных поясов городов – вряд ли вполне сопоставимыми по масштабам и последствиям с европейскими – были транзитные города на известных международных торговых и караванных трактах[21]. Примерами таких градообразующих международных торговых путей могут служить помимо Великого шелкового пути из Китая в Средиземноморье гораздо менее известные сегодня пути – Путь благовоний (иногда называвшийся также Золотым путем) в Аравии, Великая магистраль в Индии (из Афганистана в Калькутту), Великий малоазийско-армянский торговый путь, Путь пряностей в Южной Азии, Путь из варяг в греки и Серебряный путь из «варяг в арапы» (иногда также называвшийся Великим Волжским путем), соляные пути, или шляхи, в Южной Америке, Восточной Европе и в Тибете, Соболий путь в Азии (он проходил немного севернее Шелкового пути и вел с Дальнего Востока в Персию), а также Чайный путь. В этой связи можно также вспомнить более локальные Меховой путь в Сибири и Путь опиума в Бирме. В глубокой древности существовал также известный Лазуритовый путь, связывавший Среднюю Азию с Египтом.
Но эта многообещающая тема неевропейских городских сетей и конфигурации их политических пространств в контексте централизованных государств, размеров их столиц и характера городских сетей и иерархий требует отдельного специализированного изучения.
Столицы в вестфальской системе
Вестфальская территориальная система господства более строго очертила легитимное пространство власти и закрепила концепцию территориального государства, которое получило приоритет в определении идентичности.
Вестфальская система закрепила идеи нации и национализма в особой политической системе. В соответствии с принципами демаркации границ (limis), которые оказались значимыми для всех частей проекта модерна (от разграничения наук до государственных территорий), строгие территориальные границы отныне будут определять европейскую политику. Вестфальская система провозгласила приоритет территориальной концепции нации над религиозной идентичностью, что отразилось в формуле: чья территория, того и вера. Идеология национализма приобретает юридическую форму, и национально-государственные обязательства вытесняют систему смешанных обязательств, а также промежуточные, аморфные и множественные юрисдикции.
Канадский политолог Эдвард Шац выдвигает интересную гипотезу относительно различных траекторий развития столичности в европейских и неевропейских обществах, связывая европейскую концепцию столицы с вестфальской системой.
Вестфальская система институционализировала качественный поворот в трактовке природы политической власти: власть стала пониматься не в контексте отношений между личностью правителя и народом, а в качестве территориальной власти. В Европе процесс государственного и национального строительства предшествовал возникновению современного государства. Еще до возникновения структур современного государства были созданы системы налогообложения и всеобщей воинской обязанности и были предприняты попытки гомогенезировать население государств и завоевать его лояльность апелляцией к идеям и символам нации. Эти процессы, которые были юридически зафиксированы в Вестфальской системе, продолжились в новых формах и после 1648 года (Schatz, 2004).
За пределами Европы характер отношений между государством и народом и порядок возникновения этих институтов был принципиально иным. Государства предпринимали попытки создания жизнеспособных структур и институтов, пытаясь заручиться поддержкой многообразного населения этих государств. При этом идеи суверенности народа заимствовались неевропейскими обществами у европейских стран. До того как эти народы заручились суверенностью на родине, их права уже были признаны в международном праве. Из этого положения Шац выводит различия в понимании столичных функций (Schatz, 2004:16).
В Европе элиты использовали столицу для распространения своей власти и влияния на периферию, что было необходимо для контроля над территориями. Столицы, таким образом, служили целям государства. Таким образом, в Европе столицы стали неотъемлемой частью государственного и национального строительства. В неевропейских обществах, напротив, государственность не зависела от правительств, которым бы надо было утверждать свою власть и добиваться лояльности территорий. В неевропейских обществах столицы поэтому в недостаточной степени отражали цели и задачи государства. Поэтому у постколониальных элит возникла необходимость создания полноценных столиц европейского образца (Schatz, 2004).
Но постепенно мировой баланс сил между религией и государством, экономикой и насилием, городом и государством смещается в пользу наций. Это приводит к сокращению насилия внутри государства через интеграцию и новую форму идентичности. Идентификация переносится с этноса, семьи, религии и клана на нацию. Религия становится одним из аспектов национальной идентичности.
Мне кажется, что наблюдения Шаца по поводу уникальности европейского опыта в связи с возникновением Вестфальской системы весьма интересны и проницательны. Но европейская уникальность в этом вопросе, возможно, связана и с иной причиной, а именно с уникальностью самой европейской концепции города и связанной с ней принципиально иной родословной европейских столиц.
В свое время Макс Вебер указывал, что сердцем европейских государств была особая и уникальная концепция города[22].
Можно даже сказать, что сама концепция европейского государства вырастает из идеи города и само государство строится здесь по образу и подобию города.
Город и его идеология чрезвычайно укоренены в самой конституции европейских государств, которые на поверку то и дело оказываются городами-государствами, городами-империями и городами-республиками. Греция и Рим в известной мере продолжали оставаться городами-государствами и городами-империями даже после того, как они безмерно выросли и расширились, так же как и позднее Венеция. В силу этого обстоятельства городские формы сознания и самоуправления распространялись постепенно на всех жителей государства, которые из подданных постепенно превращались в горожан, то есть граждан. Поэтому в основе европейского сознания лежат такие основополагающие городские или буржуазные – а также оценочные и нормативные – категории, как гражданство, политика (от слова полис), цивилизация и гражданственность (civitas) как особая добродетель.
В столицах же неевропейских государств, напротив, мы часто видим слишком мало собственно городского начала. Власть вообще в них чаще связана не с городом и городскими формами правления и хозяйства, а с религией и идеологией. Многие неевропейские общества поднимаются к идее политического центра чаще не через идею города с его формами самоуправления, а через идею власти как таковой.
В результате столица оказывается здесь только факультативным посредником между народом и божеством. Главным посредником между народом и богом объявляется здесь правитель как обожествленная власть. Такая столица представляет не народ, а божественное начало или космическую благодать, излившуюся на народ в виде государственной власти. Поэтому подобная идея столичности лишена подлинной урбанистической динамики и является тормозом общественного развития.
Опыты переноса столиц Принципы расположения столичных городов
Чем, помимо череды географических и исторических случайностей, определяется месторасположение столицы государства? Ориентированы ли они, прежде всего, на соседей и внешний мир или на внутренние параметры своей территории? Существуют ли какие-то ясные логики и принципы в месторасположении и перемещении столиц? Можно ли говорить о каких-то естественных, географически предопределенных, точках их дислокации?
На мой взгляд, такие логики есть и они достаточно универсальны, хотя в условиях различных форм политического устройства и в различных ситуациях они приобретают свои особенности, в чем мы попробуем убедиться ниже. Безусловно, на расположение столиц оказывало свое влияние множество разнородных факторов, которые сегодня не всегда легко всесторонне учесть.
Географический детерминизм. Большую роль в выборе местоположения столицы, несомненно, играли и играют физические элементы ландшафта и климатические условия, которые могут также иметь определенное символическое значение. Для этих городов часто выбирались те места, где есть слияние рек или сходятся различные типы ландшафта – лес и степь, горная и равнинная зона, два важнейших города страны, торговые тракты и магистрали, пустыня и оазис. Такие точки слияния приобретают особое значение, если они совпадают с естественными границами композитных этносов или других групп. Они часто находятся на месте пересечения торговых трактов, в центре государства или защищают подступы к основному демографическому центру. Некоторые из них жестко привязаны к конкретным географическим координатам или точкам – реке, морской бухте, береговой линии.
В некоторых случаях вписанность системы хозяйства в окружающий ландшафт вполне очевидна и недвусмысленна. Например, во многих государствах обнаруживается более высокий уровень зависимости от ландшафта и среды как, например, зависимость Египта от Нила или Хорезма от Амударьи. Из этой зависимости вытекают размещения и перемещения столиц в соответствии с природно-экологическими обстоятельствами. Так, например, столица Хорезма была перенесена из Ургенча (Гурганджа) в Хиву в 1598 году из-за изменения русла реки Амударьи. По той же причине – из-за изменения русла Евфрата – Вавилон, захваченный Александром Македонским, переехал на Тигр, в Новый Вавилон, построенный Селевком на некотором расстоянии от первоначального города.
Тем не менее значение естественно-географических факторов, мудрость народа в размещении и перемещении своих столиц и нашу способность их однозначно понимать и объяснять не стоит и преувеличивать. Ведь легкость подобных географических объяснений часто оказывается вполне иллюзорной.
Статистики иногда с иронией говорят, что если факты долго мучить, то они признаются во всем, что угодно. Если очень долго рассматривать карту и домысливать, можно найти рациональное начало, стратегические преимущества или даже особую мудрость в выборе очень многих географических точек. В потенции любая точка карты вполне может быстро обрасти прибавочными и иногда даже сакральными смыслами. Интерпретатор может также стать жертвой нарративной ошибки, в силу которой мы склонны вписывать географическое расположение в логику последующих исторических событий и сюжетов. Поэтому предположение, что существует какая-то одна географически правильная логика или только одно провиденциальное место или лунка для расположения столицы, кажется довольно наивным и нереалистичным.
Цивилизационное искажение. Помимо географического положения большую роль в размещении столицы могут играть также цивилизационные факторы. Последние не выводятся и не могут быть объяснены только географическим положением. Это, прежде всего, фундаментальные ориентации, ценности, пространственные схемы, видения и религиозные представления. География, безусловно, влияет на эти ориентации, пространственные схемы и доминирующие формы хозяйственной деятельности, но далеко не исчерпывает их содержания. Говоря более конкретно, это такие факторы, как отношение к торговле, моральные представления, символическое значение сторон света, часто вытекающее из религиозных доктрин (оно также влияет на ориентацию храмов), характер хозяйственной деятельности, уровень вселенских или глобальных амбиций конкретных государств или цивилизаций. Одним из фундаментальных элементов цивилизационных факторов может служить положение относительно моря и модели взаимоотношений между сушей и морем.
Интересно обратить внимание, например, на то, что, несмотря на удобное с точки зрения географии расположение Китайской империи, ее широкий доступ к океанам и морям и комфортное для мореплавания и размещения портов устройство береговой линии, ни одна из множества столиц Китая) за исключением столицы династии Южной Сун (1127–1279) – Ханчжоу, не располагалась на морском побережье (Eisenstadt, 1987:132–134). Срединное положение Китайской империи в мире, заложенное в самоназвании страны, входит в противоречие с расположением ее столицы внутри Китая. По мнению многих историков-китаеведов, это определялось в числе прочих причин фундаментальной континентальной ориентацией Китая, его ориентированностью внутрь, закрытостью на протяжении длительных отрезков истории его рынков, а также отсутствием у него амбиций мирового господства и доминирования.
Российский синолог Артемий Карапетьянц более наглядно объясняет различия в некоторых фундаментальных пространственных схемах между средиземноморской (европейской) и китайской цивилизациями, обращаясь к их прямо противоположным пространственным схемам. Одно из главных различий образов пространства и представлений о мироустройстве между двумя этими цивилизациями, считает Карапетьянц, состоит в том, что если в центре европейского образа пространства находится Средиземное море, то Китай мыслит себя и цивилизованный мир в целом в виде суши, омываемой со всех сторон четырьмя морями (Карапетьянц, зооо: 133—1.34). С этим представлением, возможно, связана и противоположность между осушением и орошением. Если в месопотамской и египетской цивилизациях мироустроение направлено по преимуществу на орошение земли и снабжение водой, то в китайской главные усилия культурных и мифологических героев, напротив, направлены на осушение и укрощение водной стихии (Карапетьянц, 2000).
Другим важным культурным феноменом, характерным для Китая и отсутствовавшим в Европе, было представление о телесности и энергетической наполненности пространства и разработка специальной науки геомантии, которая позволяла эффективно распознавать наиболее благоприятные места для размещения городов и, конечно, столиц. Но эту науку и ее импликации и релевантность для столичности мы обсудим более подробно в одной из следующих глав.
Подобные пространственные схемы и идеи о центре и периферии – хотя они далеко не всегда могли быть столь уникальными и отличными от европейских как приведенный нами китайский пример, – безусловно, оказывали свое влияние и на расположение столиц в разных странах мира.
Деловая геометрия исчисленных пространств. С точки зрения некоторых полемистов, логика размещения столицы должна совпадать с принципами размещения бизнесов или предприятий, которая определяется логистической рациональностью и экономией расходов. В основе этого представления, на взгляд автора, лежит ложная идея о тождестве целей, задач и функциональности государства и бизнеса, которое тем не менее достаточно часто встречается в политической полемике и в иногда предлагаемых моделях политического управления.
В случае управления предприятием обычно рассчитывается, например, расположение какого-то производства, учитывающее целую группу факторов – доступность сырья и энергии, наличие квалифицированной рабочей силы, наличие транспортной сети и возможных рынков сбыта для произведенных товаров, дистанция от конечного потребителя продукции, а также близость или удаленность конкурентов. Такое расположение диктуется не только разумными посылками логистики, но и интересами эффективной коммуникации и управления равноудаленными от центра точками пространства. Во многом эти принципы соответствуют логике транспортного хаба, который обслуживает клиентов в разных частях примерно гомогенной и равномерно заселенной территории.
Если принципы размещения предприятия перевести на язык выбора столицы, то наиболее принципиальным и решающим будет учет главным образом двух из компонентов столичного «производственного цикла»: наличие квалифицированной рабочей силы и конечного потребителя производимых столицей общественных благ, то есть граждан государства. В идеале эти блага должны быть в относительно равной степени доступны всем гражданам, проживающим на территории страны. Некоторые экономисты говорят в этом случае об особых преимуществах для тех граждан, которые проживают в непосредственной близости от центра производства общественных благ, и говорят об эффектах их «порчи» при транспортировке – вопрос, который мы обсудим подробнее в одной из следующих глав.
Центральное расположение столицы предполагает, что пространство устроено примерно одинаково, а население гомогенно. Однако деловая модель, конечно, может учитывать неоднородность и концентрацию населения и делать поправки к центральности.
Такая модель в применении к государству, безусловно, все же кажется слишком абстрактной, идеализированной и наивной. Тем не менее она определенно имеет смысл в качестве некоей точки отсчета для понимания степени отклонений, связанных с группой других упомянутых нами факторов, – неоднородностью природных ландшафтов, различными цивилизационными ориентациями, а также соображениями безопасности и военных стратегий. Как мы заметили, именно эти факторы определяют искажения в идеальной логистической логике.
Военные искажения. Трудно переоценить роль военно-стратегических соображений в расположениях столиц.
Отчасти выбор определенных диспозиций столиц мог объясняться теми же естественно-географическими или ландшафтными факторами, важными в плане обороны и фортификации (возвышенная или пересеченная местность, окруженная естественными оврагами или природными водоемами).
На протяжении истории именно военная рациональность диктовала смещение столиц с геометрически выверенных осей и орбит и часто вызывала их отклонения от геометрической центральности.
Если обратиться опять к примеру Китая, то можно заметить, что его столицы никогда не находились в центре государства. Практически все попытки объединения страны осуществлялись с севера, где граница была наиболее уязвима. Именно на северной границе Китай постоянно подвергался набегам со стороны различных северных кочевых цивилизаций и народов, тюрков, монголов и тунгусов. С этим фактором связано то, что большинство известных исторических столиц Китая находилось на этом опасном северном фронтьере государства, на границе со степью, несмотря на то что экономический центр государства уже в X веке сдвинулся на юг, в долину реки Янцзы (Turchin, 2009: 2–3). Возможно, в таком расположении нужно искать также культурные и цивилизационные объяснения, так как многие древние и современные государства, напротив, предпочитали отодвигать свои столицы от границы и прятать их в глубокий тыл. Этот второй путь был более типичен для большинства стран[23].
С военными походами также были связаны другие метаморфозы расположения столиц относительно границ различных стран. Так, некоторые столицы, которые когда-то находились в центре государств, оказались расположенными ближе к периферии в результате потери или, наоборот, расширения и приобретения новых территорий. Так, Вена, которая когда-то находилась в центре Австро-Венгерской империи, в результате территориальных потерь постепенно оказалась на окраине современной Австрии.
Париж также утратил свое первоначальное центральное положение, но не в результате потерь, а, напротив, в результате территориальной экспансии государства. Париж возникает как столица компромисса между норманнами и галлами. Франкский король Гуго Капет выбрал его столицей в 987 году из-за удобного расположения на слиянии рек, где удалось остановить дальнейшее продвижение норманнов на юг страны (Gottman, 1990: 67). Постепенно в результате огромных приобретений на юге государства французская столица оказалась на северной периферии страны.
Современные конфигурации государств и положения столиц относительно их границ часто являются остовом более не существующих государств или разнообразных политических образований, и их изначальная замышленная география может быть восстановлена только знанием истории.
Военные искажения логики центральности также могут быть связаны непосредственно с ведением военных действий– удобствами с точки зрения наступления, доставки фуража и провианта, наличия пространства для маневра или отступления.
Политические смещения. Политические факторы, композитный характер нации и асимметрия границ между двумя или более составляющими ее членами, также приводят к нарушениям принципов центральности. Столицей таких государств, ориентированных на равновесие и альянс, часто становятся города на стыке составляющих ее этнолингвистических или религиозных групп. Такие элементы стыка (hinge) присутствовали и в случае выбора Парижа.
Искажения также могут быть продиктованы соображением дистанцирования от старых центров и поиском собственной идентичности. Эта идентичность создается в процессе поиска автохтонных или аутентичных центров реальной или сфабрикованной истории или сплава различных культурных, этнических или географических элементов тех народов, которые формируют новую общность. Государства и нации постоянно находятся в процессе созидания, поддержания или реконституции своих идентичностей.
Романтическая теория гения места. Гораздо менее правдоподобным кажется романтическое представление о том, что столицы основывались по наитию, в результате обетований и религиозных вдохновений, что в их расположении нет никакой единой логики, и поиск правильного места не подчиняется рациональным соображениям или подчиняется им в очень малой мере.
По-видимому, существует два разных источника подобных представлений о естественных столицах и два разных смысла, которые с ними связываются. В первом смысле речь идет об обетованных столицах, то есть освященных свыше, подсказанных религиозными авторитетами, предсказанными учителями и пророками. Во втором смысле речь идет об исторически выверенных правильных местах, подсказанных как будто самой природой и историей. В противоположность первому источнику, где столицы названы и назначены, во втором случае речь идет о мириаде исторических случайностей, которые действуют в роли провидения и подсказывают определенное место обычно без всякого участия религиозных или каких бы то ни было еще авторитетов.
Несмотря на кажущуюся несовременность и архаичность представления о естественных столицах, вторая часть книги укажет на ее достаточную распространенность среди многих современных историков и политиков.
Более рациональной кажется точка зрения на этот вопрос, согласно которой столицы не столько обнаруживаются, сколько изобретаются и конструируются на основе различных стратегий государственного развития. Голая физическая география, лишенная человеческих измерений, дает крайне мало ориентиров, вопреки некоторым популярным мнениям. Даже естественные географические ориентиры проходят символическую адаптацию, прежде чем они могут стать полноценными членами человеческой географии или картографии. Пространство приручено человеком и приобретает его имена.
Более реалистичным кажется также предположение о том, что в выборе столицы сочетаются рациональные соображения, наложенные на группу спонтанных или исторически случайных факторов и решений.
Конструирование центра и пространства может быть совсем не чуждым логистическим соображениям, но редко с ними полностью совпадает. Правители часто выбирали для своей столицы место с определенными стратегическими преимуществами, которые по возможности вписывались одновременно в военные, коммерческие и политические стратегии управления и развития. Все дело состояло только в приоритетах. Поэтому, скажем, в случае военной опасности или уязвимости предпочтения отдавались военной рациональности и ей в жертву приносились прочие факторы.
Во многих традиционных и современных государствах столица служила своего рода рычагом, который позволял наиболее эффективно мобилизовывать ресурсы на ведение войны и устанавливать альянсы и компромиссы как внутри страны, так и с ее соседями. Важным критерием успеха здесь было то, насколько новая столица была способна разрешить существующие проблемы в широком социальном контексте и насколько привлекательной могла стать эта идея для потенциальных участников такого альянса. Так расположение столицы вписывалось в более общую стратегическую программу развития государств, и именно такая вписанность в нее определяла успех или неудачу таких мероприятий в большей мере, чем их непосредственный genius loci.
Подводя итог этому рассуждению, можно сказать, что современные планы расположения и переноса столиц могут учитывать разные схемы и группы факторов в размещении главного города страны. Достаточно распространенная и понятная логика центральности часто нарушалась и нарушается в результате географических, демографических, военных, политических, цивилизационных и множества внутригосударственных факторов. Во многих случаях логика идентичности, связанная с утверждением культурной и исторической принадлежности, возвращает столицы государства обратно в центр.
На мой взгляд, общая тенденция в расположении и перемещениях столиц состояла в постепенном переходе от культовой логики религиозных столиц, вписанных в космический порядок, к логике военной рациональности. В дальнейшем происходил и происходит переход от военных решений к логике идентичности, то есть ориентированности государства, прежде всего, на внутренние процессы с точки зрения принципов справедливости. В случае последней – мы рассмотрим множество ее примеров в следующих главах – главными ориентирами для государства служат исключительно внутренние параметры. Речь здесь, как мы уже сказали, идет всего лишь об общей тенденции, которую мы попытаемся обильно проиллюстрировать ниже.
В последующих двух параграфах мы разберем две логики перемещения столицы. Первая из них относится по преимуществу к имперским государствам и связана, прежде всего, с ведением войны. Вторая продиктована главным образом попытками установления нового баланса сил и власти внутри государства в условиях противостояния различных политических фракций и ориентирована на создание новых технологий властвования, новой легитимации политического господства и часто сопряжена с глубокими религиозными реформами. Вторая логика наиболее характерна для деспотических государств в период относительной безопасности внешних границ. Первая – для универсальных или относительно универсальных империй.
Имперские принципы переносов
Вряд ли возможно исчерпывающе описать все возможные сценарии, опции, траектории и переходы в имперском опыте построения и перемещения столиц универсальных империй. Вариации в этой области, как уже было отмечено, определялись слишком большим количеством переменных: пространственным положением, особенностями ландшафта, политических традиций и многими географическими случайностями. Все они едва ли поддаются учету в какой-то универсальной классификации. Тем не менее существует по крайней мере несколько чрезвычайно распространенных и устойчивых приемов, логик и стратегий, которые, по-видимому, носят универсальный характер и которые мы попытаемся кратко здесь описать и объяснить.
Попытка классификации эмпирических законов, определяющих перемещения столиц в универсальных империях, была предложена британским историком Арнольдом Тойнби в его капитальном труде «Изучение истории» (раздел об универсальных государствах). Он выдвинул принцип, согласно которому характер и направление перемещения центра политической власти зависит от того, кто является основателем новой столицы: внешние завоеватели, варвары или пограничные народы (Toynbee, 1987, Часть VI, глава XXV). Британский историк богато и интересно иллюстрирует этот принцип, описывая множество исторических деталей, но его изложение остается достаточно путаным, а примеры не всегда подтверждают его тезисы и выделенные закономерности.
Несколько сумбурным представляется и изложение этих законов в его более позднем втором эскизе на эту же тему (Toynbee, 1970: 67–78). Здесь он опять уделяет много места индивидуальным деталям и описаниям; менее убедительным кажется сам принцип, положенный в основу эмпирических закономерностей в размещении столиц (Toynbee, 1970:69)[24].
Примечательно, что отмеченные правила казались Тойнби почти столь же строгими как естественно-научные законы.
Однако ряд историков опровергают сформулированные им законы перемещения столиц, в том числе и историческую фактографию, на которую он опирается. Например, описание Тойнби миграций индийских столиц было подвергнуто развернутой критике известным индийским социологом Говинд Гурье (Ghurie, 1962: 182–186). Известный историк Эли Кедури подтрунивал над «законами перемещения столиц» Тойнби и его верой в то, что его познания в истории делают его незаменимым политическим советником, способным предсказывать движения столиц и другие политические события и также разрабатывать программы и стратегии для внешней политики. В 1935 году Тойнби, в частности, сделал неудачное предсказание о том, что в соответствии с его законом движения столиц из центра на периферию (marches) столица Китая никогда больше не вернется в Пекин (Кеdurie, 1984: 34). Как известно, столица Китая между двумя мировыми войнами находилась в Нанкине, но с приходом к власти коммунистов в 1949 году благополучно вернулась на старое место. Кедури напоминает в этой связи слова арабского историка Ибн Хальдуна (1332–1406), который говорил, что знание прасодии не позволяет ему писать стихов. В другом случае, в период греко-турецкой войны 1919–1922 годов, Тойнби, будучи сотрудником Британского министерства иностранных дел, также неверно предсказал перемещение новой столицы Турции в Измир. Правда, тогда его законы перемещения столиц еще не были сформулированы.
Направления движения имперских столиц, на взгляд автора, связаны не столько с тем, кто основывает империю, сколько с общим направлением экспансии, необходимостью закрепить свои завоевания или, напротив, уязвимостью и поисками более надежной социально-политической базы, лояльной и преданной существующей системе власти. Переносы столиц в таких государствах подчинялись логике имперского строительства. Внутри самой имперской логики можно выделить несколько различных возможностей и задач.
Первую логику, логику поглощения, иллюстрируют имперские государства в фазе военной экспансии. Эти государства часто переносят столицу ближе к направлению своего наступления, фронтьеру, для облегчения командования военными действиями, снабжения войск и улучшения системы коммуникаций.
Примером такого рода может также служить Пруссия, которая в 1648 году переносит столицу из Кенигсберга в Берлин, в направлении своей экспансии на запад после Тридцатилетней войны. Генрих фон Лохаузен, правоконсервативный австрийский геополитик, этим же фактом объясняет расположение Белграда (Lohausen, 1992).
Первая столица королевства Норвегии находилась в центре исторического ядра расселения викингов, к северу от Согнефьорда. Но когда викинги начали освоение юга и завоевание Британских островов и Нормандии, Тронхейм оказался слишком удален от них и поэтому столицу перенесли в Берген, который был ближе к мишени завоеваний и к театру военных действий (Тархов, 2007).
В 77 году до н. э. армянский царь Тигран Великий основывает свою столицу Тигранакерт, на самом юге Армении, на границе с Месопотамией, куда простиралась его экспансия. В этот город он насильно переселяет жителей греческих городов и других приграничных районов (Моммзен, 1941: 44). Сюда столица была перенесена из Артаксаты, с самого востока страны.
Об этой стратегии перемещений столицы, проиллюстрированной вышеперечисленными примерами, писал когда-то арабский историк и социолог Ибн Хальдун в знаменитом введении к многотомной «Книге назидательных примеров по истории арабов, персов и берберов и их современников, имевших большую власть», где он исследует анатомию власти:
Каждый народ необходимо имеет родину – место, откуда он происходит и где начинается его господство. Когда этот народ покоряет другую страну… область его господства расширяется, а столица необходимо должна находиться в середине областей, принадлежащих династии, ибо столица – то же самое, что центр для круга. Она находится вдали от прежней столицы; и сердца людей обращаются к новой династии и правителю. Новая столица расцветает, а прежняя приходит в упадок. Городской уклад, как мы говорили выше, развивается только при наличии многочисленного населения. Население же (прежней столицы) уменьшается, и жизнь в ней замирает (Ибн Хальдун, 1961: 596).
Более радикальной, но тем не менее весьма распространенной формой подобной стратегии является перенос столицы прямо на территорию недавно присоединенных государств, этнически и религиозно еще чуждых или не окончательно интегрированных в империю. Тип столиц, которые возникают при таких переносах, можно назвать встроенными или внедренными столицами.
В 762 году арабы переносят столицу в Багдад, который прежде находился на территории Персидской империи, недалеко от летней резиденции персидских шахов, в городе Ктесифоне.
По мере экспансии тюрков на запад переносятся и их столицы – сначала в Конью примерно в 1150 году, потом из Коньи в Адрианополь, во Фракии, в 1362 (город переименовывается в Эдирну), а оттуда в Византию – в Константинополь, который позже, после падения Византии, становится Стамбулом (Toynbee, 1987, VI, XXV).
В процессе своего продвижения на запад персидские шахи часто основывали свои новые столицы на относительно недавно присоединенных территориях побежденных противников. Таковы персидские столицы – Экбатана (бывшая столица Мидии), Сузы (бывшая столица Элама), Ктесифон (бывшая столица Парфии). Переносы центра власти в эти столицы осуществились соответственно Ахеменидами в 550 году до н. э. и в 521 году до н. э. и Сасанидами в 227 году н. э. (парфянская столица была захвачена в 224). Необычную подвижность и мобильность древних персидских столиц некоторые историки связывают с кочевническим прошлым этого народа (см. таблицу 5).
Царь Давид перенес столицу в Иерусалим, только что отвоеванный им у иевусеев (Emet, 1996).
Другим примером того же рода может служить Кушанская империя, которая перемещала столицы уже не на запад, а на восток по мере своей экспансии в северную Индию – из Бактрии в Пешавар.
Сходной логике следовал и Александр Македонский, который, если верить свидетельствам древних, планировал расположить будущую столицу Греческой империи в Вавилоне, закрепляя тем самым свои территориальные завоевания и интегрируя Восток в Македонскую империю (Boyi, 2004:97).
Этот же самый расчет мы обнаруживаем в политической реорганизации империи монголов. Кублай Хан, внук Чингисхана, перенес столицу из Каракорума в Пекин, в Китай, интегрируя в общую империю эту огромную территорию и абсорбируя ее население, культуру и техники государственной службы и управления. Позже монгольским примером воспользуются маньчжуры, захватившие Китай и перенесшие свою столицу из Мукдена (Шэньяна) в Пекин.
Следующий пример, иллюстрирующий эту технику власти – основание эмиром Тамерланом в 1369 году новой столицы Туранской империи в Самарканде, на вновь завоеванной территории, где прежде доминировали персы, хорезмийцы и турки-караханиды.
В русле идентичной стратегии столица Оманского халифата в первой половине XIX века переезжает в Восточную Африку, колонизированную арабами, за тысячи километров от центра страны. Африканский Занзибар с 1832 года становится столицей Омана, где обосновался султан страны Саид ибн Султан (Плеханов, 2003).
Берберско-арабские империи Северной Африки, халифаты Фатимидов и Альмохадов, также расширяются и воздвигают свои столицы вдалеке от своей алжирской или тунисской родины. Фатимиды (909-1171) завоевывают Египет и строят новую столицу вдалеке от своих исконных земель в Каире в 969 году. Альмохады (1121–1269) выносят свою столицу на другой континент, в Севилью, в 1170 году (Turchin, 2009:5–7).
Афганские завоеватели Газневиды в 1161 году перенесли свою столицу из Газни в Южном Афганистане в долину реки Инд, в Лахор, на территории современного Пакистана.
Римская империя переносит столицу в Константинополь, на территорию Греции. Задачей этого переноса, однако, было не подчинение Греции, а тыловая тактика ведения войны. Подробности этой тактики и ее причины мы разберем ниже, в специально посвященном этому эпизоду параграфе.
Подобного рода стратегии, во всяком случае в виде политических заявлений и планов, присутствуют и в современном мире, хотя и редко озвучиваются столь цинично и откровенно как, например, в следующем случае из недавней политической практики. Современные радикальные исламисты из египетской партии братьев-мусульман под руководством Мурси, которые пришли к власти в Египте, мечтают о восстановлении всемирного Арабского халифата (Соединенных Арабских Штатов). На роль столицы этого новообразования назначен Иерусалим, что позволит новому Арабскому халифату закрепить за собой территорию Израиля[25].
Прецеденты подобного рода идей расположения новых столиц на чужих или недавно присоединенных территориях были также и в русской истории. Петр основывает Петербург на территории, сравнительно недавно присоединенной или отвоеванной у шведов. В X веке Святослав, победитель хазар, мечтал о новой русской столице на Дунае, в недавно отобранном у болгар Преславце (Преславе), «древней столице болгарских ханов» (Успенский, 1996, гл. 6). Вот что пишет Святослав своей матери, княгине Ольге, по этому поводу: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае – ибо там середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли – золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и воск, мед и рабы» (ПВЛ, 969).
Описанная тактика имперского строительства была сопряжена с высокими рисками и иногда приводила к особой уязвимости империй, обзаведшихся новыми столицами такого рода. Например, создавая все новые столицы на чужих землях, персы покинули свою базу в горах и спустились на равнину, что привело их постепенно к потере исконных земель, оставленных без внимания, – опасность, о которой согласно преданию предостерегал персидских шахов еще Кир Великий (Toynbee, 1987, VI, XXV). Ту же самую тенденцию, – потерю исходных и исконных территорий в результате имперской экспансии, – мы наблюдаем в истории Парфии (продвижение на запад из Нисы), Вавилона, Бактрии и Аравии.
Противоположная этой тактика состояла в поисках наиболее лояльных центров власти.
Эта альтернативная тактика в контексте строительства империи состояла в попытках упрочения базы своей политической поддержки и поисках самой лояльной и надежной точки. Задача состояла здесь в нейтрализации или ослаблении влияния враждебных или конкурирующих социальных и религиозных кланов, фракций, семейств, старых элит. Такова логика переноса столицы в раннем Арабском халифате из Медины в Куфу в 657 году, единственный город, который поддерживал Али в его борьбе с мятежниками в период гражданской войны (Hitti, 1973)[26]. Те же соображения поиска наиболее лояльной точки имели место в Японии в период переноса столицы из Нары в Нагаоку, который подробно описывают историки (Goethem, 2008).
В других случаях императоры деспотических столиц стремились достичь такой лояльности за счет разрушения местных лояльностей и идентичностей в империи, централизации сакральных символов, а также особой демографической политики – масштабных переселений в новую столицу наиболее непокорных племен и жителей других царств. Такой тактики придерживался Цинь Шихуан, который сгонял в свою новую столицу Сяньян жителей ведущих семейств из других царств (Lewis, 2006:191). Этой же тактикой пользовался Тигран Великий, который переселил в свою новую столицу Тигранакерт многих греков и народы из сопредельных районов.
Другой – и во многих случаях весьма близкой и комплиментарной тактике поиска наиболее лояльного центра – была тактика поиска тыловых центров империй.
Под натиском магометан столицы Хазарии перемещаются постепенно с юга на север, атакованные арабами, в безопасность удаленных от южной границы районов. Сначала из первой столицы каганата Беленжера, находившегося в рискованной близости к границе, у входа на Кавказ через Кавказский хребет, в Самандар в приморской части Дагестана, а уже оттуда в Итиль (Хамлых) в дельте Волги, чуть выше современной Астрахани.
То же самое начиная примерно с того же самого времени происходило в Эфиопии, где столица и исторический центр в Аксумском царстве – когда-то сильной империи, соперничавшей с Византией, – постепенно перемещались от побережья вглубь страны под натиском теснивших с моря магометан. Христианское государство даже выработало особую партизанскую тактику ведения войны с намного превосходящим его по силам врагом, которая состояла в постоянном перемещении своих столиц. Лишь в конце XIX века государство относительно стабилизировалось с основанием Аддис-Абебы на дальнем юге в максимальной удаленности от побережья (Horvath, 1969).
Из-за вторжения монгольских войск в 1126 году столица Китая перемещается из Кайфына в Ханчжоу, что считается началом династии Южная Сун.
В XVIII веке персидская столица мигрирует под давлением афганских войск, сначала освободившихся от власти персидской династии Сефевидов, а затем пытавшихся воцариться в самой Персии, овладевая городами и даже основав афганскую династию. В результате персидская столица перемещается из центрально расположенного Исфахана, ставшего столицей в 1598 году, на юг в Шираз (1766–1791), а оттуда в прикаспийскую безопасность Тегерана. Область Тегерана, населенная в основном тюрками, также обеспечивала надежную базу лояльности для тюркской по происхождению новой персидской династии Каджаров (см. таблицу 5).
С этой оборонительной логикой сопоставимы и некоторые переносы столиц в Польше, которые были связаны с обеспечением безопасности и обороной от агрессии немецких княжеств, – подальше от германских пределов (Тархов, 2008).
Обобщая, можно сказать, что существовали две наиболее распространенные и противоположные тактики размещения столицы империи – поиски наиболее лояльной базы для строительства столицы в периоды нестабильности и размещение столицы в потенциально сепаратистских зонах, наименее лояльных по отношению к империи в периоды стабильности. В обоих случаях военно-стратегические соображения играли в этих процессах ведущую роль.
Другими принципиальными соображениями могли быть системы транспорта, фуража и источники пополнения воинской силы. В империях, которые расширялись и намеревались аннексировать новые территории, столицы, как правило, размещались на переднем фланге для того, чтобы более эффективно можно было мобилизовывать военные ресурсы страны, потребляемые на ее границах или за ее пределами. Столица служила таким империям своего рода верховной ставкой главнокомандующего.
Из Рима в Константинополь: причины
Учитывая огромное и уникальное влияние Рима как на формирование европейской урбанистической системы, так и на характер и логику европейского воображения, мы хотели бы уделить немного больше внимания анализу специфических нюансов римской столичности и причинам переноса столицы из Рима в Константинополь.
В Риме впервые в наиболее яркой форме осуществилась идея сосредоточенности или центрированности государства на одном городе, которая впоследствии определила некоторые специфические черты всей европейской истории. В противоположность мощнейшей империи Древнего Востока, Персии, столицы которой часто перемещались, характерной чертой Рима было устойчивое стационарное положение столичного города. Римские политики и поэты говорили о равновеликости города и мира (иногда играя такими словами, как urbis и orbis). При этом город Рим отождествлялся со всей империей, и в сознании многих именитых лиц империи и ее идеологов был равен всему государству. Именно поэтому падение Рима многие современники восприняли как гибель всего государства, хотя фактически Римская империя не исчезала с лица земли и лишь изменила свой центр. В исторической ретроспективе можно сказать, что Рим не смог разрешить противоречия между городом и гражданством и погиб, не выдержав этого противоречия и стратегического диссонанса.
Перенос столицы из Рима в Константинополь, осуществленный императором Константином, имел в виду, прежде всего, слабость Рима и военно-стратегические достоинства новой столицы, менее уязвимой для варваров и расположенной глубоко в тылу. Действительно у Константинополя были значительные и достаточно очевидные преимущества перед Римом как в плане обороноспособности и географического положения, так и в плане топологии, что подтвердилось впоследствии в ходе многих военных кампаний (Dagron, 1974).
Центр тяжести Римской империи в это время сместился в западное Средиземноморье, где концентрировались основные демографические и экономические ресурсы империи. В свое время Рим был чрезвычайно выгодно расположен на Апеннинском полуострове, что благоприятствовало ведению военных действий на суше. Но постепенно преимущества этого месторасположения стали менее очевидными, так как Рим превратился также и в морскую державу и стал вести морские войны с Карфагеном, постепенно завоевав все Средиземноморье. Контроль над Тибром, – в том месте, где он ближе всего подступает к морю, – обеспечивал Риму успех в его сухопутных кампаниях и в снабжении города продовольствием из Центральной Италии. Однако в новой ситуации это расположение стало менее удобным, так как город был слишком далеко расположен от моря для прохождения крупных военных кораблей или торговых судов. Размер кораблей увеличился в результате развития торговли и технологий, а Тибр обмелел, и его русло постепенно покрылось илом. Для транспортировки грузов в Рим их необходимо было сначала перегружать на более легкие лодки и баржи, что влекло за собой высокие дополнительные расходы. Искусственная бухта, специально построенная на Тибре, также не решила всех проблем.
Постепенно весь периметр Средиземноморья оказался под властью Рима, прямым или косвенным, настолько, насколько это было вообще возможно для власти римских легионеров, которые специализировались на сухопутной войне. Но теперь главные ресурсы страны были уже сосредоточены не на Апеннинском полуострове, а в Леванте (Египте, Сирии и западной Малой Азии), который стал главным индустриальным и коммерческим мотором империи. Однако эти три ключевых района государства были гораздо ближе к Константинополю, чем к Риму.
Сохранились сообщения о том, что уже Юлий Цезарь и Октавиан Август серьезно размышляли о новой столице для Римской империи на востоке, рассматривая в качестве кандидатур Трою и Александрию. Эти два города обеспечивали контроль над Эгейским морем и Дарданеллами, то есть ключевыми перевалочными пунктами из Европы в Азию. Ко временам Константина основной путь из Европы в Азию сместился к Босфору и Византий стал важным пунктом на пути из Эгейского моря к Черному. Дополнительным преимуществом Византия по сравнению с Александрией и Троей было то, что топография Византия, располагавшего большой естественной бухтой (Золотой Рог) и защищенного с двух сторон водой, была благоприятна для дислокации военного и торгового флота и давала фундаментальные военные преимущества для отражения нападений варваров (Dagron, 1974; Mango, 2005).
Следует также подчеркнуть, что вопреки представлениям некоторых сегодняшних комментаторов, экономические преимущества Византия несколько уменьшились к моменту основания новой столицы Рима императором Константином. Во времена господства греческих городов-государств Византий был важнейшим торговым пунктом, связывавшим континентальные греческие города с греческими колониями в Причерноморье, которые обеспечивали континентальных греков зерном. В свою очередь, Причерноморье было важным рынком для сбыта греческих промышленных и ремесленных товаров. По мнению историков, именно торговля с Причерноморьем обеспечила экономическую революцию в Греции, связанную с переходом от аграрной к индустриальной и коммерческой экономике. Но к моменту основания новой столицы Римской империи этот зерновой путь пришел в упадок и постепенно прекратил свое существование из-за вторжения готов на Украину. Снабжение самого Византия зерном уже шло из Египта и из тех мест, которые снабжали сам Рим на Тибре (Dagron, 1974).
Другие экономические преимущества основания новой столицы также были достаточно сомнительны. Римские историки и писатели говорят об обременении империи второй «паразитической столицей», которую надо было кормить «хлебом и зрелищами» в тот весьма неблагоприятный исторический период, когда расходы империи на содержание армии драматически возросли. Перенос столицы совпал по времени с глубоким экономическим кризисом в империи в IV веке н. э. Поэтому главным и единственным мотивом переноса столицы в Константинополь следует все-таки считать именно ее военные преимущества и новую стратегию развития государства.
Это не означает, однако, что у расположения новой столицы не было иных важных преимуществ. Во-первых, эта территория располагала определенным объемом внутренних ресурсов для обеспечения продовольствия. Кроме того, она естественным образом служила разнообразным нуждам коммуникации и выполняла связующие функции. Жан Готтман замечает в этой связи: «Столица представляет собой связующее звено между страной, которой она управляет, и внешним миром. Она также служит многоуровневой связкой (pluralistic hinge) между различными участками, сетями и группами интересов внутри своей страны. Константинополь связывал Европу и Азию, Средиземное и Черное моря, римлян и греков, сухопутное и морское могущество. Вероятно, по этой причине он оставался столь долгое время великой столицей при столь разных сменяющих друг друга режимах» (Gottman, 1990: 67).
Интересно подчеркнуть, что Рим утратил свое фактическое столичное положение уже задолго до переноса столицы в Константинополь. Еще при императоре Диоклетиане империя была разделена на четыре префектуры с центрами в Трире, Антиохии, Медиолане (Милане) и Никомедии. Эта была система власти, которая получила название тетрархии. Диоклетиан первым перенес свою столицу в Малую Азию – в Никомедию. Константин только продолжил бюрократическую реформу Диоклетиана и продлил вектор его движения на восток от Рима. Следует, впрочем, упомянуть, что выбор направления не был чем-то предопределенным. Ведь до основания Константинополя Константин перепробовал множество других городов, размещая резиденцию попеременно в Тревире, Медиолане (Милане), Сирмии и Сердике. Целый век столица государства была блуждающей – подобно ситуации, позднее сложившейся в Священной Римской империи (Mango, 2005).
После смерти Константина Великого его наследие распределяется между его сыновьями. Как раз в это время происходит подъем Трира, который становится резиденцией Константина Второго. Не случайно римляне называли этот город Roma Secunda и справедливо считали его своей столицей к северу от Альп. В этот период основанный Константином Великим в качестве столицы Константинополь временно утратил свой статус Второго Рима. Только при внуках Константина Великого Константинополь восстанавливает и закрепляет на века свое столичное положение.
Отчужденные столицы: деспотии Древнего Востока
К особой категории столиц относятся так называемые отчужденные столицы (disembedded capitals).
Этот термин впервые возникает в недрах науки археологии, и в частности в публикациях археологов, занимавшихся раскопками старинных городов Нового Света и в особенности Мезоамерики (Монте-Альбан). Первоначально этот термин применялся для обозначения особого типа административных столиц, расположенных на некотором расстоянии от крупных экономических центров и исключенных из непосредственной экономической продуктивной деятельности и процессов обмена. Последующие раскопки показали, однако, что Монте-Альбан был центром коммерции и производства и снабжал себя сам сельскохозяйственной продукцией и, таким образом, не мог соответствовать такому определению. Поэтому археологи признали этот термин неудачным и отказались от его использования для описания административных столиц древних мезоамериканских цивилизаций.
Известный археолог и специалист по древним ближневосточным цивилизациям Александр Иоффе реабилитировал этот термин и вдохнул в него новую жизнь, продемонстрировав более адекватную его применимость к древним и средневековым столицам Западной Азии (Египта, Ассирии, Вавилона, Аравии). Он, в частности, показал, как вновь возникшие отчужденные столицы Месопотамии и Египта, созданные с нуля, служили властными центрами для новых элит и являлись институциональной альтернативой для блуждающих или временных столиц (Joffe, 1998).
Задачей отчужденных столиц он считает, прежде всего, приобретение конкурентных преимуществ и победу во фракционной борьбе внутри государства и инкубацию новых элит, а также консолидацию государственной власти. В противоположность наиболее распространенным интеграционным стратегиям правители и императоры, которые основывали отчужденные столицы, напротив, опирались на стратегию дезинтеграции, отчуждения от существующих центров власти. Возникновение таких столиц Иоффе относит к периодам развитого государственного аппарата в фазе стабильности (Joffe, 1998: 543).
Американский археолог приводит три группы примеров, взятых соответственно из истории Египта, Месопотамии и Аравии, для того, чтобы проиллюстрировать свой тезис.
1. Примерами «отчужденных столиц» в Египте Иоффе считает, прежде всего, Мемфис и Амарну. Задачей правителей Египта была интеграция различных регионов Египта вдоль реки Нил, чему служили создание общих ритуалов и попытки адаптации местных божеств в общую систему культа. Элиты Верхнего Египта основали Мемфис на севере для получения лучшего доступа к торговым путям и ресурсам Нижнего Египта. К числу отчужденных столиц он также относит Амарну, которая была основана Эхнатоном между Мемфисом и Фивами. Возникновение этой столицы было связано с религиозной реформой фараона 18-й династии Эхнатона (1379–1362 Д° н. э.), который выдвинул в качестве верховного божества бога Солнца. В новом культе подчеркивалось божественное происхождение фараона. Для реформы государства было необходимо изолировать новую столицу от поколения старых жрецов.
2. К этой же категории столиц относятся столицы неоассирийских императоров конца второго – начала третьего тысячелетия до нашей эры. В 2300 году до н. э. ассирийский правитель Саргон перенес столицу в город Агаде. В числе первых великих ассирийских завоевателей был Тукульти-Нинурта I (годы правления – с 1244 по 1208 год до н. э.), который разрушил и разорил Вавилон. Опасаясь консервативной части своих подданных, считавших разрушение Вавилона святотатством (ассирийцы чтили вавилонских богов), Тукульти решил перенести столицу и культовую статую бога Мардука во вновь основанный им город Кар-Тукульти-Нинурта в нескольких километрах от древнего города Ашшура. Через короткое время в результате заговора оскорбленных подданных ассирийский правитель был заточен в своем дворце, а потом убит. В IX веке до н. э. другой ассирийский правитель Ашшурнасирапал II (883–859 до н. э.) перенес столицу на 65 километров на север страны в небольшой и прежде неизвестный город Калху. В VIII веке Саргон II перенес столицу из Калху (Нимрод) еще на 20 километров на северо-восток в город Дур-Шаррукин («Крепость Саргона»); позже он был убит во время одной из военных кампаний. Его сын Синаххериб перенес столицу в древний город Ниневию, которая находилась как раз между Калху и Дур-Шаррукином. Можно сказать, что одной из важных функций переносов столицы в Ассирии была попытка изолировать правителей государства от существующих властных элит и создать новые формы лояльности и вознаграждения.
3. Следующая группа исторических примеров отчужденных столиц связана с Арабским халифатом и включает в себя Багдад, Ракку и Самарру. Халиф аль-Мансур основывает Багдад в 762 году для расширения базы своей поддержки: в противоположность Омейядам Аббасиды стараются создать универсальную империю и интегрировать в нее прежде всего персов. Харун ар-Рашид переносит столицу в город Ракка в Сирии для предотвращения племенных войн. В 835 году его сын аль-Мутасим основывает Самарру. Лишенный поддержки в Багдаде, он опирается на армию из турецких рабов и религиозную идеологию мутазилизма. Новая «отчужденная» столица должна была стать цитаделью новой религиозной идеологии и дистанцироваться от коммерческого и космополитичного Багдада.
Другие примеры, которые приводит Иоффе, – это Иерусалим и Самария в Израиле (Joffe, 1998: 566). Более подробное обсуждение некоторых из этих примеров можно найти в книге о царских столицах Ближнего Востока (Westenholz, 1996).
Многие из перечисленных переносов столиц были организованы как типичные для восточных деспотических государств («гидравлических обществ» в терминологии немецкого историка Карла Витфогеля) проекты общественных работ, к которым привлекалось множество инославных и иноязычных рабов.
По словам Иоффе, общей чертой древневосточных отчужденных столиц была их недолговечность. Все они или быстро приходили в упадок или постепенно реинтегрировались в социально-политическую систему, то есть вновь включались (reembedded) в систему экономических и социальных связей. Однако из самих примеров Иоффе следует, что сценарий реинтеграции был достаточно редким явлением. Вновь включаясь в систему, города, построенные как дезинтегрированные столицы для инкубации новых элит или религиозных идеологий, переставали быть отчужденными столицами. Такова была, например, судьба Мемфиса и Багдада, которые впоследствии в течение многих веков служили столицами египтянам и арабам. Иоффе пишет:
Поскольку легитимность и эффективность столиц была тесно увязана с конкретным правителем или династией, преемникам часто приходилось порывать с ними и создавать новые столицы. При таком типе урбанизма, отчужденные столицы часто были очень недолговечны и нестабильны, не говоря уже о высокой стоимости их строительства и поддержания в порядке… Только развитые урбанистические общества могли нести такие большие расходы, но это требовало более серьезных налогов и новой экспансии, что подрывало другие процессы в обществе. В большинстве случаев отчужденные столицы служили решению проблемы в краткосрочной перспективе и становились тяжким бременем в перспективе долгосрочной (Joffe, 1998: 573).
Можно предложить и альтернативное объяснение этих неудач. Причиной фиаско большинства этих переносов столиц, на взгляд автора, была несоразмерность масштабов тех задач, которые ставили перед собой правители, задач, прежде всего, тактических, с масштабом орудия или инструмента, которое было выбрано средством их осуществления. Тактические уловки и маневры, таким образом, реализовывались с помощью стратегического и весьма дорогостоящего орудия. Успешная интеграция отчужденных столиц разрушала саму цель, которой они должны были служить, и была результатом расширения базы поддержки существующего политического режима, что можно наблюдать на примерах как Мемфиса, так и, позднее, Багдада.
В конце своей статьи Иоффе также проводит некоторые исторические аналогии между отчужденными столицами древности и современными «отчужденными столицами», несколько расширяя саму концепцию и модернизируя ее.
Через призму идеи отчужденной столицы рассматриваются опыты создания таких современных столиц, как Вашингтон, Оттава, Канберра, Анкара и Бразилиа, городов в какой-то мере изъятых из экономической жизни, потоков и суеты гражданского общества. «Разница между ними состоит в том, – замечает Иоффе, – что если в древних обществах целью установления такой системы было достижение конкурентных преимуществ, то сегодня это, напротив, установление баланса сил, а не доминирование одной из фракций» (Joffe, 1998: 574).
Таким образом, Иоффе находит параллели отчужденным столицам в современных сменах столичных городов, на мой взгляд, излишне модернизируя это понятие. Но его трактовка этой концепции кажется слишком расширительной даже в рамках древнего мира: как мы уже отметили, Мемфис и Багдад, города, которые просуществовали в качестве столиц в течение многих столетий, не кажутся слишком схожими с большинством кратковременных столиц, которые обсуждает американский археолог.
Отчужденные столицы были характерны не только для государств Западной Азии. Они были распространены далеко за пределами того культурного круга, который обсуждает Иоффе. Мы часто встречаем их в персидской и парфянской истории: их примером является парфянский город Вологезакерт. Более близким нам российским примером отчужденной столицы может служить Александрова слобода, опричная столица Ивана Грозного.
Для нашего изложения концепция отчужденных столиц не только исторически интересна, но и крайне важна. На взгляд автора, этот феномен был присущ не столько универсальным империям, сколько восточным деспотическим государствам (вывод, который сам Иоффе не делает). Среди прочего целью деспотических государств была изоляция элит, поиски новой религиозной легитимации для своего господства и создание атмосферы секретности вокруг политической власти. С точки зрения автора, главное различие между деспотическим государством и империей – не вдаваясь здесь специально в подробности этого противопоставления– состоит в степени артикулированности универсальных горизонтов и в возможностях осуществления свободы, хотя это различие не всегда можно строго провести. Это не всегда является различием нового качества и чаще может описываться как различие в степени акцентуации этих признаков (difference of a degree and not a difference of a kind).
В такой интерпретации стратегии создания отчужденных столиц являются частным случаем имперских стратегий построения государства и с ними пересекаются, во всяком случае если судить по примерам, приводимым Иоффе. Но в отличие от универсальных империй, которые мы уже обсудили, цели таких переносов в большей степени связаны с фракционными интересами правящих элит и легитимацией их политического господства, нередко с помощью нового сакрального авторитета или религиозного реформаторства.
Мировая практика переносов столиц Поколения столиц на руинах империй
Прологом подъема большинства национальных государств и их столиц послужило крушение мировой системы имперского господства. По мере постепенного распада Испанской, Британской, Французской, Габсбургской, Голландской, Османской и Российской империй освобождались новые народы и, подражая более старым европейским нациям, – прежде всего Англии, Франции и Испании, – строили свои национальные государства и свои столицы. Одним из важнейших векторов символической трансформации, которую претерпели облик и иконография вновь образовавшихся столиц новых государств, было освобождение от иностранных завоевателей.
В этой связи немного условно можно говорить о нескольких поколениях мировых столиц, которые объединяют друг с другом общие национальные особенности и динамика, технологии градостроительства, общие архитектурные влияния и политические акценты.
Европейскими столицами первого поколения были, соответственно, Лондон, Париж, Мадрид и Вена.
Столицы второго поколения были тесно связаны с этапами освобождения от иностранного империалистического господства. Первой из таких новых столиц стал Вашингтон в США. Затем появляются континентальные европейские столицы второго поколения. К ним принадлежат, например, Брюссель, Афины, Рим, Будапешт, Хельсинки и Тирана. К этим же столицам тесно примыкает Берлин, подъем которого в качестве политического центра определялся не освобождением от иностранного владычества, а национальной консолидацией немецких княжеств.
Современницами этих европейских политических центров второго поколения стали столицы Латинской Америки, которые возникают примерно в это же время в связи с падением испанского господства на континенте.
К следующим поколениям столиц принадлежат государства Балкан и Восточной Европы, многие из которых получили независимость в результате крушения Австро-Венгрии, Османской и Российской империй в ходе Первой мировой войны.
К столицам четвертого поколения принадлежат спланированные столицы — Анкара, Оттава, Канберра, Исламабад и Бразилиа. Возникновение некоторых из них может трактоваться как непосредственный или отсроченный результат крушения империй (португальской и британской).
Наконец, к последнему, пятому, поколению столиц относятся столичные города Азии, Африки и некоторых постсоветских государств.
Синхронность возникновения во многом определила характерные особенности этих городов – размер, градостроительный план и другие характеристики. В Восточной Европе и Латинской Америке процессы национализма и урбанизма были более тесно интегрированы с процессами в Западной Европе. С этим связана неоднородность опыта и градостроительных моделей в развивающихся странах. В Латинской Америке освобождение от колониальной зависимости происходит в ходе войны 1810–1826 годов. В Азии – с 1945 по 1954 год. В Африке с 1960 по 1975 год.
Различный возраст независимости и обстоятельства освобождения этих государств оставили свой особый отпечаток на их национальных столицах. Их неоднородное колониальное прошлое, функции в колониальной системе и география их колониальных столиц во многом определили их различные пути выбора политических центров для своего национального государства: их смены или их сохранение на прежнем месте с элементами глубокой трансформации их роли и символов.
Ниже мы попытаемся дать максимально краткую характеристику тех процессов и ситуаций, которые ставили и вновь ставят на повестку дня различных государств проблему выбора новой столицы. В данном обзоре автор будет опираться на множество газетных, журнальных и интернет-публикаций, многие из которых носят, скорее, информационный, чем аналитический характер. В то же время в нашем обсуждении будут также использоваться аналитические научные статьи, посвященные конкретным переносам столиц. Эти политическая и историческая фактография и аналитика позволят нам позже сделать некоторые обобщения, устанавливая правила и закономерности, характерные для перемещений столиц в различных транснациональных регионах. Изложение материала подчинено здесь главным образом целям выделения критически важных и вспомогательных (auxiliary) резонов и мотивов, которые лежат и лежали в основе решений или дебатов по этому вопросу.
В некоторых своих частях данный обзор будет носить несколько более реферативный характер, чем хотелось бы автору. Это делается в основном для удобства читателя, который сможет сопоставить сведенные здесь вместе факты, оценки, цитаты и мнения, с тезисами и заключениями книги. Колониальные и постколониальные столицы
В государствах Азии, Африки и Латинской Америки наметились сходные тенденции в развитии урбанистических сетей, связанные с особенностями их колониального прошлого. За некоторым исключением в большинстве этих государств столицы возникли в портовых городах, бывших факториях и колониальных портах, ориентированных, прежде всего, на вывоз товаров и сырья в метрополии (Murphey, 1957: 218–219). Главным фактором, который определил выбор именно этих городов метрополиями, были соображения максимального и наиболее эффективного доступа к сырьевым ресурсам этих государств, соображения логистики и транспортной системы. Таким образом, расположение этих столиц, как правило, диктовалось коммерческими, а не политическими или административными соображениями (как мы сможем убедиться ниже, в сравнении с государствами Африки и Азии это касалось государств Латинской Америки в несколько меньшей степени).
До появления колонизаторов большинство этих будущих столичных городов были небольшими городками или рыбацкими поселениями и обычно не играли существенной роли в национальной истории этих государств. Постепенно, благодаря своему удобному морскому положению, они превратились в торговые фактории, из которых впоследствии выросли самые крупные города этих стран, часто города чрезвычайно космополитические, которые связали аграрные глубинки и окраины с мировыми торговыми и промышленными центрами. В Азии такими центрами стали Калькутта, Карачи, Куала-Лумпур, Сайгон, Сингапур, Манила, Батавия[27]. В Африке крупнейшими из портовых городов были Лагос, Касабланка, Дакар, Дар-эс-Салам, Могадишо и Момбаса. В Латинской Америке эту роль играли Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро, Лима, Сальвадор и Сантьяго (Murphey, 1957: 218).
С освобождением от колониального господства во вновь освободившихся странах наметились также некоторые общие тенденции, связанные с переносом или формированием новых столиц в русле строительства нации и государства. Ключевым фактором возникновения новых столиц во всех трех из этих транснациональных групп государств было освобождение от колониального прошлого, колониальных символов и интенсивное национальное возрождение. Новые столицы при этом выступали важным рычагом национального и государственного строительства, которое было в значительной мере направлено на освобождение от имперского гнета и – в более широком смысле – от колониального наследия в целом, политического, экономического и символического. Строительство новой столицы вписывалось в общие планы воссоздания национальной культуры, этоса и литературы, процессы, которые описал в свое время Бенедикт Андерсон (Anderson, 1991).
Помимо собственно национальных мотивов, здесь играли роль и другие факторы. К моменту завоевания независимости – в эпоху железных дорог, автомагистралей и воздушного транспорта – многие из старых столичных городов, расположенных в портовых городах (entrepot), утратили свои логистические и коммуникационные преимущества. Помимо этого, в колониальных городах обнаружились существенные и очевидные недостатки, связанные с типичным для них нахождением на морских окраинах этих стран. Нужды более эффективного администрирования диктовали необходимость переноса столиц в более центрально расположенные регионы и города, у которых, напротив, могли бы быть существенные коммуникационные преимущества для администрирования (Murphey, 1957: 219–221).
Другим очевидным и опасным минусом этих городов был их бесконтрольный рост, который превращал их в оазисы нищеты и скученности из-за неразвитости городских сетей и общей низкой плотности городов, характерной для большинства вновь освободившихся стран. Кроме того, тени колониального прошлого ложились на старые столицы, оторванные от автохтонных политических и религиозных центров, устройство и уклад которых на протяжении длительных отрезков истории определялись господством иностранных завоевателей или задачами колонизации. В некоторых из этих столиц титульная нация или составляла меньшинство населения, или едва превосходила в численности другие этнические группы.
Градообразующие народы – китайцы в Юго-Восточной Азии (прежде всего, в Малайзии, Индонезии, Таиланде и на Филиппинах)[28], индусы и арабы в Восточной Африке, армяне в Закавказье, Турции и некоторых других регионах Азии, евреи – в Центральной и Восточной Европе, поляки в Украине и Литве – часто составляли большинство населения в самых крупных городах этих часто зависимых или полузависимых государств. Эти градообразующие народы нередко осуществляли контакты между колонизаторами и местным, преимущественно сельским, населением и воспринимались как народы-посредники.
Последующий опыт национального строительства и смены столиц в период после мировых войн и формального крушения мировой системы империализма как раз и был связан по преимуществу с постколониальными странами, в то время как в метрополиях столицы оставались гораздо более стабильными и статичными.
В государствах Восточной и Южной Европы происходили сходные процессы деколонизации и деимпериализации, которые, однако, обычно не сопровождались сменой политических столиц. Эти государства были колониями и полуколониями континентальных европейских империй или государств с сильными имперскими притязаниями – Османской и Российской империи, Австро-Венгрии, Пруссии (или Германской империи) или Швеции – и возникли на осколках и руинах этих континентальных империй. Три первые империи, пара двуглавых орлов и полумесяц, претендовали на наследие Византии, а Москва и Вена даже на статус Третьего Рима. По этой причине Россия и Австро-Венгрия украсили символ своей государственности византийским двуглавым орлом[29].
Тем не менее в некоторых отношениях ситуация в Восточной Европе была в чем-то сходна с ситуацией постколониальных народов Азии, Африки и Латинской Америки. К полуколониям, безусловно, относилась, например, Прибалтика, колонизация которой Пруссией была начата еще Тевтонским орденом и ливонскими рыцарями. В некоторых других отношениях ситуация стран Восточной Европы была близка и латиноамериканским странам: Восточная Европа была своего рода Южной Америкой по отношению к странам Западной Европы. Другим элементом, сближающим Восточную Европу с колониальными странами Азии и Африки, является не гражданский, а по преимуществу этнический характер развития местного национализма.
Эндогенное население восточноевропейских стран было в основном сельским, и в большинстве крупных городов демографически (и часто экономически) доминировали инородцы – евреи, немцы, поляки, русские, греки или мусульмане. Так, например, в Софии было больше евреев и мусульман, чем болгар. Бухарест по составу населения был в значительной степени греческим городом. Восточноевропейские города (от прибалтийских Таллина до Риги) и города Центральной Европы (от Будвы до Праги) были по преимуществу немецкими или немецкоязычными. В Варшаве четверть населения было еврейским, и город управлялся из Российской империи. Разговорным языком в Хельсинки был шведский. На рубеже XIX и XX веков более половины населения Минска (52 %) составляли евреи (перепись 1897 года). В 1897 году литовское население в Вильнюсе не превосходило двух процентов общего количества горожан, в то время как евреи составляли половину городских жителей. В Киеве было в два с половиной раза больше русских, чем украинцев (Therborn, 2006: 231). В Кишиневе в 1897 году доля молдаван не превышала 18 %, русское же население составляло 29 %, а еврейское – 47 % (Википедия).
В плане этнического состава населения сходная ситуация сложилась в столицах некоторых закавказских и среднеазиатских республик, впоследствии вошедших в состав СССР, – Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана. В 1897 году Тифлис был главным образом армянским городом, а грузинское население столицы Грузии составляло всего лишь 26 % от общего состава населения. В 1913 году доля тюркских мусульман в населении Баку не превосходила 21 % (Герасимов, 2004: 322). Похожая ситуация наблюдалась в государствах Средней Азии. В столице Узбекистана Самарканде основное население составляли таджики, что, возможно, послужило одним из мотивов переноса столицы в Ташкент в 1930 году. Столица Туркменистана Ашхабад была русско-персидским городом практически без туркменского населения, но со значительными вкраплениями этнических армян и азербайджанцев, что, вероятно, стимулировало дискуссии о возможном переносе столицы в Чарджоу в 1920-е годы (хотя доля его туркменского населения была тоже не слишком значительной). Даже в 1959 году доля таджикского населения в Душанбе, столице Таджикистана, не превышала 20 %.
Эта этнодемографическая ситуация сближает страны Восточной Европы со многими колониальными странами Африки и Юго-Восточной Азии, где основное население городов было этнически отличным от титульной нации или большинства населения страны. В Восточной Африке роль глобальных посредников играли индусы и арабы, а в странах Юго-Восточной Азии – этнические китайцы. Возможно, этот фактор внес какой-то вклад в развитие национализма по этнической траектории во многих постсоциалистических странах Восточной Европы и постсоветских республик Кавказа и Средней Азии, как это происходило и в других колонизированных странах (для стран Западной Европы и Северной Америки был более характерен гражданский путь развития национализма).
В Восточной Европе был, пожалуй, только единственный прецедент, с большими оговорками сопоставимый с матрицей многочисленных переносов столиц в бывших заморских колониях европейских стран, последовавших за освобождением от иностранного господства. Это переезд столицы в Хельсинки из Турку после освобождения Финляндии от шведского господства и присоединения герцогства Финляндского к Российской империи (Kolbe, 2006). Хельсинки стал заново спланированным городом, а в роли национальных финских героев в новой столице выступили русские цари-освободители и генералы армии, которым здесь воздвигли памятники и именами которых до сих пор названы центральные площади и проспекты новой столицы Финляндии. Некоторое отдаленное родство можно усмотреть и в Албании, где краткосрочная столица страны в Дурресе, древнем порте на побережье Адриатического моря, была перенесена в Тирану в 1920 году.
В Восточной Европе был и еще один намеченный, но нереализованный сценарий переноса столицы, который – если бы он осуществился – соотносился бы с общей постколониальной тенденцией.
К моменту национального освобождения Литва оказалась в сложной ситуации. На два самых крупных города в стране, Вильнюс и Клайпеду, заявляли претензии Польша и Германия. Большинство населения в Вильнюсе составляли евреи, в Клайпеде – немцы. Польско-литовская уния давала Польше определенные основания считать Вильнюс, который был колыбелью литовской государственности, частью своей территории. В Лиге Наций диспут разрешился в пользу поляков. Здесь свою роль сыграло несколько факторов: литовская знать Вильнюса была полностью полонизирована и многие наиболее влиятельные политики в новом польском правительстве составляли полонизированные литовцы, выходцы из виленского края. Кроме того, Польша имела более высокий вес в международных организациях, и сторону Польши взяла Франция. В результате Вильнюс был признан территорией Польши, а временной столицей Литвы, с 1922 по 1944 год, стал город Каунас (Ковно), где поляки, впрочем, также составляли большинство населения.
Клайпеда (Мемель) была не только единственным портом, но и вторым по величине городом Литвы. После поражения Германии в Первой мировой войне Мемель (Мемельбург), основанный тевтонскими рыцарями в качестве немецкой крепости, по Версальскому договору со всем Мемельским краем перешли от Германии к Литве. Сначала город с прилегающей территорией был оккупирован французами, но в 1923 году он был занят литовской армией и присоединен к Литве в качестве автономии на том основании, что прилегающие к Мемелю сельские земли были заселены главным образом литовцами. Однако подавляющее большинство населения собственно города оставалось немецким (Manning, 1952: 157—1.50).
Примечательно, что в 1930-е годы в Литве обсуждалась перспектива переноса столицы в Клайпеду. С этой идеей выступил, в частности, известный литовский геополитик Казне Пакштас (Kazys Pakstas) (1893–1960), впоследствии американский профессор географии, автор геополитической концепции Балтоскандии или Балтоскандинавской конфедерации, с которой концепция новой столицы была тесно связана. Он говорил о необходимости выхода нации к морю, обращал внимание на то, что Литва является единственной балтийской республикой, чья столица не находится в портовом городе, полагая, что выход к морю, в том числе и столицей, являлся принципиальным для принадлежности к балтоскандской культурно-политической лиге. Выход к морю, с его точки зрения, должен был дать новые импульсы развитию духовного и интеллектуального потенциала литовской нации. В это время клайпедский порт приобретал все большее значение и в него делалось множество финансовых инвестиций. Подоплекой этих предложений, однако, служило в том числе и желание закрепить за Литвой Клайпеду, изменить демографический баланс сил и создать в этом стратегически важном порту численный перевес титульной нации. В 1939 году Клайпеда в результате ультиматума Германии была без боя возвращена Германии, что положило конец подобным планам (Нырко, 2003).
Почему переносы столиц не были избраны странами Восточной Европы в качестве способа решения проблемы деколонизации и деимпериализации?
Важное отличие Восточной Европы от других колониальных стран состояло в более высокой развитости урбанистической системы, более зрелых формах национализма, более тесной пространственной, этнической и религиозной интегрированности в Европу и в общеевропейские процессы, относительной редкости субнациональных конфликтов, участии народов Восточной Европы в общеевропейских национальных движениях XIX века, религиозной и этнической близости с ними, а также отсутствии необыкновенно разросшихся мегаполисов, сопоставимых с мегаполисами стран третьего мира.
Кроме того, важным фактором в таком развитии событий было то, что в этих государствах за редким исключением не сложилось портовых колониальных столиц (даже Рига и Таллин с большим трудом поддаются описанию в этих терминах). Главные города этих государств были важными торговыми центрами или были вписаны в систему общеевропейских феодальных отношений. Следует добавить, что нацистская политика в значительной степени преуспела в этнической «чистке» Европы, которая коснулась в наибольшей степени именно столиц восточноевропейских государств. Уничтожение еврейского населения в Варшаве, Будапеште, Праге, Киеве, Минске и Вильнюсе, а также изгнание немцев из Праги, Мемеля и других городов сделали эти столицы и города гораздо более этнически гомогенными. Это стало очевидным в период приобретения или возрождения ими своей государственности. Вероятно, в результате всех этих причин поиски национальной идентичности не вылились здесь в поиски альтернативных, более национальных, урбанистических центров.
В качестве мер по освобождению от колониального господства в Восточной Европе были избраны символические масштабные реконструкции столиц в соответствии с новыми видениями национальной идентичности (Therborn, 2006).
В обзоре 17 столиц Восточной Европы шведский социальный теоретик Горан Терборн обращает внимание на последовательную смену архитектуры и символизма этих столичных городов и их постепенную архитектурно-символическую национализацию (Terborn, 2006). Как и в других европейских странах, центральными элементами противостояния и национального строительства в этих странах стали королевские династии и аристократия, а не европейская культура в целом и конфигурация системы экономического обмена, как это было в некоторых других колониальных контекстах. Согласно Терборну, архитектурный облик этих столиц претерпел три последовательных периода трансформации – национальный подъем, связанный с освобождением от имперской зависимости, коммунистическую трансформацию (коммунизацию) и впоследствии декоммунизацию после падения Берлинской стены. В восточноевропейских странах менялись не месторасположения столицы, а архитектурные стили, герои, названия улиц, памятники и сама историческая память столичных городов (Therborn, 2006: 223–224).
Постколониальное строительство наций в Африке
Из всех постколониальных континентов Африка оказалась наиболее склонна к смене столиц. Из африканских стран перенос произошел в Малави, Нигерии, Береге Слоновой Кости, Ботсване, Танзании, Гвинее-Бисау, Руанде и Ливии. Это восемь из пятидесяти четырех африканских государств или около 15 % всех этих стран. В конце XIX века также произошли переносы нескольких африканских столиц (в Того, в Намибии и в Гане), но они были связаны исключительно с удобствами колониальной администрации, германской и британской. Кроме того в настоящее время серьезные дискуссии о переносе столицы на самом высоком политическом уровне ведутся в Либерии, Зимбабве, Кении, Сомали, Южном Судане, Гане, Уганде, Экваториальной Гвинее и некоторых других африканских странах. Попытки освобождения от груза колониального прошлого обнаруживаются и в распространенности переименований столиц и целых стран на африканском континенте. Тремя из многих, но ярких примеров такого рода являются переименования столицы Конго (Леопольдвиля), первоначально названного так в честь печально известного своей жестокостью короля Бельгии, в Киншасу, переименование Солсбери, столицы Зимбабве, в Хараре, а также недавнее переименование Претории, столицы ЮАР, в Цване.
Следует отметить, что страны Магриба, исторически более коммерчески развитые и политически интегрированные в европейские и ближневосточные зоны, значительно отличались от стран черной Африки (sub-Saharan Africa) по структуре своих урбанистических сетей и были гораздо ближе в этом отношении к ближневосточным городским сетям. Здесь сложилась более полицентрическая урбанистическая структура: в этих государствах сформировалось несколько различных центров власти, которые располагались не только в прибрежно-приморской полосе, но и в центрах этих стран. В отличие от стран черной Африки месторасположение столиц здесь было гораздо более стабильным и преемственным с эпохой колониального господства. Например, Рабат, куда французская администрация перенесла столицу из Феса в 1912 году, остался столицей Марокко после освобождения от колониальной зависимости. Одной из причин сохранения столицы в Рабате могла быть уже существующая диверсификация городов и наличие четырех старых столичных городов (Рабат, Марракеш, Фес, Мекнес). Эти города служили политическими центрами в различные исторические периоды и до сих пор сохраняют некоторые столичные функции.
Из числа типичных африканских урбанистических иерархий выпадает и полицентричная и многостоличная Южная Африка, политические и урбанистические традиции которой смыкаются с традициями англосаксонских стран.
Исследователь проблемы африканских столиц Хамдан назвал черную Африку континентом эксцентричных столиц (Hamdan, 1964: 245). В большинстве случаев здесь происходит перемещение столиц из портовых городов в более центрально расположенные географические точки. Хамдан также называет «африканские столицы наиболее очевидным отпечатком пальцев Европы на теле африканской жизни» (Hamdan: 239), имея в виду не только расположение, ориентированное на внешние рынки, но и сам характер этих поселений и их структуру.
Малави, Берег Слоновой Кости, Гвинея-Бисау и Зимбабве
Наиболее общей чертой перемен в урбанистическом устройстве в этих государствах было продвижение новых столиц вглубь страны, а также стратегии патронажа, связанные с решением проблем межплеменного взаимодействия. Хотя большинство африканских президентов апеллировали к темам сбалансированного экономического развития страны и создания стимулов для национальной экономики, в реальности речь часто шла о создании новых очагов лояльности и патерналистского укрепления существующих политических режимов.
Так, в 1975 году президент Малави Хастингс Банда (1963–1994) перенес столицу в регион, близкий к месту своего рождения, где доминировала этническая группа чава, к которой он принадлежал (Potts, 1985).
Президент Берега Слоновой Кости Хафет Багни (или Уфуэ-Буаньи, как иногда транскрибируется его имя), который правил страной с 1960 по 1993 год, также перенес столицу из Абиджана в Ямусукро, в глубину страны и место своего рождения. Этот перенос был приурочен к пятому переизбранию этого президента, которое он отметил самим актом переноса. В Ямусукро был построен самый большой христианский собор в мире. До этого столица Берега Слоновой Кости переносилась еще три раза.
В Гвинее-Бисау столица была перенесена из островной Баламы в Бисау, опять же ближе к центру страны, в 1974 году (Тархов, 2008).
В ноябре 2012 года диктатор и черный расист Роберт Мугабе выступил с планом переноса столицы Зимбабве из Хараре в небольшое поселение Хампден (Mount Hamptden), в район Звимба, место его рождения. Хараре на протяжении многих лет занимал первое или одно из первых мест среди наименее пригодных для жизни столиц мира, и предложение было представлено как попытка разгрузить город. Некоторые члены правительства выступили резко против этих планов, указывая на разрушающуюся инфраструктуру других городов страны, скудный бюджет и на мотивации такого переноса, связанные с привилегиями для малочисленной богатой элиты страны. Ранее в Зимбабве было уже одобрено предложение о строительстве парламента в Хампдене.
Прямо противоположной была логика движения политического центра в Ботсване, где столица была перенесена в 1969 году из Мафикенга, традиционной базы одного из наиболее влиятельных племен страны (баролонг), в Габороне, который традиционно служил местом встречи и совещаний племенных вождей. Тем не менее и здесь цель переноса состояла в укреплении государственной власти за счет компромисса с наименее лояльными группами населения, которые составляли шесть из основных восьми племенных групп страны и которые до переноса столицы были источником опасности для центральной власти. Компромисс состоял как раз в приближении власти к центру их зоны влияния (Best, 1970; Hamdan, 1964; Clarke, 1971).
В Нигерии, освободившейся от колониального контроля Великобритании, столица переместилась из Лагоса, самого крупного города страны, в Абуджу. Вдохновителем этой идеи был генерал Муртала Мухаммед (1938—1.976), который пришел к власти в результате государственного переворота и вскоре был ранен повстанцами. Президент Шеху Шагар и продолжил его дело и перевел ряд министерств в Абуджу, но более решительные и решающие шаги в этом направлении были предприняты генералом Бабангидой в 1985 году.
Характеризуя степень катастрофичности ситуации со старой нигерийской столицей, африканский географ Мобогунжи метафорически назвал ее «районом бедствия, принявшим форму города». По всеобщему признанию, Лагос после приобретения страной независимости превратился в город с чрезвычайно низкими стандартами качества жизни и с трудом поддающийся управлению. Начиная с 1960-х годов нигерийская столица росла на 11–15 % в год, что создавало невероятные проблемы с транспортом и жильем и, конечно, никак не предполагавшуюся генеральными планами города нагрузку на его урбанистическую инфраструктуру (Falulu, 2003).
Но более фундаментальной политической задачей перемещения столицы здесь было объявлено укрепление центральной власти и усиление центральности столицы.
Во-первых, перенос позволил сместить столичный город ближе к геометрическому центру страны, между историческими Севером и Югом. Этот центр, казалось, создавал лучшие условия для администрирования территорий и замирения тех племен, которые в течение многих лет были непричастны к управлению или находились слишком далеко от политического и коммерческого центра государства. Важно отметить, что в Лагосе традиционно доминировали африканцы племени йоруба, что вызывало законное недовольство других этнических групп. Этнические и географические конфликты имели и религиозный аспект – противостояние по преимуществу мусульманского Севера христианскому Югу, где исторически находился центр политической власти. Смена столицы сулила, таким образом, преодоление или ослабление религиозных и этнических трений.
Одним из факторов, которые определили направление переезда, послужила также близость новой столицы к центрам одной из древнейших культур на африканском континенте, культуре Нок. Перенос, таким образом, как бы возвращал нигерийскую культуру к ее древним корням и истокам.
Именно фактическая центральность и провозглашенная нейтральность Абуджи и принципиальные преимущества этих параметров в размещении столицы для формирующейся нации подчеркивались в официальных правительственных заявлениях. «Новый город должен был стать поистине нейтральным центром, в котором северные, восточные и западные этнические группы могли бы сосуществовать в гармонии, свободными от исторического наследия господства доминирующих групп над существующими городскими центрами» (Moore, 1984: 174–175). Территория, отведенная на строительство нового города, составляла 8000 км2, в два раза больше, чем Лагос.
Реальность, однако, оказалась такова, что в результате переезда северные племена страны получили значительные преимущества и привилегии, во всяком случае с точки зрения южных христианских племен. Происходила также заметная исламизация Абуджи, которая выражалась, например, в архитектурном стиле многих публичных зданий и в здании Национальной ассамблеи, напоминающей своим куполом мечеть, что никак не устраивало христианский Юг. В полемике с Югом господствующие северные элиты пытались представить элементы исламского символизма в Абудже в качестве общевосточных или ориентальных декоративных элементов. «Ничейная земля», как описывали Абуджу в период агитации за новую столицу, на поверку оказалась не ничейной, а логическим дополнением северной сферы влияния. В сообщениях газет 19 северных штатов часто объединялись с Абуджей (Adebanwi, 2011: 96–97). К 2009 году мусульмане стали большинством в стране в силу более высокого темпа демографического воспроизводства, а центр в Абудже усилил их позиции.
Необходимо также подчеркнуть, что реальным толчком для реализации уже давно начатого процесса переноса столицы послужила попытка государственного переворота в 1990 году, в центре которого стояли южане и представители среднего пояса страны (территории, населенной этническими меньшинствами и отделяющей христианский Юг от мусульманского Севера). После этого генерал и президент страны Ибрагим Бабангида, северянин и мусульманин, в форсированном порядке стал переносить столичные функции в Абуджу и значительно увеличил финансирование этого проекта. В правление его предшественника Мохаммаду Бухари строительство шло медленным темпом и фактически правительство продолжало оставаться в Лагосе. Бабангида построил себе неприступную президентскую виллу, укрепленную подобно крепости и снабженную бомбоубежищами и подземными тоннелями на случай гражданской войны или последующих попыток военного переворота (Adebanwi, 2011: 97–99). В 1993 году он отменил результаты выборов и стал военным диктатором Нигерии, но вскоре после этого был смещен со своего поста в результате национальной забастовки и массовых протестов.
Кроме того, смена столицы в Нигерии превратилась в чрезвычайно коррумпированный проект. Огромная часть фондов выделенных на перенос – их источником были главным образом экспортные доходы от продажи нефти – была цинично расхищена чиновниками, девелоперами и субподрядчиками, близкими к властным структурам. «Контракты на строительство зданий были розданы знакомым и политическим союзникам, которые давали откаты политическим деятелям, распределявшим эти контракты, – пишет Мэтью Хитон, соавтор книги по истории современной Нигерии. – Термин контракты Абуджи стал синонимом коррупции и превратился в нарицательное имя» (Nwafor, 1980: 320). По оценкам экономистов, коррупционная наценка Абуджи, которая вычисляется на основе сравнения ценообразования в Нигерии с другими странами черной Африки и которую с легкостью просчитывают западные экономисты, составляла 25 % (Moser; Rogers; Van Til, 1997: 37).
Сегодня Абуджа превратилась в малопривлекательный столичный город, куда немногие хотят добровольно переезжать, а Лагос по-прежнему остается чрезвычайно перенаселенным мегаполисом. Цели достижения этнической гармонии и преодоления племенных конфликтов, провозглашенные в качестве главных задач перемещения столицы, оказались, по оценке современных экспертов, эфемерными, а возможно, даже обострили существовавшую этническую и религиозную напряженность (Adebanwi, 2011: 99-100). Важнейшей проблемой, которая сорвала реализацию по идее верных и важных планов, эксперты признают то, что северные элиты возглавили этот проект (Мухаммед, Шагари и Бабангида были мусульманами), взяли под свой преобладающий контроль территорию Абуджи, а южные племена восприняли его как попытку северян вытеснить их из системы государственной власти в стране. Этот проект никогда не был популярен у христианской части населения, что окончательно подорвало сам социальный фундамент и благородные идеи этнической и религиозной гармонии, которые как будто лежали в его основе. Таким образом, интегративные идеи обернулись отчуждением и дальнейшей дезинтеграцией.
В 1973 году в Танзании родился план переноса столицы в Додому, мотивированный, прежде всего, перенаселенностью Дар-эс-Салама и его колониальным прошлым. Для этих целей было учреждено специальное Агентство по строительству столицы, ответственное за его осуществление. По оценке некоторых экспертов, этот проект стал, пожалуй, наиболее неудачным экспериментом такого рода в недавней истории (Akam, 2011).
Первоначально предполагалось, что строительство новой столицы, которая расположилась на расстоянии 470 км от старой, займет 10 лет (с 1976 по 1986 год) и что она станет новым политическим центром. Ожидалось, что новая столица также, наконец, примирит интересы 120 этнических групп, населяющих страну. Тем не менее по прошествии тридцати лет после принятия решения и несмотря на огромные средства, затраченные на осуществление этого проекта, столичные функции все еще находятся в Дар-эс-Саламе. Инфраструктура Додомы по-прежнему не готова к принятию на себя полноценных столичных функций (Kironde, 1993: 442–443).
Додома была выбрана как наиболее центрально расположенный город, относительно равноудаленный от центров многих племен, и как место, которое особенно нуждалось в экономическом развитии. Официальной идеологией партии, которая приняла решение о переносе столицы в Додому, был африканский социализм. Поэтому перенос должен был не только сбалансировать развитие, но и разрешить насущные социальные проблемы – победить бедность, помочь в достижении социальной справедливости (Kironde, 1993: 442–443).
Однако возведение новой столицы превратилось в настоящий социалистический долгострой. Ко всему прочему ведомства и органы государственной власти затянули или умышленно саботировали переезд правительства на новое место.
Хотя Додома была объявлена политической столицей в 1993 году и президент и некоторые министерства предпринимали несколько попыток переехать в Додому уже с середины 70-х годов, она все-таки не стала реальной столицей.
Окончательно некоторые столичные учреждения переехали в Додому только через три года после официальной даты. Дар-эс-Салам de facto остается до сегодняшнего дня экономической, культурной и отчасти политической столицей страны и там по-прежнему дислоцируются посольства других стран (Kironde, 1993: 451–452).
Среди прочих причин фиаско всего проекта следует также назвать отсутствие единства и согласованности по поводу решения о переносе столицы среди национальных лидеров Танзании и отсутствие последовательных действий по осуществлению этого плана.
Новая столица была заживо похоронена как действиями правительства, так и отсутствием активной поддержки этого плана со стороны чиновников.
Существовали и очевидные финансовые причины провала. В течение нескольких лет из того десятилетия, которые должно было продолжаться строительство, на этот проект выделялось не более одного процента государственного бюджета, вместо обещанных и запланированных десяти процентов. В 1989 году правительство было вынуждено создавать особые финансовые преимущества для частных бизнесов, которые бы согласились переехать в Додому, включая различные налоговые льготы и послабления, а также снижение оплаты за электроэнергию, для привлечения средств в город (Kironde, 1993: 450).
Кроме того, большое количество из отпущенных средств на перенос было расхищено, как и в случае Нигерии. В 80-е годы разразилось несколько коррупционных скандалов, связанных с хищническим разворовыванием фондов, которые были предназначены на строительство Додомы.
Социальная атмосфера во вновь отстроенном городе также оказалась далеко не соответствующей идеям африканского социализма (ujamaa) первого президента страны Джулиуса Ньерере (1922–1999) и других лидеров, которые инициировали этот проект и руководили им.
Для Ливии, как и для некоторых других государств Магриба, исторически была характерна полицентричная урбанистическая структура. После освобождения от колониальной зависимости Ливия провозгласила себя федеративной республикой (Объединенное королевство Ливия) с тремя штатами и тремя столицами – Бенгази, Триполи и Байда.
Однако постепенно государство отказывается от федеративных элементов своего устройства и к 1963 году превращается в унитарное государство. Этот переход к унитарному государству был отмечен переносом столицы в Триполи. До этого большинство столичных функций было сосредоточено при королевском дворе, который располагался в непосредственной близости от Бенгази. Перенос также зафиксировал переход от королевской к собственно национальной столице государства.
Мавритания и Руанда
У Мавритании и Руанды в доколониальном прошлом не было своих столиц. С независимостью страны возникла необходимость их создания. Это были столицы по необходимости в отличие от тех национальных столиц, которые возникли в результате сознательных запланированных переносов, которые произошли в других обсуждавшихся здесь африканских странах. Столицей Мавритании стал город Нуакшот, а столицей Руанды – Кигали (с 1962 года).
В Кении ведутся дискуссии о возможном переносе из перегруженного и чрезвычайно быстро растущего Найроби. В качестве кандидата на роль столицы предлагается небольшой город, который находится в центре страны и может рассматриваться в качестве нейтрального центра по отношению к существующим этническим группам. Подобно другим странам Африки, авторы этих предложений говорят о необходимости сбалансированного развития регионов, в особенности Севера страны, и программе децентрализации и делегации функций управления и самоуправления в регионы (Magutt, 2009).
В 2007 году Ассоциация архитекторов Кении выступила со специальным архитектурным планом новой столицы. Предложение перенести столицу обосновывалось опасностью землетрясений, перенаселенностью и границами роста Найроби, а также ссылками на опыт соседей по африканскому континенту.
В Гане также предлагается стратегия более центрального расположения столицы, которая бы могла одновременно служить в качестве нового центра роста. Настоящая столица государства Аккра, второй по величине город в Западной Африке, естественным образом ограничена в своем росте морем, уязвима для землетрясений, а также перегружена людьми и транспортом.
В качестве наиболее благоприятного месторасположения для новой столицы указываются такие города, как Кинтампо и Атебубу. Новый город должен сосредоточить в себе экологически чистые производства. Страна в целом помимо переноса столицы должна попытаться децентрализовать большинство из своих политических и административных функций (Kwesi Atta Sakyi, 2011). Интересно отметить, что словом Кинтампо называется также древняя культура неолита, связанная с историей этого города.
В Сомали также уже давно (примерно с 2004 года) идут дискуссии о создании новой столицы, куда из Найроби должно переехать Временное национальное федеральное правительство.
Многие чиновники и аналитики говорят о необходимости создания новой столицы страны, альтернативной перенаселенному и перегруженному Могадишо, чрезвычайно криминальному и сильно разрушенному двадцатилетней гражданской войной. В числе причин необходимости новой столицы они называют небезопасность и высокий уровень преступности в Могадишо, контроль над городом одного племенного клана, который не представляет интересов всех сомалийцев.
Согласно мнению некоторых сомалийских аналитиков (в том числе вице-мэра города), Могадишо может быть важнейшим коммерческим центром страны, но на роль столицы более подходит небольшой и более центрально расположенный город (Mahamud Yahye, 2005). В дополнение к общим африканским темам в случае сомалийской столицы специально акцентируется вопрос о федеральном характере и статусе нового государства, который должен найти выражение как в географическом положении, так и в символизме новой столицы.
В свое время планы по переносу столицы Либерии вынашивал 20-й президент страны Уильям Толберт, убитый в ходе государственного переворота 1980 года. На эту роль он выдвигал кандидатуру города Гбарнга в графстве Бонг в Центральной Либерии.
Старая идея Толберта недавно была подхвачена нынешним президентом Либерии Элен Джонсон-Серлиф. В своем заявлении 2011 года она высказалась за перенос столицы страны из Монровии в более центрально расположенный город на границе нескольких центральных графств. Джонсон-Серлиф аргументировала свое предложение изменениями климата, возможными затоплениями и угрозой береговой линии. Ее кандидатом на роль новой столицы стал город Екепа. Президент Либерии предложила финансировать этот проект главным образом за счет нефтяных доходов государства, которые должны также пойти на другие аспекты социальной трансформации всей страны.
В случае обоих озвученных предложений логика переноса столицы должна совпасть с общеафриканским образцом – перемещением столицы вглубь страны и расположение ее между основными составляющими графствами (African Press International, 2011).
Южный Судан
В Южном Судане мирные соглашения, подписанные в 2005 году, положили конец 21-летней гражданской войне с Северным Суданом. В январе 2011 года после проведения общенационального референдума стало известно, что Южный Судан получит свою независимость и станет самым молодым новым государством в Африке. Теперь лидеры нового государства, которое станет полностью независимым от Хартума, рассматривают возможность строительства новой столицы. Она должна расположиться в непосредственной близости от нынешней временной столицы – Джубы.
Как и в других странах континента, создание новой столицы призвано решить проблемы перенаселенности и неадекватности старой столицы. С 2005 года город Джуба, расположенный на берегу Белого Нила, развивался быстрыми темпами, но беспорядочно и хаотично. В то время как город был спланирован для проживания 300000 жителей, на настоящий момент, согласно оценкам экспертов (заместителя генерального секретаря Народного движения освобождения Судана), его населяет около миллиона человек. Многие продолжают жить в переоборудованных под жилье морских контейнерах.
Существовали намерения перепланировки Джубы в виде общеафриканского символа, носорога, и преобразование города в полноценную столицу. Однако более популярным и реалистичным кажется кандидатура города Рамсель, который расположен ближе к центру страны.
В предложениях о переносе, как и в большинстве прочих случаев в Африке, есть и этнический компонент. Племя Бари, которому принадлежит земля в районе Джубы и составляющее всего 10 % населения, обеспокоено, что столичный статус города и его рост составят угрозу их племенным землям, на которых будет усиливаться влияние другой племенной группы, динка, которая доминирует в правительстве и в Народном движении по освобождению Судана (Marlow, 2011).
В то же время многие эксперты подчеркивают специфически постколониальные контексты строительства заново спланированного города. Ойстен Роландсен, сотрудник исследовательского Института мира в Осло, подчеркивает символическую важность возведения новой столицы: «Джуба была построена при колониальном режиме и была сделана столицей северными суданцами. С Джубой связано множество жестокостей и горьких воспоминаний. Большое символическое значение имела бы возможность начать с чистого листа» (Marlow, 2011). Ожидается также, что инвесторы и бизнесы будут охотнее вкладываться именно в новый город.
Скептики подвергают сомнению целесообразность решения о передислокации столицы из Джубы, которая имеет развитые коммуникационные связи с соседней Угандой, а также крупный международный аэропорт. Южный Судан в целом отчаянно нуждается в развитии инфраструктуры: регион, территория которого равна площади Франции, имеет меньше ста километров мощёных дорог. Скептики считают, что огромные ресурсы на перенос могли бы быть с гораздо большей пользой потрачены на эти цели (Marlow, 2011).
Постколониальное строительство наций в Азии
Как и в Африке, общими темами переноса столиц в Южной и Юго-Восточной Азии часто было дистанцирование от колониального прошлого этих государств и переносы столиц из колониальных приморских портов вглубь континента (Murphey, 1957: 218–219). В то же время в противоположность Африке многие государства Азии – особенно на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии – превратились в чрезвычайно динамично развивающиеся экономические регионы. Здесь не было тех острых племенных и этнических проблем, которые были характерны для многих африканских стран. Отсюда специфика столичности и переносов столиц в этом регионе: многие переносы обосновывались не только этническими или постколониальными, но и чисто экономическими причинами.
Рассмотрим тенденции в переносах столиц в различных регионах Азии более подробно. Юго-Восточная Азия
Правящие генералы Мьянмы в 2005 году перенесли столицу из Рангуна во вновь построенный город под названием Нейпьидо («Королевский город солнца»), расположенный в отдаленной области страны на расстоянии почти 400 км от Рангуна. Решение по этому поводу было принято еще в 2001 году. Переезд произошел буквально за один день в 2005 году: бюрократам Мьянмы приказали упаковать свои чемоданы и отправиться в новую столицу в особый астрологически благоприятный для переезда час. На сегодняшний день население города приближается к миллиону человек и он входит в десятку наиболее быстро растущих городов в мире.
Перенос бирманской столицы стал предметом едких шуток в международной прессе, главным образом по поводу астрологической мотивации этого проекта и беспочвенных опасений по поводу скорого вторжения в страну западного врага. Новая столица характеризовалась как безжизненный город-призрак, построенный по указке диктаторов – правящей хунты во главе с генералиссимусом Тан Шве (Буко, 2006). В 2007 году один индийский журналист, побывавший в Нейпьидо, назвал город «шедевром градопланирования, целью которого является отражение цветной революции, не с помощью танков и пушек, но с помощью геометрии и картографии». Город раскинулся на площади в более чем 4000 км2.
Российский географ Сергей Рогачев в информативной аналитической статье, посвященной Нейпьидо, видит более глубокий смысл в новом расположении и принципе перемещения бирманской столицы, рассматривая официальные астрологические версии лишь как ширму для смешливых журналистов. По его мнению, изучение карты и логики этого переноса указывает по крайней мере на несколько более здравых экономико-географических причин переезда именно в это место помимо официальной «астрологической» и журналистской «бункерно-блиндажной» версии.
Главный стержень расселения в стране – долина Иравади, сильно переуплотненная и испытывающая негативные проявления перенаселенности. Сооружаемый новый полюс роста Нейпьидо – не в долине Иравади, а в бассейне небольшой реки Ситаун, примерно на полдороге между меридианом Иравади (на западе) и меридианом Салуина (на востоке). Горная, «зажатая» долина Салуина заселена и освоена гораздо меньше, чем широкая аллювиальная равнина, по которой протекает Иравади. Смещение столицы дальше от Иравади и ближе к Салуину может рассматриваться как своеобразный географический сигнал и как экономический стимул к освоению восточных, присалуинских районов страны (Рогачев, 2008).
Две другие причины также связаны с созданием баланса, баланса между городами и малыми народами, а также с центральностью месторасположения Нейпьидо между Севером и Югом и между территориями расселения основных этнических групп страны.
Территория Мьянмы далека от идеального круга или прямоугольника с легко определяемым центром, – пишет Рогачев. – И если мы постараемся найти центр тяжести этой сложной фигуры, то увидим, как положение Нейпьидо приближается к геометрическому идеалу. Точка приближена к двум главным сгусткам населения (в низовьях и в среднем течении Иравади) и как бы балансирует между ними (Рогачев, 2008).
Центральность новой бирманской столицы также связана с ее расположением по отношению к внутренней урбанистической сети.
Нейпьидо – на полпути между прибрежной столицей Янгоном и «столицей Севера» Мандалаем. И что очень важно – практически в центре треугольника с вершинами в трех главных городских агломерациях: Янгон – Мандалай – Моулмейн. Это напрашивающаяся точка равновесия между тремя главными мьянманскими социально-экономическими «массами». Этническая карта дает еще один штрих к картине географического положения новой столицы – у стыка границ ареалов расселения трех главных народов: абсолютно преобладающих бирманцев (с запада), каренов (с юго-востока) и шанов (с северо-востока). Положение на общей периферии (на периферии трех этнических ареалов) таит в себе потенциальные возможности превращения в общий связующий центр (Рогачев, 2008).
Таким образом, Бирма в своем выборе столичного города следует общей логике этнической сбалансированности столицы подобно многим другим азиатским и африканским постколониальным странам, несмотря на казалось бы досовременную аргументацию переноса, связанную с астрологическими предписаниями. Но это рациональное по существу расположение скрыто за маской иррациональных военно-стратегических и оккультных причин.
В анализе новой столицы также следует учитывать доколониальную историю Бирмы, где смены столиц осуществлялись очень часто. Подробный и информативный анализ всех этих переносов бирманских столиц и их мотивов не так давно осуществил молодой тайский историк Причаруш (Preecharushh, 2009).
Официальными причинами строительства новой административной столицы Малайзии, города Путраджайя, стала новая стратегия экономического развития страны, регулярные затопления города и перегруженность Куала-Лумпура. Проект Путраджайи стал любимым проектом харизматического премьер-министра страны Махатхира Мохамада.
Путраджайя расположилась приблизительно в 25 км от старой столицы. Официальное решение по этому вопросу было принято в июне 1993 года, а переезд состоялся уже в 1997 году. В 1999 году город открылся для корпораций и бизнесов. Следует, впрочем, отметить, что официальной столицей страны до сегодняшнего дня остается Куала-Лумпур, несмотря на то что президент и все правительство находятся в Путраджайе.
Менее официальные причины создания новой столицы во многом связаны с колониальной и этнической историей страны. Как и в других государствах Юго-Восточной Азии, Куала-Лумпур стал столицей государства в качестве важного колониального порта британской империи. Он был основан только в 1857 году и стал центром британской администрации в 1880 году, сменив в этом качестве королевскую столицу Клан г, находящуюся в штате Селангор.
В колониальной Малайзии было сильно развито этническое разделение труда. Сами малайцы были по преимуществу аграрным народом, занимаясь военной службой и сельским хозяйством. Коммерция же сосредоточилась в руках этнических китайцев. Китайцы были посредниками в торговле между малайцами и британцами, располагая важными международными связями. Практически все важнейшие города Малайзии – Куала-Лумпур, Малакка и Джорджтаун – были по преимуществу китайскими урбанистическими центрами. Так, например, в 1891 году 80 % населения Куала-Лумпура составляли этнические китайцы (King, 2007: 118).
Пространственная структура городов отражала вышеописанное этническое разделение труда: в центре поселений– дома чиновников британской администрации и купцов, дальше – китайские торговые кварталы и на окраинах города – поселения этнических малайцев. В политической жизни страны было заметно противостояние китайских городов и малайской периферии, которое драматически усилилось после Второй мировой войны и завоевания независимости в 1957 году. Националистические лидеры Малайзии опасались, что экономическое доминирование китайцев может отразиться и на политической сфере.
В этих условиях в центре внимания постколониальных националистических лидеров стала политика «экономического национализма», частью которой было изменение классовой структуры малайского общества в соответствии с его этническим составом, создание малайских капиталистов и малайского среднего класса. В контексте этого плана происходила продажа крупных государственных монополий и предоставление крупных контрактов по строительству инфраструктуры этническим малайцам. Эту политику активно проводил сам Махатхир Мохамад, который стал премьер-министром страны в 1981 году. План строительства Путраджайи был в известном смысле продиктован принципами новой национальной политики и программой создания собственного урбанистического класса и национализации бизнеса.
Архитектурный и градостроительный план новой столицы как раз и отражал новые веяния и ориентации малайской политической элиты. Специалисты обращали внимание на то, что в архитектуре Путраджайи господствуют не эндогенные формы и стили, а в значительной степени ближневосточные, индийские и среднеазиатские компоненты. Воображаемые культурные истоки замещают при этом реальную малайскую историю и этногенез. Панисламистские архитектурные стили указывают, с точки зрения этих экспертов, на новые элементы «самоколонизации» (King, 2007: 136).
В архитектурном пространстве города воплощается также своеобразная политическая программа. Так, на вершине церемониального пространства находится не парламент, а офис премьер-министра страны. Все государственные здания построены с такими компонентами исламской архитектуры, которые больше ассоциируются с мечетями, чем с офисными зданиями, что подчеркивает религиозную идентичность малайского социума и государства. Но одновременно в новой столице подчеркиваются и глобальные амбиции нации. В Путраджайе господствует симметрия и формальные элементы. Здесь есть семь мостов, построенных в эклектичном стиле, которые соединяют берега искусственно созданного озера.
В значительной мере здесь была реализована и программа по строительству этнически малайского города, своего рода инкубатор малайского городского класса, так как абсолютное большинство гражданских служащих в стране составляют малайцы. Кинг называет это явление своего рода контрколонизацией или даже контрурбанизацией, направленной против доминирующих в городах китайцев (Ibid., 136).
В целом реализация проекта, в особенности быстрые сроки строительства новой столицы, возникшей среди плантаций масличных пальм, чрезвычайно высоко оцениваются мировым градостроительным сообществом. Некоторые наблюдатели отмечают только некоторую стерильность нового города, очищенного от многих городских функций – многоэтничности, хаоса и противоречий крупных мегаполисов. В духе Мишеля Фуко Росс Кинг, в частности, противопоставляет утопию Путраджайи гетеротопии реальных городов с их антагонизмами, конфликтами, а также с их космополитизмом, индусами и китайцами (King, 2007: 117).
В Путраджайе остались обширные пустующие земельные участки, которые предназначены для посольств, потому что большинство иностранных миссий пожелали остаться в Куала-Лумпуре. Недалеко от новой столицы был возведен другой город, Киберджайя, который построили специально для того, чтобы он стал Силиконовой долиной Юго-Восточной Азии, и который должен был воплотить технологические и глобальные амбиции нации. Хотя Путраджайя считается только административной столицей, как уже было отмечено, ее реальный масштаб, пребывание в этом городе всех министерств, парламента и премьер-министра, безусловно, выходят за рамки того, что называется административной столицей в других странах. Интересно отметить, что одним из самых крупных инвесторов, девелоперов и застройщиков города выступила государственная нефтяная компания Петронас.
В 2010 году на повестку дня государственной политики встал вопрос о переносе столицы Индонезии, инициированный президентом страны Сусило Бамбанг Юдойоно. Он с группой коллег и аналитиков продолжает изучать вопрос о возможных кандидатах на эту роль (Kotarumalos, 2010; Ргаkoso, 2012).
По словам экспертов, главными проблемами нынешней столицы Индонезии являются частые наводнения, особенно в период сезона дождей, чрезмерная плотность населения и уязвимость перед такими стихийными бедствиями, как землетрясения. Учитывая, что Джакарта находится в самой сейсмически активной зоне мира, это чревато колоссальными разрушениями и беспрецедентными человеческими жертвами при первом же серьезном землетрясении в районе нынешней столицы (Kotarumalos, 2010).
Расположенный в западной части острова Ява, мегаполис уже давно слился с городами-спутниками в гигантский конгломерат, численность населения которого, только по официальным данным, составляет около 12 млн человек. Однако большинство серьезных независимых экспертов, включая специалистов ООН, которые пытаются учесть и тех, кто не имеет официальной регистрации в столице, называют цифру порядка 25 млн человек. Подобная численность городского населения в сочетании со стремительной урбанизацией приводит к огромному числу проблем: начиная от знаменитых джакартских пробок и средней скоростью движения транспорта около 10 километров в час и заканчивая тем, что расположенный на берегу Яванского моря город стремительно проседает под весом строящихся там небоскребов и ниже уровня моря лежит уже более половины его территории (Prakoso, 2012).
Все эти проблемы усугубляются стремительным ростом количества машин и мотоциклов в результате низких процентов по кредитам (рост количества транспортных единиц в городе идет примерно на 10 % в год), а также недостаток транспортных магистралей в городе (они составляют всего 6 % от общей площади города, в то время как в развитых странах дороги занимают около 20 % территории). По оценкам экспертов, экономический ущерб от пробок национальной экономике в год составляет почти 3 млрд долларов США (Prakoso, 2012).
Вопрос о переносе столицы стоит в стране уже более пятидесяти лет. Еще отец-основатель независимой Индонезии Сукарно начал строительство новой столицы страны в географическом центре молодого государства – в городе Паланкарая на острове Калимантан, который намного более устойчив с сейсмической точки зрения. Этим планам, однако, положил конец генерал Сухарто, пришедший к власти в середине 60-х годов и правивший Индонезией более 30 лет. До своей отставки в результате уличных протестов в 1998 году военный диктатор предложил в качестве альтернативы Джонгол, регион находящийся в 50 км на восток от Джакарты (Kotarumalos, 2010).
Перенос столицы с острова Ява, где живет свыше 130 млн человек, имел бы еще тот плюс, что он содействовал бы ускорению социально-экономического развития менее развитых регионов Индонезии, отметил советник президента страны.
Таиланд – единственная страна в регионе, которая никогда не была ничьей колонией. Тем не менее столица королевства также постепенно перемещалась из внутренних районов страны (Аюттхая и Сукхотаи) к зоне активной морской торговли, следуя общей логике прежде колонизированных государств региона.
Затопление Бангкока осенью 2011 году, превратившее город в зону национального бедствия, стало главным стимулом для общенациональных дискуссий в Таиланде по поводу возможного переноса столицы страны в одну из внутренних провинций. Двадцать представителей из правящей партии Пыа Тай в законодательном органе страны во главе с Сатапорном Маниратом выступили с инициативой рассмотрения на самом высшем уровне идеи переноса столицы Таиланда в другой город и создания особой комиссии, которая займется изучением этого вопроса. В качестве возможных новых центров страны было выдвинуто несколько кандидатов на востоке и северо-востоке государства (Накхоннайок или Пхетчабун) (Bangkok Post, 2011).
Принципиальным аргументом в пользу переноса являются прогнозы по поводу постепенного погружения тайской столицы под воду; по разным оценкам город, построенный на болотистой местности, погружается под воду со скоростью от 2 до 20 сантиметров в год. Некоторые эксперты ожидают, что Бангкок будет полностью затоплен в течение ближайших тридцати лет.
Другим важнейшим фактором, который стимулирует эту дискуссию, является одна из наиболее асимметричных в мире моноцефальных урбанистических структур тайской национальной городской сети. Во втором по величине городе Таиланда живет всего 200 тысяч человек, и он в сорок раз уступает по размерам Бангкоку. По этой причине Бангкок законно считается самым приматным городом в мире. Кроме того, на Бангкок приходится половина ВНП страны и 80 % всех инвестиций в экономику Таиланда.
В этой связи правительство давно рассматривало различные программы децентрализации экономики и урбанистической сети, видя в сверхцентрализации одну из причин политической нестабильности в стране (движение красных рубашек в своей основе формировалось в провинциальном и сельском Таиланде).
Интересно отметить, что планы переноса тайской столицы уже неоднократно рассматривались и прежде. Маршал Пибун Сонгкрам, первый премьер-министр Таиланда, с именем которого связано развитие национализма и смена названия страны, форсировал планы переноса столицы в Пхетчабун[30]. Планы переезда в Накхоннайок, город, неуязвимый для наводнений и расположенный поблизости от международного аэропорта Суварнабхуми, также рассматривались в период правления премьер-министра Таксина Чиннавата. Правительство поручило исследование этого вопроса Совету по национальному экономическому и социальному развитию.
Опыт объединения Северного и Южного Вьетнама с общей столицей в Ханое и исчезновение Южного Вьетнама с его типичной колониальной столицей в портовом Сайгоне также вполне вписывается в общую логику размещения постколониальных столиц в старых традиционных центрах страны.
Доколониальной столицей Вьетнама был город Хюэ, основанный королевской династией Нгуен (1801–1945), которая пыталась интегрировать Вьетнам и противостояла сепаратистским тенденциям на юге страны. Колониальные власти сделали Ханой столицей французского Индокитая. Но в то время как Аннам и Тонкин были только протекторатом Франции, Южный Вьетнам (колония Кохинхин) находился под непосредственным колониальным контролем и его центром был Сайгон.
В результате объединения страны, Северного и Южного Вьетнама, ее столицей стал Ханой, который был столицей государства в течение многих столетий (1010–1802) прежде, чем этот статус перешел к городу Хюэ (Lagan, 2005). Это решение в целом совпадает с логикой движения столицы от больших колониальных портов, одним из которых был французский Сайгон (сейчас город Хошимин), к более древним столицам.
В 1948 году столица Филиппин была перенесена в город Кесон-Сити по инициативе президента страны Кесона, который основал этот город. Главной причиной переноса была названа военно-стратегическая уязвимость бухты Манилы для атак с моря. План переноса столицы был одобрен правительством в 1941 году. В Кесон-Сити до сих пор находятся многие органы государственной власти, включая Палату представителей, но официальная столица переехала назад в Манилу в 1976 году.
Южная азия
В Индии перенос столицы из портовой Калькутты в Дели осуществился еще в эпоху колониального господства в 1911 году, но, по сути, он уже подготавливал переход к национальной независимости и по своим географическим координатам (центральному расположению) следует в общем форватере деколонизации. Дели был выбран англичанами как наиболее древний центр, в окрестностях которого было расположено множество исторических столиц древней и средневековой индийской цивилизации. Известно, что накануне независимости британцы планировали создать объединенную британо-индийскую администрацию страны, и перенос столицы подготавливал этот переход.
Нью-Дели, где расположены официальные здания, является лишь частью Национального столичного округа Дели. Здесь немало других районов и других, куда более древних, исторических памятников. Дели, удобно расположенный на берегу реки Джамны (Ямуны), до прихода англичан успел побывать столицей Великих Моголов, а до этого здесь были столицы и других держав. Первый же столичный город – упомянутая в Махабхарате Индрапрастха – появился здесь задолго до нашей эры. Вокруг Дели раскинулось целое созвездие из семи других древних столиц Индии: помимо Индрапрастха из Махабхараты, здесь находились такие столицы, как Сирии, Туглакабад, Джаханпанах, Фирозабад, Шахджаханбад. Однако англичане сумели построить совершенно особенный Нью-Дели. Это был город вилл и особняков, выросших у подножия холма, на котором был выстроен дворец британского вице-короля Индии. Сегодня во дворце расположена резиденция президента страны.
Одна из самых высоких концентраций населения в мире (плотность населения в столице Бангладеш Дакке достигает 28000 чел/км2), чрезвычайная сосредоточенность всей экономики и ресурсов в одном городе, а также пробки, парализующие движение в мегаполисе, стимулируют дискуссии по поводу переноса столицы в Бангладеш.
Некоторые бангладешские политики и аналитики считают, что такая сверхконцентрация ресурсов и экономики ведет к росту коррупции и стягивает в столицу большую часть ресурсов. Они связывают со сменой столицы начало программы глубокой социальной трансформации всей страны – технических и социальных инноваций, политической толерантности и освобождение от коррупции. Выбор кандидатов на эту роль определяется следующими параметрами: невысокая плотность населения, удаленность от затапливаемых равнин и от границы, относительная близость от самой Дакии. Одна из недавних кандидатур на роль новой столицы – город Тришаль, к северу от Дакки, между Даккой и Мименсингом. Идеальной столицей представляется экологически чистый административный центр, являющийся центром образования, культуры и медицины (Morshed, 2010).
Экологическая ситуация в Катманду, его бесконтрольный рост, новые потоки внутренних и внешних мигрантов и не отвечающая современным международным стандартам транспортная система и городская инфраструктура заставляют политиков этой страны ставить вопрос о переносе столицы в другое место. Хотя население агломерации составляет не более двух миллионов человек, небольшая цифра для этого региона мира, особенности топографии и ландшафта не позволяют городу и дальше бесконтрольно расти.
В качестве места для альтернативной столицы предлагался район Читван, который находится на расстоянии 200 км от Катманду. Многие соображения по этому поводу были высказаны бывшим советником двух премьер-министров Непала политологом Хари Прасад Шреста (Shrestha, 2011). Не так давно эта тема специально обсуждалась в конституционном совете страны.
В 1959 году правительством Пакистана по инициативе военного президента страны Аюб-хана было принято решение о переносе столицы на плато Потвар в спланированный город Исламабад. С момента завоевания независимости столица находилась в портовом мегаполисе Карачи. В 1958 году она переехала во временную столицу, крупный город Равалпинди в 15 км от Исламабада. План строительства новой столицы был утвержден в 1960 году и в общих чертах завершен уже к 1963 году.
Исламабад был перенесен с юга на север страны, в горную, опоясанную зеленой грядой отрогов Гималаев долину с мягким климатом и хорошим водоснабжением. Среди причин переноса наиболее важными являются следующие. Новая столица была максимально приближена к Кашмиру, штату, на который заявляют претензии и Индия, и Пакистан. Пребывание столицы в непосредственной близости от Кашмира делали претензии Пакистана более обоснованными. Кроме того, Аюб-хан пытался сбалансировать различные силы в стране, в том числе Восточный и Западный Пакистан, перенеся часть законодательных функций в Дакку и сохранив политическую столицу в Западном Пакистане. Какая-то роль в выборе места также могла быть связана с тем, что Аюб-хан, будучи представителем небольшого пуштунского племени, хотел приблизить город к Пешавару и району массового проживания пуштунов, что несколько увеличивало его базу лояльности. Дополнительной важной причиной было желание сбалансировать экономическое развитие страны, чтобы уравновесить историческую торговую и промышленную доминантность приморского юга. За годы независимости до переноса столицы размер Карачи увеличился почти в два раза за счет притока мигрантов.
По описаниям очевидцев, город просторен, чист и хорошо спланирован и по праву считается самым благоустроенным и удобным для жизни городом Пакистана, хотя и несколько скучным и стерильным. План города разрабатывался известным греческим архитектором Александром Доксиадисом. В создании города принимали участие также такие известные архитекторы, как Ле Корбюзье и Джон Стоун. В своей архитектуре Исламабад сочетает черты современного европейского города, мусульманских традиций и национального стиля. Название города Исламабад переводится как «город ислама», что подчеркивает религиозную идентичность страны, которая определялась, прежде всего, на основании конфронтации с индуистской Индией. Столица четко разделена на части: административный, деловой, промышленный и жилые районы. Центром административного района является авеню Конституции, где расположены здания парламента, Национальной ассамблеи и различные министерства.
Интересно отметить, что урбанистическая структура страны также сбалансирована другим крупным городом, который считается безусловной культурной столицей государства, – Лахором. Большая часть международных культурных и кинофестивалей, выставок, концертов и конференций проводится именно в Лахоре, известном также в качестве центра пакистанской интеллигенции и образования. Город известен также лучшими в регионе садами и кулинарной традицией. 80 % всех книг Пакистана издается именно в Лахоре, а не в политической столице страны.
В 1982 году Шри-Ланка перевела свой парламент из Коломбо в Шри-Джайяварденепура-Котте в и км от Коломбо, следуя политике контрурбанизации и децентрализации промышленности. Город Котте был столицей страны несколько раз в ее истории (последний раз в XV веке). Коломбо при этом продолжает оставаться официальной столицей страны. Здесь сосредоточен бизнес, неправительственные организации и все главные центры по принятию решений помимо законодательной власти. Однако в Шри-Ланке продолжается этническое противостояние, вызванное тем, что тамильцы не считают, что их часть страны (север и восток) не получают тех преимуществ, которые распространяются на сингалезцев, населяющих столицу и центр государства (Corey, 2004: 58–59).
Дальний Восток
Дискуссии о создании одной или нескольких альтернативных столиц уже много лет идут в Японии. Эти дискуссии были мотивированы, во-первых, угрозой землетрясений и, во-вторых, чрезвычайно высокой концентрацией политических и экономических ресурсов в сравнительно небольшой части страны.
Только в столичном регионе проживает около 30 млн человек. Если же рассматривать мегалополис Японии, который охватывают всю ветку Токио-Иокагама-Нагоя-Киото-Осака-Кобе (шесть основных метрополий страны), то получается что на трех процентах территории страны сосредоточено 63 % ее населения. В известном смысле такая концентрация, считают специалисты, является результатом не столько социально-экономических принципов, а особой географии, территориальной структуры Японии и характера ее ландшафта (Vogel, 2001: 116–117).
Многие считают при этом, что оригинальные градостроительные и транспортные решения проблемы столицы, которые получили чрезвычайно высокую оценку у международного сообщества, и создание полицентрической структуры в самом столичном регионе не являются достаточными для решения проблем сверхцентрализации страны. Речь идет, прежде всего, о модернизации города, осуществленной Ретаро Адзуме, мэром города с 1959 по 1967 год, которая привела к созданию единого городского пространства, построенного на принципах высотного и подземного строительства. Его концепция также включала в себя обеспечение сверхскоростных коммуникаций через систему поездов и идею полицентризма.
Вопрос о переносе японской столицы впервые был поднят в 1990 году в резолюции парламента, принятой по случаю его столетнего юбилея. Предполагалось, что на новое место должны переехать, помимо самого парламента, Кабинет министров, основные министерства и Верховный суд.
После трех лет интенсивных дискуссий, проведения более тридцати конференций, посвященных этому вопросу, специальный Совет, созданный для этой цели, опубликовал доклад, в котором содержится список мест – кандидатов на новый общенациональный центр. В докладе определены два основных претендента. Это район Тотиги-Фукусима на северо-востоке страны и район Гифу-Айти в центре страны. Третий кандидат – район Миэ-Кии – может стать при определенных условиях достойным соперником в будущем.
Чрезвычайно интересны процедура и метод оценки для определения кандидатов на статус столицы. Метод был основан на количественной системе оценок по различным критериям и параметрам.
Таких оценочных критериев или параметров было 16, в том числе такие как сейсмическая безопасность, возможности транспортного доступа, условия выкупа земельных участков у нынешних владельцев и другие. В подведении итогов участвовало более 70 экспертов. Кроме того, учитывались результаты дискуссий внутри Совета. Путем такого комбинированного подхода и определялось количество очков, набранных каждым из кандидатов, а их было десять. Кроме того, в будущем могут появиться какие-то дополнительные требования, которые будут обязательно учтены при дальнейшей работе Совета.
Многие специалисты считают, что новая столица должна строиться с широким применением самых современных информационных технологий. Это создаст благоприятные возможности для возникновения и развития мощной информационной сети, которая соединит центральную и региональные администрации, позволит им совместно использовать полученную информацию, выдвигать свежие инициативы, придаст работе правительственных организаций большую эффективность.
«Раньше японцы в первую очередь заботились о финансах, рынке, товарообмене и промышленности, – говорит Августин Берк, профессор Университета Мияги, – о человеке думали в последнюю очередь. Важно, чтобы начиная с 2000 года они перевернули этот порядок ценностей». Он считает, что при возведении нового города, где бы то ни было, в первую очередь надо думать о жизни людей.
В докладе Совета подчеркиваются три основных положения. Во-первых, должны быть предприняты все необходимые усилия для одновременного осуществления перевода столицы и административной реформы, включая вопросы децентрализации власти. Перенос столицы должен также создать новые отношения между правительством и частным сектором за счет разделения политических и экономических функций.
Во-вторых, чрезмерная централизация в Токио привела к серьезным нарушениям в транспортном движении, включая пригородное. Перенос правительственных функций в другое место изменит статус Токио, тем самым способствуя развитию экономической самостоятельности и культурной жизни японской провинции.
В-третьих, перенос столичных учреждений в сейсмобезопасную зону резко повысит возможности Страны восходящего солнца противостоять природным катастрофам и кризисам, которые могут возникнуть как внутри страны, так и вне ее, если Токио подвергнется ударам подземной стихии.
У идеи переноса есть и ярые противники. Губернатор японской столицы Синтаро Исихара, например, считает, что переезд правительства из Токио, который был центром государственной власти в течение 400 лет, будет «осквернением истории».
Другие оппоненты этой идеи ссылаются на недостаток обрабатываемых земель в Японии и на недостаточный уровень самообеспечения продуктами питания. Наличные земли кормят только две трети населения. Строительство новой столицы, по их мнению, сократит и так недостаточное количество земли (Vogel, 2001: 137—л.38).
В 2005 году японский парламент провел закон, согласно которому должен быть начат процесс идентификации места для новой столицы. Были названы три кандидата на роль новой столицы: Насу (300 км к северу), Хигасино (недалеко от Нагано, центральная Япония) и новый город в провинции Миэ, недалеко от Нагои (450 км западнее Токио). Уже получено решение правительства, хотя более никаких дальнейших действий не предпринимается. Этим решениям противостояло и противостоит Токийское столичное правительство.
Недавние землетрясения в Японии и катастрофа Фукусимы чрезвычайно интенсифицировали эти дискуссии и привели к формулировке нескольких альтернативных решений. Так был поставлен вопрос о немедленном создании нескольких альтернативных административных столиц на случай новых катастроф в непосредственной близости к Токио.
Идея переноса столицы встала также на повестку дня Китая, несмотря на достаточно полицентрическую урбанистическую систему с двумя крупнейшими экономическими финансовыми центрами в Гонконге и Шанхае.
В 2010 году несколько видных китайских ученых выступили с идеей переноса китайской столицы для разгрузки Пекина и для развития внутренних провинций страны. Шэнь Ханьяо, президент шанхайского Вортоновского экономического института, предложил создать новую столицу на месте слияния центральных, северных, западных и южных провинций для более сбалансированного распределения богатства и продуктивных сил в стране. Главной задачей новой столицы он считает преодоление дисбаланса между богатым востоком и бедным западом страны, разрыв в экономическом развитии которых с каждым годом растет. Восточная часть страны занимает только 13 % территории государства, но на ее долю приходится 41 % населения и 60 % ВНП Китая. Западная часть занимает 60 % территории, но на ее долю приходится только 23 % населения и всего 14 % ВНП (Gao, 2010).
Новой столицей должен быть очень небольшой город. Главными двумя кандидатами на эту роль, по мнению Шэнь Ханьяо, должны стать Юян и Синьян в провинции Хэнань. Эти города располагают достаточными водными и транспортными ресурсами; другим их преимуществом является то, что они находятся на плоской равнине (Gao, 2010).
Дискуссии по поводу возможного переноса столицы Китая начались в 1980 году, когда Ван Пин, профессор Столичного университета экономики, впервые высказал эту идею. Его поддержал Чэнь Баокунь, возглавлявший Палату недвижимости во Всекитайской федерации промышленности и торговли. Различные природные катаклизмы (например, песчаный шторм в 2006 году) или экстраординарные события, вызванные дефектами городской инфраструктуры (всегородская пробка 17 сентября 2010 года), каждый раз служили катализаторами появления новых предложений и инициировали новый виток дебатов по этому вопросу. В 2006 году около 500 представителей Национального народного конгресса, законодательного органа Китая, выступили за перенос столицы из Пекина. В 2007 году Мэй Юсинь, исследователь из Китайской академии международной торговли и кооперации, ведомственной академии Министерства торговли Китая, назвал пребывание столицы в Пекине экономическим бременем для страны, которое ведет сам Пекин в тупик. В 2008 году ученые Цинь Фачжань и Хусинь Ду написали совместную статью, в которой предложили идею «одна страна – три столицы»[31]. Шанхай в их проекте должен был остаться экономической столицей, Пекин– столицей культуры и технологии и для новой политической столицы должно быть найдено новое место.
В качестве новой столицы в дискуссиях, развернувшихся на различных интернет-сайтах, предлагаются различные города страны, находящиеся в разных провинциях. В некоторых из этих дискуссий акцентируются идеи неравномерного развития страны по оси мандаринский Север и коммерческий Юг. Интересными представляются и предложения имени для новой столицы Китая, которые встраивают эти дискуссии в контекст исторического развития Китая. В Китае были северная, южная, западная и восточная столицы (Пекин, Нанкин, Сиань и Кайфын). Новая столица поэтому должна носить имя Чжункин, то есть Центральная Столица.
В целом дискуссия указывает на ряд общих тем, объединяющих вызовы Китая со странами Юго-Восточной Азии: высокое развитие прибрежной зоны и портовых городов, часто за счет других регионов страны. Если бы Китай утратил свой статус независимой страны в начале XX века, то его столицей вполне мог бы стать Шанхай, что сделало бы его ситуацию идентичной колонизированным государствам в Африке, Азии и Латинской Америке.
На Тайване давно идут споры по поводу возможного перемещения национальной столицы в центральную или южную часть страны, чтобы преодолеть дисбаланс между Севером и Югом государства. С таким предложением выступили 70 парламентариев в 2006 году. Некоторые из парламентариев высказали более оригинальные предложения. Так, некоторые из них предложили отделение столицы от места расположения правительства. Другие предложили концепцию переходящей столицы, когда столичный статус меняется каждые два года (Lin, 2006).
Предлагалась также модель распределенной столицы: президентская власть сосредоточена в Тайбее, парламент – в Тайчуне, законодательная власть – в Каосюне. Особой популярностью тем не менее пользуется кандидатура Тайчуна, находящегося в центре страны. Эту кандидатуру поддерживают ряд видных политиков (например, бывший министр информации Тайваня и видный член демократической прогрессивной партии Линь Цзялун), бизнесменов и ученых, а также местные власти Тайчуна (Lin, 2006).
Южная Корея
В 2002 году президент Южной Кореи Но Му Хен (годы правления – 2003–2008) выступил с инициативой переноса столицы в город Сечжон, в 120 км от Сеула.
Целью переноса было названо сбалансированное развитие страны, так как в столичном округе, который занимает всего 12 % всей территории страны, к 2003 году оказалось сосредоточено более половины всех жителей Южной Кореи, а также большинство корпораций и общественных организаций. Например, в Сеуле и столичном регионе находится 56 % всей мануфактурных предприятий, 95 из 100 крупнейших корейских корпораций и 20 лучших университетов (65 %) (Lee, et al, 2005: 82).
Выбор места был связан с тем, что город расположен на границе двух провинций в центре страны, в той ее части, которая проявляет тенденцию к колебаниям в ходе национальных выборов. Проект переноса столицы Но Му Хена позволил ему привлечь жителей этой провинции на свою сторону. Символично и название города; он назван в честь короля Кореи XV века Сечжона, который также считается создателем корейского алфавита.
Однако в декабре 2004 года оппозиция представила жалобу в Конституционный суд страны, который принял решение о неконституционности решения о переносе столичных функций в Сечжон. Но Му Хен вынужден был отредактировать свой план и сделать его менее амбициозным. В соответствии с новой редакцией проекта президентская власть, конгресс и Конституционный суд останутся в Сеуле. Сечжон же будет считаться не новой столицей, а новым административным городом. В соответствии с инициативами Но Му Хена в 2005 году был принят закон о переводе 9 министерств, четырех ведомств и около 10 тысяч человек государственных служащих на новое место. Закон предусматривал также рассредоточение административных функций в разных городах страны: из Сеула должно было выехать всего около 40000 государственных служащих.
Масштабы проекта переноса столицы и скорость принятия решения по этому вопросу вызвали сомнения по поводу его продуманности и финансовой состоятельности. По оценке одного из международных экспертов, «план Се-чжона был основан на грубом политическом маркетинге, отсутствии знаний о пространственной динамике и непонимании прямых и косвенных издержек этого проекта» (Richardson, Вае, 2009: 71). Журнал «Экономист» также объяснял планы переноса корейской столицы, его масштаб и амбициозность, приверженностью многих корейских политических и корпоративных руководителей многомиллиардным мегапроектам, которые не всегда экономически оправданны. Такие мегапроекты были чрезвычайно популярны в Южной Корее с начала модернизации корейской экономики (в числе таких мегапроектов называются строительство серии аэропортов, многие из которых сегодня не используются, возведение города Сондо и строительство каналов, предложенное последним президентом) (Economist, 2010).
Преемник Но Му Хена, новый президент страны Ли Мен Бак (с 2008 года), противодействовал даже сильно урезанным планам о переводе министерств и государственных служащих в Сечжон, считая это напрасной тратой средств и ресурсов. Он ссылался, прежде всего, но то, что перевод даже отдельных ведомств на новое место будет вызывать сбои в работе административных структур. Коалиции оппозиционных прогрессивно-националистических партий, а также некоторые представители правящей партии настаивают на необходимости переноса административных функций в Сечжон в согласии с принятым законом.
На новую столицу уже потрачено не менее 20 млрд долларов. Главными категориями расходов при этом стали приобретение земли, а также разработка плана новой столицы. Издержки и потраченные усилия заставляют искать решения сложившегося кризиса, и, вероятно, город все-таки будет использоваться в качестве административного центра. Сейчас дебаты по этому вопросу продолжаются.
Некоторые наблюдатели связывают отсрочку решения по поводу переноса столицы еще и с тем обстоятельством, что существующие планы не принимают во внимание возможности реунификации КНДР и Южной Кореи (Richardson, Вае, 2009: 67). Хотя этот вопрос сегодня не стоит даже на повестке дня ни в Южной, ни в Северной Корее, многие наблюдатели убеждены, что вопрос о национальном объединении может встать очень зримо и остро в ближайшие 10 лет. В таком контексте вопрос о новой столице неизбежно приобретет не только экономико-географическое, но и фундаментальное политическое измерение. Расположение новой столицы может стать принципиальным вопросом, решение которого может послужить основой компромисса и формой разрешения долгосрочного национального конфликта. В таком случае новая столица станет фактором создания единой нации из двух частей, разделенных социально-политическим строем.
Гарри Ричардсон и Чан-Хи Бае, американские урбанологи и эксперты в области территориального развития, обсуждают четыре возможные кандидатуры на роль новой столицы в перспективе возможного воссоединения КНДР и Южной Кореи. По их мнению, на эту роль могут претендовать Пхеньян и Кэсон, находящиеся в Северной Корее, а также Сеул и Сечжон – в Южной Корее. Кэсон фигурирует в качестве кандидата, во-первых, в силу своего символического капитала – он был древней столицей страны в эпоху династии Корьо (с X до конца XIV века) – и, во-вторых, в силу близости к границе, что удовлетворяет критерию географической центральности. Американские урбанологи обсуждают достоинства и недостатки каждого из этих кандидатов (Richardson, Вае, 2009: 73–76).
Пхеньян, Кэсон и Сеул находятся на единой оси север-юг, которая совпадает с линией транзита в Китай, что дает им дополнительные преимущества. Сечжон может стать местом дислокации только некоторых, не самых важных, функций принятия решения, так как он расположен вне этой оси и находится слишком далеко от крупного аэропорта. Преимущество Пхеньяна состоит в гораздо более благоприятной демографической ситуации. Но наиболее вероятными кандидатами на роль столицы объединенной Кореи американским урбанологам кажутся Сеул и Кэсон. Сила кандидатуры Сеула связана, прежде всего, с его статусом мирового города. Изъятие столицы из Сеула снизит его значимость в иерархии мировых городов, что негативно отразится на экономике страны. Сила кандидатуры Кэсона определяется его ролью древней столицы страны. Дополнительное преимущество этого города – невысокая стоимость земли и рабочей силы, фактор, который позволил бы заметно сократить издержки на строительство. Кэсон кажется наиболее вероятным компромиссным вариантом, так как КНДР вряд ли согласится на пребывание новой столицы в Сеуле, а южные корейцы вряд ли сочтут приемлемой кандидатуру Пхеньяна с его отсталой инфраструктурой, социалистической архитектурой и иконографией (Richardson, Вае, 2009: 73–76).
Этот контекст национального строительства и перспектива воссоединения двух стран может дать дополнительный импульс текущим дискуссиям и помочь выйти из сложившейся тупиковой ситуации.
В 2004 году премьер-министр Монголии Элбэгдорж инициировал создание проектировочной комиссии для составления плана новой застройки Хархорина, древней столицы Чингисхана, заложенной императором монголов в 1229 году. По замыслу премьера город должен был восстановить столичный статус ко дню своего 800-летнего юбилея, то есть приблизительно к 2020 году. Полное восстановление древней столицы Элбэгдорж планировал на 2036 год. Однако после его вынужденной отставки в 2006 году проектировочная деятельность приостановилась и к этому проекту долго не возвращались (Stratfor, 2000).
Планы по переносу столицы Монголии были вызваны к жизни не только тоской по славному имперскому прошлому, но и конкретными проблемами, с которыми столкнулась нынешняя столица страны, город Улан-Батор. В Улан-Баторе проживает ровно половина жителей Монголии. За последние несколько лет население города увеличилось на 70 %. При этом сверхконцентрация населения и экономики в этом городе создает в нем крайне неблагоприятную экологическую ситуацию.
В настоящее время при президенте страны, которым стал бывший премьер-министр, формируется аналитическая группа по вопросам перераспределения населения и производственных комплексов. Считается, что главной задачей этой группы будет как раз просчет возможностей переноса столицы Монголии. Главным претендентом на эту роль по-прежнему считается Каракорум (Stratfor, 2000).
Нынешний президент, а некогда премьер Элбэгдорж даже предлагал перенести столицу в заново отстроенный Каракорум (Хархорин).
Ближний Восток
Главная тема дискуссий о переносе столицы в Египте – перегруженность Каира.
В 1979 году в Египте был основан город Эль-Садат, названный в честь президента страны Анвара Садата. Садат мечтал, что к 2000 году в этот город переедет столица Египта.
Однако его планам не суждено было осуществиться. В построенном в Эль-Садате Комплексе министерств сейчас размещается университет.
В 2005 году группа экспертов выступила с предложением перенести столицу в Эль-Минья аль-Гадида в 250 км к югу от Каира. В 2006 на заседании правительства под председательством Ахмеда Назифа было принято менее радикальное решение о переносе столицы (парламента и правительства) из Каира в один из его пригородов. В заявлении правительства говорилось о том, что таким шагом кабинет надеется снизить невероятную нагрузку на инфраструктуру колоссального города, население которого оценивается в 18–20 млн человек (более 20 % населения государства) и продолжает расти на 2 % в год. Ожидается, что такой шаг разгрузит город и даст импульс развитию городов спутников. На заседании было предложено три кандидатуры на звание новой столицы – город в 35 км от Каира, Новый Гелиополь, находящийся на месте древней сакральной столицы, и один из районов на шоссе Каир-Суэц. В 2007 году правительство подготовило соответствующую программу строительства, но тогда президент Хосни Мубарак высказался против этого проекта как слишком дорогостоящего.
После смерти президента Мубарака дискуссии о новой столице Египта возобновились и даже интенсифицировались.
Объединенные Арабские Эмираты
В 2009 году президент шейх Халифа бен Заед аль-Нахайян и кронпринц Абу-Даби генерал шейх Мохаммед бен Заед аль-Нахайян инициировали перенос столицы страны в новый город Халифа, расположенный в 20 км от нынешней столицы. По планам город должен быть возведен в течение 20 лет.
Согласно некоторым прогнозам, в течение 25 лет новый город сможет вместить около 3 млн человек. Планируется, что в новой столице будут находиться все министерства и ведомства, федеральное правительство, университеты, а также посольства и представительства иностранных государств. Строительство новой федеральной столицы началось в 2010 году и успешно продолжается (Raafat, 2008).
В эпоху расцвета Османской империи Стамбул находился в самом центре страны, между Анадолу (в Азии) и Румели (в Европе). Но с течением времени империя лишилась Балкан и почти всех своих европейских территорий, и ее столица вдруг стала фронтьером и наиболее уязвимым из городов страны, находящимся на самой границе. В результате, когда Османская империя терпела военные поражения, вражеские силы немедленно оказывались у ворот города (русские войска в 1878 году и союзные войска в 1918-м). В марте 1920 года союзные армии оккупировали Стамбул, а британские силы закрыли турецкий парламент. В этих условиях турецкая администрация стала искать более подходящее место для расположения своей столицы на азиатской стороне. Место для новой столицы было найдено в глубине Анатолии как сердца турецкой нации. Инициатором и исполнителем проекта переноса стал харизматичный президент страны Кемаль Ататюрк.
Главной задачей Ататюрка стало строительство и реконституция новой нации на руинах Османской империи. Сначала он возглавил движение национального сопротивления против оккупантов. Штаб-квартирой этого движения стала Анкара. Новый турецкий парламент был созван в Анкаре в 1920 году. На выступлении в парламенте Ататюрк заявил, что с этого момента не Анатолия будет подчиняться Стамбулу, а Стамбул Анатолии. Тем не менее верность девизу турецкой армии, в котором провозглашалась цель освобождения столицы страны, Стамбула, от вражеской оккупации, отсрочила официальное провозглашение Анкары столицей Турции в 1923 году (Simsir, 2007).
В октябре 1923 года 13 депутатов парламента во главе с первым премьер-министром Турции представили билль о назначении Анкары столицей Турции и местом пребывания правительства. На возражения оппонентов об исторической важности Стамбула, они говорили о геостратегических преимуществах Анкары (безопасное расположение по отношению к границе, превосходная связанность с другими городами и регионами страны сетью транспорта и коммуникаций), настаивая при этом, что Стамбул может оставаться экономической и культурной столицей. В результате Анкара почти единогласным решением парламента была провозглашена новым политическим центром государства.
Между тем в турецкой прессе продолжались публичные дискуссии и полемика. Один из ярых оппонентов новой столицы заявил, что самоизоляция в Анатолии отделит турецкий народ как будто Китайской стеной от процессов и тенденций в современной цивилизации. Журналист из Анкары иронично парировал, что, напротив, именно стамбульские правители отделяли Китайской стеной турецкий народ от цивилизованного мира, в который турецкая нация теперь сможет смело влиться (Simsir, 2007).
В общем и целом ближайшими причинами в выборе новой турецкой столицы, по-видимому, были военно-стратегические соображения. Тем не менее в исторической ретроспективе соображения деимпериализации и национального строительства кажутся не менее фундаментальными. Падение империи и поражение в войне означали для турков также и новое рождение нации.
Новая столица стала катализатором ее создания, и в определенном смысле именно возникновение новой столицы способствовало деимпериализации политического мышления нового государства. Хотя Мустафа Кемаль апеллировал к военно-стратегическим аргументам, масштаб его преобразований и реформ различных сфер государственной, религиозной и культурной жизни страны показывает, что не менее важным для него было создание собственного политического и символического полюса для развития нации. Текст Стамбула был уже исписан многослойной и длинной историей Османской империи и других цивилизаций.
Символизм и архитектурные планы Анкары были противопоставлены идеологии османизма с одной стороны и исламизму с другой. При этом собственно турецкая составляющая этого символизма представлялась в виде антипода ориентализму, витиеватости и орнаментальности, которые реформаторы приписывали традиционному Востоку (Bozdogan, 2001). Старые формы адаптировались к новому историческому нарративу. Так традиционная для деспотических государств Ближнего Востока форма мавзолея была использована в Анкаре в качестве памятника основателю современной Турции (Аныткабир) и мидиума для изложения перипетий национальной истории.
Перенос столицы должен был приблизить Турцию к идеалам модернизма и простоты, которые приписывались уже самому турецкому субстрату нации, освобожденному от имперских и ориентальных наслоений (Bozdogan, 2001). Имперское наследие османов объявлялось реформаторами устаревшим и даже опасным для строительства новой нации. Противопоставление османского и собственно турецкого наследия мы находим, например, в формуле Фалиха Рифки Атая, писателя и журналиста, близкого к Кемалю, а также почетного председателя комиссии по планированию Анкары: «Османы строили монументы, турки строят города» (Qinar, 2007: 153). Интересно, что в это же время младотурки отказываются от арабской вязи и переходят на латиницу. В первоначальном символизме Анкары обнаруживаются также попытки поиска и возрождения старых доисламских и доимперских почвенных анатолийских символов, например хеттского солнца, которое украсило герб новой турецкой столицы (Qinar, 2007: 161).
Турции была нужна чистая страница для того, чтобы начать писать свой собственный текст нации и создавать новые формы, которые воплощали бы стремления и чаяния турецкого народа, противопоставленные имперскому прошлому, сконцентрированному в Стамбуле.
В 2003 году решение о переносе столицы Ирана из Тегерана в другой город было принято правительством страны и предложено советом по определению политической целесообразности. Изначально эта идея была предложена духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.
По замыслу авторов такой перенос должен разгрузить 14-миллионную столицу, задыхающуюся от пробок и перенаселенности, а также позволит избежать или значительно снизить число возможных жертв в случае землетрясения, которое сейсмологи считают неизбежным в этом районе. По мнению профессора геофизики Тегеранского университета Бахрама Акашеша, если сила землетрясения будет составлять хотя бы шесть баллов, то погибнет до 6 % населения Тегерана, а 80 % зданий будет разрушено или станет непригодно для жилья. Некоторые эксперты дают еще более пессимистические прогнозы. В рамках одного из них ожидается, что в случае сильного землетрясения все дороги, ведущие в город, будут разрушены, что затруднит спасательные операции. Центр сейсмических исследований при министерстве науки Ирана все чаще фиксирует подземные толчки в окрестностях Тегерана, что «свидетельствует о накоплении энергии в предгорьях южной части хребта Эльборс».
Некоторые наблюдатели полагают, что смена столицы в неменьшей мере мотивирована политически, а именно соображениями безопасности государственных учреждений в случае массовых манифестаций протеста населения. Те из них, которые имели место в Тегеране после выборов президента, вызывают особые опасения иранского руководства. Главной движущей силой этих манифестаций, как известно, было студенчество, которое составляет значительную часть населения столицы. Кроме того, Тегеран традиционно считается в Иране крупным либеральным анклавом в традиционно религиозной и консервативной стране. На новом месте, предполагают эти аналитики, центральная власть будет избавлена от соседства с либеральной тегеранской публикой и беспокойным прозападным студенчеством.
Место для размещения новой столицы Ирана пока окончательно не выбрано. Некоторые специалисты, как, например, Акашеш, считают, что столичные функции можно вернуть Исфахану, который уже был столицей Ирана в XVI веке. Другие полагают, что по примеру некоторых других государств столицу следует построить с нуля. В качестве ее возможного расположения предлагается местность к югу от города Кум, где за последние две тысячи лет не было зафиксировано ни одного крупного землетрясения и которая известна религиозностью и консервативностью населения, важнейшие факторы для власти. Кум был тем городом, где жил, учился и преподавал аятолла Рухолла Хомейни, и место с такой славной предысторией может служить надежным оплотом режима. Таким образом, в новом месте будет учтено сразу оба мотива переноса. Интересно, что идеи переноса столицы в Кум уже высказывались Национальным комитетом защиты в 1915 году, когда русские войска вплотную подошли к Тегерану.
Исторически в Персии столицы менялись довольно часто. Тегеран получил статус главного города страны в 1795 году. До этого столичные функции поочередно исполняли Исфахан, Казвин, Шираз, Мешхед, Хамадан и другие города. Уже в качестве столицы Тегеран стал крупнейшим городом страны.
Основной рост мегаполиса пришелся на XX век – за неполные 100 лет население города увеличилось с 250 тыс. до 14 млн человек. Рост населения сопровождался бесконтрольной застройкой, что превратило Тегеран в бетонные джунгли. По мнению Акашеша, Тегеран стал столицей по ошибке. Еще в 60-е годы он предлагал комплекс мер, которые бы не позволили городу вырасти в мегаполис. Смена столицы включена в составленный на 2005–2025 годы всесторонний план развития страны и была одобрена верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи.
Перенос столицы в Северном Йемене произошел в 1962 году на волне революции, которая свергла имамат и королевскую власть и вернула столицу из Таиза в Сану. В 1948 году крайне непопулярный король Йемена Ахмед ибн Яхья Хамидаддин перенес столицу Йемена в Таиз, третий по величине город страны, который в древности также неоднократно служил столицей государства, в 1948 году. После смены короля и установления республики национализация власти потребовала смены политического центра.
В связи с Йеменом интересно также кратко сказать о выборе столицы после воссоединения страны в страны, хотя прямо эта тема не относится к переносам. Объединение двух стран, НДРЙ и Йеменской Арабской Республики, в 1990 году поставило перед новым государством дилемму выбора столицы. В качестве столицы нового союза была выбрана столица Северного Йемена Сана. Здесь важно отметить, что раскол Йемена – в противоположность Вьетнаму, Корее или Германии – произошел не на почве идеологии. Южная часть Йемена стала британским колониальным портом в 1839 году и была известна в качестве протектората под названием порт Аден. Северная часть Йемена оставалась частью Османской империи до 1918 года.
Исторически в Йемене было множество столиц и они часто менялись. Тафар – столица иудейского Химьяритского царства (до VI века). Позже, – в VII–IX веках, – резиденция наместников арабских халифов, частью владений которых стал Йемен, располагалась в Сане. С XII по XIII век столица находилась в Таизе, столице династии Айюбидов. В XI веке одна из величайших королев Билкис-младшая унаследовала от своего мужа государство Сулайхидов, перенесла столицу из Саны в Джиблу. Позже – с XIII по XV век – столицей государства становится Забид, центр династии Расулидов и центр мусульманской учености, который был столицей также с IX по XI век. С начала XVI века столицей стал город Сана. Некоторые династии (Русалиды) пользовались сразу двумя столицами (Таизом и Забидом).
После освобождения Северного Йемена от турецкого господства столица оказалась в Сане, который был наиболее исторически долговременным политическим центром страны и важным коммерческим городом. Среди причин, определивших этот выбор после объединения страны, следует назвать, прежде всего, то, что Северный Йемен был более богатым и демографически крупным государством, и объединение состоялось именно на его основе. Другим важным фактором было то, что столица Южного Йемена, Аден, был классическим колониальным портом. Южный Йемен перестал быть колонией Великобритании только в 1967 году и вопросы национальной и дистанцирования от колониальных символов старой власти стояла здесь более остро. В целом Йемен следует здесь классическому примеру описанных нами постколониальных перемещений столиц вглубь страны в свои традиционные центры из коммерческих и более космополитичных портовых городов.
Следует также упомянуть, что продолжающиеся гражданские конфликты и столкновения в Йемене во многом связаны именно с недостаточной репрезентацией Южного Йемена в столице, в органах власти и в политической жизни воссоединившейся страны.
Афганистан
В 2008 году было принято решение о строительстве новой столицы страны – «нового Кабула». По оценкам проектировщиков, это будет новый современный город с населением около 3 млн человек.
На строительство «нового Кабула» различными странами (Япония) и международными организациями уже выделено 500 млн долларов. Всего же, по оценкам разработчиков, на реализацию проекта потребуется от 15 до 30 лет и 34 млрд долларов.
На настоящий момент Кабул является главным экономическим и культурным центром страны. Он был основан Бабуром в 1504 году как столица Могольской империи. Главными причинами строительства нового города считаются чрезвычайная перенаселенность Кабула и недостатки его инфраструктуры, которые чрезвычайно пострадали от недавних войн и гражданских конфликтов. Так, город, рассчитанный по своей инфраструктуре на 750 тыс. человек, в настоящее время населяют 5–6 млн жителей. Строительство города также должно обеспечить работой около 300 тыс. афганцев.
Постколониальное строительство наций в Латинской Америке
В Латинской Америке мы сталкиваемся с самыми высокими уровнями централизации, широкой распространенностью феномена приматных городов, неразвитостью реальных федеративных принципов управления (следует заметить, однако, что многие государства здесь номинально являются федеративными, а несколько унитарных государств региона в прошлом пытались сформировать или стать частью жизнеспособных федераций), высоким уровнем моноцефальности, характерной для урбанистических сетей этого региона. Например, треть населения Чили живет в Сантьяго, и треть населения Аргентины живет в Буэнос-Айресе.
Сверхцентрализация находит свое выражение в целом ряде показателей и индикаторов: высокий уровень концентрации ресурсов в центре, отсутствие выборности региональных и местных органов власти, значительное превосходство доли федеральных расходов в совокупном государственном бюджете над местными расходами. Все эти показатели характерны практически для всех государств Южной Америки. В этот же латиноамериканский урбанистический контекст укладывается Мексика и государства Центральной Америки в силу особенностей общей колониальной истории всех этих государств.
Американские урбанологи Себастьян Галиани и Сукко Ким в своем чрезвычайно информативном и интересном исследовании феномена первенствующих, или приматных, городов в Латинской Америке, основанном на анализе корреляций между приматностью (primacy) города и различными политическими и экономическими переменными (федеративностью, столичностью, демографическими параметрами, доходом на душу населения и тому подобными показателями), приходят к следующим важным выводам.
В Латинской Америке статус политических столиц в гораздо большей степени отражает и определяет урбанистическую концентрацию населения, чем в Северной Америке. По их подсчетам, в то время как статус национальной столицы в странах Латинской Америки (в исследовании рассматривается 18 стран) увеличивает столичный город примерно на 232 %, в Канаде и США эти показатели составляют соответственно 154 и 175 %. В таких латиноамериканских странах, как Аргентина, Колумбия и Перу, этот показатель значительно выше – более 300 %, а в Мексике он достигает даже 495 % (Galiani, Kim, 2008: 5–6, 14).
Причиной этого различия американские урбанологи считают уровень концентрации политической власти, который был предопределен колониальной историей стран Латинской Америки и, прежде всего, испанскими традициями сверхцентрализации. Португальские политические традиции, по их мнению, были не столь жесткими, что определило гораздо менее централизованную систему политической власти в Бразилии. Напротив, в англосаксонских колониях Нового Света столицы размещались в небольших городах, часто в географическом центре штатов; политическая власть при этом была гораздо более децентрализована (Galiani, Kim, 2008: 15–17). Среди иных важных причин сверхцентрализации называются высокий уровень коррупции, экономика, ориентированная на извлечение позиционной ренты, зависимость экономики и бизнеса от особых лицензий на экспортно-импортные операции, право на выдачу которых сосредоточено в руках столичных чиновников.
Дополнительной важной особенностью столиц Латинской Америки, которые отличают ее от стран Азии и Африки, является то, что испанцы руководствовались, прежде всего, политическими, а не экономическими мотивами в расположении колониальных столиц всего континента (Eisenstadt, Shachar, 1987: 89–90, 319). Экономические соображения играли главную роль в расположении столиц только в нескольких случаях, когда столицы оказывались в портовых городах. Например, в случае Перу испанцы отказались от древней инкской столицы Куско и переориентировали урбанистическую иерархию на Лиму, так как на тихоокеанском побережье Перу было много полезных ископаемых в противоположность мексиканскому атлантическому побережью, практически бесполезному с этой точки зрения (Toynbee, 1987: 41). Первой столицей Гондураса на короткое время стал приморский город Трухильо, однако вскоре столица была отодвинута вглубь страны сначала в Комаягуа, а много позже в Тегусигальпу. Приморская столица была оставлена во многом из-за опасений по поводу карибских пиратов и возможных атак других колониальных держав, активных в Карибском море. Любопытно отметить, что сравнительно недавно возникла идея о возрождении Трухильо и превращении города в центрально-американский Гонконг.
Однако в большинстве случаев, как уже было сказано, в западном полушарии испанцы предпочитали опираться на уже существующую урбанистическую иерархию и сложившиеся связи и традиции политической субординации доколумбовой Америки и редко создавали новые портовые колониальные столицы, как это было более характерно для Азии и Африки. В случае Мексики была выбрана ее старая внутренняя столица (Мехико), которая уже в течение столетий индейской предыстории выступала в качестве политического центра. Таким же образом сложилась ситуация со столицами Колумбии (Богота) и Боливии (Сукре), а также со столицами практически всех государств Центральной Америки – Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Коста-Рики. В этой закрепленности столиц в глубине материка, часто в старых политических центрах доколумбовой Америки, видимо, состояла одна из причин относительной редкости переносов столиц в Латинской Америке в сравнении с другими регионами мира, куда проник колониализм. Те переносы столиц, которые здесь происходили, были связаны, прежде всего, с внутренними факторами: необходимостью достижения компромисса между важнейшими политическими центрами (Никарагуа) или противостоянием сторонников независимости или федеративных или имперских образований (в Коста-Рике столица была перенесена в 1823 Г°ДУ в результате гражданской войны из Картаго, который тяготел к Мексике, в Сан-Хосе, жители которого выступали за независимость страны).
Можно назвать и ряд иных причин. Жители латиноамериканских колоний были гораздо более тесно интегрированы с метрополией лингвистически, этнически и религиозно. Противостояние колонизаторам и их культуре, как чему-то совершенно чуждому эндогенным обществам и культурам, здесь было гораздо менее интенсивно. В силу креолизации и метисизации населения здесь не так сильно был развит этнический национализм. В целом в испанской Америке отсутствовали многие из тех форм и формул колониальной зависимости и противостояния, которые доминировали и мотивировали переносы столиц в странах Азии и Африки.
Мысль о необходимости переноса столицы Бразилии в глубинные районы страны была озвучена уже в конце XVIII века борцами за независимость государства. Первые две столицы Бразилии виделись ими как города, отмеченные знаками и символами португальского колониального господства. Сальвадор был столицей до 1763 года и служил центром плантационного хозяйства, где культивировались сахарный тростник и кофе. Рост Рио-де-Жанейро и переезд туда столицы были связаны, прежде всего, с экономическими причинами – освоением месторождений полезных ископаемых в Минас-Жерайсе, а также с удобствами бухты. Однако в обоих случаях столицы Португалии располагались на Атлантическом побережье страны, где концентрировалась экономическая деятельность и где вся система хозяйства была ориентирована на вывоз сырья в метрополию.
В 1950-е годы идеи о необходимости более сбалансированного развития страны и освоения огромных территорий внутри материка, где решено было построить новую столицу государства, обрели новую актуальность и стали широко обсуждаться в политических и публичных кругах. Новый город должен был стать точкой роста в сертане, пустынных и засушливых областях государства. Вдохновителем, пропагандистом и энергичным энтузиастом этой идеи, которая приобрела огромную популярность, стал президент страны Жуселину Кубичек. Градостроительные планы новой столицы осуществили архитекторы Оскар Нимейер и Лусиу Коста (Epstein, 1973).
Другим важнейшим мотивом строительства новой столицы и главной темой ее архитектурного плана стала идея социального преобразования страны, которая воплотилась также в утопической концепции архитектуры. Концепция Бразилиа во многом опиралась на модернистские идеи Ле Корбюзье о потенциале социальной трансформации, который таится в самой концепции города. Если прежние социальные теоретики считали, что город является продуктом исторического развития народа, то, с точки зрения модернистов, архитектура вновь спланированного города и его устройство должны были служить планом, архетипом и схемой для развития всей нации. Особенно это относилось, конечно, к столичному городу. Старые города не только мумифицируют устаревшие архитектурные и художественные стили, но и увековечивают формы общественного неравенства и несправедливости. Поэтому архитектура – и в частности строительство совершенно новых городов и столиц – должна была стать одним из важнейших средств социальной инженерии и революционного преобразования общества и мира в целом (Holston, 1989; Evanson, 1973).
Подобно многим другим социальным идеям (например, коммунизму), выросшим на ниве Просвещения, модернистские идеи такого рода находили гораздо более горячий и практический отклик, а также более благоприятную и отзывчивую среду для своего осуществления и не в Европе, а за ее пределами, особенно в таких странах, как Россия, Мексика, Бразилия или Индия, где и были впервые опробованы некоторые из наиболее радикальных социальных экспериментов. Не стала исключением и новая концепция столичного города.
Бразилиа стала одной из немногих практических реализаций модернистских идей и принципов Корбюзье. Урбанистическая архитектура новой столицы должна была стать прологом если не социальной революции, то во всяком случае глубокой социальной трансформации всего бразильского общества. В этой архитектуре должны были воплотиться принципы того, как люди должны жить, а не того, как они на данный момент живут. Вероятно, не случайно авторами этого проекта стали люди, которые были не только последователями Корбюзье, но и марксистами. Коста и Немейер полагали, что вся страна должна строиться по образу и подобию столицы, которую они решили создать. Именно в силу этих причин Умберто Эко назвал Бразилиа «городом надежды и последней утопией XX века» (Есо, 1987).
Пророком нового города – во всяком случае так гласит легенда – считается итальянский священник и католический святой Джованни Боска, который якобы еще в 1883 году в одном из своих профетических видений пророчествовал о возникновении в южном полушарии между 15 и 20 параллелями совершенно новой цивилизации, где потекут молоко и мед. В недрах земли там, говорил Боска, сокрыты золотые сокровища.
В основу плана Бразилиа была положена монументальная традиция в архитектуре. Здесь были возведены ансамбли новых зданий с чрезвычайно оригинальной конструкцией и множеством открытых пространств, которые создавали ощущение свободы, полета и раскрепощенности. По оценке одного критика, впрочем, довольно типичной, «ансамбль правительственных зданий создает атмосферу близкую к сновидению». Сам план улиц включал в себя образ летящего аэроплана, воплощая метафору полета в самой топографии города. Модернистский проект Бразилиа и общий план города, по мнению очевидцев, отличаются картезианской элегантностью и нечувствительностью ко времени и переменам. Новая столица проецирует на всю страну свою просветительскую миссию организации и стимулирования технологии и инноваций (Evanson, 1973).
Интересно отметить, что через голову модернистского проекта бразильский проект нового города перекликается также и с городом Эль-Амарна в Древнем Египте, столицей религиозного реформатора, фараона Эхнатона. Эту египетскую составляющую и солнечный символизм Бразилии связывают с путешествием президента Кубичека в Луксор в 30-е годы. В этом контексте в некоторых опорных конструкциях и символах города прочитывается двойной смысл. Например, перекрестье в плане города служит символом не только аэроплана, но и ибиса, птицы египетского бога Хороса. Здание Национального конгресса с двумя огромными колоннами и двумя куполами воплощает поднимающееся солнце и луну. Каждый год 21 апреля, в годовщину основания Бразилиа, солнце поднимается точно между двумя этими зданиями и лучи света подтверждают солнечную и магическую – египетскую – миссию новой столицы (Kern & Pimentel, 2001).
Оценки успешности проекта и Бразилиа как города в обширной литературе, ему посвященной, были и остаются весьма двойственными.
Известный футурист Маккинли Конуэй в своей книге «Глобальные суперпроекты, которые формируют наше будущее» признал его лучшим правительственным проектом в недавней человеческой истории. ЮНЕСКО включил город в список всемирного наследия человечества. До сих пор нередко звучат весьма восторженные отзывы о замысле города и его архитектурном стиле. Например, Клаудио Куэйроз, профессор Бразильского университета, охарактеризовал этот проект как «момент истины» в человеческой истории:
Строительство Бразилиа было моментом истины в истории человечества. Это был такой процесс, в который словно были вовлечены одновременно Микеланджело и Леонардо и в котором как будто была воплощена максима Людвига Витгенштейна о том, что эстетика и этика суть одно и то же. Бразилиа – это синтез всего человеческого знания (Donahue, 2005).
Куэйроз далее характеризует Бразилиа как нормативный проект не только города, но и поведения его граждан, вероятно, следуя концепции Корбюзье о потенциале города в плане морально-политической трансформации общества и даже нравственных норм.
Критики новой столицы Бразилии, особое место среди которых занимает Холстон и его блестящая книга «Антропологическая критика Бразилии», часто обращают внимание на безжизненность ее улиц, отсутствие теплоты, формализм и отчуждающие эффекты грандиозных зданий, угрюмую монотонность одинаковых суперблоков. Они также говорят об отсутствии нормальных пешеходных зон и улиц, полноценной городской среды, а также стандартизации и унификации жизненных пространств. Авторитарное урбанистическое планирование, по мнению этих критиков, привело к возникновению дорогостоящих и непрактичных зданий, нечувствительных к времени и социальным изменениям (Holston, 1989).
Другим важным недостатком города также называют его однозначную привязанность к отжившему свое время архитектурному стилю. Столица Бразилии стала своего рода мавзолеем архитектурной идеологии модернизма (Williams, 2005).
Бразилиа также не удалось осуществить планы социальной трансформации и достичь утопических целей социальной гармонии. Как известно, в свое время Коста и Немейер мечтали построить город без характерных для Рио фавел, нищеты и социального разделения. Однако общественное неравенство воспроизвелось в структуре расселения нового города. Более того, по некоторым оценкам, Бразилиа стала самым социально сегрегированным местом в стране. Бедноте позволили жить только в городах-спутниках Бразилиа, находящихся на расстоянии от 8 до 45 км от новой столицы. Таким образом, воплощение планов произошло как бы за счет самих целей, которые вдохновляли строителей города (впрочем, как Нимейер, так и Коста впоследствии обычно отрицали наличие тех широких и масштабных задач социальной трансформации, которые им приписывали). По мнению многих критиков, новая урбанистическая формация воспроизвела худшие черты старой на новом месте.
Экономисты также обращают внимание на то, что планы освоения новых регионов осуществились в весьма ограниченных пределах. Во всяком случае далеко не все урбанологи и экономисты готовы признать экономическую эффективность и оправданность новой столицы. Кроме того, критики указывают на то, что Бразилиа не удалось в достаточной степени разгрузить Рио от экспоненциального роста и загруженности транспортных магистралей.
Наконец, существует даже мнение о том, что Кубичек стремился не столько создать дополнительные точки роста, сколько изолировать политическую элиту страны от социальных протестов в Рио. Такое предположение – любопытное, но весьма сомнительное с точки зрения автора – высказал, в частности, Клаудио де Магалкес, лондонский профессор градопланирования. Через три года после переезда, замечает Магалкес, к власти в стране пришли военные, для которых была крайне желательна изоляция новой столицы от социальных протестов и весьма благоприятна возможность ограничивать доступ к городу через закрытие аэропорта (ВВС, 2009).
Промахи и неудачи кажутся этим критикам тем более досадными, что огромные затраты, которые высасывали ресурсы из общего бюджета государства в течение нескольких лет, могли бы служить для развития других областей и для удовлетворения более насущных потребностей страны.
Тем не менее, несмотря на все перечисленные неудачи, вряд ли можно считать строительство Бразилиа тем фиаско, которым его иногда объявляют. В действительности, как уже было отмечено, оценки нового города далеки от однозначности даже среди экспертов в одной и той же области. Сегодня большинство обозревателей и ученых считают строительство новой столицы умеренным успехом. В 1998 году в некрологе Лусиу Коста журнал «Экономист», обычно чрезвычайно скептичный и сдержанный в своей оценке крупных государственных проектов и особенно проектов, относящихся к смене столиц, писал:
Через сорок лет после своего создания Бразилиа не так далека от идеала Косты – города монументального, но удобного. Здания из цемента и стекла мало износились; экономика процветает. Правда, это не так уж и удивительно, учитывая, что основным бизнесом столицы является управление. Доход на душу населения в федеральном округе превосходит любой другой штат Бразилии. Среднему классу город предлагает чистый воздух и множество зеленых зон… и что чрезвычайно важно – уровень преступности здесь значительно ниже, чем в Рио или Сан-Паулу. Но самое главное, Бразилиа удалось сделать то, для чего она возводилась, – перенести центр тяжести страны на ее внутренние районы, после того как в течение 450 лет поселенцы жались к океанскому побережью. Тот регион, который в системе бразильской статистики называется центрально-западным районом, стал самым быстрорастущим районом страны, известным большим производством сои. В 1995 году продажи сои составляли 7,3 % ВНП страны против 2,4 % в 1959 году (The Economist, 1998).
Эта похвала журнала чрезвычайно важна и необычна. Бразилиа действительно стала не только столицей, но и одним из важных полюсов в развитии бизнеса. Кроме того, этот новый полюс, несомненно, перенаправил значительные миграционные потоки населения, которые бы в противном случае двинулись в Рио: с 1959 года город вырос до 1,8 миллиона жителей. Но что особенно важно – и этот фактор вряд ли можно просчитать – новая столица, согласно некоторым опросам, способствовала формированию новой идентичности бразильцев и стала важнейшей вехой в процессе национального строительства.
Перенос, который сам стал не только инструментом, но и в какой-то степени актом национального строительства, был осуществлен в кратчайшие сроки, особенно впечатляющие, учитывая масштабы этого грандиозного проекта. Многие наблюдатели обращали внимание также на спонтанность и народную волю, в которой идея новой столицы нашла сильный эмоциональный отклик. Автор довольно старого обзора столичных городов Элдридж иронически заметил: «Если бы Кубичек затеял сначала серию длинных социальных и экономических исследований на эту тему, скорее всего новый город так никогда бы и не возник» (Eldridge, 1975: 477). И, думаю, в этом замечании есть доля правды. Именно из-за этого вопреки перенос столицы Бразилии вдохновлял и до сих пор служит моделью для многих градостроительных проектов и переносов столиц в десятках странах мира, далеко не только латиноамериканских.
Факторы успеха бразильского эксперимента включали в себя в том числе и следующие компоненты: широкую народную поддержку этого плана, наличие строгих графиков и сроков осуществления различных фаз строительства и переезда в новый город разных органов власти и учреждений, энтузиазм и сосредоточенность руководства страны на осуществлении планов и участие в нем ведущих мировых архитекторов с оригинальными архитектурными и социальными видениями (Corey, 2004: 83–89).
В Чили стареющий генерал Аугусто Пиночет перенес парламентские функции из столицы Сантьяго в Вальпараисо.
Важно подчеркнуть, что Чили является одной из самых урбанизированных стран Латинской Америки. В 1995 году около 86 % жителей страны жили в городах и свыше половины всего населения проживало в двух центральных областях – Сантьяго и Вальпараисо. В столице страны Сантьяго проживало 5,07 млн жителей, а вместе с пригородами – 5,6 млн. Население Вальпараисо, главного порта Чили и места пребывания Национального конгресса, в 1995 году насчитывало 282,2 тыс. человек. Учитывая такие значительные диспропорции в размерах городов, решение Пиночета было, видимо, вполне разумным и своевременным.
В 1987 году Национальный конгресс Аргентины по инициативе президента Альфонсина одобряет закон о переносе столичных функций из Буйнос-Айреса в северо-восточную Патагонию, где путем консолидации двух небольших поселений– Виедмы и Кармен-де-Патагонес – должна была возникнуть новая федеральная столица (Gilbert, 1989: 235).
Целью этого переноса была главным образом разгрузка Буэнос-Айреса, где к тому моменту уже жил каждый третий аргентинец. Как и в Бразилии, смена столицы должна была служить также и более амбициозным целям социальной трансформации аргентинского общества, направленной на осуществление трех задач: борьбе с существующей концентрацией всех функций в Буэнос-Айресе; стимуляция развития на периферии Аргентины, особенно на северо-востоке и на юге страны, и создание особого центра роста в самой Патагонии; трансформация неэффективной государственной бюрократии (Gilbert, 1989: 237).
Первым мероприятием в этом процессе должна была стать передислокация около 15000 правительственных чиновников на новое место. Было также запланировано, что к 1995 Г°ДУ в новой столице будут жить 315 ооо человек, а к 2025 году – 554000. Бюджет переноса приближался к 5 миллиардам, которые должны были быть израсходованы в течение 12 лет. Ожидалось, что половина этих средств будет потрачена из государственных фондов, а другая половина – из частных (Gilbert, 1989). Тем не менее высокая стоимость проекта и смена правительства положила конец этим планам. Проект был заморожен, хотя к нему часто апеллируют в текущих политических дебатах.
Вопрос о необходимости возведения новой столицы этого латиноамериканского государства встал на повестку дня правительства в связи с бедственной ситуацией в Каракасе. Главные проблемы города были связаны с его перенаселенностью, проблемами инфраструктуры и переработки и вывоза мусора, а также с многочасовыми пробками на автомагистралях. Каракас давно потерял свою былую привлекательность города красных черепичных крыш в качестве урбанистического центра, куда традиционно стремились переехать венесуэльцы со всей страны.
Именно поэтому все большую силу и размах стала приобретать идея строительства нового города, который должен был вместить в себя функции политического управления. Ее разработку в качестве специального проекта взял на себя в 2004 году венесуэльский парламент. Проект также получил поддержку президента страны Уго Чавеса (Poliszuk, 2004).
В качестве нового идеального места для воплощения этой идеи было избрано место на правом берегу реки Ориноко, между ее притоками Каура и Аро, примерно в 700 км к югу от Каракаса в штате Боливар. Специальная парламентская комиссия, которая разрабатывает закон о новой столице, предложила назвать ее Сьюдад-Либертадом, или Городом Свободы. О преимуществах, которые ожидают жителей будущей столицы, в интервью венесуэльской газете «Ла Расон» рассказал председатель парламентской комиссии X. Мануэль Сантьяго де Леон. По его словам, это будет самый современный город на земле, отражающий прогресс, которого достигла реформирующаяся Венесуэла.
На возведение столицы будут затрачены многомиллиардные средства, как отечественные, так и зарубежные. Сьюдад-Либертад видится проектировщикам как урбанистический центр континентального масштаба, как своего рода «оживленный перекресток» южноамериканской интеграции (Zurga, 2011; Poliszuk, 2004).
Проблемы с трудоустройством будущих жителей планируется решить за счет рабочих мест в добывающей промышленности. На левом берегу Ориноко в подземных толщах таятся огромные запасы нефти, а в горных кладовых штата Боливар обнаружено множество других полезных ископаемых, от золота до железной руды. По проекту, под рекой Ориноко будут проложены тоннели, которые свяжут новую столицу с Бразилией железной дорогой и с соседними штатами Венесуэлы – современными автострадами.
Для решения проблем с питьевой водой от реки Каура планируется провести акведук, способный обеспечить нужды будущей многомиллионной столицы. Современный аэропорт будет принимать несколько сот лайнеров ежедневно, а речной порт станет воротами в Карибское море. Проект планировалось финансировать за счет нефтяных супердоходов Венесуэлы (Zurga, 2011; Poliszuk, 2004).
Сейчас помимо этого Боливарского проекта обсуждаются и другие кандидатуры на статус новой столицы, в том числе город Кабрута в самом центре страны.
В 1980-е годы молодой президент Перу Алан Гарсиа Перес в рамках целостной программы экономических и социальных реформ, направленных отчасти на ограничение импорта и развитие экспортной индустрии, предложил разгрузить Лиму и перенести столицу страны с побережья в Анды, в город Уанкайо. Одной из задач молодого президента было также создание в лице переноса столицы крупного государственного проекта, который мог бы обеспечить занятость населению. Кроме того Лима постоянно территориально розрасталась и только за 10 лет (с 1965 по 1975 год) поглотила 14 тыс. гектаров наиболее ценных орошаемых земель в долине реки Римак. Этот рост необходимо было остановить. Эксперты также указывают на высокую сейсмическую опасность Лимы, которая вошла в число городов-бомб с часовым механизмом (список американского сейсмолога Роджера Билхэма).
Однако непопулярность программы экономических реформ президента Гарсиа, которые вызвали колоссальную инфляцию и обнищание масс населения, надолго привели к дискредитации этой идеи (Richardson, 2003). Перес вновь пришел к власти в Перу уже не столь молодым человеком, но идея переноса столицы пока им не поднималась.
В 2007–2008 году в Боливии, самой бедной латиноамериканской стране, началась своего рода «столичная война» с многомиллионными митингами протеста. Страна оказалась расколотой на два лагеря: сторонников переноса столицы в Сукре, который является первой и официальной столицей страны, и сторонников сохранения фактической столицы страны в Ла-Пасе, самом крупном городе государства. В настоящее время в Сукре находится только конституционный суд, а парламентские и исполнительские функции власти сосредоточены в Ла-Пасе. Сторонники Сукре выказывают недовольство концентрацией столичных полномочий в Ла-Пасе и считают необходимым перенос столицы в центр страны; их поддерживают многие сторонники конституционной автономии всего центрального региона, богатого природными ресурсами.
Ла-Пас является базой поддержки президента страны Эво Моралеса и его левого Движения за социализм. Эво Моралес, первый индейский президент страны, назвал сторонников Сукре сепаратистами, разрушающими единство государства, а также «олигархическими остатками белой элиты, которая годами доминировала и грабила Боливию». Новая конституция, принятая только четырьмя из девяти штатов страны, сохранила фактические столичные полномочия за Ла-Пасом.
Боливийская «битва за столицу» кажется классическим примером того, как политические и имущественные интересы оказываются воплощенными в географических категориях (McDonnell&Ordonez, 2007).
С 1838 года, когда Гондурас стал независимым и отдельным государством, столица страны в течение некоторого времени перемещалась между старой колониальной столицей Комаягуа и Тегусигальпой. В 1880 году президент страны Марко Сото провозгласил Тегусигальпу новой постоянной столицей государства.
Обычно ссылаются на две мотивировки этого переноса: разруха в Комаягуа в результате гражданской войны и личный интерес президента, которому принадлежала часть американской компании по добыче серебра, находившейся неподалеку от Тегусигальпы. Марко Сото необходимо было совмещать свою политическую деятельность с деловой активностью в качестве партнера в этой компании. Иногда ссылаются и на другие личные мотивы этого решения.
В целом модель этого переноса соответствует логике перемещения из старой колониальной столицы на новое место с целью новой национальной интеграции, хотя этот мотив здесь не был специально акцентирован. Примечательно, что в период формирования несостоявшейся федерации центрально-американских республик (в составе Сальвадора, Гватемалы и Гондураса) в 1921 году Тегусигальпа избиралась в качестве их федеративной столицы, что указывает на высокий региональный интеграционный статус города. Во времена испанского владычества этот город уже стал наиболее экономически важным гондурасским центром. Эти причины указывают на важные соображения, связанные с аспектами национального строительства.
Белиз и Гаити
Причиной для строительства новой столицы Белиза, города Бельмопан, послужило практически полное разрушение прежней столицы страны, города Белиза, ураганом в 1961 году. Решение о строительстве новой столицы было принято в 1962 году. Бельмопан был построен в центре страны, вдали от побережья и опасных тропических циклонов, на расстоянии 87 км на запад от старой столицы, с 1967 по 1970 год (Kearns, 1973).
Та же причина переноса выдвигается сегодня и на Гаити, столица которого Порт-о-Пренс была на 75 % разрушена землетрясением в 2010 году. Сейсмологи полагают, что настоящую столицу ожидает еще более мощное землетрясение в течение следующих 20 лет. Ряд специалистов и политиков, в том числе Бернхардт Этхарт, который возглавляет правительственный институт по земельным реформам, и ряд исследовательских институтов, выдвинули предложение о строительстве новой столицы страны подальше от побережья.
Экономист Тайлор Коэн выдвинул в качестве кандидата на эту роль город Кап-Аитьен. Задачи нового города, согласно их замыслам, должны быть сопоставимы с задачами новой столицы Бразилии – создание новых рабочих мест и экономическое возрождение страны. Некоторые другие экономисты и урбанологи считают, что Гаити нужен новый «чартерный город», который бы управлялся третьей страной. Он должен быть построен с нуля и должен руководствоваться правилами особой хартии. Моделью такого «чартерного города» они считают опять же Гонконг в Китае.
Постсоветские страны
В постсоветском контексте обсуждения возможных переносов столиц прослеживаются общие темы национальной консолидации, децентрализации, а в некоторых случаях озвучиваются также темы деколонизации, хотя и заметно меньше, чем в уже описанных нами регионах.
После распада Советского Союза пять центральноазиатских республик получили государственную независимость. Спецификой среднеазиатских республик было то, что в досоветский период многие из них не имели собственной государственности и в наименьшей степени были готовы к независимости по сравнению с другими республиками СССР. Уникальность Казахстана при этом состояла еще и в том, что к моменту распада Советского Союза титульная нация этой республики, казахи, не были большинством населения в своей стране (Wolfel, 2002).
Советской столицей Казахстана был город Алма-Ата. Вскоре после распада СССР президент Казахстана Нарсултан Назарбаев принял решение о переносе столицы в новый город, который был переименован из Целинограда в Астану. Новая столица была построена по архитектурному плану британского архитектора Нормана Фостера на базе города Акмола среди пустынных степей Казахстана. В 1997 году город получил официальный статус и правительственные служащие и дипломаты должны были вскоре переехать в новую столицу, оставив зеленую Алма-Аты, и продолжать по-фазово заселять город.
В числе официальных причин переноса называлась близость Алма-Аты к китайской границе, сейсмическая опасность, невозможность пространственного расширения города, окруженного горными массивами, а также неблагоприятный климат (Смирнягин, 1998).
Первоначально решение Назарбаева не было популярным. В Казахстане сложилась заметная внутренняя оппозиция в отношении этого решения. Многочисленные критики обращали внимание на то, что финансовая ситуация в стране в этот период была наименее благоприятна для такого рода решений. Для многих внешних наблюдателей, включая российское руководство, мотивация переноса была не вполне понятной и казалась самодурством или капризом восточного автократического политического лидера. Чрезвычайно скептически на эту новость отозвались также географы и политические комментаторы, проводя многочисленные в целом верные параллели и указывая не непродуманность этого шага (Смирнягин, 1998).
В своем глубоком и проницательном анализе переноса столицы Казахстана американский и канадский политолог Эдвард Шац показывает многообразные аспекты этого решения и многоуровневые контексты консолидации политической власти, которые предполагал проект Назарбаева. Американский политолог особенно подчеркивает важность контекстов государственного и национального строительства для понимания этого эксперимента, обращая внимание на моменты сходства казахского опыта и задач с многочисленными африканскими прецедентами смены столиц (Schatz, 2003).
Среди наиболее важных причин переноса Шац называет консолидацию государственной власти в Казахстане и реконструкцию или модификацию системы патримониальных отношений, которая должна была заменить старую советскую систему патронажа. Задачей администрации Назарбаева стало создание новой системы лояльности в стране, во многом основанной на родственных и клановых связях, а также маргинализация старых элит. Перенос столицы позволил Назарбаеву сплотить вокруг себя новую элиту, политический вес которой заметно возрос в связи с открытием страны для иностранных инвестиций, массовой приватизацией предприятий и подъемом добывающей промышленности, направленной на экспорт нефти, газа и минеральных ресурсов. По словам Шаца, перенос столицы позволил реорганизовать правящую элиту без использования насильственных механизмов (Schatz, 2003).
Эта новая система лояльности во многом опиралась на перегруппировку и балансирование интересов трех основных субэтнических групп или племенных объединений страны (жузов), каждый из которых был локализован в различных географических зонах страны. Большой жуз, или Большая Орда, концентрировалась на юге, средний жуз – на севере и малый жуз, или Малая Орда, – на западе государства. Важно иметь в виду, что вопреки некоторым популярным интерпретациям жузы получили свое название не по размеру и количеству принадлежавших к ним кочевников, но по старшинству входивших в их состав родов (уру).
Перенос столицы на север позволил создать прочный альянс со средним жузом, наиболее русифицированным из трех, а также нейтрализовать влияние младшего жуза, на территории которого находится наибольшее количество природных ресурсов Казахстана. Политическое руководство страны оказалось укомплектованным по преимуществу членами большого жуза, к которому принадлежит сам Назарбаев, в том числе и его ближайшими родственниками. Члены большого жуза также возглавили крупнейшие нефтедобывающие корпорации страны. Средний жуз, на территории которого оказалась новая столица, получил новые преимущества, вытекающие из пребывания столицы на его территории, – главным образом наиболее благоприятные условия для быстрых темпов экономического роста и для наращивания своего влияния. Технократически ориентированная казахская молодежь, получившая образование за рубежом, также выиграла по сравнению с теми возможностями, которые она могла бы реализовать в Алма-Ате при старой советской патриархальной элите. Таким образом, строительство новой столицы, в котором большое финансовое участие приняли добывающие корпорации Казахстана, способствовало сплочению политических и экономических элит страны.
Наконец, следующим элементом стратегии Назарбаева – его многие политологи считают главным и решающим – была нейтрализация русского или русскоязычного населения на севере Казахстана. Символический статус столицы и миграции этнических казахов в Северный Казахстан с юга и с запада страны естественным образом уменьшали возможные шансы России осуществить возможные планы на присоединение Северного Казахстана и поглощение обширных степных регионов, где в городах большинство жителей составляли этнические русские, казаки и немцы. Это давало возможность Казахстану значительно ослабить вероятную и вполне реальную угрозу со стороны сепаратистов внутри страны и ирредентистов в России. Решение принималось на фоне растущих конфликтов такого рода в Приднестровье в Молдове, в Нагорном Карабахе в Азербайджане, в Абхазии и в других частях бывшего СССР.
Кроме того, новая архитектура Казахстана свидетельствовала о притязаниях страны на роль крупнейшего экономического и политического центра Средней Азии. Многочисленные дворцы и блестящие высотные здания должны были указывать на принадлежность государства к числу важнейших модернизирующихся экономик региона.
Новая архитектура смогла вписать кочевое прошлое казахов в контекст метанарратива глобализма и модернизации. Так, в городе было открыто величественное юртообразное строение с садами и пляжами внутри, которое подчеркивало возможность соединения прошлого и будущего. Еще более важным кажется то, что символизм новой столицы и ее общий градостроительный план подчеркивали не только казахскую идентичность, но и акцентировали идеологию евразийства, единства русского и тюркского этносов и их общей культуры. Эта идеология, которая стала фундаментальной политической стратегией казахского политического руководства, позволяла более успешно интегрировать многоэтническое население Казахстана, особенно его северной части. Не случайно и основной университет в городе был назван именем Льва Гумилева.
Но одновременно со всем этим и во многом вопреки евразийской риторике, предназначенной для внутреннего пользования, новая столица позволила казахам дистанцироваться физически и символически от прочих среднеазиатских столиц, которые ассоциировались с экономической отсталостью, и подчеркнуть современной архитектурой свою именно европейскую идентичность. В этом смысле Астана стала своего рода казахским «окном в Европу». На Европу указывает и географическая приближенность к российской границе.
Шац обращает внимание на многие элементы сходства в мотивациях переноса столицы Казахстана и некоторых африканских стран: отсутствие государственности в до-советских и доколониальных контекстах, этнолингвистическое разнообразие, наличие этнических и субэтнических конфликтов, огромные слабозаселенные территории, патерналистское содержание переноса столицы и его ориентация на отношения патронажа. Хотя в переносе столицы Казахстане было немало мегаломании и элементов азиатчины, включая сервилистские предложения со стороны некоторых членов казахского парламента (мажилиса) назвать новый город в честь самого Ел басы Нурсултаном, Шац считает неправильным видеть в этом проекте лишь голое восточное самодурство и мегаломанию. В дополнение к личным целям он различает в этом проекте также попытку построить фундамент для новой национальной стратегии, которая могла бы разрешить многие реальные проблемы Казахстана (Shatz, 2003).
Если преодоление угрозы сепаратизма и «казахизация» северной части страны действительно были главной целью казахского руководства, то перенос с ней успешно справился. К 2010 году количество жителей в столице превзошло 700000 человек, большинство из которых составляли представители титульной нации – этнические казахи (65 %). В 1989 году казахи составляли только 18 % населения города.
В Астане, разумеется, остается множество проблем. По сей день из старой столицы множество казахов едут в Астану на службу в рабочие дни, а по выходным возвращаются к себе домой. Климат Астаны также для многих остается непривычным. Температура в городе может достигать плюс 40 летом и минус 40 по Цельсию зимой. Это вторая самая холодная столица мира после Улан-Удэ. Некоторые жители жаловались также на невысокие стандарты качества аврального жилищного строительства.
Но, несмотря на все эти проблемы, на фоне крайней непопулярности решения о переносе в середине 1990-х годов сегодня большинству граждан Казахстана оно кажется правильным и прозорливым и рейтинг его ретроспективной поддержки согласно опросам сильно вырос (Алимбекова, 2008). И это не обязательно славословия автократического лидера. По мнению многих наблюдателей, поддержка этого проекта вполне широкая и искренняя.
Подобно тому как пример Бразилии стал моделью для подражания сначала для стран Латинской Америки, а потом и многих других стран (например, для современной Индонезии), пример Казахстана вдохновил политическое руководство многих постсоветских государств. Перед многими из них стояли сходные проблемы национального строительства, проблемы этнических или субэтнических отношений, а также смены старых элит и урбанистических иерархий. Две бывшие советские республики – Азербайджан и Киргизия – проявили особый интерес к казахскому опыту. Представители этих республик неоднократно ссылались на него в своих смелых предложениях по реорганизации своих столиц.
Подобно Казахстану главным мотивом обсуждений возможного переноса столицы из Бишкека в Ош стали потенциально спорные территории и доминирование инородной этнической группы (узбеков) на юге Киргизии. Высказывались мнения о том, что перенос столицы смог бы консолидировать политический контроль на южных территориях, в частности контроль за потенциальной террористической деятельностью исламистов, и укрепить безопасность государства, а также привлечь капиталы к финансированию и экономическому развитию юга страны.
Обсуждения этого вопроса начались еще при Аскаре Акаеве сразу после распада Советского Союза. Вопрос о смене столицы также поднимался при свергнутом президенте Киргизии Курманбеке Бакиеве и сегодня сохраняется в повестке дня публичных, в том числе и парламентских, дебатов. Лидер партии «Асаба» и заместитель председателя временного правительства Азимбек Бекназаров, например, заявил: «Наша партия будет настаивать на том, чтобы все органы государственной власти были переведены на юг Кыргызстана. Без переноса властных структур туда проблема никогда не решится. А все основные проблемы Киргизии– на юге» (Ата Мекен, 2010).
Критики этой идеи указывают на уязвимость Оша в случае войны с Узбекистаном и возможную «ферганизацию» и исламизацию Кыргызстана в случае переезда политического центра, отсутствие бюджетных средств для такого масштабного проекта, а также демографический дефицит на юге государства. Среди других возможных кандидатов на роль новой столицы назывались также Иссык-Куль, преимуществом которого является центральное расположение, а также Чолпон-Ата.
Таджикистан
Советское правительство в 1920-е годы включило Самарканд и Бухару, где было сосредоточено основное городское таджикское население, в состав Узбекской ССР. В результате Душанбе, основное население которого составляли русские, стал столицей республики. После распада СССР город стал более таджикским. Тем не менее с 1992 года неоднократно ставился вопрос о переносе столицы в другой город, главным образом в связи с гражданской войной (в качестве кандидата назывался Худжанд на севере республики). В некоторых своих выступлениях президент Таджикистана также высказывал претензии на Самарканд и Бухару.
В последние годы дебаты по поводу новой столицы интенсифицировались. В числе других кандидатов обсуждались Куляб, который считается самым древним таджикским городом. Тем не менее наиболее вероятным кандидатом на роль новой столицы наблюдатели называют город Дангара (Салимпур, 2012).
Среди преимуществ Дангары, расположенного в 100 км восточнее Душанбе, называют его нахождение в малозаселенном районе, территория которого может быть использована под массовое строительство административных и жилых зданий. Но главным преимуществом города и вероятно главной причиной его пребывания в списке является то, что Дангара является родиной действующего президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Наблюдатели отмечают, что некоторые мероприятия по подготовке к осуществлению этого проекта уже начались. Например, осуществляется правительственный проект по завершению обновления дорог и строительству новых зданий в этом регионе. Недалеко от Дангары началась работа по строительству нового большого международного аэропорта. Журналисты также отмечают, что за последние 10 лет правительство постоянно переселяло семьи из деревень в Дангару.
Сценарий переноса, который развивается в Таджикистане, наиболее напоминает африканский сценарий, которые мы уже обсуждали, главным образом выбором родины политического лидера в качестве основного кандидата на роль новой столицы и акцентацией мотивов родового патронажа.
Азербайджан
С начала 2000-х годов в Азербайджане широко обсуждается вопрос о возможном переносе столицы из Баку в другой город. Этот проект поддержал и президент Азербайджана Алиев.
Возникновение таких дискуссий было связано, прежде всего, с чрезвычайно высокой концентрацией экономики и ресурсов в Баку, где сосредоточилось до 90 % всех инвестиций и экономической мощи страны. Кроме того, по мнению специалистов, уровень развития городской инфраструктуры перестал отвечать требованиям демографической ситуации и стремительному росту города. После развала СССР в город хлынуло множество мигрантов из деревень и беженцев из Нагорного Карабаха и других регионов. Плотность населения Баку при этом, по оценкам экспертов, увеличилась в три-четыре раза, значительно обострилась экологическая ситуация и транспортная проблема. Другой важной причиной необходимости переноса столицы, по словам сторонников этого проекта, является и то, что Баку расположен в сейсмоопасной зоне. По словам бывшего начальника Глав-бакстроя Эмиля Ахундова:
Баку становится все менее комфортабельным. Четырехмиллионное население Баку пользуется инфраструктурой двухмиллионного города, заложенного в Генеральном плане. С одной стороны, Азербайджан – это относительно небольшая страна по территории, и не очевидно, что предполагаемая новая столица должна воздвигаться в географическом центре страны. С другой стороны, бурный рост экономики, растущие нефтяные доходы открывают чисто финансовые возможности для создания новой столицы.
Он также отмечает, что, несмотря на обсуждения и даже на ряд предварительных технико-экономических обоснований, все еще не сделан главный выбор: надо ли переносить столицу в какой-то другой город, расширив его возможности, или лучше строить новую столицу с соответствующей инфраструктурой.
В качестве наиболее вероятного кандидата на роль новой столицы Азербайджана предлагался город Гянджа, который многие эксперты рассматривают как центр всего Южного Кавказа. По словам одного из сторонников этой кандидатуры:
Если рассматривать с границ Азербайджана, Грузии и Армении, – говорит Нусрет Ибрагимов, – то до Гянджи практически одинаковое расстояние. С одной стороны, Гянджа близка к горным районам. С другой стороны, она находится на равнинной местности, при этом география Гянджи позволяет установить необходимую для регионального центра инфраструктуру. Исходя из этого у этого города хорошие шансы, для того чтобы превратиться в региональную столицу. Кроме того, Гянджа расположена сравнительно на одинаковом расстоянии от региональных городов страны. Поэтому перемещение столицы в Гянджу будет служить своего рода толчком для развития внутренних районов страны.
Вместе с тем, по мнению эксперта, перенос столицы должен осуществляться постепенно или фазовым образом.
Противники переноса столицы ссылаются на высокую стоимость проекта и на более высокую приоритетность неразрешенной проблемы «национальной целостности страны», которая требует значительных финансовых вложений. В качестве альтернативы переносу столицы члены экспертного сообщества Азербайджана также предлагают и другие решения – строительство города-спутника в непосредственной близости от Баку или разработку регионального плана Большого Баку, который сможет дать градостроительное решение существующих инфраструктурных проблем (Халилов, Алиев, 2011).
В Грузии перенос столицы видится в двух контекстах: децентрализации и интеграции.
В некоторых заявлениях руководства республики отчетливо заметны соображения национального строительства. Стоит заметить также, что в плане диверсификации городов и равномерности развития территории страны реформы в Грузии можно считать одними из самых успешных на постсоветском пространстве.
В одном из своих заявлений Михаил Саакашвили высказал уверенность в необходимости перевода парламента Грузии в Кутаиси. «Кутаиси является центром страны и с учетом того факта, что высший законодательный орган в большей степени укомплектован представителями регионов, перенос парламента в Кутаиси является самым подходящим делом». Также уже утверждено решение о перенесении Конституционного суда Грузии в Батуми.
Саакашвили также изучал вопрос о переносе столицы Грузии в Сухуми, столицу Абхазии. В случае мирного развития отношений с Абхазией, по мнению Саакашвили, этот шаг мог бы помочь в интеграции разобщенной страны и стать одной из возможностей примирения.
В 2008 году Ваан Ованесян, руководитель парламентской фракции Армянской революционной федерации «Дашнак-цутюн», выдвинул идею переноса столицы страны в Степанакерт, на территорию Нагорного Карабаха, мотивируя эту идею необходимостью закрепления и интеграции новых территорий.
Это предложение во многом было вдохновлено опытом переноса столицы Казахстана. По словам Ованесяна, став армянской столицей, город смог бы быстрее развиваться и «никто бы не посмел больше называть его Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта. – В.Р.)». Степанакерт находится на территории Нагорного Карабаха, статус которого не вполне определен и который считается Азербайджаном и многими другими странами частью Азербайджана. Подобно тому как перенос столицы в Астану снял вопрос о российских претензиях на эти территории, по мнению Ованесяна, перенос столицы в Нагорный Карабах снимет вопрос об азербайджанских претензиях на эту территорию.
Полемика по этому вопросу в Армении вызвала шквал негодования в соседней республике. В Баку предложение было сочтено скандальной и экстремистской провокацией.
Идеи о переносе столицы в другой город получили распространение также и в Украине. В качестве кандидатов на роль новых столиц предлагались такие города, как Батурин (старая гетманская столица Украины), Донецк и Севастополь. Рассматривалась также идея города-спутника в непосредственной близости к Киеву.
Законопроект переноса столицы в Батурин предложил в свое время советник президента Кучмы Дмитрий Выдрин. Причиной переноса он назвал избыточную концентрацию ресурсов в Киеве, добавив, что «в регионах Украины киевлян сейчас ненавидят, как когда-то ненавидели сытых равнодушных москвичей». Кроме того, Батурин, который был казацкой столицей Малороссии в XVII–XVIII веках и был разрушен русскими войсками в 1708 году, символически мог бы восстановить нить исторической преемственности Украины с гетманщиной. В качестве дополнительного аргумента в пользу смены столицы Выдрин (всего он привел 30 разных доводов) назвал отделение бизнеса и власти, борьбу с коррупцией, а также безопасность дорожного движения.
До сих пор сохраняет популярность идея, высказанная в 2006 году, о создании особого Правительственного квартала или города сателлита, куда бы могли переехать все правительственные структуры Украины, в настоящее время разбросанные по всему городу. В контексте децентрализации интересен также перевод областной администрации Киевщины в город Белая Церковь и предложения о переезде в Харьков Конституционного суда.
В 2012 году на роль новой столицы Украины депутат Верховной рады от фракции Партии регионов Юрий Болдырев выдвинул Севастополь, который раньше предлагался в качестве своего рода летней столицы страны. Эту идею можно интерпретировать как в контексте казахстанской модели закрепления спорных или потенциально спорных территорий, так и в контексте сближения с Россией и Москвой, что вероятно и имел в виду Болдырев.
В этой связи интересна также и предыстория и советский исторический фон сегодняшних дебатов – перенос столицы из Харькова в Киев в 1934 году, мотивы которого до сих пор вызывают споры. Согласно официальной версии, которую сегодня мало кто разделяет, политический центр был перенесен для того, чтобы приблизить «столицу к важнейшим сельскохозяйственным районам правобережья». Согласно другой точке зрения столица была переведена для деукраинизации Украины и ослабления ее руководящих элит, которые не всегда проявляли достаточную лояльность к решениям советской власти (например, по вопросам поставок зерна во время голодомора). В начале 30-х годов, то есть в этот же период, Сталин путем репрессий уполовинил членов украинской компартии и различными способами снизил статус Украины, которая претендовала на более важную роль в составе СССР. Сталинскому руководству Киев казался более лояльным и покладистым городом, так как, во-первых, был общей русско-украинской исторической столицей и, во-вторых, там исторически было больше этнически русского населения. В противоположность сегодняшнему положению дел в 20-30-е годы именно Харьков демографически и идеологически казался столицей и более надежным оплотом украинского национализма.
Для современной Европы в целом характерен стабильный характер столиц. Законы дифференциальной урбанизации, описывающие асинхронные законы роста различных групп городов, а также зрелая урбанистическая сеть сделали европейские столицы достаточно устойчивыми и малоподвижными. История формирования европейской городской сети, описанная выше, указывает на невысокую степень распространенности приматных городов, умеренные темпы демографического роста столичных городов, функциональную дифференциацию и диверсификацию урбанистических функций. Моноцефальность характерна главным образом для относительно небольших европейских государств. Морфология большинства европейских городов также характеризуется полицентричностью.
Другими особенностями европейской системы является густая сеть городов, историческая связь гражданства с городскими формами хозяйствования, обязанностями и привилегиями, относительная этническая гомогенность и отсутствие серьезных субэтнических конфликтов. Все эти факторы, вероятно, определили крайнюю нетипичность переносов столиц в этой части мира, во всяком случае в последние 200 лет.
Таким образом, Европа в целом оказывается наименее чувствительна к сейсмическим толчкам истории, которые выражаются в том числе и в смене столиц. Но из этого правила есть некоторые важные исключения.
После падения Берлинской стены в 1991 году после десятичасовых дебатов бундестаг принял решение перенести столицу из Бонна в Берлин для объединения Восточной и Западной Германии с минимальным перевесом в 18 голосов: 338 против 320. Решение о переносе столицы в Берлин было принято Бундестагом еще в 1949 году и было приурочено к моменту проведения свободных выборов в объединенной Германии. Принятию решения также предшествовали важные дискуссии эпохи холодной войны. Конрад Аденауэр, первый канцлер ФРГ и основатель ХДС, считал, что Берлин не должен быть столицей германской демократии. Но его политический наследник Гельмут Коль, лидер ХДС и первый канцлер воссоединившейся Германии, утверждал, что перенос столицы в Берлин необходим как жест солидарности с “востоком”, с новыми федеральными землями» (Погорельская, зон; Chocrane & Jonas, 1999; Daum & Mauch, 2009).
В ходе дебатов в 1991 году выявилось две главных линии раскола – сама концепция столицы и проблема исторической памяти.
Помимо решения Бундестага 1949 года в пользу переноса столицы выдвигалась идея объединения нации на основе довоенного центра и необходимость вынесения столицы из административного города в центр социальной жизни. Сторонники переноса считали, что столица должна играть более активную и действенную роль в деле интеграции ГДР и для этого должна находиться ближе к новым федеральным землям. Второй важной причиной было то, что Берлин ассоциировался в западногерманской исторической памяти со всем тем политическим наследством, от которого послевоенная Германия всеми силами старалась отказаться – наследством имперским, нацистским и коммунистическим (Погорельская, 2011).
Главным доводом против была идея о том, что Бонн ассоциируется с федеративной и либеральной линией германской политики. Характер и размер Бонна, согласно точке зрения оппонентов, больше соответствует принципам федерализма, а также принципам плюралистической и полицентрической урбанистической системы. Берлин казался оппонентам идеи переноса глобальной метрополией и столицей старого типа. Эту точку зрения отстаивал, в частности, лидер ХДС Норберт Блюм.
В своем информативном обзоре Светлана Погорельская так объясняет позицию оппонентов переноса в отношении исторического наследия Берлина:
Боннская республика, названная так по аналогии с Веймарской, вошла в историю как первая удавшаяся германская демократия, экономически мощная и внешнеполитически скромная западноевропейская страна с человеколюбивым капитализмом и сильной социальной политикой. Бонн никогда не был центром милитаризма, его единственный скромный исторический грех – рейнский сепаратизм. За Берлином же, несмотря на его «мученический» ореол эпохи холодной войны, закрепилась историческая аура прусской доминантности. Бонн олицетворял собой рейнскую внешнеполитическую традицию, с ее прозападной ориентацией и особой тягой к Франции, Берлин – мощь центральноевропейского рейха с геополитически обусловленной амбивалентностью внешней политики (Погорельская, зон).
Однако было бы ошибочно представлять дело таким образом, будто сторонники Берлина поддерживали довоенную идентичность Германии в своем противостоянии либеральным сторонникам Бонна. Обе стороны дискуссии апеллировали именно к федеративным аргументам. По сути, столицу было решено перенести в Берлин во многом именно в силу федералистских соображений более высокого порядка.
Воссоединение Германии превратило столицу Бонн в окраинную периферийную столицу, из которой было тяжело руководить процессом регенерации нации. Перенос сюда столицы позволял реинтегрировать Германию географически и сбалансировать неравномерность развития ее экономического и человеческого потенциала. Кроме того, пространство Берлина, разрушенного бомбардировками и уже практически лишенного компрометирующих символов, позволяло воплотить здесь идеалы новой федеральной столицы и одновременно вдохнуть в город новый дух и новую жизнь. Пустыри и незастроенное пространство Берлина позволяло практически спланировать здесь новый город в условиях в чем-то приближенных к Бразилии или Канберре.
Сторонники Берлина учли также и соображения исторической памяти. Сам раскол Германии представлялся как раз делом рук тех идеологий, которые воплощал в себе Берлин. Именно реконституция Берлина на новых основаниях позволяла по-новому поставить вопрос об исторической преемственности. Исторические тени империи, нацизма и коммунизма при этом не превращались в предметы забвения и замалчивания, а становились моментами национальной рефлексии и исторической памяти.
Перенос столицы не лишил Бонна всех столичных функций и привилегий. Поскольку он мог быть истолкован как символический разрыв с боннской внешнеполитической традицией, часть министерств была оставлена на Рейне. Уехавшие в Берлин ведомства должны были держать в Бонне свои представительства – и наоборот.
Погорельская, на чей прекрасный обзор и анализ ситуации мы здесь в основном опираемся, приводит следующие данные. Число сотрудников министерств и федеральных служб планировалось поделить поровну между двумя городами. Кроме того, Бонн получил почти 1,5 млрд евро на экономическое преодоление структурных последствий переезда и приобрел уникальный статус федерального города. Сам переезд обошелся государству в 10 млрд евро и осуществлялся поэтапно. На законсервированных в годы холодной войны территориях в центре Берлина началось строительство служб федерального канцлера, велась реставрация рейхстага, рядом строились квартиры для депутатов. Первые сотрудники правительственных структур работали «вахтовым методом», возвращаясь на выходные домой в Бонн (Погорельская, зон).
Переезд в главных своих чертах был завершен к 1999 году. Воссоединившаяся страна поделила свое правительство между двумя символами германской истории с тем, чтобы формально соединить их. Облик Берлина в результате переноса столицы претерпел значительные изменения.
Тоскливые пустыри в центре города были застроены оригинальными зданиями, созданными лучшими европейскими архитекторами. Были также предприняты попытки приблизить статус Берлина к статусу Парижа и Лондона.
В Бонне оставалось 6 из 14 министерств: обороны, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, экологии, помощи в развитии. В 2000 году в Бонне работало 61 %, а в Берлине 39 % сотрудников правительственных служб, сейчас в Бонне их осталось 45 %, а в Берлине стало 55 %, и процесс продолжается. Служебные поездки сотрудников министерств из Бонна в Берлин, иногда лишь на один день, ради заседания отдела или рабочей конференции, ежегодно обходятся государству в 4,7 млн евро. Противники переезда, впрочем, утверждают, что окончательное перемещение будет стоить 5 млрд евро – на эти деньги можно еще долгие годы, если не десятилетия, возить боннских сотрудников туда-сюда.
Сегодня, спустя два десятилетия, дебаты о Берлине и Бонне потеряли полемический накал и идеологическую остроту начала 1990-х годов. Они подчинены сугубому прагматизму, как экономическому, так и политическому.
Тем не менее важно понять, что решение было принято неохотно. И одним из главных мотивов было понимание опасности централизации и возможных авторитарных тенденций, которые свойственны крупным политическим столицам, которые создают благоприятную среду для авторитаризма и централизации власти (Chocrane, & Jonas, 1999).
Первой столицей Сербии как независимого государства был город Крагуевац (1818–1841). В качестве новой сербской столицы первоначально был избран Ниш, город, имевший длительную историю в рамках Римской империи и Византии, где родился Константин Великий.
Позже, незадолго до начала Первой мировой войны, столицей Сербии стал город Белград, который по окончании войны стал столицей объединенного королевства (1929), а позже и федеративной республики Югославии. Выбор Белграда был связан, вероятно, с тем, что исторически он был не совсем сербским городом (древнеримский Сингидунум) и давал преимущество нейтральности, важное для федеративной столицы. В предшествовавшей истории он принадлежал то Византии, то Венгрии, то Австрии или Турции, а для сербов с XVI века стал городом на внешней границе их области проживания (Lohausen, 1992).
Первыми двумя столицами Албании стали крупнейшие портовые города страны Влёра и Дуррес. Во Влёре впервые была провозглашена независимость Албании от Османской империи в 1913 году, и он стал первой албанской столицей. Отец албанской нации Исмаил Кемали, впрочем, с самого начала настаивал на необходимости переезда столицы вглубь страны, в город Эльбасан, находящийся в центральной области. Он был сторонником секулярного национализма, в то время как Дуррес был базой исламистов. Кроме того, он мечтал о кантонизации страны и превращении ее в федерацию, для чего центрально расположенный город подходил гораздо больше.
В 1914 году столица переехала в Дуррес, который стал резиденцией нового короля Албании Вильгельма Вида (Wilhelm Wied), назначенного на этот пост коалицией великих держав, главным образом под влиянием Австро-Венгрии. Однако вскоре в городе началось исламское восстание под руководством Эсад-паши и король вынужден был бежать из своей столицы. Значительная часть страны в это время была оккупирована иностранными войсками, а Италия финансировала государственный переворот. Правительство в портовом Дурресе стало склоняться к принятию итальянского протектората под угрозой раздела Албании между различными государствами, оккупировавшими страну и претендовавшими на ее территорию (Сербии, Греции, Италии, Болгарии и Австро-Венгрии). В результате в 1920 году было принято решение о переносе столицы из Дурреса в Тирану, а проитальянское правительство в Дурресе было объявлено нелегитимным. Таким образом, новая столица в Тиране подтвердила и придала реальный смысл независимости страны, провозглашенной семь лет назад, а также обозначила переход от королевской власти к республике, ставший официальным в 1925 году. Столица была отодвинута в более безопасное место из уязвимого и слишком открытого иностранным влияниям портового города.
Великобритания
В Великобритании дискуссии о новой столице не занимают заметного места в пространстве публичных дискуссий. Тем не менее здесь также высказывались любопытные идеи и мнения по вопросу о возможной смене столицы. Некоторые идеи, высказанные по этому поводу, исходили из концепций необходимости сохранения английской идентичности и расподобления Англии и Великобритании. Считалось, что последняя полностью поглотила собственно английскую идентичность. Эти концепции и предложения также часто интересным образом проблематизировали имперское прошлое страны. Мы возьмем только один характерный пример из этой дискуссии, особенно важный в связи с его релевантностью для российского контекста.
Дэвис в своей небольшой статье «Ноттингем: Новая столица Англии» ставит вопрос об отсутствии у Англии собственно английской столицы, в противоположность Лондону, столице Великобритании (Davis, 2007).
Столицей Шотландии является Эдинбург, столицей Уэльса – Кардифф, столицей Северной Ирландии – Белфаст. Но как-то странно кажется, рассуждает Дэвис, считать столицу Великобритании также и столицей Англии. Действительно ли Лондон может представлять Англию, будучи столицей всей страны? Соображения гармонии и равенства заставляют размышлять о более симметричной ситуации. Англии необходима собственная столица, на роль которой Дэвис предлагает Ноттингем как небольшой город со староанглийскими традициями, находящийся между севером и югом страны. Выдвижение на эту роль крупного английского города вроде Манчестера или Бирмингема ему не кажется особенно удачным, так как это привело бы к конкуренции и зависти со стороны альтернативных больших городов.
Среди других возможных кандидатов он называет также такие символически важные города как Кентербери, место рождения англосаксонского христианства, Йорк и Уинчестер. Помимо разрешения проблемы английской идентичности перенос столицы в один из этих небольших городков сможет послужить его возрождению, а также лучшим экономическим возможностям, развитию и процветанию какой-то новой части страны, отличной от Лондона (Davis, 2007).
В 60-е годы XX века в воздухе Франции витает идея переноса столицы. В немалой степени эта идея была обязана своим возникновением историческим тенденциям высокого уровня централизации страны.
Уже в начале XIX века система централизации была настолько сильна, что Наполеон Бонапарт высказывал мысль о необходимости переноса столицы в Лион, заигрывая со своими солдатами и, видимо, стараясь потрафить их антипарижским чувствам. Впрочем, наполеоновским планам градостроительства и градопланирования он в конце концов предпочел свои военные планы (McLynn, 1997: 406).
Как мы уже упоминали, в середине XIX века происходит масштабная реконструкция Парижа, которая была осуществлена во многом за счет провинций и строительства сельских дорог (Röber & Schröter, 2004:14). Со второй половины XIX века Париж растет еще более быстрыми темпами. В 1881 году в парижском регионе проживало только 5 % жителей Франции. К 1975 году в Париже и окрестностях сосредоточилось уже 19 % совокупного населения страны.
Идея переноса была интеллектуально подготовлена публикацией ряда работ, в которых остро ставился вопрос о сверхконцентрации национальных ресурсов и населения в Париже. Наиболее яркой и знаковой из этих работ стала книга Жана-Франсуа Гравьера «Париж и французская пустыня», которая вышла в 1947 году (Gravier, 1947). Она превратилась в классическую работу и позднее множество раз переиздавалась. Главной темой этой книги стало безальтернативное доминирование Парижа в экономической, политической и социальной жизни Франции. Гравьер так писал о сложившейся ситуации: «Париж и его пригороды вели себя не как столица, заботящаяся о внутренних районах страны, а как монополистическая группа, которая пожирает свою национальную субстанцию» (Gravier, 1947). Он говорил о том, что чрезмерный рост Парижа привел к стагнации французских провинций и к упадку всей страны, приводя в связи с этим следующие удивительные данные. Между 1880 и 1936 годами 3,3 миллиона провинциалов переехало в Париж, в результате чего население Парижа утроилось, а население остальной Франции сократилось. С 1896 по 1936 год занятость в промышленном секторе в Париже выросла на 45 %, а в остальной Франции упала на 3 % (Hansen, etal., 1990: 47). Все это говорило не просто о дисбалансированном развитии, а о развитии столицы за счет провинции.
Одной из реакций на эту ситуацию сверхконцентрации стали предложения со стороны французских технократов перенести столицу Франции в специально построенный для этой цели город Лярош Гуйон (La Roche-Guyon). Предполагалось, что этот новый город станет своего рода «Монако на Сене». В начале 60-х годов во Франции был даже объявлен конкурс на лучший архитектурный план нового города, в котором победили архитекторы Альберт Лепрад и Жан Бразильер. Идея не получила, однако, никакого воплощения и дальнейшего развития.
Тем не менее дискуссия все же, видимо, отразилась на внутренней политике Франции и деятельности последующих президентов страны. В послевоенные десятилетия отцы нации – в особенности это относится к деятельности Жискар д’Эстена и Франсуа Миттерана – сосредоточились на различных аспектах регионального планирования, которое во многом было направлено на децентрализацию государства, а также на делегирование властных полномочий в провинции и в регионы (Keating, 1983).
К концу 70-х годов, во многом, вероятно, в результате успешности этой политики, население Парижа перестало расти. Менее удачной, однако, была ситуация с экономическим развитием регионов, которые должны были стать главными точками экономического роста. Тем не менее в общем и целом деятельность французских правительств и особенно отдела территориального развития (Amenagement du Terri-toire) при министерстве реконструкции и урбанистического развития сегодня признается достаточно успешной с точки зрения достигнутых результатов децентрализации страны (devolution).
Кроме того, серия градостроительных и морфологических решений устройства французской столицы (в первую очередь, конечно, речь идет о плане Большого Парижа) позволила снять или ослабить многие внутренние проблемы перегруженности инфраструктуры и ввести рост Парижа в русло нового современного развития.
Общие темы в переносах столиц: попытка обобщения
Анализ практик формирования новых столиц и современных дискуссий о возможностях их переноса в новые центры обнаруживает несколько относительно универсальных тем и сюжетов и позволяет сделать несколько более общих наблюдений. Но прежде чем мы попытаемся систематизировать мотивы различных переносов и выделить комплексы причин и каузальные комплексы, которые их стимулируют, сделаем несколько предварительных наблюдений об опыте переносов столиц на основании уже проведенного анализа.
Важно подчеркнуть, что независимо от причин и мотиваций всякий перенос столицы несет с собой ощущение новизны, эмоционального подъема и импульс тотального обновления. В некоторых случаях этот каскад обновлений сосредоточивается на погребении старого, в других – на построении или поисках новых форм. Столица входит в число фундаментальных основоположений государства и культуры, смена которых ассоциируется с учреждением нового порядка. Она относится к той же категории основополагающих институтов и культурных опор общества, к которой относятся также календарь и хронология, система праздников, язык и алфавит. В этом смысле в вихре любой достаточно радикальной революции – будь то революция социальная, национальная, религиозная или политическая – создаются новая земля и новое пространство, новое время и хронология, новые символы и системы координат. В этом же вихре перемен часто рождаются и новые столицы. В некоторых случаях они даже становятся точкой отсчета времени. Так римляне вели счет времени с момента основания города. Так греческий генерал Селевк Никатор, отстроивший Новый Вавилон, установил новую хронологию и летоисчисление с основания этого города (Boiy, 2004).
Негативные и позитивные причины
Наиболее общим и наиболее значимым различением в мотивациях является апелляция к негативным или позитивным причинам переноса столицы.
Негативные причины относятся к месторасположению старой столицы, ее уязвимости с точки зрения безопасности страны или природным катаклизмам, ее негативным символическим коннотациям или чрезмерной концентрации населения и ресурсов в одном городе. Позитивные причины, напротив, связаны с преимуществами нового места, которое может иметь важное значение в консолидации нации или в стратегии национального и экономического развития.
Наиболее часто встречающимися негативными природными причинами в рассмотренных нами примерах являются наводнения, землетрясения, ураганы, смерчи, тайфуны, цунами и тому подобное. К числу наиболее распространенных негативных социальных причин переноса относятся перегруженность главного города страны, пробки, недостаточная абсорбционная мощность крупных столичных городов, а также экологические проблемы, которые им сопутствуют.
Позитивные причины, напротив, имеют в виду, прежде всего, какую-то конкретную географическую точку в качестве важного кандидата на роль столицы. Такой город сможет мобилизовать и переструктурировать всю страну, указывать новые координаты внешней и внутренней политики, ввести страну в новый культурный, экономический или социально-экономический контекст.
На практике, как мы могли заметить по предложенному региональному и историческому обзору, позитивные причины в обоснованиях встречаются реже негативных причин.
Скрытая и явная повестка дня
Другая самая общая характеристика мотивов переноса столицы относится к необходимости различения между явной и скрытой повесткой дня этих переносов.
Провозглашаемые цели некоторых переносов столиц не всегда совпадают с реальными и наиболее фундаментальными целями, которые ставили или воспринимали реформаторы, политические элиты или инициаторы этих проектов. Вполне прагматические, но не всегда рациональные мотивы этих правителей могут камуфлироваться в приемлемые с точки зрения международного права и морали формулировки и мотивы. В действительности их движущие силы могут быть принципиально отличны от этих цитируемых мотивов.
Главной задачей новой политической архитектуры и дизайна ее несущих конструкций может быть, скажем, изоляция или приглушение движений социального протеста, которые обычно концентрируются в столице. Такую повестку дня некоторые исследователи подозревают, например, в планах переноса столицы из Тегерана в другой город. Мы уже ссылались на исследователей, которые усматривают подобную подоплеку даже в переносе столицы в Бразилии. В некоторых переносах существует особая этническая повестка дня, как мы видели на примерах переноса столицы в Астану в Казахстане или в Малайзии.
В других случаях столица переносилась ближе к родине правителей или ближе к их собственным племенным группам: здесь главным мотивом действий правящей элиты выступала попытка заручиться поддержкой родственных кланов и укрепить казалось бы современные формы власти через опору на традиционные родо-племенные отношения и институты. Такая форма и мотивация была, как мы видели, более характерна для африканских стран. Попытки заручиться лояльностью местных локальных элит и опереться на них в своей политике мы видели на примере Малави, Нигерии, Зимбабве и Берега Слоновой Кости. Эти стратегии нередко могут совмещаться с имперскими стратегиями господства, которые в завуалированной форме продолжают играть большую роль в государственной политике.
К числу причин, которые неохотно цитируют политики, относятся также самовозвеличение или мегаломания правителей, сопряженная с элементами патронажа, особая этническая политика этнической гомогенизации (Малайзия), закрепление за собой спорных или потенциально сепаратистских территорий (Казахстан) или замирение через компромисс, связанный с размещением новой столицы на недавно присоединенных или спорных территориях, изоляция правительства от народа и международного сообщества (Бирма), а также либеральных и оппозиционных политических фракций (Иран), отчуждение и изоляция старых конкурирующих элит и враждебных кланов и фракций. Такими причинами также могут служить мотивы увековечивания своего имени через мегапроект, что было характерно для некоторых автократических лидеров Азии (Южная Корея). Эти «скрытые причины» или крайне непопулярны внутри страны, или не соответствуют нормам морали, международного права или политкорректности.
Эволюция причин
С точки зрения обоснования можно также выделить политические, экономические (или рационально-технические) и культурно-мотивированные переносы, хотя такое разделение не всегда можно последовательно провести. Другой важной чертой современных переносов является то, что они реже ориентированы вовне – в отношении внешних экономических, политических и культурных пространств – и гораздо чаще имеют в виду положение и систему отношений во внутреннем пространстве страны. Это, возможно, связано с поисками идентичности, точек равнодействия и равновесия.
При всем разнообразии конкретных целей, которые ставили перед собой разные современные государства, бросается в глаза другая важная специфическая черта переносов в современном мире. В отличие от ситуации с империями и королевскими столицами расположения и переносы в современном мире достаточно редко мотивированы военно-стратегическими соображениями и гораздо чаще – причинами национального строительства. Во многом это связано с изменением характера военных столкновений и с развитием новых технологий ведения войны, в частности современных баллистических ракет, в меньшей степени зависящих от расстояний. Это также связано с развитием международных законов и ростом авторитета международных организаций, которые гарантируют странам определенные формы безопасности.
Однако военно-стратегические причины, конечно, не окончательно сходят с повестки дня, как это можно видеть на примере Южной Кореи. Во многих случаях близость новой столицы к границе (к северокорейской, как в последнем примере) продолжает оставаться одним из решающих факторов. Но такая мотивация, на наш взгляд, носит по преимуществу рецессивный характер.
Национальное строительство
Далеко не все решения, как мы видели, апеллируют к аргументам, убедительным для западных либеральных государств. В некоторых случаях вполне рациональные решения формулировались казалось бы иррациональным языком и находили себе не вполне современные объяснения как, например, перенос столицы в Бирме. Другим примером такого рода могут служить африканские страны, где решения о переносе часто принимались по капризу авторитарных правителей. По крайней мере в некоторых из этих произвольных решений, порожденных мегаломанией, самодурством или капризом, можно все-таки увидеть определенную долю рациональности, связанную с национальными мотивами.
Описание дискуссий в различных странах показывает, что даже в самых зрелых и развитых национальных государствах заметно беспокойство по поводу национального характера их столиц. Критики часто тревожатся по поводу того, что глобальный характер городов или их прошлая имперская идентичность оказываются или могут стать помехой для развития национальной идентичности и ослабить собственно национальный компонент их бытия и репрезентативности. Например, даже в таких развитых странах, как Великобритания, критики урбанистической иерархии страны обращаются не к экономическим аргументам, а к аргументам, связанным с национальной идентичностью и национальным строительством. Существует тенденция к тому, что портовые колониальные столицы переносятся гораздо чаще и охотнее, чем столицы находящиеся в глубине континента.
Вариации мотивов и масштабов
В различных странах функции и объем власти столицы понимаются по-разному, что находит свое отражение в том числе в замысле их столиц и в планах их переноса.
В одних странах наблюдается стремление воспроизвести или продублировать в новой столице всех или основных функций старой столицы. В других случаях, напротив, заметно желание реформаторов сократить функции столицы до чисто административных и преобразовать за счет этого страну. Сокращения задач столицы, с их точки зрения, может привести к установлению более демократической и многофункциональной урбанистической системы.
Свою роль здесь также может играть и дистанция между новой и старой столицами. Большее удаление нового города от старого, учет сил близкодействия и дальнодействия, может указывать на масштаб осуществляемых преобразований.
В новых столицах также по-разному могут фиксироваться или акцентируются различные аспекты видения нации – от экспрессивности эндогенных или даже фольклорных культурных форм до аспектов тотального модернистского социального преобразования (Бразилиа) или воссоздания элементов традиционалистской религиозности на новой основе (Малайзия).
Устройство столицы также может указывать на центральность столицы в политической организации государства или ее относительную незначимость. В этом отношении существуют определенные культурные инерции. Так, европейская столица одновременно и больше и меньше столиц досовременных неевропейских обществ. Она может быть меньше по своей роли, чем столица досовременных неевропейских стран, так как в ней не сосредоточена вся полнота государственной власти. Но она и больше нее, поскольку она в большей степени аккумулирует волю всей нации и через баланс репрезентаций представляет не только власть, но и весь народ.
Шесть интегративных стратегий
Несколько условно можно выделить шесть стратегий в переносах столиц: стратегию пространственного компромисса, стратегию многополярной интеграции, стратегию исторической интеграции, стратегию альтернативного позиционирования и стратегию экономической интеграции и стратегию децентрализации. Вторая и последняя из них могут также интерпретироваться как вспомогательные стратегии или подстратегии. Хотя их не всегда можно строго разграничить и они не являются взаимоисключающими, выделение этих стратегий важно во всяком случае для аналитических целей.
Наиболее общим моментом здесь является то, что новая столица служит инструментом интеграции и способом установления равновесия между существующими социальными, политическими или экономическими силами. Эти четыре стратегии – в противоположность трем стратегиям, которые мы обсудим позже, – обычно направлены на максимизацию инклюзивности в стране, которая может иметь этнические, религиозные, политические или экономические формы и манифестации.
I. Стратегия пространственного компромисса
Эта стратегия, как правило, имеет в виду две относительно равномощные стороны, которые подлежат интеграции. В этом случае обычно выбирается промежуточная нейтральная точка в расположении новой столицы. Как правило, в качестве такой нейтральной точки может выступать граница между двумя этнолингвистическими, экономическими или религиозными сообществами. Приведем несколько примеров для иллюстрации этого типа стратегии.
В 1862 году Румыния получила независимость и сделала своей столицей Бухарест, расположенный на стыке двух княжеств – Валахии и Молдовы. В 1598 году в связи с возникновением Речи Посполитой, унии Польши и великого княжества Литовского, столица была перенесена из Кракова в Варшаву, которая была ближе к Литве и выступала символом единства двух частей республики (Тархов, 2008). В 1858 году столица Никарагуа перемещается из Леона в Манагуа, который стал компромиссом между двумя главными городами страны, либеральным Леоном и консервативной Гранадой.
Когда одна из частей является более сильной и интегрирует (или подчиняет себе) более слабую сторону, она может себе позволить компромисс в виде размещения столицы на территории подчиненного или более слабого участника. Так в период Иберийской унии (1580–1640) серьезно обсуждались предложения о переносе испанской королевской столицы из Мадрида в Лиссабон.
При этом в контексте интеграции стратегия сторон иногда приобретает характер обмена quid pro quo. В таких ситуациях именно столичный статус как важный элемент символического капитала нации часто выступал в качестве предмета обмена, переговоров и компромисса между участниками национального пакта. Как фактор престижа, этот столичный статус мог обмениваться на какие-то более экономически осязаемые блага.
В некоторых случаях богатая или более сильная часть страны отдает статус столицы более слабой (или более бедной) части в обмен на финансирование определенных проектов или принятие на себя конкретных экономических обязательств, как это произошло, например, в США с избранием Вашингтона столицей. В таких случаях испытывающая большую нужду в финансах часть страны как будто платит валютой столичного статуса за сиюминутные экономические преимущества: деньги меняются на престиж.
В некоторых случаях во время выборов президент может посулить статус столицы определенному региону страны, как правило, колеблющемуся или неустойчивому, в обмен на политическую поддержку. Именно такую ситуацию мы описали на примере Южной Кореи (Economist, 2010). Схемы подобных компромиссов чрезвычайно интересны и заслуживают того, чтобы стать предметом специального анализа.
Примеры компромиссов, которые заключают относительно равномощные стороны, дают многие современные страны, а также ряд древних и средневековых государств. Яркие примеры такого рода мы находим в современной политической жизни – в США, Канаде, Австралии, Центральной Америке.
Вашингтон находится на границе исторического Севера и Юга и представляет собой своего рода законсервированный компромисс. В Канаде Оттава стала компромиссом между англоязычным Торонто и франкофонами Монреаля, между провинциями Онтарио и Квебеком. Канберра – тоже своего рода пространственный компромисс между двумя крупнейшими городами – Мельбурном и Сиднеем. В 1865 году в Новой Зеландии столица была перенесена из Окленда, который продолжает оставаться главным экономическим центром, в Веллингтон, который находится примерно посередине страны – между Северным и Южным островами, главными территориями государства.
В Нигерии перенос столицы в Абуджу был попыткой найти политически нейтральный город, который бы стал компромиссом между мусульманским Севером и христианским Югом. Столица Евросоюза Брюссель расположена на границе галльского и германского миров, а внутри самой Бельгии – на границе франкофонов и фламандцев. По той же причине первоначальной столицей Священной Римской империи был избран Аахен, столица Карла Великого, на границе германского и галльского миров. Компромиссом между Нижним и Верхним Египтом стала древнеегипетская столица Мемфис.
2. Стратегия многополярной интеграции
В отличие от стратегии компромисса здесь нет явно выраженных двух сторон, которые могли бы договориться по поводу промежуточной точки, и сама геометрия размещения власти играет подчиненную роль. Как и в первом случае, целью государства является идентификация нейтрального места, который бы уравновесил всю систему государства, но эта нейтральность далеко не всегда может найти себе географическое выражение в виде геометрического центра и абсолютных значений расстояний.
Такая интеграция происходит или в гомогенных обществах, или в обществах, где существует большое множество различных этнических или религиозных групп и где трудно исчислить хотя бы приблизительную их точку равновесия и компромисса. Наиболее типичен этот тип интеграции для тех стран, где есть множество субъектов интеграции – этнических или субэтнических групп, штатов, земель.
В таких случаях государство ищет возможности утвердить федералистские принципы управления, пытаясь создать для этого подходящую среду, что иногда приводит к реформам и реконструкции страны. В этих странах требуется более сложная и многосторонняя балансировка интересов, которая выходит за пределы геометрических просчетов промежуточности. Таким местом часто служит нейтральная точка, вынесенная за пределы экономического центра. Примерами стран такого рода, опирающихся на концепцию многополярной интеграции, представляются Швейцария, а также Бразилия и Казахстан. Их столицы не находятся в геометрическом центре.
3. Стратегия исторической интеграции
Во многих случаях нации, недавно освободившиеся от колониального господства, долго оторванные от своей сугубо национальной почвы и истории или длительное время разделенные, пытаются воссоединиться со своим прошлым и возвращают столицу непременно в старое место. Эта стратегия относится к нациям с разорванной судьбой, проблемами хронических дислокаций и политического разделения, история которых оказалась расколотой или внешними завоевателями, или особенностями их собственной политической истории. Столица в контексте исторической интеграции становится своего рода скрепой или клеем, которая соединяет прошлое с будущим и подобно живой воде сбрызгивает тело больного героя. Предмет интеграции здесь не столько места, сколько отрезки времени.
В новой столице, организованной на старом месте, пространство как бы впадает в национальное время. Подобные переносы мыслятся национальными лидерами не столько как смены, но как восстановления подлинных столиц.
Примерами стран, где такой принцип размещения играл решающую роль, могут служить Греция, Израиль, Италия и Монголия. Эти страны возвратили или пытаются возвратить свои столицы в свои древние центры – Афины, Иерусалим, Рим и Каракорум.
На азиатском континенте примерами подобного рода в какой-то мере могут служить Шри-Ланка и Индия. Новая административная столица Шри-Ланки, как мы видели, расположилась в непосредственной близости от старой доколониальной королевской столицы. Переезд столицы из Калькутты в Дели приблизил новую столицу к созвездию из семи древних столиц Индии – Махраули, Сири, Джаханпаннаху, Туглакабаду, Фирозабаду, Пурана-Киле и Шахджаханабаду. И, конечно, к древней Индрапрастхе из Махабхараты.
Элементы подобной мотивации мы видим также в случае современной Германии: Берлин как бы восстанавливает связь времен и становится инструментом в том числе и исторической интеграции. Подобные мотивы есть и в других постколониальных странах, которые учитывают расположение старой королевской столицы или древних культурных центров, которые часто не сохранились, при основании нового города. Нечто подобное мы видели, например, в Нигерии. Эти старые новые столицы часто противопоставлены более крупным, индустриально развитым и современным городам в этих странах – Иерусалим сионистскому и модернистскому Тель-Авиву, Афины – более экономически важным Солоникам, Рим – промышленно-развитому и инновационному Милану, Каракорум – Улан-Батору.
Через тонкое ушко пространства древней столицы нация соединяется со своим воображаемым временем, разорванным историей, восстанавливает нарушенную связь времен, собирает вместе прошлое и будущее нации. Эти столицы врачуют историческую память, оживляют забытые национальные символы и возвращают прошлое, погребенное под пеплом веков или десятилетий подчиненного положения или прерванного полета истории своего сообщества.
4. Стратегия экономической интеграции
Выбор стратегии экономической интеграции наиболее характерен для этнически гомогенных стран, таких как Япония, Тайвань или Южная Корея. Главной причиной избрания такого рода стратегий является неравномерное распределение богатства и возможностей на территории стран. Целью таких переносов является как развитие территории, так и развитие населения, проживающего на этой территории.
Стратегия экономической интеграции и сбалансированного развития экономического пространства страны акцентировалась также в таких государствах, как Бразилия, Южная Корея, Россия, Казахстан, Танзания, Берег Слоновой Кости и многих других странах. Во всех этих случаях она предполагала развитие национальной экономики и подразумевала более высокие темпы интеграции и развития территорий и населения далекоотстоящих от исторического ядра страны.
5. Стратегия альтернативного позиционирования
Если в стратегиях, обсужденных выше, речь шла о внутренних интеграциях социума, то в стратегии альтернативного позиционирования страны акцентируется интеграция с внешними странами или цивилизациями. Попытка интеграции во внешние цивилизации и утверждение своей новой или обновленной культурной идентичности осуществляется в том числе и за счет переноса столицы страны. Страна своей столицей часто тянется туда, где ей кажется, что находится сейчас солнце, подобно комнатному растению, которое направляет свой стебель в сторону источника света.
В период нового времени одним из толчков или импульсов для переориентации или смены культурной идентичности страны могла быть модернизация. Перенос столицы служил в таком случае знаком модернизации государства. Такова была ситуация со столицами Российской империи в эпоху Петра Великого и Японии в эпоху Мейдзи. Движение к Токио началось уже сегуном Токугава Иэясу, который перенес центр военной власти в основанный им в 1603 году город Эдо, старое название Токио (поэтому эпоху Токугава называют еще эпохой Эдо). Тем не менее этот перенос по-настоящему состоялся только в эпоху Мейдзи, когда новая столица открыла Японию окружающему миру, прервав многолетнюю закрытость сегуната.
В обоих случаях перенос столицы в более открытое место к морскому порту, соответственно в Санкт-Петербург и Эдо (Токио), означал открытие для иностранного влияния и торговли длительное время изолированных прежде стран с их столицами, скрытыми в гуще удаленных и плохо проницаемых прежде стран. В обоих случаях это было связано с приходом новых элит, ориентированных на модернизацию, вестернизацию и просвещение, хотя и в определенных пределах.
6. Стратегии децентрализации
Стратегия децентрализации, на взгляд автора, является в большинстве случаев не независимой стратегией, как другие вышеперечисленные, а подстратегией, так как акцентирует в своем названии главным образом негативную мотивацию. Во многих случаях она является частью и важным подспорьем и дополнением к стратегии экономической интеграции.
Инерция и градус централизации в стране могут иногда быть столь высоки, что для их преодоления может быть избрана стратегия переноса столицы. Важным фактором здесь выступает перенаселенность и неадекватность инфраструктуры старой столицы, которые вызывают массу проблем, дисбалансов и дискомфортов. Эта стратегия часто сочетается со стратегиями деволюции, перераспределения миграционных потоков и экономического развития внутренних районов, но в редких случаях может выступать и в чистом виде. Стратегия децентрализации не является специфической для государств и часто используется также и бизнесами, так как главный ее аспект связан с эффективностью управления и, в частности, с управлением и контролем за рисками. Сочетание всех функций в одном месте делает систему уязвимой и чрезвычайно неустойчивой и драматически повышает риски выхода системы из строя в случае выхода из строя ее главной многофункциональной системы. Отсюда одна из главных заповедей рынка – не класть все яйца в одну корзину.
Пример подобных мотиваций представляют такие страны, как Япония и Индонезия, где на повестку дня не ставится вопрос об экономическом развитии каких-то конкретных регионов или районов страны или интеграции конкретных этнических групп. В этих странах главными мотивами переноса служат негативные причины, связанные с неудобствами старой столицы или их уязвимостью. Другими примерами такого рода, на мой взгляд, являются парадигмы поиска новых столиц в Египте и Южной Корее. К этой же категории можно отнести достаточно маргинальные идеи о необходимости переноса столицы в Великобритании или Франции.
В определенных случаях любая из вышеперечисленных стратегий может быть вполне совместимой и в определенных обстоятельствах выступать как аспект какой-то другой стратегии. Однако в каждом случае существует своя система приоритетов и в большинстве случаев можно легко выделить главную стратегию или причину. В своих заявлениях правительства многих стран мира ссылаются сразу на несколько из обсужденных нами стратегий, хотя в реальности, как мы уже отметили, перемещения столиц далеко не всегда служили заявленным ими политическим и экономическим целям.
Три стратегии эксклюзивной столицы
Три другие стратегии, которые мы уже кратко упоминали в контексте скрытых повесток дня различных правительств и политических сил, направлены на поиски лояльной или, по крайней мере, нейтральной базы власти в условиях неустойчивой государственности или непопулярности правящего режима в стране. В противоположность первой группе стратегий эти стратегии часто направлены не на интеграцию, а, напротив, на дезинтеграцию, разделение и изоляцию с целью укрепления и усиления централизации и политической власти.
1. Стратегия маргинализации существующих движений протеста
Центром существующих движений протеста обычно является актуальная столица или самый крупный город страны. Стратегия, о которой идет речь, может состоять в дистанцировании или изоляции правительства от такого крупного города в новой столице. Эта стратегия чаще всего используется автократическими режимами (например, режим Тан Шве в Бирме, современный исламский режим в Иране, режим Сухарто в Индонезии).
Важнейшей задачей столицы, как и всякой власти вообще, становится маргинализация, локализация или альтернативная канализация движений протеста, главное жало которых находится в столицах или самых крупных городах страны.
Британский историк Арнольд Тойнби метко назвал столицы «пороховыми бочками» социального недовольства (Toynbee, 1970). Крупные города притягивают к себе людей из деревень и провинций, и коэффициент социального неравенства в них драматически выше, чем в среднем по стране. Здесь также концентрируются интеллектуалы и студенты, которые, соединяясь с толпой, становятся детонаторами мощных социальных протестов. Недавним подтверждением протестной природы столиц могут служить события, связанные с серией революций арабской весны, которые стали предметом анализа и размышлений многих ученых и журналистов. В том числе и известного географа-марксиста и теоретика городов Дэвида Харви, который посвятил этой теме свою книгу «Города бунта» (Harvey, 2011).
Альтернативными средствами контроля движений протеста в столицах могут служить социальная сегрегация пространства и особая морфология города. Реконструкция Парижа, инициированная и задуманная Наполеоном III и практически осуществленная бароном Жоржем-Эженом Османом (1809–1891), реализовывалась во многом исходя не только из официальных соображений эстетики, санитации и циркуляции воздуха и света, но и жестокой социальной прагматики и охранительства. Паноптикум парижских улиц представлял собой более эффективное средство контроля, а широкие бульвары, неизменно восхищавшие гостей города изобилием света, служили целям, о которых многие из них вряд ли могут даже догадываться. Такой светлый планировочный план города, согласно замыслам Османа, служил лучшей маневренности армии и жандармерии на случай необходимости подавления мятежей, на которые исторически был богат и изобретателен Париж. Широкие бульвары и проспекты также предотвращали возможность возведения эффективных баррикад.
Хорошо обозреваемые и простреливающиеся с возвышенностей артиллерией бульвары облегчали проведение военных маневров. Ориентация проспектов французской столицы во многом определялась возможной необходимостью поддержания порядка и охраняла подходы к городу со стороны потенциально опасных окраин. Морфологическое и артиллеристское решение барона Османа стало достаточно эффективным: ему действительно удалось, как он и обещал своему мэтру Наполеону III, «выпотрошить из Парижа бунты и революции»[32]. Не даром османизированному Парижу в этом отношении подражали все прочие европейские столицы, в том числе и Москва (Wüsten, 2001: 333–333).
Помимо тотальной архитектурной и градостроительной реорганизации столичного города, политическому управлению были доступны и иные средства. Альтернативой такой реорганизации могли служить также попытки интеграции движений протеста в одной из существующих партий или их локализация в специально отведенных для этих целей публичных пространствах, где протесты могут быть обезврежены изоляцией от повседневной жизни горожан. Для этих же охранительных целей во многих странах также создаются особые системы привилегий для столичных жителей.
Более радикальным средством борьбы с движениями социального протеста является перенос столицы в новое место, отчужденное от гущи городской жизни и ее высокой социальной температуры. Такие стратегии маргинализации избирают диктаторские или полудиктаторские режимы не очень популярные у народа – политический режим в Иране, военная диктатура Тан Шве в Бирме, политическое руководство Зимбабве и его лидер Роберт Мугабе. Похожего решения проблемы, вероятно, искал в свое время также режим Сухарто в Индонезии. Этой же цели, по мнению известного историка Африки Тойин Фалула, во многом служил и перенос столицы Нигерии, который вверг страну в непрерывный цикл коррупции. По его словам, этот перенос предотвратил возможные сценарии оранжевой революции в Нигерии из-за огромной дистанции, которая отделила центр власти от центра протестов (Akam, 2011; Falula: 135–136)
2. Стратегия построения патримониальной системы лояльности
В основе этой стратегии лежит система родо-племенного фаворитизма. Как мы видели в некоторых случаях, связанных с военной слабостью или неустойчивостью политического режима, правителям приходилось искать базу лояльности в представителях своего клана или рода. В этих случаях столица государства иногда перемещалась на территорию рода, племени или семейного клана правителя для обеспечения безопасности или рекрутирования более лояльных ему элит. Эта стратегия получила некоторое распространение по преимуществу в клановых или родо-племенных обществах в Африке и Азии. Мы видели примеры подобного в нескольких странах Африки, прежде всего в Малави, Береге Слоновой Кости, Зимбабве. Элементы такого подхода представляют также существующие планы президента Таджикистана.
В данном случае столица понимается, прежде всего, в качестве надежного тыла для правителя и его клики.
3. Стратегия этнической гомогенизации правящей элиты
Эта стратегия применяется правящей бюрократией для поисков нового баланса сил в пользу титульной нации. Примерами такой стратегии могут служить Малайзия, Казахстан и некоторые столицы африканских стран.
Здесь градообразующие меньшинства или этнически чуждое большинство населения отодвигается от доступа к руководящим политическим должностям с целью воспитания и создания новой национальной элиты, которая будет более полно контролировать политическую власть. Перенос столицы осуществляется для маргинализации или изоляции этнических большинств или меньшинств, не совпадающих с титульной нацией.
Нетрудно заметить, что три последних обсужденных нами стратегии представляются в наибольшей степени рецессивными и воспроизводящими некоторыми своими чертами логику переноса в деспотических государствах древнего мира, описанных нами выше.
Стоит также обратить внимание на то, что стратегии интеграции и дезинтеграции также не являются взаимоисключающими и некоторые переносы могут быть мотивированными сразу обеими группами причин. Можно даже сказать, что большинство переносов были многоаспектными и учитывали как аспекты интеграции, так и дезинтеграции.
Например, в случае переноса столицы Петром Великим сыграли роль сразу три фактора: закрепление территориальных завоеваний в Северной войне, маргинализация старых московских элит, утверждение новой цивилизационно-культурной принадлежности и цивилизационной ориентации на Западную Европу, модернизационный проект нового видения государства. Новая столица предлагала новую и особую модель развития всей страны.
Тем не менее далеко не все мотивы переноса столицы могут быть совместимыми. Мы видели это на примере переноса столицы в Константинополь, который разные историки объясняют разными группами причин: религиозными, экономическими или военными. Эти причины не вполне совместимы друг с другом: не существует среднего арифметического между ними, так как эти параметры находятся в разных плоскостях, даже если бы поддавались идеальному воплощению на карте. Религиозная мотивация переноса – отказ от язычества – не может объяснить географии такого переноса. Религиозная мотивация является необходимой, но недостаточной для такого объяснения. Экономическая причина могла бы быть актуальной, но не была, так как хлеб теперь доставлялся в Рим не из Причерноморья, а из Египта. Поэтому мы пришли к выводу, что главным резоном здесь все-таки были военно-оборонительные соображения.
В некоторых случаях решения были продиктованы конкретными военными или политическими обстоятельствами. Так как конфигурация границ и государств меняются, то часто бывает необходимо установить новый центр власти и силы, так как центры со временем имеют естественную тенденцию смещаться к периферии. Но, как мы уже могли убедиться, даже капризы правителей могли быть укоренены в интересах и нуждах нации и самые казалось бы иррациональные из них могли иметь вполне рациональные основания. В некоторых случаях скрытые причины и цели укрепления личной власти и богатства не отменяют актуальности официально заявленных причин. Таким образом, разные мотивы переноса столиц не обязательно исключают друг друга.
Бюджет и оценки общей стоимости переносов столиц
Бюджет переноса столицы является одним из главных практически во всех дискуссиях на эту тему, которые ведутся в разных странах. Проекты подобного рода являются чрезвычайно дорогостоящими и во многих странах окончательное решение о переносе столичных функций часто определяется наличием или доступностью средств на это мероприятие.
Вопросы финансирования столиц и их переносов обсуждаются в ряде работ. Учитывая специальный характер этой темы, мы опишем только несколько схем финансирования, которые были использованы в разных странах.
Известные модели финансового обеспечения подобных проектов чрезвычайно разнообразны. В большинстве случаев речь идет о сочетании публичных и частных фондов с преимущественным участием государственных средств, выделяемых национальным правительством. Свою лепту в строительство нового города во многих случаях вносило не только центральное, но и региональные правительства и администрации. Такие схемы с преимущественным участием государственного финансирования были приняты, например, в Казахстане, Малайзии, Германии и во многих других странах. В случае Казахстана и Малайзии большое участие в проекте приняли также национальные нефтегазовые и энергетические монополии.
В ряде случаев страны прибегали также к помощи зарубежных правительств или брали крупные займы (например, в Танзании). Перенос столицы Афганистана, например, опирается на финансовую помощь нескольких зарубежных стран и партнеров (наибольшую часть средств дали японское правительство и японские инвесторы). То же относится, например, к финансированию вновь создаваемой столицы Южного Судана, весь бюджет которого значительно ниже тех средств, которые планируется потратить на перенос столицы. Правительства некоторых африканских стран были вынуждены пойти на политический компромисс, заимствуя средства у Южно-Африканской республики. Во многих случаях были выпущены специальные долгосрочные бонды для финансирования этих проектов, происходила продажа земли крупным частным застройщикам (Gordon& Seasons, 2009).
Информация по поводу стоимости многих переносов столиц не доступна или не вполне доступна для исследователей и наблюдателей и не всегда достоверна. Как правило, особенно сложно оценить размеры частных фондов, но разноречия вызывает и оценка государственных фондов (например, в случае Казахстана). В целом существует тенденция к приуменьшению этих расходов как со стороны государства, так и со стороны корпораций и частных интересов.
Помимо умышленных подтасовок существуют и объективные сложности с пониманием структуры бюджетных расходов.
Многие категории расходов на перенос столицы не специфицируются или переквалифицируются в другие категории. Например, в Танзании стоимость аэропортов и транспортной системы, обслуживающих столицу, не включалась в общую смету расходов, относимых к переносу столицы.
В некоторых случаях бывает чрезвычайно трудно с высокой степенью точности оценить, являлась ли определенная категория расходов адресной, то есть была ли она частью бюджета на национальное развитие или его нужно атрибутировать более непосредственно проекту переноса столицы. В большинстве случаев также бывает непросто оценить окончательную и полную стоимость таких проектов, так как здания и инфраструктура часто сдавались в эксплуатацию до полного завершения строительных работ. Не удивительно, что многие цифры и количественные показатели отдельных категорий расходов основаны на оценках специалистов и являются весьма приблизительными.
Некоторые цифры, собранные автором книги из разных источников, приведены в таблице (таблица 4). Понимание сравнительных масштабов этих проектов также потребовало соотнесения абсолютных цифр расходов с соответствующими доходами стран, то есть ВНП. Поэтому расходы представлены также в качестве процента по отношению к соответствующему ВНП государств, предпринявших эти проекты, на год начала строительства. Для сравнительных целей все эти расходы переведены в доллары США.
Как можно видеть, стоимость проектов часто составляла значительную долю ВНП различных государств. Например, строительство Бразилиа едва не разорило страну и обходилось казне около 3 % ВНП в течение всего периода строительства новой столицы. Наиболее экономичными из этих проектов кажутся переносы столиц в Канаде и Казахстане, где правительства переезжали в относительно небольшие, но уже существующие города – Оттаву и Целиноград.
Гораздо сложнее квантифицировать некоторые другие категории стоимости, которые вообще не попадают в разряд расходов. В этом смысле можно сказать, что реформа политического центра имеет немало общего с попытками внедрения инноваций в различных системах технологического развития. Новая столица в чем-то сопоставима с новой технологией не только в плане дороговизны, но и в связи с тем, что она идет вразрез с множеством привычек и интерций, встроенных в сложившуюся социальную систему.
Для описания сложностей внедрения и адаптации новых технологий экономисты пользуются термином «эффект блокировки» (lock in effect)[33]. Этот эффект объясняет технологический консерватизм, который на много десятилетий может оттягивать принятие более оптимального технологического решения. То же самое, по-видимому, относится и к новым столицам, даже в тех случаях, когда преимущества нового места и резоны для перемещения вполне очевидны и не требуют дополнительных аргументов. Тем не менее государства, как правило, отказываются от более рационального решения и от оптимальной в географическом и демографическом плане точки пространства, так как старая столица успела обрасти транспортными сетями, а также культурным, символическим и сетевым капиталом, что делает принятие такого решения не только дорогостоящим, но и психологически сложным решением. Эффект блокировки может оказываться, таким образом, частью эффектов колеи (path dependence).
Технология смены и расположения столицы в географическом пространстве государства, впрочем, кажется гораздо более сложной, масштабной и ответственной по сравнению с адаптацией новых технологий и технических инноваций.
Сроки и администрирование переносов столиц
Интересно также взглянуть в сравнительной перспективе на сроки строительства новых столиц. Во многих странах такое строительство затягивалось на десятилетия главным образом из-за проблем с финансированием, войн или финансовых кризисов. В таких странах, как Индия и Австралия, строительство отставало от планов на множество лет: на 12 лет в случае Нью-Дели и на 20 лет в случае Канберры. В случае Канады масштабная реконструкция столицы затянулись на 22 года (с 1947 по 1970). Напротив, в таких странах, как Бразилия, Турция и Казахстан, процесс завершился в рекордно быстрые сроки (Gordon & Seasons, 2009). Представляет интерес разительный контраст между Малави и Танзанией, которые принципиально не отличаются друг от друга по уровню богатства: если в Малави перенос столицы был полностью завершен в течение 10 лет (1968–1978), то в Танзании он не завершен и по сей день. Эксперты связывают такое различие главным образом с уровнем организации этого процесса (Kironde, 1993:448).
Интересно также обратить внимание на некоторые тенденции в организации и администрировании создания новой столицы. В различных странах были созданы специальные агентства по планированию и развитию столичных городов, а в некоторых случаях – консультативные органы с различным уровнем полномочий и объемом задач. В ряде случаев они занимались всей совокупностью проблем, связанных с развитием, планированием и маркетингом всего города (Gordon & Seasons, 2009).
В Австралии, Индии и Бразилии эти агентства работали над планами всего города в целом. В Австралии это была Федеральная комиссия по делам столицы, позже переименованная в Комиссию по развитию национальной столицы, которая работала непосредственно под эгидой кабинета министров. В Индии был создан Трест по развитию Дели, а в Бразилии – Корпорация по урбанизации новой столицы. В Аргентине в 1987 году был создан особый орган для строительства новой столицы – государственная компания ENTECAP. В Бразилии Корпорация была наделена чрезвычайными полномочиями и была подчинена непосредственно президенту страны, что позволяло ей осуществлять планы в чрезвычайном режиме, без лишних бюрократических проволочек. В Канаде и США агентства были сосредоточены только на вопросах планирования.
В тех государствах, где на настоящий момент продолжается разработка планов по строительству новой столицы, также были созданы консультативные и исполнительные органы для планирования и проведения строительных мероприятий. Так в Южной Корее был создан Президентский комитет по строительству новой столицы. В Аргентине после принятия закона было создано агентство по делам новой столицы, которое занималось вопросами ее дизайна и финансирования. В Японии на основании парламентского акта от 1992 года был создан специальный совет под председательством бывшего президента Токийского университета Ватару Мори по переводу на новое место парламента и других организаций. Этот совет является консультативным органом при премьер-министре страны. Подобные комиссии были также созданы в Малайзии и Индонезии. Широко использовались также международные консультанты, агентства и архитектурные организации.
В нескольких странах проводились специальные международные конференции по теме (Аргентина, Корея, Казахстан, Япония), где обсуждались различные сценарии и аспекты переноса столиц с широким привлечением не только свадебных генералов, но и известных иностранных ученых и специалистов. Например, в 2003 году в Корее прошел научный симпозиум, посвященный созданию новой административной столицы, организованный Корейским географическим обществом совместно с другими общественными организациями. В Казахстане проводились конференции, посвященные анализу итогов и результатов переноса столицы в Астану, приуроченные к десятой годовщине основания казахской столицы. В 1988 году конференция на тему «Переносы столиц: мировой опыт» была проведена в Буэнос-Айресе. В лучшем случае блестящие ошибки: приговор критиков
Многие экономисты и политические обозреватели чрезвычайно скептически и настороженно относятся к переносам столиц как классу социальных событий и как к средству разрешения экономических и урбанистических проблем государств и их главных городов. Они, в частности, подчеркивают, что подавляющее большинство опытов по переносу столицы не были особенно успешными, и видят историю переносов столиц как серию катастроф или чрезвычайно дорогих ошибок. В самих попытках реконструкции экономического пространства этим критикам чудятся призраки дирижизма (deregisme) и государственного интервенционализма. В них они видят, прежде всего, не попытки устранения аномалий урбанистического и национального развития, а попытку вмешательства в существующую естественную логику расположения городов и устройство экономического и политического пространства, которая кажется им стихийно-исторически сложившейся и потому не подлежащей изменению сверху.
Некоторые из этих критиков склонны считать предложения и дебаты по этому поводу популистскими лозунгами, обращенными к большинству провинциальных избирателей, которые лишены доступа к столичным благам, или опасными профанациями идеалов и великих идей. Другую важную причину популярности этих проектов они видят в мегаломании, или в эксцессах автократических лидеров старовосточной закалки, которые ищут мегапроекты с целью стяжания власти, маргинализации старых элит или закрепления своего имени в анналах национальной истории. С помощью новых столиц эти лидеры воздвигают себе огромные рукотворные и чрезвычайно дорогостоящие памятники циклопического масштаба.
Критики переносов столиц составляют превалирующую школу мысли и критики, которая доминирует в некоторых влиятельных либеральных изданиях. Негативные или скептические оценки таких проектов характерны, например, для многих статей в газете «Экономист». Развернутая критическая хроника переносов как класса политических событий, инспирированных в основном мегаломанией, была также представлена в обзорной статье в газете Independent журналистом Саймоном Экемом (Simon Akam, 2011). В изложении таких критиков переносы столиц оказываются в лучшем случае «блестящими ошибками», если воспользоваться остроумной характеристикой известного русского историка Карамзина, примененной им к Санкт-Петербургу (Карамзин, 1991: 26).
Урбанологи и экономисты отмечают, что подобно медицинским искусственным органам или трансплантатам, вживление новых городов в тело страны занимает много лет – по некоторым оценкам этот процесс во многих случаях занимает более столетия (ВВС, 2009). Согласно оценке известного американского урбанолога Блэра Рубла – около полутора веков (Рубл, 2011).
Кроме того, многим критикам новые спланированные столицы представляются чем-то вроде стерильных и искусственных городов-гумункулосов, выращенных в ретортах современных урбанистических алхимиков. На этих городах лежит стигма и проклятие неорганичности и чужеродно-сти окружающему пространству и ландшафту. Таким проклятым городом когда-то представлялся Санкт-Петербург в старообрядческой традиции: выдуманная или измышленная столица, город, которого нет.
Как правило, эти критики используют для оценки таких опытов преимущественно или исключительно экономические критерии. Понятно, что идеология экономизма, которая воплощается в этом подходе, считает все подобные мотивации неприемлемыми, результаты таких мероприятий социально опасными и противоречащими принципам свободного рынка.
В числе наиболее опасных компонентов и аспектов переноса столицы, где бы он ни происходил, критики называют следующие:
1. Чрезвычайно амбициозные и часто утопические планы или подтексты переносов столиц в XX веке. Большинство из социальных задач, которые имел в виду перенос столицы, никогда не смогли осуществиться в реальности. Главный предмет критики при этом – масштабы нового города и ожидания по его поводу (Akam, 2011).
2. Финансовые расходы на перенос столицы в большинстве случаев значительно превосходили бюджет, отведенный на эти проекты. Так, в Малави расходы на перенос нанесли ущерб общему бюджету на развитие страны, а также привели к политическому и моральному компромиссу, на который пошло правительство страны, – займу дополнительных средств у режима апартеида в Южной Африке. Бразильский проект, с точки зрения некоторых критиков, монополизировал государственный бюджет, подорвал монетарную систему страны и стал угрозой для всей бразильской экономики (ВВС, 2009).
3. Многие из этих проектов превратились в опасные долгострои, затягиваясь на десятки лет как, например, в Австралии, Танзании или Нигерии (Nwafor, 1980; Kironde, 1983).
4. Хотя реформаторы и политические лидеры, ратующие за перенос столицы, часто апеллируют к экономическим преимуществам, которые должны возникнуть в долгосрочной перспективе, реальные переносы столиц, по оценке критиков, редко вели к экономическому процветанию. Эдвард Шац замечает, что ему не известно ни одного случая, когда перенос столицы привел бы каким-то серьезным или ощутимым экономическим преимуществам (Shatz, 2004).
5. Скрытая повестка дня по укреплению личной власти, монументальная пропаганда и легитимизация режима часто приписываются правителям в качестве главных мотивов и целей в переносах столиц (Economist, 2004, 2010).
6. Перенос столицы не решает фундаментальных проблем, приведших к возникновению феномена приматного города и сверхцентрализации, которые основаны на ложных политических принципах. По этой причине в новой столице воспроизводятся все те же негативные явления, которые по идее реформаторов и политических лидеров такой перенос должен был снять или разрешить. От переноса слагаемых сумма не меняется. Перенос столицы, считают они, предлагает лечение симптома болезни, но не ее причины.
7. Некоторые консервативные критики выступают с более радикальным тезисом: с их точки зрения перенос столицы «оскверняет историю», компрометирует историческую память и разрывает преемственность поколений (такова была позиция некоторых чиновников в Японии).
8. Существует также и школа мысли, которая сторонится стерильной городской среды административных столиц и городов, построенных по специальному плану. Представителям этой школы кажется, что стерильная среда новых административных столиц, изолирующая их от голосов улицы, не способствует развитию и росту демократии. По их убеждению, демократия органически произрастает из публичных пространств крупных мегаполисов с их дилеммами и протестами: она рождается из самого хаоса роевой городской жизни (King, 2007: 135–136). Административные столицы в их понимании отрывают и изолируют правительство от голосов улицы. Городская среда спланированных городов кажется им результатом своего рода клонирования урбанистической среды, выращенной в реторте интеллектуального инкубатора, и в высшей степени неорганическим курсом развития.
9. Существует также большое предубеждение против мегапроектов, которые часто ассоциируются с восточными деспотическими режимами и которые предоставляют множество возможностей и лазеек для хищения государственных средств.
Но наиболее убедительным аргументом против переноса столицы с точки зрения автора является наличие или возможности альтернативных стратегий, которые позволяют решить практически все планы, заявленные в целях и задачах переноса столиц, гораздо дешевле, с меньшими эмоциональными потерями и без шоковых революционных переходов и бросков.
Альтернативные стратегии сдерживания приматного города
Переносы столиц в развивающихся странах связаны не только со стратегиями национального строительства, но и с социально-экономическими причинами и особенностями их системы урбанизации. Как мы уже отметили, характеристики приматного города в развитых и развивающихся странах различны и часто противоположны. В то время как в развитых унитарных странах, таких как Великобритания, Франция и Япония, приматность не приводит к колоссальным диспропорциям и бедности, будучи в значительной степени оправданной ролью этих городов в глобальной экономической системе, в бедных странах приматность столицы обычно тесно связана с демографическим ростом, который диспропорционально направляется в столицы и превращает их в весьма неблагополучные города.
Патологический рост приматных городов в этих странах связан с недостаточной общей урбанизацией и низкой плотностью городов, силой разделения между городом и селом, низкими возможностями урбанистической абсорбции, высокими темпами роста населения, контрастами жизни в городе и в сельской местности. Такой курс урбанизации ведет к несбалансированному территориальному развитию страны, экономической неэффективности и слабой диффузии инноваций и пагубно сказывается на курсе политической и национальной интеграции.
Такой патологический путь развития урбанизации заставляет бывшие колониальные страны искать различные политические стратегии сдерживания и снижение темпов роста приматных городов.
Перенос столицы является только одной из этих стратегий, эффективность которых является спорной. Среди распространенных альтернативных или дополнительных стратегий, направленных на изменение урбанистической иерархии, можно выделить децентрализацию в рамках центральных районов, контроль миграции, фискальную политику, развитие региональных метрополий, создание осей развития, субсидии, направленные на развитие провинциальных столиц и вторичных городов (Richardson, 1981).
В перспективе новой экономической географии (Пол Кругман и Масахиса Фужита) среди ключевых мероприятий, направленных на децентрализацию, выделяются реформа политической системы, отказ от политики протекционизма и монополии внешней торговли (что позволит городам интегрироваться в мировую экономику), а также строительство транспортных магистралей, которые бы интегрировали страну по линиям горизонтальных связей. Это бы значительно снизило издержки, связанные с транспортировкой товаров, позволило бы меньшим городам интегрироваться в национальную и мировую экономику, что в какой-то мере снизило бы значимость приматных городов. Другим мероприятием в этом контексте может быть названо преодоление предрассудка (urban bias) против малых городов в области финансирования бизнес-проектов банками (Krugman, 1995: 241–243).
Кроме того в качестве альтернативных стратегий можно рассматривать различные формы и способы децентрализации: деволюцию, делегирование властных полномочий, деконцентрацию и дебюрократизацию (Keating, 1983).
Иной альтернативной стратегией является масштабная реконструкция главного города, примером чего может служить модель Большого Парижа. Впрочем, стоимость таких моделей может приближаться к стоимости переноса столицы на новое место (например, проект Большого Парижа обойдется Франции почти 35 млрд евро) (Bianchini, 2009).
К другой группе стратегий относятся различные инновационные морфологические и транспортные решения проблем мегаполиса. Они позволяют оптимизировать инфраструктуру города, снизить нагрузку на автомагистрали, решить проблемы пробок с помощью новых транспортных технологий, дополненными институциональными решениями (Вучек, 2011; Блинкин, 2010). Такие транспортные решения проблем пробок и перенаселенности обсуждали и отстаивали такие урбанисты и специалисты по организации транспортных систем, как Уэндел Кокс (который служил консультантом и комментировал обсуждаемый проект переноса столицы в Индонезии) и Вукан Вучек, а также – в контексте Москвы – Киитиро Хатаяма, сын японского премьер-министра. Факторы успеха
Было бы ошибкой, однако, считать, что существует какой-то консенсус или единодушие урбанологов, экономистов и политических аналитиков по вопросу о желательности и последствиях экспериментов по смене столиц.
Конечно, все они так или иначе различают уровни успешности. И в уже рассмотренных нами примерах мы видим полный спектр возможностей – the good, the bad and the ugly. Факторы успеха при этом можно идентифицировать на основании их результатов. Так, существует огромная разница между относительно успешными случаями Германии, Малайзии и Казахстана, с одной стороны, и случаями Нигерии и Танзании – с другой.
Достаточно сбалансированные и всесторонние оценки переносов столиц давались такими авторитетными специалистами, как эксперт по экономике развития Гарри Ричардсон, географ Кеннет Кори и политолог Эдвард Шац (Вае & Richardson, 2009; Corey, 2004; Schatz, 2003). Все они находят в обсуждаемых ими свершившихся или дискутируемых переносах – в Бразилии, Корее и Казахстане – в том числе и важные положительные стороны и указывают на их в целом относительно благоприятные, реальные или потенциальные, последствия. Они не выказывают слепого энтузиазма, призывают к осторожности, указывая на высокую стоимость, серьезные риски и высокий уровень провалов таких проектов, но при этом им удается избегать необоснованной и огульной критики, а также экономистских предрассудков. Их оценка этих проектов кажется гораздо более всесторонней и сбалансированной и с точки зрения критериев, которыми они пользуются.
Даже в чрезвычайно и очевидно неудачных прецедентах, таких как Лагос в Нигерии, некоторые эксперты находят свои позитивные аспекты и приемлемые результаты – в рамках существовавших возможностей и альтернатив при сохранении status quo (Marlow, 2011). Внутри своей системы задач, оценка которых, безусловно, может быть самой разной, достаточно успешным может признаваться даже перенос в республике Мьянма, проанализированный российским географом Рогачевым (Рогачев, 2008).
Следует отметить, что многие историки и урбанологи с основаниями полагают, что для реалистической оценки результатов большинства недавних перемещений столиц прошло еще недостаточно времени. Горизонт этих решений был гораздо шире, и их реалистическая – в том числе и экономическая – оценка может быть дана, возможно, только через несколько десятилетий. Они предостерегают против скороспелых суждений и приговоров, а также оценок, исходящих из сугубо экономических критериев.
Наконец, существует группа романтических сторонников переноса столиц, которая считает рациональную калькуляцию и особенно пристальное рассмотрение вопроса об экономических преимуществах таких решений неуместным и противоречащим спонтанному и романтическому характеру подобных концепций. Дух таких идеалистичных политиков прекрасно выразил еще в XIX веке граф Камилло ди Кавур (1810–1861), один из вдохновителей и идеологов объединения Италии. В своем обсуждении вопроса о новой столице страны, который остро стоял на повестке дня патриотов Италии в 60-е годы XIX века, Кавур заявил:
Вопрос о столице не решается стратегическими соображениями… Выбор столицы определяется великими моральными причинами. Этот вопрос может быть решен только чувствами народа (Djament, 2005: 372).
Не столь романтичный географ Элдридж, как мы помним из рассказа о бразильской столице, сделал конгениальную ремарку по поводу возможной неосуществимости планов строительства Бразилиа в случае следования более рациональной схеме и последовательным калькуляциям преимуществ и расходов (Eldridge, 1975: 477).
Однако вряд ли все это означает, что можно пренебречь рациональными критериями и целиком опереться в этом вопросе только на температуру, пульс и точность интуиций Volksgeist, как считали и, возможно, продолжают считать социальные романтики вроде Кавура. Как мы могли убедиться, недавняя история пестрит примерами малоуспешных, проблематичных или невразумительных опытов такого рода даже там, где не было никакого недостатка в «высоких моральных причинах». Кроме того, со времен Кавура социальная теория научилась более настороженно относиться к «чувствам народа» и интуициям национального духа.
Необходим подход, который мог бы проверить алгеброй гармонию и примирить истины рациональной и здравой критики с правдой национальной романтики. Такой конструктивный подход, вероятно, состоял бы в более трезвой оценке различных параметров и обстоятельств переноса по шкале успешности – от умеренно удачных до катастрофических. Сам императив Кавура – назовем его наличием высокой моральной температуры – мог бы стать не антитезой, а частью такой системы учета стратегических параметров.
Каковы же эти факторы успеха и факторы риска подобных проектов?
Важнейшим фактором автору представляется вписанность переноса в стратегию развития страны и острота существующих проблем преемственности или разрыва, возникающая в гуще народа, ищущего новую идентичность. В ситуации такого рода данная форма урбанистической шоковой терапии может быть более оправданной, как и в случае с экономикой или медициной, откуда этот термин и был изначально заимствован.
Американский географ Кеннет Кори предлагает свой – довольно прозаический – каталог параметров, который представляет собой более сбалансированный подход. Он выделяет, в частности, следующие факторы успеха переносов столиц:
1. Широкая популярная поддержка этого проекта.
2. Национальные лидеры, популярные и способные к осуществлению этой задачи и последовательно идущие на осуществление этих целей.
3. Наличие сразу нескольких причин и мотиваций для переноса столицы.
4. Наличие популярных позитивных причин для смены столицы, а не только негативных причин, связанных с неадекватностью старой системы. Так, перегруженность города транспортом – негативная причина – не является достаточным основанием для такого решения.
5. Финансовая состоятельность государства. Успех часто предполагал участие публичного и частного капитала в осуществлении этих целей.
6. Реалистические планы, которые не ставят себе слишком амбициозных задач.
7. Наиболее успешными являются переносы административных столиц, которые осуществляются постепенно. Переносы городов, связанные с дублированием всех функций уже существующего столичного города, гораздо менее успешны (Corey, 2004: 83–92).
Другим важнейшим фактором, не упомянутым или недостаточно ясно расшифрованным Кори, на взгляд автора, является также инклюзивность, наличие широкой базы бенефициариев такого проекта, расширение самой базы лояльности страны и населяющих ее коллективов, которая может быть достигнута через создание для них новых возможностей. Наличие многих потенциальных бенефициариев служит одним из важнейших индикаторов и залогов инклюзивности проекта.
Несколько вопреки шестому пункту этого каталога, дополнительным фактором успеха является также наличие утопического горизонта или идеалистических мотиваций такого решения. В противоположность банальному утопизму такой идеалистический горизонт не предполагает тотальной реконструкции мира или государства на утопических основаниях, но задействует систему идеалов нации и концепцию ее реконструкции в контексте широких социальных изменений. В перспективе этого горизонта новая столица становится одним из инструментов не только политической, но и более глубокой социальной трансформации.
Столь же буднично, как и Кори, фиксирует уже факторы неуспеха Лусугга Киронде на примере гораздо более печального примера переноса столицы в Танзании, противопоставляя его примерам более удачным (в Малави и в Белизе) (Kironde, 1993: 448–450).
Критерии эффективности столиц и методы их анализа
Как мы могли убедиться на многих примерах, перенося столицы из одного города в другой, государства стремятся достичь более высокой их эффективности для решения различных вопросов развития своих стран. Такие переносы как бы увеличивают тот рычаг или коэффициент полезного действия, который необходим для проведения реформ, укрепления государственной власти или решения других задач. Каковы критерии эффективности этого социального института и по каким параметрам следует судить о том, что новая столица действительно лучше предыдущих? Другими словами, каковы нормативные критерии эффективности столиц и какие критерии здесь следует учитывать прежде всего.
Чтобы ответить на этот вопрос мы сначала опишем несколько методологий, которые используются для выбора столичных городов и оценки их продуктивности. Во второй части этой главы мы покажем на нескольких примерах, к каким выводам приходят ученые и как они используют некоторые из этих методологий. Методологические подходы к оценке роли и местоположения столиц
Интересно обратиться к тем методологическим подходам, теоретическим моделям принятия решений, категориям и инструментам анализа, которые используются в разных дисциплинах и в практике разных стран мира для принятия решения по вопросам размещения или перемещения столицы.
Паранаучные подходы: Геомантия
В древности и в Средние века архаическое понимание столиц как ритуальных центров, вписанных в систему космической гармонии, диктовало необходимость особых методов их поиска и легитимации. Это обстоятельство определило особую значимость двух дисциплин в основании столиц – астрологии и геомантии – в качестве вспомогательных инструментов для выбора столицы или ее легитимации. Астрология была ориентирована на небо и на время основания столицы. Геомантия ориентировалась на знаки земли и могла предложить методы для определения места для новой столицы. Астрологические обоснования получили особое распространение в Византии, Персии и Аравии[34], а геомантические – на Дальнем Востоке. Своеобразные астрологические методики для обнаружения столиц разрабатывались также в Бирме и, как мы видели, последний перенос столицы страны следовал самому строгому астрологическому регламенту (Preecharush, 2009).
Если на Западе мы не находим систематически разработанных процедур и методов для принятия решения по поводу переноса столицы, то на Дальнем Востоке и в некоторых странах Юго-Восточной Азии – главным образом в Китае, Корее, Японии и Вьетнаме – они становятся важнейшими и обязательными инструментами для принятия такого рода решений. Практика основания столиц на основе геомантии (фэн-шуй – доел, «ветер и вода») зафиксирована, например, в таких древнейших китайских источниках, как «Книга истории» и «Книга песен». Известно, что геоманты инициировали или оказывали сильное влияние на принятие решений по поводу основания или переноса столиц и участвовали в выборе для этого наиболее благоприятных мест (Yoon, 2006: 223, 231, 250). Так, такие важные столицы этих стран, как Чанъань (столица династий Тан и Западная Хань), Лоян (столица династии Восточная Хань, а до этого столица царства Чжоу и легендарной династии Ся), Сеул, Кэсон (древняя столица Кореи), Хюэ (королевская столица Вьетнама), Нара и Киото (столицы Японии), были выбраны именно геомантами.
В этой группе стран возникла не только специальная процедура принятия решения, но и особый интеллектуальный класс, который обладал экспертизой в этих вопросах. Считалось, что эти внешние эксперты или консультанты обладают специализированным знанием по поводу устройства пространства и наиболее благоприятных точек, а также времени, благоприятствующего основанию нового города.
Выбор места для новой столицы был важнейшим государственным мероприятием. Считалось, что судьба страны во многом зависит от географического расположения ее столицы. Геоманты подробно изучали рельеф, исток и направление геомантических жил с помощью специального геомантического компаса (а в более древние времена – панциря черепахи), карт и планов местности и пытались заручиться благосклонностью местных духов. В их функции также входило правильное расположение дворца, основных построек и захоронений предков (Yoon, 2006: 220–235).
В основе геомантии лежало представление о телесности пространства. Ее главный принцип заключался в необходимости гармонизации элементов природы и пяти первоэлементов (земли, дерева, металла, огня и воды). Особое значение при этом придавалось земле как материнскому началу, стоящему у истоков жизни. Земля, которая порождает все, что есть на свете, и энергия земли в каждом определенном месте оказывают решающее воздействие на тех, кто использует этот участок земли. Идеальное место примиряет Небо и Землю, а также мужское и женское начала. Критическими элементами ландшафта при этом считались гора (холм) и вода (река): первая заключает в себе жизненные силы, вторая – препятствует уничтожению или иссякновению этих жизненных сил.
В известном китайском трактате по геомантии эпохи Мин «Дили жэньцзы сюйчжи» («Все, что надлежит знать геомантам») приверженцы этой науки обсуждали преимущества расположения столиц в категориях распространения и сохранения энергии (Хие, 1969). Примечательно, что все столицы Древнего Китая располагаются вблизи горных хребтов, которые имеют своим истоком гору Куньлунь, центр мира и источник энергетических импульсов. Пекин, Лоян и Нанкин представляются в этой системе соответственно как северный, средний и южный драконы.
Хотя геомантия предлагала мистические схемы решения вопросов размещения столиц, в ней было важное рациональное зерно – идея баланса сил и энергий в поселении, своего рода энергетическая экология. Кроме того, это была, по существу, первая систематическая процедура оценки места с учетом различных показателей. Некоторые современные географы и архитекторы отказались от прежней исключительно негативной оценки геомантии, которая долгое время считалась просто суммой суеверий, реабилитировали ее и рассматривают ее сегодня как особый раздел урбанистической экологии, в котором есть много вполне здравых элементов. Некоторые современные геополитики, о которых пойдет речь ниже, непосредственно пользуются категориями и представлениями, весьма близкими старым геомантам, – о магнитных полях земли, энергетических жилах и о геологически определенных направлениях движения социальной энергии и социального времени (Тынянова, 2011).
Теория сетей и сетевых взаимодействий
Для некоторых стран расположение в центре страны может быть принципиально невозможным в силу обстоятельств климата, ландшафта или расположенности на нескольких разрозненных островах или континентах. Индонезия, Канада, Австралия, а также Дания явно принадлежат к числу таких стран. Кроме того, центральность определенного города в стране не так очевидна и однозначна, как это может казаться каким-то политикам или ученым, что связано с качественными характеристиками географического пространства.
Определенную помощь в осмыслении теории центральности и множественности центров и понимания различия функций разных центров могут оказать междисциплинарные теории сетей, математические теории графов и сетевых взаимодействий (Borgatti & Everette, 2006). Для этих теорий характерно выделение четырех концепций центра, ни одна из которых не совпадает с концепцией геометрической центральности. Теоретики графов говорят о центральности в смысле (1) физической близости (closeness), (2) промежуточности (betweenness), (3) общего количества взаимодействий или центральности объема (volume of interaction), а также (4) центральности по значимости взаимодействий.
Суть этой классификации состоит в неоднородности, двойственности и неоднозначности концепции центральности. Центральность может быть обнаружена по отношению к различным составляющим государства: близость к его границам, по отношению к маршрутам самых крупных городов, по отношению к наиболее важным политическим центрам, по отношению к составляющим его этническим или религиозным группам. Хотя теория графов применяется в основном для анализа технических и социальных сетей, она может иметь важные импликации также для анализа урбанистических иерархий различных государств и критериев выбора столицы на основе различных типов центральностей.
Помимо этих центров, экономические географы используют концепции центрографии для идентификации «центров тяжести» и динамики их перемещения, согласно демографическим показателям, взвешивая население разных стран. Центрография занимается в основном вопросами размещения производительных сил с использованием специальных математических и графических методов. Взвешивая различные параметры, центрографы определяют различные отраслевые и прочие центры.
Интересно отметить, что одним из пионеров центрографии как отрасли экономической географии был Дмитрий Менделеев (Менделеев, 2002). В дальнейшем она получила развитие в работе ряда его российских учеников и последователей, в частности экономгеографов Владимира Святловского (1869–1927), Владимира Дена (1867–1933) и Вениамина Семенова-Тян-Шанского (1870–1942), сына знаменитого географа (Семенов-Тян-Шанский, 1989). В 1934 году центрография была объявлена буржуазной фашистской лженаукой наряду с кибернетикой и генетикой (см. Светляковский и Иллс, 1989).
Теоретики сетей и центрографические теории еще раз привлекают внимание к нескольким важным фактам: пространство по самой своей природе чрезвычайно полицентрично; тщетно было бы искать один монолитный центр, геометрический, динамический или военный; даже в чрезвычайно сверхцентрализованных странах существует множество центров, и мы можем идентифицировать во всяком случае несколько возможных вариантов, наиболее релевантных для решения конкретных задач. Например, американский урбанолог Закари Нил показывает специфичность и различия между центральностью и властью, двумя концепциями, которые часто кажутся синонимичными или даже тождественными, вводя специфические мерки центральности (Neal, 2011).
К теориям сетевых взаимодействий тесно примыкают теории городских сетей и иерархий. Параметры, учитываемые теорией городских сетей, – это, прежде всего, взаимодействие между рыночными и политическими сетями и узлами в процессе построения государства, соотношение экономических и политических факторов в урбанистической системе.
Системно-динамические теории
В теориях динамических систем, которые широко используются в управленческой практике, акцентируется внимание на системе каузальных связей и взаимозависимостях в системах, в качестве которых могут выступать государство, бизнес или урбанистическая иерархия. В русле проблемы переноса столиц ученые прослеживают, какие последствия могут повлечь за собой такие решения и какие вспомогательные стратегии необходимо использовать для успешного осуществления таких проектов. Они, в частности, строят схемы, в которых рассматриваются различные сценарии развития урбанистической динамики в новых условиях, потенциальные изменения в субсистемах, последовательность переноса в новую столицу различных функций и последствия различных фаз процесса для региональных экономик (Вае, 2004; Lee, Choi, Park: 2005).
В центре внимания таких подходов – возможности предусмотреть различные отдаленные последствия принятых экономических и политических решений, а также идентификация наиболее важных звеньев и элементов цепи. Эти схемы позволяют более эффективно планировать проекты переноса столицы, а также позволяют прогнозировать различные побочные процессы, такие, например, как динамика роста новой столицы, достижение ею зрелости или экономической самодостаточности, демографические процессы в старой столице. Они также помогают идентифицировать цепи обратной связи (feedbackloops), что особенно важно при анализе и моделировании нелинейных процессов. Практикующие эти подходы исходят из предположения о наличии замкнутых связей между элементами системы, которые взаимосвязаны и воспроизводят ее нежелательные черты (например, гиперцентрализацию).
Примером системно-динамического подхода может служить анализ переноса столицы из Сеула, который был предложен, в частности, междисциплинарной группой корейских ученых (Lee, Choi, Park, 2005: 69–85). Они, в частности, указывают на замкнутость и тенденцию к самоувековечиванию в сверхцентрализованной системе; один из их выводов состоит в необходимости использования вспомогательных стратегий деконцентрации для успешного переноса столицы.
Геополитический анализ
Геополитики привлекают внимание к тому факту, что ориентации разных культурно-политических систем в пространстве могут быть принципиально различными в зависимости от различных параметров их военных, имперских и торговых стратегий. Примером такого рода могут служить речные, морские, океанические цивилизации в описании Льва Мечникова (Мечников, 1995). Кроме того, геополитики выделяют ключевые точки пространства, далеко не всегда совпадающие с геометрическим центром, что с их точки зрения принципиально важно в формировании стратегий строительства империй и выборе места расположения столицы.
Геополитический анализ распадается на собственно военный анализ, который концентрируется на военных стратегиях, вытекающих из географического положения территорий и особенностей ландшафта (Lohausen, 1992), и на макрогео-пространственный анализ, который часто описывается в чисто естественно-научных терминах. Так, например, в одной из статей Ольги Тыняновой, главного редактора журнала «Пространство и время», речь идет о благоприятных и неблагоприятных «направлениях переноса социальной энергии». Успешность такого переноса, который воплощается в военных экспансиях, практиках культурных слияний и взаимодействий и в переносах столиц, зависит от совпадения этого направления с «основными силовыми линиями (мирового хода времени, переноса солнечной энергии, электромагнитного и гравитационного поля)». «Энергетически выгодными направлениями» считаются движение с востока на запад, а также движение с севера на юг. Хотя Тынянова специально не тематизирует проблему переноса столиц и не применяется к обсуждению специфических российский столичных проблем, ее рассуждения подразумевают, что перемещение столицы и людей (частный случай переноса социальной энергии) с запада на восток (вспять движению мирового времени) редко заканчивается успешно, чему приводится множество исторических примеров и аналогий (Тынянова, 2011).
Теория полюсов роста
Географическая теория «полюсов роста» была предложена в 1949 году французским географом Франсуа Перру (1903–1987). Эта теория, объясняя неравномерность экономического развития территорий, выделяет пропульсивные отрасли экономики, которые могут стимулировать развитие прилегающих территорий. Теория полюсов роста стала одной из наиболее заметных и важных стратегий развития территориальной структуры как в развитых, так и в развивающихся странах.
Хотя теория полюсов роста разрабатывалась первоначально как чисто экономическая теория, направленная на поиски индустрий и отраслей хозяйства, которые могли бы стать моторами развития конкретных регионов, она была также тесно связана со столичными городами или возможностями создания контрмагнитов для развития территории. Во многих проектах, которые мы уже обсудили, в качестве «точек роста» рассматривались авангардные столицы, то есть новые города в неразвитой части страны. Предполагалось, что эти «заброшенные вперед» (forward thrust capitals) столицы должны стать магнитом для мигрантов из центра страны и моторами экономического роста для прилегающих к ним территорий. Предполагалось, что таким образом можно разгрузить центр и отвлечь ресурсы в отдаленные районы государства.
Классическим примером «полюсов роста» являются новые столицы многих африканских стран, возводящиеся для привлечения инвестиций и экономического развития слабо освоенных центральных районов (Potts, 1985). Ожидалось, что правительства в таких странах станут ядром роста в качестве производителей «публичных благ» и своего рода пропульсивных индустрий, которые распространят циклы инноваций вглубь территорий. В Нигерии, как и во многих африканских странах, перенос столицы описывался непосредственно как применение теории полюсов роста. При этом столица часто служила полюсом роста первого порядка и ее перенос был частью планирования регионального развития стран.
Интересно отметить, что теория полюсов роста связана со столичной проблематикой не только через стратегии развивающихся стран, но и по истории своего возникновения. Непосредственным предшественником Перру, заложившим основы теории полюсов роста, был английский экономист Уильям Петти (1623–1687). Лондон XVII века казался ему примером урбанистического мотора экономического роста и основой богатства английской нации.
Теорию Перру можно интерпретировать также и как ответ на нашумевшую книгу французского географа Жана-Франсуа Гравьера «Париж и французская пустыня», о которой мы уже говорили в связи с идеями о возможном переносе столицы Франции в 1960-е годы и которая вышла за два года до публикации теории Перру (Gravier, 1947). Перру считал взаимоотношения Парижа и провинции негативным примером поляризации, когда привлекательность Парижа оказывается настолько велика, что всякое развитие за его пределами становится невозможным. Однако Перру считал, что поляризация бывает не только негативной, как в парижском примере Гавьера, но и позитивной. Его книга объективно предлагала искать какой-то контрмагнит и альтернативу моноцентричной доминантности французской столицы.
Теория точек роста справедливо подвергалась критике как не вполне реалистическая и централизаторская, а также как не приносящая желаемых результатов. В реальной практике и в контексте построения новой столицы рост во многих случаях не выходил за пределы того города, который считался непосредственной точкой приложения силы. Новый город, замышлявшийся в качестве полюса роста (для этого он вовсе не всегда становился еще и столицей), редко становился эпицентром экономического развития территории, будучи плохо интегрированным с сельской местностью и с другими городами (Potts, 1985: 194). В этой логике правительство воспринимается в качестве главной индустрии страны, а столица как главный мотор экономического роста.
Мир-системный анализ
Представители школы мир-системного анализа предлагают альтернативный подход к пониманию столичных функций через призму обсуждения глобального устройства властных отношений. В противоположность пространственным экономистам и экономическим географам сторонники этой теории считают, что расположение столиц и их перемещения невозможно понять исходя только из внутренних экономических и политических проблем. Логика их расположения и перемещения может быть понята только в контексте международного разделения труда. В этой связи они предлагают альтернативную типологию столиц по характеру отношений между центром и периферией в системе международного разделения труда, навязанного государствами центра. Бродель, как и Валлерстайн и Франк, специально не занимались вопросом столиц. Эксплицируя их теории, Питер Тейлор подчеркивает, что доминантность городов не может быть понята изнутри, как это пытаются сделать экономисты, а только в контексте международных отношений и экстраполирует выводы основоположников мир-системного анализа на мировую урбанистическую иерархию.
Следуя логике теории мир-системного анализа, Питер Тейлор выделяет три типа столиц: столицы периферий, полупериферий и центра (core, periphery and semi-periphery). Периферии представляют собой колониальные столицы (например, в Африке). В периферийных государствах столица локализуется, как правило, в портовом городе, из которого вывозятся товары в метрополию. Периферийные столицы характеризуются моноцефальностью, а также ярко выраженной доминантностью одного главного перенаселенного города. Многие полупериферии характеризуются разделением столиц (сюда относятся Россия, Турция, Бразилия, Пакистан, Нигерия, Китай, США в конце XVII – начале XIX века). Одна из этих столиц, как правило, находится на море (окно в Европу или окно на Запад), вторая – на суше.
Для государств центра характерна сбалансированная урбанистическая система; их столицы монолитны, самодостаточны и не слишком перенаселены. Перенос столиц в полуперифериях при этом объясняется теоретиками мир-системного анализа попытками предотвратить процессы периферизации (Taylor, 1985: 103–104, 165–167). Переносы столиц в бывших колониях также связываются с попытками преодоления своего подчиненного положения в мировой капиталистической системе.
К теориям мир-системного анализа тесно примыкают экономические теории, в которых приматные города рассматриваются в качестве паразитических и противопоставляются продуктивным (generative) городам. Категории паразитических и продуктивных городов были введены американским экономистом Бертом Хозилицем (Hoselitz, 1955). Известный теоретик мир-системного анализа Андре Франк считал приматные города и многие национальные столицы только звеньями в паразитической системе мирового капитализма (Frank, 1969).
Феноменологические теории
Феноменологические теории концентрируются на проблемах символизма, восприятия и конструирования центральности в различных культурах. Они включают в себя анализ повседневного опыта, неформализованных правил, которые лежат в основе конструирования различных центров и паттерны их взаимодействия с сообществом, а также культурно-антропологические теории формирования человеческих поселений.
В контексте философии пространства феноменологические методы позволяют реконструировать практики и представления тех цивилизаций, которые избирали определенные центры. С феноменологическими методами тесно смыкаются различные формы интерпретации столичности, изучение в герменевтическом ключе взаимодействия человека и пространства и власти и пространства, а также формы освоения пространства в целом. Они включают в себя также различные культурные практики и анализ структур жизненного мира, которые лежат в основе национальных пространственных образов и национальных символов, которые участвуют в построении центра и различных публичных пространств, связанных с функционированием столичного города.
Если в других методах города и столицы изучаются объективными методами, которые трактуют их то как крупных животных, то как жидкости или тела, то феноменология обращается ко внутреннему миру городов, его восприятию и включенности в реальные субъективные практики.
Особенно важными в феноменологии кажутся методы толстых сравнений (thick comparison), которые учитывают не только внешние выражения пространственной организации, но и те правила и нормы, часто бессознательные, которые структурируют пространство, создают ментальные карты и определяют формы переживания пространства. А также контексты, подтексты и коннотации и когнитивные образы, которые управляют пространственными отношениями.
К феноменологическим теориям тесно примыкают принципы человеческой экологии, которые изначально были связаны с социологией Чикагской школы.
Теория центрального места
Теория центрального места создает модель естественного возникновения и построения городской иерархии в рамках государства. Города, которые занимают более высокое место в иерархии, снабжают граждан более высокими уровнями услуг и более дорогими товарами длительного потребления. Столицы в этой экономической перспективе могут быть представлены как центры производства особых товаров длительного пользования – «публичных благ». Несмотря на критику этой теории за абстрактность и экономизм, она позволяет лучше понять аномалии, деформации и уровень девиантности конкретных государств по отношению к этой идеализированной системе отношений и логики построения урбанистической иерархии.
Экономические модели функционирования столицы
Одной из наиболее важных перспектив для понимания импликаций столичной доминантности является пространственная экономика, вырастающая из экономической географии и которую мы более подробно обсудим ниже.
Интересный свет на проблему столичности проливает также теория публичных благ, которая может рассматривать проблему доступности публичных благ в столице и на местах в пространственно-географическом ключе. Неоклассические теории агломерационных эффектов и экстерналий также могут быть полезными в этом анализе.
К экономическим теориям тесно примыкают теории, связанные с развитием общественных программ. В своем анализе столицы они могут апеллировать к модели хозяина и агента (principal-agent problem model). В этой парадигме столица осмысляется как агент государства: при определенных обстоятельствах агент может превосходить свои полномочия или узурпировать власть в стране (Turner, 2011).
Национальное и государственное строительство
Наиболее общей и многообещающей перспективой анализа нам представляется контекст национального и государственного строительства. Столица – один из институтов государства, функционирование которого может быть подчинено различным целям. В постколониальных контекстах и в некоторых других случаях переносы или создание новых столиц служат целям создания нации и кристаллизации ее идентичности и символов. Парадигма национального строительства включает в себя анализ различных фаз и вех в созревании нации, инструменты ее развития, а также взаимодействия государства и нации в процессах создания идентичности и новых столиц государств.
Преимущество данной перспективы анализа состоит в том, что она позволяет объединить на своей основе все другие подходы и выйти за рамки чрезвычайно узких экономических моделей анализа. В определенном смысле сбалансированное развитие регионов также может рассматриваться как часть национального строительства, которое связано, прежде всего, с экономическим аспектом существования нации. Принципы социальной справедливости также являются фундаментальными в развитии национального самосознания. В число важных моментов в развитии нации входят также ее символы и символический язык, для анализа которых пользуются семиотическими и феноменологическими методами.
Три критерия оценки эффективности столицы
На мой взгляд, существует три критерия оценки эффективности столицы, которые примерно можно назвать экономической, политической и символической эффективностями. С каждым из них ассоциируется три разных круга вопросов.
1. В какой мере сосредоточение функций в одном городе (например, соединение экономических и политических функций) благоприятно сказывается на национальной экономике государства? Какие причины приводят или способствуют подобному сочетанию функций? Каковы его социальные и политические импликации? Существуют ли вариации этих импликаций в зависимости от степени и стадии экономического развития, а также размера территории государства? Можно ли и в каком смысле можно говорить об оптимальных размерах столицы с точки зрения развития национальной экономики и ее динамики?
2. Второй круг вопросов связан с тем, насколько характер столицы может соответствовать задачам управления в условиях различных типов конституции. Существуют ли императивы, которые диктуют различным типам государств определенный тип столиц? Как характер столицы может способствовать или препятствовать воплощению определенных политических принципов?
3. Наконец, третий круг вопросов связан с адекватностью символического капитала для реализации политических задач.
Эти три круга вопросов мы и разберем в следующих трех главах.
1. Столицы как приматные города в перспективе пространственной экономики
Экономисты, которые занимаются урбанистической или пространственной экономикой, проделали большую работу по объяснению феномена первенствующего или приматного города (primary city). В их работах обсуждаются те процессы, которые приводят к возникновению приматных городов, и их обратное воздействие на экономическое и социальное развитие различных стран. Существует несколько разных технических критериев приматности города (размер самого крупного города по отношению к размеру следующего города или нескольких следующих по численности)[35]. Однако в наиболее общем случае приматным считается такой город, который играет непропорционально большую роль в жизни государства. При этом речь идет не обязательно о его абсолютных размерах, но о его размерах и роли по отношению к остальным городам в стране. Консенсус урбанологов состоит в том, что столичный статус является той переменной, которая во многих случаях определяет первенство (primacy) города.
Абсолютное большинство политических столиц мира являются приматными городами: только в 25 из 146 относительно крупных стран столица не находится в самом крупном городе (Datcher, 2000: 373–374). Это около 83 % всех государств. Однако многие экономисты считают феномен приматного города более характерным для экономически отсталых государств. В таких государствах приматные города часто отсасывают ресурсы из остальной страны и в связи с этим воспринимаются в качестве паразитических.
Важно отметить, что по определению у столиц нет специальной экономической функции. Но размер столицы и ее место и роль в стране, безусловно, оказывают серьезное влияние на развитие национальной экономики.
В целом ряде работ экономисты, политологи и географы поставили вопрос о причинах приматности и диспропорционального роста столичных городов.
Американские экономисты Альберто Эйде и Эдвард Глэзер приходят к выводу о том, что тенденция к совпадению приматности и столичности особенно четко проявляется в недемократических, нестабильных или коррумпированных государствах (Ades, Glaeser, 1995). В нестабильных государствах правительствам особенно важно создать привилегированный доступ к материальным благам для жителей приматных столичных городов в виде субсидий или более низких налогов, чтобы предотвратить или ослабить политические волнения в непосредственной близости от своего местопребывания. Кроме того, близость к центру принятия решений, согласно их мнению, увеличивает шансы на безнаказанную вовлеченность в нелегальные формы экономической деятельности (например, получение или дачу взяток). Чем менее демократической является страна, тем легче бывает воплотить в жизнь подобные стратегии (Ades, Glaeser, 1995). По подсчетам Эйде и Глэзера, в государствах, где не уважаются права человека, столицы в среднем на 45 % больше тех стран, где права человека соблюдаются[36].
Немецкий исследователь Рейхарт указывает и на другую причину, связанную с системой законодательства и информационными преимуществами (Reichart, 1993). Поскольку законы принимаются в столице, удаленность от политического центра создает преимущества – например, возможности лоббирования и быстрого реагирования на смену законов – для тех, кто находится ближе к центру. Этот фактор действует более явно в политически нестабильных государствах (Turner & Turner, 2011: 21).
В коррумпированных государствах возникает также особая рента от столичного положения, которая обеспечивает более высокий уровень жизни и доходов в столице. Она позволяет монополизировать ресурсы государства и создавать столичные очаги или рукава богатства. Коррумпированная бюрократия в таких странах, как правило, контролирует всю экономическую жизнь. Чем больше роль правительства и бюрократии, тем более критично пребывание в столице для бизнесов и лоббистов и тем стремительнее растет этот город и крупнее становится. Примерами таких стран могут служить Аргентина – здесь выдача лицензий на внешнюю торговлю сосредоточена в столице Буэнос-Айресе – и Россия, где торговля нефтью и газом, которые добываются в других регионах, сосредоточена в Москве.
Однако существуют и более универсальные законы, которые определяют первенство, диспропорционально высокие темпы роста и более высокие доходы для столичных городов (конечно, редко сопоставимые по своим масштабам и формам с коррумпированными странами).
Перераспределение доходов в пользу столичного города происходит в основном в результате четырех групп факторов, большинство из которых были описаны немецким урбанологом Циммерманом.
1. Наиболее непосредственным преимуществом столичного города является наличие большого количества рабочих мест в государственном секторе, что является прямым результатом пребывания в городе правительства. Правительство также обеспечивает такому городу и столичному региону в целом высокий уровень спроса на товары и услуги, которые он потребляет. Учитывая то, что во многих странах государство является самым крупным работодателем, экономические преимущества такого устройства для столичного региона могут быть чрезвычайно высоки и поддаются количественной оценке. По мнению немецкого исследователя Дашера, который сравнивал настоящие и бывшие региональные столицы Германии, прирост рабочих мест, непосредственно связанный со столичным статусом города, составляет примерно 7 % общего уровня занятости в столичном регионе (Dascher, 2002).
2. Второй тип преимуществ связан с тем, что столица привлекает частные группы и организации, которые непосредственно связаны с работой национального правительства (неправительственные фонды и организации, лоббистов, консультантов, политические партии, посольства, частные исследовательские институты и тому подобные организации). Например, в случае Германии вклад в экономику столицы такого рода организаций составляет примерно 4 % ВРП (валового регионального продукта).
3. Многие частные фирмы также оказываются в столице, являясь поставщиками, субконтракторами и консультантами организаций второй группы. Примером таких частных фирм могут служить компании, занимающиеся программным обеспечением и информационными технологиями.
4. Столицы приобретают также массу естественных экономических преимуществ в связи со своими символическими и инновационными функциями, а также личным потреблением и особенностями стиля жизни работников государственной администрации. Например, в результате переноса столицы Германии в Берлин город стал главным туристическим центром страны. Туризм приносит некоторым столичным городам до половины общей суммы их доходов (Zimmerman, 2010; Hall, 2002).
Столичным городам также удается финансировать сети культурных, просветительских и образовательных учреждений, которых нет в других городах страны. Кристоф Дашер говорит в этой связи о «локомотивном эффекте столичных благ» для экономики и стиля жизни города, которые определяют его привлекательность, его более высокие доходы и темпы роста (Dascher, 2000: 59). Эта группа факторов слабо поддается количественному учету.
Таким образом, жители столицы являются главными бенефициарами публичных благ, которые финансируются в равной степени всеми жителями страны. В этих обстоятельствах жители столицы получают наибольшие преимущества от столичных благ, а жители периферии – наименьшие, в результате чего нарушается принцип «фискальной эквивалентности». В экономических терминах эту ситуацию можно описать как отрицательную экстернальность или внешний эффект (externalities) столичности по отношению к благополучию других регионов страны.
Кристофер Дашер говорит в этой связи об эффекте «порчи» столичных или общественных благ (public goods), диспропорционально сконцентрированных в столицах, по мере увеличения расстояния населенного пункта от политического центра. Сидней и Ричард Тернеры показывают, что столичный статус также является причиной более высокого уровня доходов в столичном регионе (Turner & Turner, 2011).
В связи с этими экономическими преимуществами столиц Циммерман пишет о двух возможных типах социально-экономических задач или приоритетах для различных стран, которые могут ориентировать их или на равенство или на экономическую эффективность (Zimmerman, 2010: 764–765).
В том случае, когда приоритетом государства является достижение идеалов фискальной эквивалентности и социальной справедливости, столичные преимущества рассматриваются с точки зрения дистрибутивного механизма. Ими наделяются те регионы, которые удалены от крупных экономических центров страны и/ или лишены других естественных преимуществ, что особенно характерно для федераций. Напротив, в тех случаях, когда приоритетом является экономический рост, государства предпочитают руководствоваться аллокативным принципом, который учитывает агломерационные преимущества, естественным образом создающиеся столицами. Последние могут и должны быть использованы на благо национальной экономики в целом.
Подводя итог, можно сказать, что приматность столичного города может быть благом или злом в зависимости среди прочего и от тех целей, которым она служит. В случае небольших государств (например, стран Восточной Европы) экономически целесообразно сохранять столицу в приматном городе, поскольку в таком случае приматность будет оказывать положительное стимулирующее влияние на всю экономику страны (Ibid., 766). Поэтому приматность или моноцефальность – более радикальная характеристика или степень приматности – может быть вполне органична для небольших государств[37]. Напротив, в территориально крупных государствах излишняя приматность может оказывать чрезвычайно негативное влияние на экономику.
Существуют и другие удачные попытки экономического описания приматности и ее влияния на экономические успехи, которые апеллируют к несколько другим категориям.
Американский экономист Вернер Хендерсон выделяет два типа издержек, которые связаны с приматностью и доминированием столичного города. Первый род издержек он называет внутренними издержками городов большого размера, подразумевая под ними пробки, давки, проблемы окружающей среды, длительное время, необходимое для того, чтобы достичь места работы, общее падение качества жизни. Второй вид издержек, внешние издержки, подразумевает высокие и часто сразу незаметные расходы, связанные с инвестициями, специальной инфраструктурой и ее модернизацией, необходимые для поддержания жизни в таких сложных городах. Этот вид издержек покрывается за счет национального бюджета и становится тяжким бременем для всей страны. Фактически эти расходы осуществляются за счет других городов государства (Henderson, 2002: 95). Перефразируя эту мысль Хендерсона, можно сказать, что совокупные социальные издержки излишне больших городов превосходят сумму частных доходов, которые получаются из преимуществ экономик масштаба и агломерационных эффектов.
Экономисты-урбанологи Рональд Мумо и Мухаммед Алвосаби на основе статистического анализа корреляций различных параметров, относящихся к приматным городам в Азии и Латинской Америке, приходят к следующим выводам, которые подтверждают и уточняют выводы Хендерсона:
• город слишком велик, если он уменьшает совокупное экономическое благосостояние всей страны;
• существует большая тенденция к приматности при уменьшении ВНП и меньшая тенденция к приматности в крупных странах;
• столичная рента и диктаторские режимы увеличивают уровень приматности;
• сверхконцентрация ресурсов и населения в одном городе особенно тревожна и чревата негативными последствиями, если она не вызвана экономическими причинами (Moomaw, Alwosabi, 2004).
Агломерационные эффекты большого города, о которых мы говорили выше, внутренне неоднородны и являются результатом многих процессов. Они определяются целым рядом факторов: эффектами крупного рынка труда и одновременной доступности большого количества рабочей силы; более высокими ценами на труд и более низкими ценами на продукты в результате пространственного сближения производства и потребления, что, в свою очередь, ведет к снижению транспортных расходов (Krugman, 1995); быстрым циклом обмена инновациями между различными индустриями, армией и правительством и т. д. В определенных пределах кумулятивным результатом всех этих агломерационных эффектов становится быстрый рост экономики города.
Внутренние критерии эффективности мегаполиса определяются рядом параметров. Некоторые экономисты связывают меру эффективности приматного города (как, впрочем, и любого другого крупного мегаполиса) с балансом развития транспортной системы, с одной стороны, и с уровнем возврата на инвестиции – с другой.
В целом в урбанистике сложился консенсус, согласно которому увеличение города вдвое дает приблизительно 10 % роста производительности труда в результате эффекта лучшего возврата на инвестиции на крупных рынках труда. Это увеличивает средние доходы горожан примерно на 15 % в результате сокращения расходов из-за действия эффектов масштаба (Economist, 2012). Этому вопросу был посвящен, в частности, ряд пионерских работ группы ученых под руководством Джеффри Уэста, в прошлом британского физика, которые изучали агломерационные эффекты на примере многих крупных систем, включая физиологию крупных животных и крупные городские хозяйства (Bettencourt, West, et al, 2007).
Американский урбанолог Аллен Берто – в числе многих других урбанологов – считает одним из критериев экономической эффективности мегаполиса количество времени, которое тратит средний работник города на то, чтобы добраться до места работы. Когда это среднее время приближается к одному часу, мегаполис становится экономически неэффективным, а рынок труда трактуется как фрагментированный и неэффективный (Bertaud, 2004).
Характеристика первенства может иметь различный смысл и ценность в разных обществах и на разных стадиях его экономического и общественного развития.
Наличие приматного или первенствующего города, а также эффекты концентрации и агломерации на ранних стадиях развития экономики дают разного рода преимущества, вытекающие, прежде всего, из эффектов масштаба, выгодных работодателям эффектов доступности разнообразной рабочей силы в одном месте и из диффузии информации и инноваций. Однако со временем консервация приматности и ее высокие размеры могут становиться индикаторами социального и экономического неблагополучия. Эффекты масштаба позволяют экономить средства на хозяйственной инфраструктуре (транспорте, управленческих ресурсах, системах телекоммуникаций), но позже эти же эффекты могут порождать мощные центростремительные тенденции как среди работников, так и корпораций и приводить к губительным издержкам на уровне всей национальной экономики. Частные экономические центростремительные стимулы могут в таких случаях оборачиваться крайне неблагоприятными социальными, политическими, демографическими и экономическими последствиями, если иметь в виду экономику страны в целом.
Как мы уже отметили выше, синдром приматности (urban primacy) более характерен для урбанистической структуры и иерархии слаборазвитых и не самых демократических стран. В вопросе трактовки источников приматности городов существуют заметные расхождения между учеными в интерпретации данных и в предлагаемых ими путях преодоления сверхконцентрации, прежде всего между экономистами и представителями мир-системного анализа.
В своей экономической модели Поль Кругман приписывает агломерационные эффекты главным образом двум факторам – политической централизации и транспортным расходам. Он считает, что развивающиеся страны могли бы решить или ослабить проблему сверхцентрализации ресурсов и хозяйства в одном городе либерализацией экономики и отказом от протекционизма (Krugman, 1995). Важно учитывать, что Кругман первоначально делал свои выводы на примере мексиканской экономики, и их основой послужил Мехико-сити.
Теоретики мир-системного анализа, напротив, считают, что открытость экономики, создавая ситуацию неравного обмена, главным образом и является ответственной за возникновение приматных портовых городов третьего мира, где концентрируются и торговля и производство, со всеми негативными коннотациями этих процессов.
В целом модель Кругмана дает ценное новое понимание проблем и причин концентрации в одном городе. Однако она не применима ко всем случаям и странам и допускает ряд теоретических предположений, которые многим экономистам кажутся спорными и далеко не универсальными[38].
Эффект приматности в экономически развитых странах
Как известно, высокая приматность городов присуща не только отсталым странам. Лондон и Париж в Великобритании или Франции очевидным образом являются городами, которые с большим отрывом первенствуют в своих урбанистических иерархиях. Почему приматность европейских столиц не приводит к тем печальным результатам, которые мы наблюдаем в развивающихся странах, хотя общая доля урбанистического населения, живущая в столицах развитых и развивающихся стран, может не так сильно различаться?
На этот вопрос можно ответить указанием на три группы факторов.
Во-первых, степень приматности европейских столиц и их абсолютные размеры несопоставимы с таковыми для большинства развивающихся стран, а градостроительные решения позволяют им без излишних потерь справляться с проблемами мегаполиса.
Во-вторых, преимущества от приматности европейских столиц, их агломерационные и столичные эффекты, транслируясь в глобальность, в гораздо большей степени служат благосостоянию всей страны в отличие от приматности в развивающихся странах. Глобальная роль этих городов амортизирует их негативные внутренние эффекты (более подробно этот пункт будет разобран в главе, посвященной глобальным городам).
Наконец, в-третьих, приматность европейских столиц должна быть понята в контексте всей европейской экономики в целом, частью которой эти столицы и являются. Лондон и Париж органически вписаны в Европу как общее экономическое пространство. Если мы будем исходить из закона Зипфа и применим его ко всему экономическому пространству Европы, то население приматного европейского города должно было бы составлять приблизительно 25 млн жителей (Зубаревич, 2007). С этой точки зрения, как целое, Европа удивительно полицентрична, и в отношении Европы как единого экономического пространства Лондон и Париж вообще не являются приматными городами.
Как мы могли убедиться, связь между богатством страны и устройством ее урбанистической сети существует, но не является однозначной. Островерхая урбанистическая сеть не всегда предопределяет бедность страны, так же, впрочем, как плоский профиль этой сети не обязательно ведет к ее обогащению. Однако наиболее явной тенденцией в большинстве развивающихся стран кажется сверхконцентрация ресурсов в одном месте. Столичный статус усугубляет эту проблему в особенности для стран с большой площадью, не позволяя им стать экономическими центрами и интегрироваться в мировую экономику.
Итак, подводя итог, можно выделить три группы эффектов, порождающие богатство столиц:
1. Естественные преимущества, связанные с агломерационным эффектом.
2. Ожидаемые преимущества, связанные с вкладом столицы в уровень занятости.
3. Противоестественные нерыночные преимущества, связанные со столичной рентой, недемократическими формами правления и коррупционными практиками.
Когда столица находится в слишком большом городе, она может создавать помехи для экономического развития всей страны. В тех случаях, когда столица находится в недостаточно большом городе, она не реализует своих естественных преимуществ, связанных с их агломерационным потенциалом. В этой связи можно говорить об оптимальных для экономики размерах столицы, которые определяются размером страны и наличием отдельных экономических центров. Для крупных стран сравнительно небольшая столица экономически более эффективна.
Ограничения на оптимальный размер городов связаны с двумя факторами. Это, во-первых, внутренние закономерности динамики роста мегаполиса, когда его агломерационные преимущества сводятся на нет пространственным расширением и когда транспортная система не в состоянии обеспечить единства системы. Это, во-вторых, те ситуации, когда стоимость реконструкции и поддержания в порядке столицы страны дает слишком сильную нагрузку на национальную экономику, что оттягивает на столицу те инвестиции, которые могли бы пойти на региональное развитие. Такого рода ситуации неблагоприятного сочетания приматности и столичности могут давать поводы для переноса столицы в другую точку страны.
Некоторые исследователи, подобные Кругману, утверждают, что политический фактор гораздо сильнее коррелирует с полицентричностью и сильнее определяет характер столиц, чем богатство или экономические факторы. Они склонны к признанию того, что урбанистическая иерархия и размер столицы диктуются в большей мере не экономическими, а политическими факторами и, прежде всего, формой их конституционного устройства. В следующем разделе мы обратимся к некоторым деталям взаимоотношений между характером столичности и федеративностью.
2. Политическая эффективность столицы: федеративность и унитарность
Конституционное устройство государств оказывает самое непосредственное воздействие на их урбанистическую иерархию и размер самого большого города в стране. Поль Кругман, например, считает федеративность самым очевидным фактором, от которого в наибольшей степени зависит степень урбанистической концентрации (Krugman, 1995)[39].
Тем не менее следует учитывать, что иногда критерии федеративности толкуются слишком расширительно и некоторые государства, заявленные в качестве федеративных, по многим характеристикам в действительности фактически являются унитарными. При этом номинальные федерации могут превосходить многие из унитарных государств по степени своей централизации. Например, Аргентина, Мексика и Россия гораздо более централизованы по сравнению с некоторыми формально унитарными государствами, такими как Великобритания или Япония. Так в рамках Великобритании, унитарном государстве, некоторые страны (Шотландия) могут печатать свою собственную валюту, выбирать руководителей региональных органов власти и располагают правами, которых нет во многих формально федеративных странах.
В федерациях существует тенденция размещения столиц не в самых крупных городах. Такова ситуация в таких важных мировых федерациях, как США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Германия, Бразилия, Швейцария, Южно-Африканская республика, Объединенные Арабские Эмираты и Голландия (первоначально – Республика Соединенных провинций). Интересно, что переносы столиц этих стран часто диктовались именно федералистскими соображениями. Конечно, существуют и явные исключения из этого правила, например такие страны, как Бельгия и Эфиопия, где столицы все-таки располагаются в самых крупных городах этих государств. Сегодня к федеративности тяготеют Испания и Австрия, по некоторым своим параметрам приближаясь к ее стандартам и требованиям.
Федеративный характер государства – это не только нечто, что можно приобрести, но и нечто, что можно утратить. Некоторые государства, бывшие федерациями, распались или отказались от своей федеративной ориентации (Югославия, Камерун, Ливия, Индонезия, Малайзия, Колумбийская Федерация и Соединенные провинции Центральной Америки). Их столицы претерпевали при этом соответствующие изменения.
Идея, которая лежит в основе федеративности, состоит в том, что центр не должен быть доминирующим по отношению к составляющим федерацию членам, штатам, землям, республикам, провинциям. Именно поэтому федеративные государства часто символически располагают столицу не в самом крупном городе. Любая политическая система требует соответствующего ей фундамента из институтов. Размер и характер фундамента соответствует тому зданию, которое на нем строится. Считается, что именно институт небольшой столицы наиболее соответствует федеративному политическому устройству.
Другой особенностью федераций является то, что в некоторых из них столицы не являются субъектами федерации. Этот принцип подчеркивает посредническую функцию столицы, которая сама не должна становиться отдельным полюсом партикулярных интересов и не должна злоупотреблять своей репрезентативной ролью и узурпировать в свою пользу управленческие задачи. В некоторых случаях в жертву этому важнейшему федеративному принципу могут приноситься некоторые местные или региональные интересы жителей столицы и прилегающих к ней областей (Nagel, 2011).
Кроме того, в тех случаях, когда столица все-таки является частью какого-то субъекта федерации, члены федерации стараются ее расположить не в самом крупном из этих субъектов.
Так, в Центральной Америке в период недолгого существования федеративного государства Соединенных провинций Центральной Америки (1823–1840) его столица была перенесена в 1832 году из Гватемалы в Гватемале в Сан-Сальвадор в Сальвадоре. Главным мотивом было опасение по поводу того, что более крупная и сильная составляющая федерацию республика Гватемала будет претендовать на верховенство и получит особые привилегии в отношении к другим членам федерации (Никарагуа, Сальвадор, Гондурас, Коста-Рика, Лос-Альтос). Сан-Сальвадор также обеспечивал более центральное географическое положение столицы относительно всех остальных членов федерации.
В столице, особенно в федеративной столице, минимизирована идея собственно города (до такой степени, что функции самоуправления здесь могут быть значительно урезаны), поскольку она служит целям всех составляющих государство штатов, земель, регионов. Критерии эффективности столицы – не глобальность, а способность учесть и интегрировать интересы всех членов федерации. Концепции «асимметричности власти» в федеративных столицах и ее совместимости с принципами либеральной демократии посвящено интересное недавнее исследование Клауса-Юргена Нагеля (Nagel, 2011). В других федеральных государствах столицы могут быть независимыми субъектами федерации, как, например, Брюссель в Бельгии, или частью других членов федерации, как, например, Оттава в Канаде (столица входит в провинцию Онтарио).
Идея федерального округа является тем институтом и юридическим инструментом, который обеспечивает такого рода балансирование федеральных и местных интересов. Главной основой юридической концепции федерального округа в США является возможность управления и организации жизни в столице в интересах всех составляющих штатов. В связи с этим федеральный округ не представлен в конгрессе и не входит в юрисдикцию администрации ни одного из штатов. В палате представителей есть один представитель федерального округа, который лишен полномочий голосования. Цель федерального округа опять же состоит в том, чтобы служить интересам всех штатов.
Каковы основные признаки и специфические особенности федеральных столиц?
С точки зрения управления роль местных и муниципальных форм власти в них, как правило, существенно снижена и правление осуществляется непосредственно федеральным правительством. Финансируются федеральные столицы главным образом за счет средств национального бюджета.
В связи с обсуждением федеративных столиц стоит также остановиться на особенностях происхождения и функционирования столицы Соединенных Штатов Америки, Вашингтона в округе Колумбия. Важность анализа этого города, его замысла, урбанистического дизайна и системы институтов для нашей темы состоит кроме прямого исторического интереса еще и в том, что он послужил непосредственной моделью и примером для подражания для столиц большинства федеративных государств. Прямо или косвенно его примером вдохновлялись такие страны, как Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка и Бразилия.
Отцы-основатели США исходили из потребностей создания подлинной федерации штатов. Поэтому важное место в «Федералистских записках», которые легли в основу американской конституции, занимают рассуждения об ограничении власти, в том числе и власти парламента и президента страны.
Историческим фоном обсуждения различных конституционных вопросов для отцов-основателей было явление Наполеона. Платон, размышляя о принципах своей политической философии, руководствовался, прежде всего, идеей такого государства, в котором была бы невозможна казнь Сократа. Подобным же образом отцы-основатели США исходили в своем анализе принципов из идеи такого государства, в котором была бы исключена возможность появления в американской политической жизни такого политика, как Наполеон Бонапарт. Для этого должна быть создана система институтов, при которой была бы невозможной узурпация всей полноты государственной власти одним человеком. Амбиции и энергия американских наполеонов должны были быть направлены в деловую жизнь и бизнес-проекты, которые настоятельно требовали такого рода людей.
Подобным же образом столица государства также должна быть выбрана и построена так, чтобы она не смогла стать наполеоном среди остальных городов и штатов. Поэтому для столицы должен быть выбран некрупный город, город нейтральный, где будут сосредоточены чисто административные функции. Отцы-основатели описывали ее как не более чем «деревню на Капитолийском холме» (выражение Хенриксона)[40]. По сути, в этой системе столице отводится место государственного служащего, который сам не является субъектом и независимой инстанцией принятия решений.
Решение о местонахождении столицы было принято в результате переговоров и компромисса с южными штатами (Residence Act of 1790). Александр Гамильтон вынес на обсуждение законопроект о принятии федеральным правительством на себя долгов штатов. Эти займы были сделаны в связи с американской революцией. Южные штаты не хотели брать на себя бремя этих долгов, так как, с их точки зрения, инициатива их получения и основные преимущества были получены северными штатами. Но одновременно они категорически возражали против учреждения федеральной столицы на территории Севера. В результате компромисса Гамильтона и Медисона – последний представлял в данном случае южные штаты – было принято решение о размещении столицы на территории Вирджинии, штата, который относился к историческому Югу. В обмен на эту любезность южные штаты согласились на то, что федеральное правительство примет на себя бремя дискутируемого долга.
Идея нейтральности столицы была вписана в контекст системы балансов и противовесов, на которой построена государственная жизнь США. Сами города и их различные функции воплотили идею баланса и противовесов в самом функционировании государственной машины.
Перечислим несколько из тех балансов и противовесов, на которых зиждется американская политическая и социальная система: баланс монархического, аристократического и демократического принципов, которые воплощены в президентской власти, сенате и палате представителей (идея, заимствованная отцами-основателями у Монтескье, который, в свою очередь, взял ее у Аристотеля); баланс власти штатов; компромисс между Севером и Югом, то есть северными и южными штатами; баланс власти различных городов, прежде всего самых крупных городов страны, которые в прошлом были политическими столицами и могли претендовать на эту роль, Нью-Йорка и Филадельфии.
Другими словами, всеобъемлющая система сдержек и противовесов должна была распространиться также и на всю урбанистическую систему. Этим целям баланса служила не только вновь созданная система институтов, но и сам план города и опорные точки его архитектурного плана (треугольник исполнительской, законодательной и судебной власти, который определил геометрию Вашингтона).
Вашингтон создает новый тренд в развитии столиц, своего рода столицу нового поколения, не похожую ни на столицы универсальных империй, ни на отчужденные столицы деспотических государств, ни на крупные моноцентричные европейские столицы. Задача этой столицы состоит в репрезентации нации, примирении различных интересов составляющих федерацию штатов.
Этот же принцип распространяется на столицы штатов и федеративных земель в США, Канаде и Германии. Столицей Калифорнии становится небольшой городок Сакраменто, столицей Техаса, где находятся три из десяти крупнейших американских городов, – Остин, столицей Флориды – Теллахасси.
Вашингтон уже давно не является – и вряд ли когда-то был – просто деревней на Капитолийском холме как его себе представляли отцы-основатели. Это город и регион с процветающей экономикой, с одним из самых высоких уровней дохода в США (Corey, 2004: 66–69). Тем не менее фундаментальные принципы нейтральности столицы остаются незыблемыми. Американский национализм носит гражданский характер, и национальная гордость американца относится именно к устройству политических институтов, в том числе и института столицы.
Иначе ставится проблема представительства нации в столице в унитарных государствах. Нейтральность и равное представительство интересов всех членов нации здесь не столь актуальны, как репрезентативность собственно столицы для жизни нации. В то время как во многих федералистских государствах столичная жизнь изъята из гущи народной жизни, из жизненного мира мегаполиса, из собственно урбанистического праксиса и заточена в административную башню из слоновой кости, столичная жизнь в унитарных государствах, как правило, сосредоточена в самой гуще городской жизни. Структура столицы во многом зависит, таким образом, от нормативных критериев представительства.
Вопрос, мне кажется, также состоит в мере дезинтегрированности и отчужденности столицы от жизни страны. Столица по мере развития создает экономические оазисы, специфичные для публичной деятельности и нужд государства. Она постепенно и естественным образом интегрирует их в свою особую экономику и служит естественным полюсом, притягивающим к себе определенные формы бизнеса и деловой активности. Мы уже кратко описали их в обсуждении оптимальных размеров столицы.
3. Символическая эффективность столицы
Помимо физической инфраструктуры для столичных городов характерна особая городская символическая инфраструктура и среда. Речь идет не только о формальном символизме городов, но и об их неформальном символизме, который проявляется в устройстве и направлении движения улиц, элементах ландшафта и дизайна мостов, конфигурации зданий и прочих не всегда явно выраженных латентных или неформальных элементах. При этом символическая функция кажется не менее важной, чем политическая функция столиц. Она во многом определяет их политический успех или фиаско. Характер символов нации также указывает на уровень репрезентативности столицы и ее интеграционный потенциал.
На мой взгляд, существует три момента эффективности символических функций столицы: инклюзивность или репрезентативность символов по отношению ко всем участникам национального проекта, интегрированность символических и перформативных функций столицы, а также интегрированность собственно национальных и универсальных – глобальных и модернизационных – символов в масштабе города.
Инклюзивность символов подразумевает участие микронарративов различных составляющих групп нации в визуальном ряде города и в метанарративах, которые в нем воплощаются. Так в визуальном пространстве столичного города инкорпорируются различные идентичности составляющих его членов, регионов, земель, штатов, республик, этнических и социальных групп. Например, в здании конгресса в Вашингтоне представлены памятники и скульптуры, изготовленные из материалов, специфичных для конкретных американских штатов; в Оттаве есть памятники, связанные с индейской идентичностью, а также музеи, посвященные франкофонам и англосаксам (Parkinson, 2012: 32). Подобная репрезентация была характерна также и для Москвы как столицы СССР. В московском метрополитене использованы камни и минералы из разных регионов Советского Союза, а на ВДНХ представлены павильоны различных республик СССР. В топонимике города были также представлены различные советские республики.
Попытки создания такой инклюзивности предпринимались не только в современных национальных государствах, но и в имперских и деспотических государствах древности и Средневековья. Их задачи, однако, далеко не всегда состояли в представительстве, но часто и в том, что можно было бы назвать стяжанием сакральности.
Так, например, в Древнем Египте столичные религиозные культовые центры инкорпорировали религиозные святыни и пантеоны местных богов. В Китае в эпоху объединения древних княжеств под властью Цинь (с 221 года до н. э.) в столице государства Сяньяне, который специально был размещен неподалеку от древней чжоуской сакральной столицы Хаоцзина, происходит интеграция культов присоединенных княжеств. Император Цинь Шихуан построил в окрестностях своей новой столицы копии дворцов всех местных князей (чжухоу), тем самым перенося на новую столицу часть сакрального статуса местных центров и алтерей земли и злаков. Он также привез в свои дворцы ритуальные бронзовые колокола и барабаны, которые были частью местных религиозных культов и были изъяты из столиц старых княжеств. Все это служило источником укрепления статуса Сяньяна как единственного сакрального центра Китая, который стяжал все политические и сакральные полномочия (Габуев, 2004). Близкие процессы имели место и в Москве. «Собирая Русскую землю, московские князья старались собрать в столице и важнейшие общерусские святыни, что находились в иных городах: в Успенском соборе – иконы Св. Спаса Вседержителя (Новгород), Благовещенья пресвятой Богородицы (Вел. Устюг), Одигитрия (Смоленск), Божья матерь Владимирская, икона Псково-Печерская, Спас Нерукотворный из Хлынова, Св. Николай Великорецкий из Вятки и другие» (Аверьянов, 1993).
Наиболее успешным государствам даже удается создавать в столицах публичные пространства, которые позволяют представлять, локализовывать и интегрировать движения социального протеста, что также способствует инклюзивности.
Перформативностъ. Вторым важным элементом эффективности символов служит их перформативный и интерактивный характер, их связь с национальными ритуалами и церемониями, в результате чего символы приобретают конкретный смысл действий и диктуют определенные нормативы поведения. В наиболее ярком виде такая сопряженность перформативности с символами достигается в спланированных столицах, формы которых специально были созданы для совершения церемониальных действий. Здесь сама организация пространства приглашает к проведению торжественных национальных празднеств и фестивалей, а символы пространства соотнесены с символами времени и с происходящими в столице национальными событиями.
По мнению канадских градостроителей, участвовавших в создании Оттавы, столица представляет собой такое место, где «подчеркивается прошлое, представляется настоящее и воображается будущее» (NGG, 2000). Перформативная функция обеспечивает именно такую связь пространства со временем. Символизм некоторых новых столиц, их акцентация связи пространства с конкретными действиями и ритуалами, не уступает по сложности, изощренности и многослойности древним сакральным столицам.
Одну из таких успешных перформативно-символических столичных систем описывает социолог архитектуры Михаил Вильковский на примере Вашингтона (Вильковский, 2012). В этом городе прошлое, настоящее, будущее и вечное разнесены по сторонам света по отношению к символическому кресту в центре, где находится монумент Джорджу Вашингтону и обзорная площадка на его вершине. Здание Белого дома символизирует при этом настоящее, мемориал Джефферсона – прошлое, Капитолий – будущее, мемориал Авраама Линкольна и Арлингтонское кладбище – вечное. Как место пребывания власти, Белый дом воплощает настоящее', монумент Джефферсона символизирует прошлую славу и историю Америки; Капитолий представляет будущее, поскольку здесь проходит инаугурация будущего президента (здесь, на западной лестнице, он выступает со своей программной речью); наконец, монумент Линкольну воплощает вечные ценности Америки, а Арлингтонское кладбище – вечную славу ее героев (Вильковский, 2012). Национальные церемонии, их различные этапы и шаги, вписываются в эту систему и соотнесены с ней.
Позволим себе развернутую цитату из работы Михаила Вильковского, где описывается эффект соучастия нации в церемонии инаугурации американского президента, которая перформативным образом вписана в символическую архитектуру американской столицы:
Сама церемония инаугурации несет в себе символический смысл, созвучный символической географии Вашингтона. Первоначально вновь избранный президент… приезжает в Белый дом («настоящее»), где его встречает действующий президент… После этого все отправляются в Капитолий («будущее»)… В полдень председатель Верховного суда приводит к присяге избранного президента. Принося присягу, президент смотрит в «настоящее» (Белый дом), а председатель Верховного суда в «прошлое» (Монумент Джефферсона).
Затем президент обращается к «вечности» (Арлингтонское кладбище) и выступает с инаугурационной речью. Затем президентский кортеж торжественно возвращается от Капитолия к Белому дому («настоящее»)… И наконец, финал официальной церемонии – парад, который принимает новый президент, стоя на трибуне у Белого дома (на фоне «настоящего»). На инаугурации 44-го президента США по оценкам правоохранительных органов в парке Нэшнл Молл – участке между Капитолием и монументом Джорджу Вашингтону – собрались порядка двух миллионов человек. А 240 тысяч человек получили возможность наблюдать за церемонией воочию с мест у Капитолия. Такое массовое соучастие, безусловно, сплачивает нацию (Вильковский, 2012).
В несколько меньшей мере обеспечено участие нации в инаугурации президента России, что во многом связано с устройством российской столицы и Кремля. Вильковский пишет:
Инаугурацию Дмитрия Медведева воочию могло наблюдать ограниченное количество официальных лиц. Всего около 2 тысяч человек в Георгиевском и Александровском залах. Это 0,1 % от посетивших инаугурацию Обамы, что не способствует сближению (уменьшению дистанции) власти и общества. То есть инаугурация президента фактически проходит в одном локальном месте – внутри Большого Кремлевского дворца («прошлое», «настоящее», «будущее» и «вечное» вместе), что полностью сочетается с символической сингулярностью архитектурного облика Москвы, концентрацией ее символического капитала (Вильковский, 2012).
Символы и перформативный потенциал столицы и ее архитектуры, таким образом, с большей или меньшей степенью успешности обеспечивают эффект соучастия нации в важнейших национальных ритуалах. Хронотоп столицы воплощает в себе единство символического и перформативного начал и функций.
Другим примером такого рода может служить Путраджайя. Здесь в самом архитектурном языке города зашифрована стратегия национального развития (King, 2007: 133–135).
Связь с глобальными метанарративами. Успех символов столицы и символический капитал города также во многом определяются тем, в какой степени они включают в себя вертикальное или глобальное измерение. Поэтому во многих столичных городах подчеркиваются их вселенские притязания и сопричастность универсальным нарративам мировой истории. Современные столицы модерна по сути представляют себя узлами сопричастности проекту Просвещения и модернизации. В архитектуре этих городов – в модернистской архитектуре Бразилии, проспектах Санкт-Петербурга, телекоммуникационном и технологическом символизме Путраджайи, в административных зданиях и проспектах Дели – присутствует эта вселенская вертикаль и видение своей особой миссии в универсальных процессах. Воображение авторов этих проектов встраивает нацию в символический каркас модернизации, в общую семью цивилизованных стран со своей уникальной миссией.
Такая связь с глобальными метанарративами осуществляется не только за счет знаков и символов технического прогресса и глобальной экономики, но и за счет акцентации мировых связей и архитектурных аллюзий и аллитераций, отсылающих к важнейшим историческим центрам древности, с которыми преемственно связаны ценности и достижения мировой цивилизации – чаще всего Рима, Иерусалима или Мемфиса. Это создает многослойную семиотику урбанистического пространства.
Национальные столицы ориентированы, таким образом, не только вовнутрь, но и вовне. Они не удовлетворяются символической замкнутостью на самих себе, а представляются символически разомкнутыми и открытыми окружающему миру культурных смыслов и цепочек преемственности.
Именно в русле такого многоэтажного символизма можно интерпретировать сильное присутствие масонской символики в градостроительных планах Санкт-Петербурга, Вашингтона, Бразилиа и Канберры.
Известный немецкий историк Карл Шлегель, один из пионеров сближения истории, географии и градостроительства в современной науке, назвал Санкт-Петербург русской «лабораторией современности», имея в виду роль этой новой столицы в освоении Россией идеологии модернизма и западного Просвещения (Schlögel, 1988). Но исторически претензии новой российской столицы простирались гораздо дальше. Российские историки Григорий Каганский и Леонид Мацих блестяще продемонстрировали важность масонской символики в петровских и павловских планах Санкт-Петербурга (Каганов, 2004; Мацих, 2011). Масонские концепции о лестнице прогресса человечества воплотились в идеях наследования Санкт-Петербурга городу Святого Петра. В этой перспективе Петербург не просто делает России прививку европейского прогресса, но и становится вестником современности и одним из важнейших ее глобальных узлов.
На масонскую символику в планах, концепции и в архитектуре Вашингтона указывает множество авторов (Ovason, 2002; Pinto, 2007). Этой масонской символикой согласно их интерпретации пронизан весь центр города и его центральные фигуры и магистрали. Нужно сказать, однако, что идея о наличии масонского градостроительного плана американской столицы многими также не менее горячо оспаривается.
Магический символизм Бразилии, отсылающий к египетскому Мемфису, напротив, признается во множестве популярных и академических работ. Известно, что президент Кубичек в 30-е годы путешествовал в Луксор и был чрезвычайно впечатлен египетской храмовой архитектурой. Вполне вероятно, что эти египетские вдохновения нашли свое отражение в планах Бразилии. В связи с этим чаще всего обращают внимание на птицу ибис в плане города и на солнечную ориентацию и символизм в здании бразильского Конгресса, построенного по модели храмового комплекса Абу-Симбел в Египте: восход солнца между двумя зданиями совпадает с днем рождения республики. Некоторые комментаторы также находят архитектурные цитаты из пирамиды фараона Джосера в одном из административных зданий, а также геометрические цитаты и отсылки к пирамиде Хеопса в здании национального театра (Kern, Pimentel, 2001). Мемориал Кубичека, одна из важных достопримечательностей города, построен в виде саркофага из черного мрамора, еще одна египетская цитата.
Были ли эти египетские цитаты связаны с масонством – остается открытым вопросом, но город продолжает привлекать любителей всего таинственного. Так представители движения Нью Эйдж облюбовали одну из площадок и часто и охотно организуют здесь различные праздники и прочие мероприятия. Мы уже упоминали также и о католической легитимации строительства нового города в нашем описании предпосылок и идеологии переноса столицы в Бразилии: это благословенный город, ставший предметом прорицаний и пророческих сновидений.
Масонские планы и вдохновения, вероятно, были не чужды и градостроительным планам других спланированных столичных городов. Так, историк Питер Праудфут посвятил этому вопросу небольшую, но весьма обстоятельную книгу «Тайный план Канберры», где обсуждаются масонские аспекты и архитектурные решения в австралийской столице. Праудфут подробно описывает замыслы и масонские концепции главного архитектора австралийской столицы Уолтера Гриффина, а также историческую и политическую подоплеку его архитектурного мировоззрения (Proudfoot, 1994).
Не менее настойчивы, но несколько менее убедительны повествования о масонском замысле и символизме Астаны (Земля, 2012).
Герметические символы призваны посвящать в мистерии нового города, новой столицы. Масонские таинства и замысел, запечатленные в формах и в камне, служат воротами и ритуалом посвящения в новую зарождающуюся цивилизацию и ее ценности. Таким образом, новые столицы в каком-то смысле воспроизводят в себе элементы сакральных столиц древности с их мироустроительными и космическими функциями.
Цель нашего рассказа о масонских символах в новых столицах, конечно, не состоит в том, чтобы добавить нечто новое в копилку масономанов и подтвердить и так довольно крепкие подозрения в том, что мир и, конечно, его столицы уже давно захвачены масонами. Смысл этого рассказа состоит в том, что в символах, которые являются или воспринимаются как масонские – независимо от интенций или реального участия масонов в строительстве этих городов, – прочитываются вселенские смыслы, выходящие за рамки собственно национальных. Масонская символика, безусловно, оказала огромное влияние на мировую архитектуру эпохи Просвещения (подробнее см. Curl, 2011), хотя источником самих масонских символов, конечно, обычно служили формы и символы других древних цивилизаций. Чем бы ни были инспирированы формы национальных столиц, они создают переклички смыслов с другими цивилизациями в эстафете культурной преемственности и создают более универсальный архитектурный язык, размыкая круг смыслов собственно национальных, этнических и фольклорных, вписывая эти государства в большую историю. Новые столицы имеют короткую историческую память, и потому им приходится брать взаймы память длинную.
Новые символические города за пределами европейского культурного круга не менее часто обращаются к экстра-национальным символам. Такова Путраджайя с ее отсылками к Дели и Самарканду, а также планы реконструкции Джубы в виде зооморфного Города Носорога в Южном Судане, вновь возникшего государства Африки. Носорог является при этом общеафриканским, а не чисто южносуданским символом.
Символическая многослойность новых спланированных столиц, вероятно, объясняется их «неорганическим» характером и дефицитом национальной исторической памяти. Не имея своей собственной национальной истории, эти города остро нуждались в дополнительной легитимации, альтернативной чисто фольклорной, этнической или национальной. В результате их символизм, явный и скрытый, превратил их в главных – и возможно законных – наследниц достижений важнейших центров мировых цивилизаций, на который указывает многослойность их иконографии и семиотическая избыточность их символического языка[41].
Символическая адаптация в пространстве города мировых метанарративов, а также региональных и местных идентичностей позволяет преодолеть различные возможные конфликты между глобальным, национальным и местным в городском пространстве. Напротив, те города, где имело место поглощение и вторжение в пространство города процессов глобализации и коммерческих проектов в ущерб национальным символам или происходила широкая экспансия национального символизма в жизненные пространства горожан, были гораздо менее успешны как в качестве глобальных городов, так и в качестве столиц. Социальные антропологи описывали подобные процессы в конкретных столицах. Гавин Шаткин делает это на примере Манилы, столицы Филиппин (Shatkin, 2005–2006). Баланс вышеперечисленных трех элементов, – национального, глобального и местного – позволяет городу более успешно осуществлять свои столичные функции и избегать конфликтов с горожанами.
Столицы и глобальные города
Два номоса
Если приматность города определяется его местом в урбанистической системе внутри государства, то глобальность определяется местом города в системе мировой экономики и в мировой системе городов[42]. Насколько критерии эффективности столицы совпадают с критериями эффективности глобального города?
Такие видные и авторитетные социальные теоретики города, как Джейн Джейкобс, считают, что современный город представляет собой, прежде всего, экономический феномен и его значимость определяется, прежде всего, его местом и ролью в системе международного разделения труда и ролью в транснациональных сетях обмена (Jacobs, 1984). Столицы с этой точки зрения, как и другие города, являются, прежде всего, местом локализации экономических связей и интересов.
Многие современные социологи и урбанологи пишут о подъеме глобальных городов, которые постепенно затмевают своим могуществом политические столицы национальных государств. С их точки зрения, они являются более важными для понимания вектора развития и реальных процессов в современном мире. По прогнозам некоторых экономистов, к 2025 году именно в глобальных городах, количество которых достигнет боо, будет сосредоточено 25 % всего населения планеты и на их долю будет приходиться 60 % всех мировых богатств. При этом только 100 городов, по оценке McKinsey Global Institute, займут верхние строчки в этом списке и будут производить 35 % всех мировых богатств. Поэтому одним из главных предметов анализа для современных урбанологов и социологов города становятся глобальные города, которые составляют мощную конкуренцию столичным городам не только в географическом, но и в исследовательском пространстве.
Саскиа Сассен является наиболее известным теоретиком глобальных городов. По ее мнению, в результате развития средств транспорта и международных связей глобальные города все в большей степени эмансипируются от национальных экономик, политики и от системы местных и региональных связей и оказываются более автономными по отношению к местным экономическим цепям.
В центре экономики глобального города постепенно оказываются высокоспециализированные производственные услуги (advanced producer services или APS), которые корпорации обычно покупают у соответствующих фирм. «Корпоративный сервисный комплекс», согласно Саскиа Сассен, представляет собой сеть финансовых, юридических, бухгалтерских и рекламных фирм, обеспечивающих весь сложный процесс деятельности компании одновременно в нескольких различных законодательных, налоговых, рекламных культурах и системах. Эта система позволяет обеспечивать лучшую циркуляцию инновации во всех из названных сфер, а также координировать экономическую активность во всей системе глобальных городов. Подобные услуги стали настолько специализированными и сложными, что штаб-квартиры все чаще покупают их у других специализированных компаний. Этот корпоративный сервисный комплекс осуществляет координацию экономической деятельности не только в высокоразвитых странах, но часто и в пределах сети глобальных городов. Такая концентрация функций представляет собой стратегический фактор в организации глобальной экономики.
Экономическая активность в глобальных городах подчиняется закону замещения тех форм экономической деятельности, которые не выдерживают конкуренции за факторы производства, постепенно теряя свой престиж и инновационный потенциал, теми формами деятельности, которые связаны с процессами перманентных инноваций. Формы деятельности, которые больше не в состоянии платить возросшую ренту столицы или крупного мегаполиса, перемещаются в более периферийные города. В результате в глобальных городах сосредоточиваются наиболее инновационные сектора экономики, связанные с финансовыми и управленческими услугами, консалтингом и операциями с недвижимостью. В трехсекторной модели экономики третичный сектор экономики (сфера услуг) постепенно уступает свое место четверичному и пятеричному секторам (информационные технологии, научные исследования, планирование и организация производства).
Некоторые историки и социологи интерпретируют эту новую ситуацию в смысле утраты национальным государством своей прежней значимости. Возникновение все новых наций и подъем новых столиц с их точки зрения свидетельствуют об эрозии и инфляции политического суверенитета наций в современном мире. В этой системе координат современный мир возвращается сегодня к той ситуации господства коммерческих городов, которая существовала в Европе до начала нового времени и до подъема национальных государств (Бауман, 2002). Коммерческие города эпохи Возрождения как будто берут реванш за свое прежнее поражение.
Глобальные города в большинстве случаев, как мы уже отметили, находятся в столицах (коллокация политического и экономического принципов). Столичность, безусловно, способствует стягиванию международных финансовых потоков в город и может вносить огромный вклад в приобретение городом глобального статуса. Любопытно отметить, что в некоторых странах (например, в Южной Корее) противники переноса столицы апеллируют именно к этому аргументу: такой перенос неизбежно нанесет ущерб глобальным амбициям города. В свою очередь, глобальность создает неплохую рекламу для столичных городов.
Важно обратить внимание, однако, на ряд факторов, которые как будто свидетельствуют и о противоположности императивов столичности и глобальности.
Большинство наиболее важных глобальных городов (глобальные города группы альфа) не являются столицами. Так из 20 наиболее важных глобальных городов, которые входят в категории альфа и бета, только 8 одновременно являются еще и столицами (см. табл. i). При этом Амстердам, один из ключевых глобальных городов, только de iure является столицей Голландии (фактически столичные функции сконцентрированы в Гааге). Судя по списку одним из факторов успеха глобальных городов, вероятно, может служить их эмансипация от национальных экономик вообще. Об этом как будто свидетельствует успех Гонконга или Сингапура, городов-государств по модели Генуи или Венеции, не обремененных периферией и грузом национального государства. В легком вооружении исключительно городских форм хозяйствования такие города могут успешно конкурировать с тяжеловесными и часто неповоротливыми национальными экономиками. Это своего рода капитализм в одном отдельно взятом городе.
Но ситуация Сингапура и Гонконга является достаточно уникальной. Мнение о вытеснении национальных столиц глобальными городами нуждается в серьезных уточнениях и квалификациях. Некоторые социологи вообще ставят под сомнение универсальные претензии авторов теорий глобальных городов, как чрезвычайно узко направленных и пытающихся оценить статус городов только на основании их позиций в финансовой системе. Так известный социолог Маттей Доган предпочитает говорить не о глобальных городах, а о городах-гегемонах, которые сосредоточивают в себе всю полноту власти и престижа (Dogan, 2004).
Важно обратить внимание и на тот очевидный факт, что важнейшие глобальные города все-таки по-прежнему находятся в наиболее развитых национальных государствах и экономиках мира (Campbell, 2003: 26–27). Так, Лондон, Париж и Токио, вероятно, представляют не только сами эти города, но и целые национальные экономики. Это свидетельствует о том, что глобальные города не вполне эмансипированы от национальных государств и часто находятся в зависимости от них (см. табл. 1).
Некоторые авторы (например, экономист Реувен Бреннер, тезис которого мы обсудим ниже) пытаются отлучить столичные города от инноваций, приписывая им тотальную консервативность. Тем не менее, на взгляд автора, в этой связи, скорее, стоило бы вести речь не о чуждости столичных городов инновациям, а об их принципиальной сосредоточенности на инновациях совершенно другого рода, а также о различиях между столицами демократических и авторитарных или традиционалистских государств. В то время как глобальные города сосредоточены в основном на технологических и управленческих инновациях, столичные города часто производят иные инновации – социальные, организационные, гуманитарные и культурные. При этом интерференция инноваций в городах может создавать помехи как их столичности, так и их глобальным притязаниям, если эти функции совмещены. Притязания на глобальность столичных городов как раз часто учитывают совершенно другой тип инноваций, на которые они ориентированы.
Разнесение глобальных и столичных аспектов урбанистической системы по разным городам может быть чрезвычайно благоприятным для страны. Для некоторых стран характерно именно такое разделение функций между городами, одни из которых ориентированы на бизнес, а другие – на политику, что часто является естественным результатом исторически сложившегося разделения труда внутри урбанистической системы. В других случаях разделение функций было специально организовано (например, в Австралии), и такое решение становится все более популярным в мировой практике.
Урбанистический диморфизм
В этой связи будет уместным разобрать феномен, который – по аналогии с половым диморфизмом – можно обозначить как урбанистический диморфизм, явление, которое, как мы уже отметили, характерно только для некоторых стран. Речь идет о своего рода разделении труда между бизнесом и политикой. На этот феномен дуальности экономических и политических столиц указывает американский экономист Реувен Бреннер, предлагая его политическое объяснение. Бреннер пишет:
Существует взаимосвязь между местом и благосостоянием… Это явление связано с политикой, а не с географией. Правители предпочитали строить свои столицы вдалеке от торговых трактов и подальше от морских портов. Поэтому мы и имеем Москву и Санкт-Петербург, Мадрид и Барселону, Пекин и Шанхай. С одной стороны, у нас есть Рим, с другой стороны, у нас есть города типа Венеции и Милана. Однако предпринимательская природа торговых городов и отсталая бюрократическая природа политических столиц не имеют никакого отношения к географии. Правители подбирали себе место, зная, что информация движется медленнее людей и что людям гораздо труднее покинуть те места, которые не находятся на торговых путях. Люди, работающие в подобных местах, в результате становятся более зависимыми от политических поблажек и преференций. Правителям гораздо легче управлять обездвиженными жителями изолированных политических столиц (Brenner, 2001).
Исторические иллюстрации тезиса Бреннера, а также сам тезис, на мой взгляд, нуждаются в некоторых уточнениях. С исторической точки зрения сомнительной, например, представляется его трактовка российского двустоличия.
Перенос столицы в Санкт-Петербург, а потом обратный перенос столицы в Москву не создал в России ситуации разделения труда между политикой и экономикой, как это было в других странах, упоминаемых Бреннером. Петербург, скорее, стал дублировать функции Москвы, хотя если рассматривать эти города в чисто экономической перспективе, Москва была более мануфактурно-промышленной, а Петербург – более торговым. Петр I тем не менее видел в Петербурге не столько новый коммерческий полюс русской государственности, сколько чисто политическую альтернативу Москве.
В императорской России функции коммерческого центра и портового города, аналогичного, скажем, Барселоне в Испании, выполняли Архангельск и Одесса, но не Петербург[43]. Российский историк Сергей Нефедов замечает по этому поводу: «В действительности Россия давно имела окно в Европу; этим окном был Архангельск, который даже после постройки Петербурга долгое время оставался основным русским портом» (Нефедов, 2005: 340). Если же говорить о коммерческой столице в гипотетическом ключе как об одной из упущенных исторических возможностей, то таким торговым полюсом российской государственности можно было бы признать Новгород, до того как он был разорен Иваном Грозным.
Еще менее правдоподобно звучит тезис о разделении экономических и политических функций между Петербургом и Москвой, если его распространить на советский или постсоветский период. После переноса столицы в императорской России Москва сохраняла свой статус религиозной и духовной столицы, но не главного коммерческого города. В советской России Петербург стал культурной столицей, но отнюдь не главным коммерческим центром. Российский пример, скорее, иллюстрирует другую тенденцию: бывшие столицы часто становятся важнейшими культурными или религиозными столицами (Киото в Японии, Баган в Бирме, Лалибэла в Эфиопии или Луангпхрабанг в Лаосе).
Кроме того, Бреннер, вероятно, имеет здесь в виду только одну из консервативных государственных стратегий. Некоторые автократические режимы действительно стремятся изолировать себя от шума коммерческой и гражданской жизни в отделенной от них столице. Тоталитарные же режимы как раз стремятся сосредоточить в центре всю полноту и многообразие экономической, социальной и гражданской жизни, чтобы держать под более тесным и всесторонним контролем и опекой все функции.
В содержательном же плане тезис Бреннера кажется интересным и может быть вместо явно неудачной русской иллюстрации дополнен другими достаточно показательными примерами. Разделение труда между политическими и экономическими столицами, о котором он говорит, характерно для стран в самых разных регионах мира. Например, для Швейцарии (Берн-Цюрих), Израиля (Иерусалим-Тель-Авив), Турции (Анкара-Стамбул), Вьетнама (Ханой-Сайгон), Бразилии (Бразилиа-Сан-Паулу), Австралии (Канберра-Сидней), Новой Зеландии (Веллингтон-Окленд), Марокко (Рабат-Касабланка), Эквадора (Кито-Гуаякиль), Греции (Афины-Салоники), Сирии (Дамаск-Алеппо), Камеруна (Яунде-Дуала), Объединенных Арабских Эмиратов (Абу-Даби-Дубай).
Отношения между Римом и Константинополем, так же, как в случае Москвы и Петербурга, были, скорее, связаны с дубликацией функций, хотя Константинополь, как уже отмечалось выше, предложил империи и осязаемые экономические выгоды.
Дивергенция политических и экономических столиц, конечно, не является какой-то исключительно новейшей характеристикой урбанистических иерархий, хотя, скорее всего, она более типична для нового времени.
По-видимому, определенный тип комплементарности экономических и политических (или королевских) столиц существовал во многих древних, средневековых и новых обществах. Хотя экономический центр не всегда превосходил политическую столицу по абсолютным экономическим показателям, в крупных центрах индустрии и торговли была ясно выражена их экономическая специализация, а размер экономик этих городов был или сопоставим со столичными, или превосходил их. Помимо вышеперечисленных случаев мы находим примеры подобных разделений в самых разных географических широтах: Ашшур и Харран в Ассирии, Рим и Александрия в Римской империи, Итиль и Хазарин в Хазарии, Бухара и Нишапур в государстве Саманидов, Баласагун и Ош в каганате Караханидов, Турин и Генуя в Сардинском королевстве, Брюссель и Антверпен в Бельгии.
Известный американский антрополог Клиффорд Гирц указывает на естественно-географическую подоплеку такого диморфизма на примере архаичных досовременных обществ в Индонезии и, в частности, на примере яванского архипелага островов, которые он исследовал. Гирц обращает внимание на естественное противопоставление в структуре поселений между замковыми городами, которые находятся в речных долинах, и поселениями на морском побережье. Первые служат естественными религиозно-административными центрами и часто столицами местных княжеств, вторые же специализируются на торговле и коммерческой деятельности (Geerz, 1973; Eisenstadt, 1987: 93). Таким образом, в противоположность Бреннеру Гирц связывает такое противопоставление именно с географией, а не с сознательной политикой. Уже перечисленные примеры урбанистического диморфизма в современных государствах, где города располагаются в ландшафтах, отличающихся более высокой социальной проводимостью (например, на морском побережье), подтверждают его интуицию.
Варианты совмещения
Как мы уже говорили, в некоторых странах в главном городе страны может складываться благоприятный симбиоз глобальности и столичности. В таких странах глобальный город дает дополнительные возможности и преимущества всей нации. Престиж и авторитет нации, а также сила и обеспечение национальной экономики, повышают глобальный статус ее главного города. Это относится главным образом к европейским столицам с их старыми урбанистическими системами, исторически сложившимся национальным ядром и зрелым национальным самосознанием, которое не чувствует угроз со стороны процессов глобализации. Рост глобальных городов в Европе идет в ногу со всей урбанистической системой в соответствии с теорией дифференциальной урбанизации, ее циклами поляризации и дисперсии на периферию. В этих глобальных городах, как правило и как уже было сказано, также найдены технические, морфологические и транспортные решения универсальных проблем мегаполиса.
Кроме того, важно подчеркнуть, что глобальность столичных городов в крупных европейских странах дает вполне реальные, осязаемые и поддающиеся количественному учету финансовые преимущества всей нации и национальной экономике.
Сама столичная функция в крупных европейских странах генерирует прибавочный продукт, который в какой-то мере распределяется по всей стране. Так, например, Лондон в качестве глобального города непосредственно субсидирует многие регионы Великобритании. По подсчетам консалтинговой фирмы Oxford Economics, приблизительно 20 % всех средств, заработанных в Лондоне, идет на субвенции и субсидии остальной стране. Лондон платит в бюджет на 16 миллиардов фунтов стерлингов больше налогов, чем правительство тратит в самой столице Великобритании. Таким образом, доля каждого жителя Лондона в субсидиях стране составляет около 2 тысяч фунтов стерлингов в год (Kirkup, 2008).
Бывший мэр британской столицы Ливингстон описывает ситуацию следующим образом:
Пример Великобритании демонстрирует, что затраты в Лондоне дают преимущества всей британской экономике в целом и позволяют правительству достигнуть многих целей национального развития… На глобальном уровне Лондон является мировым городом и служит воротами в остальную часть Великобритании для мировой экономики (Gordon, 2006: 8).
Каков общий объем финансовых преимуществ, которые предоставляет городам статус политических столиц?
В демократических странах разрыв между столичными и нестоличными городами, как правило, не столь высок. В коррумпированных странах роль столичного эффекта драматически возрастает. Так доход среднего лондонца выше, чем средний по Великобритании на 42 %. Однако с учетом уровня образования, квалификаций и других факторов, которые значительно выше в Лондоне, эта разница для людей, занимающих сходные позиции, сокращается до 26 %. Если учитываются также более высокая стоимость жизни в Лондоне и уровень налогов, то разрыв между доходами лондонца и среднего британца сокращается до 10–12 % (London, 2010: 4, 45–46). В противоположность этому разрыв только в заработных платах москвичей и других россиян составляет приблизительно 250 %; эта цифра не учитывает значительных рентных и других доходов, которые в конечном итоге являются результатом столичной ренты.
Тем не менее далеко не везде отношения глобальности и столичности складываются так гармонично и безоблачно. Это относится, прежде всего, к политическим столицам третьего мира или мировой периферии. Например, во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки часто возникают конфликты и проблемы на почве возможности сочетания глобальных, национальных и местных городских интересов в рамках одного столичного города. Часто легитимные интересы бизнеса и нации сталкиваются и приходят в противоречие друг с другом.
Глобальные города и столицы имеют разные номосы и критерии эффективности. Глобальные города являются узлами соединения динамических финансовых потоков и энергий. Столицы воплощают статическое равновесие и компромисс. Глобальные города пытаются ускорить процессы или отпустить их на волю, столицы – субстанции, которые заземляют, замедляют процессы принятия решений и локализуют императивы глобальной экономики. Глобальные города – узлы в системе глобальных связей. Столицы – точки динамического равновесия внутри страны и международное лицо национальных государств. Глобальные города ориентированы на прозрачность границ и пытаются минимизировать вмешательства со стороны государства. Столицы, будучи топосами государственного принуждения, построены на апелляции к границам, регуляциям и законам. Глобальные города являются связками между глобальными экономическими центрами. Столицы – узлы международных политических связей и связки (hinges) по отношению к внутренним пространствам, ландшафтам и этносам.
Необходимо также признать важные отличия и даже противоположность в архитектурных и урбанистических требованиях глобальности и столичности, которые находят свое воплощение в городах. Глобальный город и столица конкурируют за устройство урбанистических пространств и публичных мест. Государственная служба требует достаточно спокойного места, где сосредоточены различные министерства и ведомства. Символизм столиц связан с образами национальной идентичности, уникальностью и самобытностью. Императив столичности предполагает создание центра, в котором акцентируется уникальность национального проекта. Глобальные города или глобальные аспекты столичных городов, напротив, акцентируют стандартизацию, гомогенизацию и однородность городской среды.
Разница в императивах глобальности и столичности связана также с тем, что номосы их существования подчинены разным целям – экономической эффективности, с одной стороны, и идеям представительства и социальной справедливости – с другой. Глобальный город, как и всякий мегаполис, оценивается, прежде всего, с точки зрения его эффективности. Но эффективность современных столиц, скорее, должна оцениваться по другому критерию: их мерой является осуществление идеалов социальной справедливости и единства, которые воплощены в центре. В идеале столица как раз и является своего рода пространственной проекцией справедливости.
По причине разности императивов в некоторых странах происходит разделение этих функций. Если на ранних этапах формирования национальных государств столицам было крайне важно расподобление или обособление от религии и королевской власти, то сегодня на повестку дня во многих странах также встает вопрос об отделении политики от экономики. При этом акцент ставится на функциональной дифференциации городов. Во многих случаях отцы-основатели многих современных наций или резко возражали против совмещения экономических и политических функций в одном городе, или неохотно их принимали. Примерами таких государств являются Италия, Финляндия или Австралия. В результате этих процессов создаются специализированные компактные столицы, отличные от крупных экономических центров и мегаполисов.
Критически важным фактором в достижении баланса между глобальностью и столичностью является то, в какой мере глобальные и столичные города в состоянии осуществлять свои функции источников диффузии знаний, информации и опыта не только на международной арене, но и внутри своей страны. При этом глобальность как характеристика столичных городов имеет двойственный характер.
В странах, где политика не слишком искажает рыночные механизмы, рост цен на факторы производства (землю, труд и капитал) заставляет бизнесы искать более выгодное расположение для своих предприятий и учреждений обслуживания, за счет чего начинают развиваться вторичные региональные центры. Таким образом, опыт и знания, накопленные в мегаполисе и в глобальной сети городов, просачиваются на периферию. В менее демократических государствах искажение принципов рыночного саморегулирования и гравитационная сила столицы настолько велики, что не позволяют такому циклу инноваций развиваться естественным путем. Они втягивают в свои орбиты и замыкают на себе все города страны. Гравитационная сила столицы, обусловленная политическими факторами, перетягивает экономические стимулы и выносит за скобки факторы собственно производства. Глобальность таких городов обычно обусловлена не столько их инновационным потенциалом, сколько их ролью передаточного механизма в мировой системе капитализма.
Глобальность городов в экономически неразвитых регионах мира связана не с их вкладом в циклы международных инноваций, а с их региональной ролью. Такого рода глобальность часто является результатом экономической отсталости и недоразвитости страны и всего региона в целом. Она обычно является сигналом неспособности к собственно экономической конкуренции. Эта глобальность, которая часто совмещается со столичностью, может вести к колоссальной сверхцентрализации ресурсов и бесконтрольному разрастанию главного мегаполиса страны. Крупные и хаотично разрастающиеся города развивающихся стран, которые часто являются еще и столицами, нередко становятся стихийным бедствием для их внутренних экономик. Кроме того, они сами создают ситуацию диссонанса и интерференции между своими столичными и глобальными функциями.
Неспособность организовывать экономику вокруг разных урбанистических центров в качестве компенсации ведет к мобилизации политических ресурсов для подчинения регионов и усиления такими столицами своей сомнительной роли глобального города. Такие глобальные столицы склонны к узурпации глобальности и объективно препятствуют интеграции в глобальные процессы других урбанистических центров и регионов страны.
Например, Москва, реальный международный вес и статус которой снизился в результате падения Советского Союза, приобрела статус глобального города в качестве ворот в евразийское экономическое и финансовое пространство не столько в силу наличия собственно инновационного потенциала, сколько в результате отсутствия конкуренции внутри страны и неразвитости системы городов.
Москва, конечно, не является исключением в данном отношении. Примерно в той же самой связи в 1927 году критически относящийся к скромному обаянию своей столицы и к ее роли в национальной истории известный испанский философ Ортега-и-Гассет так писал о Мадриде:
У Мадрида никогда не было своей творческой культуры… Немногим дурно усвоенным им урокам он выучился за границей. Эта приобретенная за рубежом культура… этот культурный резервуар, приходит именно в Мадрид как в главный город страны для поддержания его статуса и трезвого достоинства столичного города. Величайшей глупостью является представление о том, что Мадрид мог распространять по стране свой дух. В шести километрах от Мадрида кончается его культурное влияние и без всякого перехода или просвещенных окраин внезапно начинается тотальная отсталость (Ringrose, 1983: 134; Ortega, 1967: 192).
Глобализм Москвы или Мадрида, описанный здесь Ортегой, предстает в качестве чего-то вторичного по отношению к первичному глобализму настоящих глобальных городов, которые крутят маховики прогресса.
Однако наиболее успешным городам в развитых странах, как мы уже говорили, удается гармонически совмещать глобальные и столичные функции и императивы. Характер их модерна инкорпорирует национальную самобытность и характеризуется специфической интерпретацией глобальности и поисками своей национальной роли в глобальных процессах. В таких городах глобальность и столичность органически уживаются друг с другом в качестве элементов единого целого.
Нации встраивают глобализм или модернизацию в свои стратегии национального развития, что отражается в символизме и распределении национальных и глобальных пространств в новых столицах. Новые столицы с их символизмом указывают на причастность нации не только партикуляристским нарративам эмансипации и национального освобождения, но и проекту модерна в его различных интерпретациях, которые, конечно, зависят от века, моды и политической конъюнктуры. Новая архитектура, на самом деле достаточно общая для культурного региона и продиктованная модой и культурными веяниями эпохи, часто не только подчеркивает самобытное, но и акцентирует приверженность одному или нескольким метанарративам мировой истории с более универсалистской ориентацией – нарративам рационализации, новых технологий, глобализации и социальной справедливости.
Дискуссия о глобальности и столичности о двух полюсах урбанизма также проектируется на саму историю столиц. Например, известный урбанолог Джейн Джейкобс выводит столичность исключительно из экономических причин и рассматривает ее как своего рода предмет роскоши, который могут себе позволить только экономически богатые регионы. Она, в частности, пишет:
Великие столицы Европы становились великими городами не из-за своих функций столицы. Причина и следствие здесь поменялись местами. Первоначально Париж был местом пребывания французских королей не в большей мере, чем полдюжины других королевских резиденций. Вплоть до XII века Орлеан, другой центр торговли, был более значим и в качестве резиденции короля и двора, и в качестве культурного и образовательного центра. Париж стал настоящей столицей только после того, как он стал самым большим и экономически наиболее диверсифицированным коммерческим и индустриальным городом королевства. Берлин не был даже столицей своей провинции (ею был Бранденбург), пока он не превратился в самый большой и экономически наиболее диверсифицированный коммерческий и индустриальный центр на территории Пруссии (Jacobs, 1984: 390).
Вопреки подобным представлениям, озвученным Джейкобс и, вероятно, отчасти вытекающим из идеологии экономизма, столицы достаточно редко возникают просто за счет трансформации и расширения функций тех городов, которые уже имели серьезные экономические преимущества над всеми прочими городами. Такой вывод можно сделать на основании более беспристрастного исторического анализа.
Во многих случаях столичность никак не вытекает из экономической центральности, на что ясно указывает пример России. Москва поднялась к политической власти на фоне гораздо более значимых экономических центров, таких как Новгород, Киев, Нижний Новгород. Многие современные политические столицы, как мы уже могли убедиться на основании нашего исторического экскурса, строились или образовывались как раз там, где не существовало природных ресурсов или сильной экономической базы для поддержания даже базовых городских функций. Таковы, например, описанные выше отчужденные столицы.
В некоторых странах сложились модели урбанистической иерархии, в которых относительно бедные регионы страны, где была сосредоточена военная и политическая власть, контролировали богатые и коммерчески развитые районы, по определению склонные к сепаратизму и космополитичности.
Такой образ правления сложился в Китае, где мандаринская столица Пекин контролировала южные коммерчески ориентированные провинции, Кантон и Гонконг, которые традиционно были более торговыми, а позже вели широкую морскую торговлю. Сходную модель отношений мы видели в таких странах Латинской Америки, как Боливия и Бразилия, где политические столицы, находящиеся в небогатых районах, доминируют или пытаются доминировать над богатым югом этих стран, склонным к сепаратизму. В Новой Зеландии столица всегда находилась на менее богатом северном острове. В еще большей степени это относится к опыту тех стран, где политические столицы возникают на очевидной периферии экономических центров. Так, например, Афины были полностью лишены своей собственной экономической базы. С завоеванием независимости в 1833 году Афины были небольшой деревней, в то время как Салоники оставались богатым и большим греческим городом.
Не менее типичным сценарием для многих стран была трансформация в столицы важнейших религиозных центров, как мы уже видели на нескольких примерах.
Собственные примеры Джейкобс также вряд ли слишком хорошо иллюстрируют ее тезис. Лион во Франции или Манчестер в Великобритании на определенных этапах значительно превосходили по своей экономической мощи Париж и Лондон. Например, Бродель говорит, что Лондон был свидетелем, но не главным участником индустриальной революции. В этом, конечно, есть доля преувеличения. Тем не менее многие историки Великобритании подтверждают, что «в первой половине XIX века позиция Лондона как безусловного экономического лидера во главе британской урбанистической иерархии подверглась корректировке со стороны провинциальных мануфактурных городов» (Garside, 1984: 225–226). В середине XIX века Манчестер вообще считался «городом будущего». Тем не менее этим важнейшим экономическим центрам не удалось перетянуть к себе столичные функции. Многочисленные приведенные выше примеры географически обусловленного или спроектированного дуализма между экономическими и политическими центрами также работают против ее тезиса.
Проведенный анализ позволяет подвести итоги и сделать несколько выводов, относящихся к роли переносов столиц в процессе политических и экономических реформ, степени распространенности этого опыта, а также перспективности такого решения. Анализ показывает, что прогнозы об упадке и снижении значимости национального государства в современном мире и в процессах глобальных трансформаций являются преждевременными. Национальный полюс идентичности продолжает играть фундаментальную роль в системе идентичностей, в том числе и в экономической жизни народов, а нации продолжают оставаться важнейшими агентами истории. Виртуализация политических процессов, технические инновации в области информационных технологий, процессы глобализации и детерриториализации отнюдь не отменяют важности столиц как лабораторий национального строительства. Нации продолжают строить или достраивать себя и пытаются познавать себя через различные пространственные формы, важнейшей из которых являются столицы. Теоретики постмодерна и глобализации пролили немало чернил в своих описаниях выскальзывания власти из пространства и поглощения экономикой политических аспектов существования народов и наций. В русле таких экономистских представлений часто оказывались как либеральные теории глобализма и глобальных городов, так и неомарксистские теории и другие течения. По сути, в рамках этих же представлений функционируют правоконсервативные геополитические теории, которые рассматривают судьбы мира исключительно в контексте противостояния сверхдержав и транснациональных регионов.
В подобного рода теориях реальностью и действительным потенциалом наделена только власть великих держав и наднациональных экономических и политических комплексов, которые, как правило, характеризуются экономической или военной гегемонией. Современная экономическая власть удовлетворяется своим финансовым господством, унифицированным урбанизмом, избегающим броских, ярких и идиосинкратических архитектурных форм и манифестаций. Эта власть по своей природе ацентрична, экстерриториальна и присутствует в равной мере в каждой точке пространства. Переносы столиц в этой картине мира представляют собой не более чем перестановку мебели во внутренних интерьерах национальных государств, которые лишены реального международного политического веса и влияния.
Одним из следствий такого подхода является систематическая недооценка роли национальных государств. Тем не менее наиболее важные глобальные города по-прежнему локализованы в крупных национальных государствах, представляют их и тесно интегрированы в свои национальные экономики. О важности центра и физического воплощения национальных символов в физической инфраструктуре столичных городов как будто свидетельствуют многочисленные недавние опыты переносов столиц и интенсивные публичные дебаты по этому вопросу. Поэтому, с точки зрения автора, панихида по нациям и их центрам, которую отмечают некоторые теоретики глобальных городов, несколько преждевременна.
Мы выделили несколько значимых принципов и стратегий в размещении столиц. Особенно важно подчеркнуть следующие выявленные тенденции.
Не существует предустановленной гармонии между военными, политическими и экономическими преимуществами места расположения столицы. Не существует также среднего арифметического между этими факторами, хотя в редких случаях возникают счастливые возможности каким-то образом учитывать все из них и находить более или менее удачные формы их сочетания. Поэтому государствам обычно приходится выбирать между различными альтернативными решениями и жертвовать менее существенными параметрами.
В нашем историческом обзоре мы видели большое разнообразие и плюрализм в понимании концепции столичности: в разных государствах существовали разные представления о необходимом количестве столиц, их функциях, смысле и пространственном распределении столичных функций. Сегодня в мире складывается если не консенсус, то во всяком случае гораздо более универсальное (но не унифицированное) понимание того, что должно и может считаться столицей и каковы ее базовые и наиболее фундаментальные свойства и функции. Эта более универсальная концепция связана главным образом с идеей столицы национального государства.
Мы видели также общую тенденцию постепенного перехода от совмещения религиозных и политических функций и от понимания столиц, прежде всего, как сакральных центров, вписанных в космический порядок мироздания – Талкотт Парсонс называл такие общества «космологическими» – к альтернативному пониманию столичности и дифференциации различных центров. Мы выявили общую – хотя и далеко не универсальную – тенденцию перехода от религиозных и военных обоснований локализации столицы к обоснованию ее местоположения на основе внутренних факторов. Если древние сакральные столицы ориентировались на небо и звезды, имперские столицы находили свое основание в военных стратегиях, а колониальные столицы – в интересах логистики и международной торговли, то современные столицы чаще всего ориентируются на внутренние параметры, на соотношение и баланс сил внутри страны и служат интересам составляющих нацию общностей людей. В соответствии с этим военные соображения уступили место аспектам государственного и национального строительства в качестве главных параметров для принятия такого рода решений. В наиболее плюралистических урбанистических системах мы видим разделение на четыре рода столиц: политические, экономические, культурные и религиозные.
Частью этого общего вектора развития является также тенденция к разделению политических и экономических столиц. Политические столицы, особенно в достаточно крупных государствах, становятся более специализированными. В то время как для некоторых стран такой дуализм является естественным, другие страны пытаются специально конструировать такое разделение. Этот тренд также косвенно свидетельствует, по мнению автора, о ложности представлений о растворении политики в экономике.
Кроме того, мир приходит к признанию роли столиц как форм баланса власти внутри различных государств. Они создают своего рода внутриклеточное равновесие на уровне одной страны, сопоставимое по своей значимости с балансом сил в глобальной политической системе. Примерами такого рода балансов могут служить равновесия между севером и югом, западом и востоком, ведущими городами, типами ландшафтов, политическими силами и фракциями, основными этнолингвистическими и конфессионально-религиозными группами. Столица и ее расположение включаются в универсальную систему обменов, которые лежат у истоков образования новой общности. Положение столицы, фактор ее близости к одной из фракций является одним из средств этого обмена, внутренней валютой престижа, которой одна часть может расплачиваться за какие-то другие преимущества. Успешность столицы, задачей которой является установление паритета сил и репрезентаций, является инклюзивность и задействованность идентичностей и интересов большинства составляющих государство субъектов. Речь при этом, естественно, идет главным образом о субъективных интересах этих различных общностей. Успех столицы служит устойчивости и долголетию государства.
Таким образом, перенос столицы часто может служить, и нередко служит, географической формой решения различных политических и экономических вопросов и вписываться в различные стратегии развития нации или государства – прежде всего, в стратегии национального и государственного строительства, многообразие которых мы рассмотрели на множестве примеров. Для их понимания наиболее важны соображения интеграции или дезинтеграции, инклюзивности и эксклюзивности. Принципиальную роль эти соображения и равновесия играют, безусловно, в политической архитектуре федеративных государств.
Одной из общих тенденций также является синхронизация национализма, модернизма и глобализации. В то время как некоторые авторы неоправданно резко противопоставляют первое двум вторым, в недавнем опыте переносов и в современной практике урбанизма между этими тенденциями и идеологиями не обязательно возникают конфликты и противоречия. Глобализм и модернизм не обязательно пожирают нации и составляют им антитезу. Приобщение к модернизации мыслилось многими нациями – особенно явно мы это видели на примере Турции и ее новой столицы Анкары – как адаптация современной (modern) формы национального государства. Национализм и модернизм, а также нарратив глобализации мирно сосуществуют друг с другом в архитектурных формах Анкары, Бразилиа, Астаны, Путраджайи и многих других спланированных столиц. Таким образом, национализм становился во многих подобных случаях не тормозом и антиподом, а синонимом модернизации.
Перенос столицы не всегда является обязательным или наиболее эффективным методом решения существующих проблем. По всеобщему признанию переносы столиц могут быть весьма болезненными и дорогостоящими мероприятиями. В свете международного опыта можно сказать, что в силу сложности и высокой стоимости подобных проектов смены столиц остаются относительно редкой и достаточно радикальной урбанистической стратегией. В каком-то смысле они могут представлять собой нечто вроде шоковой терапии для урбанистической системы, аналогичной шоковой терапии в экономике или хирургическому вмешательству в медицине.
Мы также установили, что хотя с точки зрения экономической науки (Zimmerman, 2010) разговор об оптимальном размере столицы вполне правомерен применительно к государствам разной площади и демографии, более фундаментальными в вопросе смены столицы являются эмоциональные аспекты и проблемы национальной идентичности. Сегодня именно они чаще всего толкают нации на эти дорогостоящие и рискованные решения. Необходимость или желательность этой стратегии определяется главным образом остротой стоящих перед страной проблем национального и государственного строительства и наличия альтернативных решений.
В центре проблематики национального строительства часто оказывается вопрос о символах.
Переносы столиц не только способствуют децентрализации, но и создают символы, прибавочные смыслы и институты, которые дают новые ориентиры и векторы развития различным государствам. Помимо вопросов реорганизации урбанистической системы национальное строительство включает в себя вопросы обустройства, оформления, выбора новой топонимики и символизации.
Наиболее характерным опыт переноса столиц до сегодняшнего дня был для государств Африки, где вопросы деколонизации и государственного и национального строительства стояли наиболее остро. В Европе нации возникли давно, они тесно связаны с главным городом страны и потому редко возникает необходимость в новой политической консолидации. Здесь магма исторического творчества уже застыла в относительно завершившихся формах.
Тем не менее широта географического и исторического охвата свидетельствует о том, что этот способ решения проблемы больше не является слишком редким и экзотическим. К нему прибегают страны с разными политическими режимами, находящиеся на разном уровне экономического развития в самых разных регионах мира.
Но наряду с универсальными движениями и общими тенденциями в описанных моделях мы обнаруживаем также сохраняющиеся различия между континентами, полушариями и геополитическими регионами (не всегда обозначенные конвенциональными географическими границами), расхождения между которыми в размещении столиц остаются. Это, например, столицы Балтоскандинавии, обращенные вовне, и столицы Латинской Америки, обращенные вовнутрь. Констелляция столиц и их расположения относительно границ не только отражают исторические особенности формирования таких транснациональных регионов, но и могут указывать на характер и степень их интегрированности. Движения столиц в таких единых геополитических регионах могут подчиняться сходным законам. В некоторых случаях можно говорить об эпидемиях однородных перемещений столиц в таких регионах: например, в Африке или – в менее выраженной форме – в попытках и интенциях реорганизации национальных пространств в странах Латинской Америки после строительства Бразилиа. При этом в урбанистическом творчестве наций происходит не только заимствование концепций национального государства и столиц из Европы, но и многообразные взаимовлияния между различными регионами мира без всякой оглядки на европейские образцы. Примерами таких влияний по линиям, никак не связанным с европейскими заимствованиями, характерными для более ранних стадий модернизации, можно считать влияние Анкары на Астану и Исламабад, Бразилиа – на планы в Аргентине, Перу и Индонезии, Астаны – на сегодняшние дискуссии в постсоветских республиках.
Переносы столиц вне зависимости от своего экономического смысла носили главным образом политический характер и вписывались в программы, прежде всего, политических преобразований. Они часто были связаны с проведениями широкомасштабных реформ, утопическими социальными проектами или революциями. Помимо собственно изменения и развития урбанистической иерархии в переносе столиц часто бывала зашифрована новая символическая формула власти над пространством и новая концепция центра.
Одной из наиболее принципиальных проблем, с которой сталкиваются все реформаторы, является вопрос о том, с чего должны начинаться политические реформы, что может обеспечить им надежную социальную базу и как можно минимизировать сопротивление нововведениям. Одна из моделей таких реформ, вдохновляющихся идеей освобождения от господства старых религий, идеологий и форм господства, опиралась на концепцию смены столицы. Реформы и преобразования могут находить свое отражение в том числе и в строительстве нового города, который предлагает новую модель жизни и идентичности, систему символов и идеологических ориентиров. В некоторых государствах происходит перенос столицы в один из уже существующих городов, который воплощает альтернативный полюс культурной идентичности и иной вектор социального развития. В этом смысле смена столицы находится в той же базисной системе культурно-государственных основоположений как календарь, хронология и система письменности или правописания. Революции и глубокие реформы на Западе и Востоке часто сопровождались сменой одного или нескольких из этих основоположений. Они пытались изменить счет времени, язык или точку отсчета в пространстве, то есть столицу, реконструируя существующую политическую реальность. Так, Французская революция вводит новый календарь. Русская и турецкая революции, революция Мейдзи в Японии и Синьхайская революция в Китае были сопряжены со сменой столицы (в Китае несколько отсроченной приходом к власти милитаристов, которые на некоторый период времени заморозили столицу в Пекине). Махдийская революция в Судане сопровождалась переносом столицы из Хартума в Омдурман в 1895 году, а окончание революции – с возвращением столицы в Хартум в 1898.
Реформаторы пытаются найти слабое или ключевое звено в старой системе, изменив и реформировав которое можно сломать хребет старому образу власти. Старые подсистемы замкнуты и укрепляют одна другую, находясь в отношениях взаимозависимости. Для того чтобы открыть путь реформам, необходимо разомкнуть это кольцо. Одним из яиц, где хранится кощеева игла старого миропорядка, является сама локализация столицы. Поэтому поиски оптимальной политической архитектуры и форм урбанистической сети для воплощения национальных и политических принципов может включать в себя и основание нового города, который становится ларцом новых национальных смыслов и символов. Понятая таким образом, новая столица является не только продуктом, но и одним из инструментов или катализаторов политических и экономических реформ.
Успешность переноса столицы главным образом зависит от эффективности и народности политического режима. Демократические политические режимы переносят столицы с лучшими результатами, опираясь на достаточно широкую поддержку этих проектов, на концепцию компромисса и другие интегративные стратегии. Примером такого рода может служить Германия и англосаксонские страны. Недемократические или менее демократические режимы не всегда могут опереться на широкую народную поддержку, но переносы столиц в них тем не менее могут решать какие-то проблемы, которые они ставят перед собой, – например, удержание территорий, балансирование интересов различных фракций, децентрализация – более или менее эффективно. К умеренно успешным проектам такого рода можно отнести опыт Малайзии и Казахстана. В некоторых случаях какую-то долю успеха можно приписать даже эксклюзивным столицам. Наконец, неэффективные политические режимы могут ставить важные интегративные цели, но решают и осуществляют логистику и идеологию переноса малоэффективно и часто не достигают своих целей. Таковы опыты переноса в некоторых странах Африки, которые мы описали.
Приложения
ТАБЛИЦА 1.
Столицы и глобальные города. Индекс глобальных городов 2010
Из 65 глобальных городов только 31 является также еще и столичным городом.
Таблица подготовлена журналом Foreign Policy, консалтинговой фирмой А. Т. Kearney и Чикагским Советом по Глобальным Связям (Chicago Council on Global Affairs). Крестиками помечены столичные глобальные города.
ТАБЛИЦА 2.
Некоторые переносы столиц с начала XIX века
В список включены также некоторые страны, которые перенесли только часть столичных функций, или их новая столица не стала официальной (Чили, Малайзия, Шри-Ланка).
ТАБЛИЦА 3.
Некоторые страны, где обсуждался или обсуждается план переноса столицы
ТАБЛИЦА 4.
Актуальные бюджеты или оценки стоимости переносов столиц в разных странах мира. Бюджеты переноса столиц в разных странах мира как % ВНП
Источники:
Малави. ВНП в 1975: Gross Domestic Product (GDP) of Malawi, 1970–2010 http:// kushnirs.0rg/macr0ec0n0mics/gdp/gdp__malawi.html#t2_1 Первоначальный бюджет на перенос столицы в $60–70 млн (50–60 млн MWK) (Potts, 1985: 189) был значительно превзойден. Кроме того, в сумму официальных затрат не вошли значительные расходы на строительство аэропорта и новых транспортных линий, связавших столицу со страной. $120 млн является более реалистической оценкой.
Танзания. Оценка стоимости дается на 1993 год: 4,9 млрд танзанийских шиллингов (TZS) (Kironde, 1993: 448). ВНП в 1974: Gross Domestic Product (GDP) of Malawi and its neighbors, billions dollars, 1970–2010. Курс обмена на 1993 г.: Krichene, N. “Purchasing Power Parities in Five East African Countries,” IMF Working Paper, October 1998.
Бразилия. Оценка стоимости новой столицы страны дается в долларах на 2010 (Baldussi, 2010). ВНП Бразилии в 1957 году ($17.6 млрд) конвертируется в доллары 2010 года ($137.5 млрд). Pessoa, М. “Fiscal Policy in Brazil and Japan: what can be learned” (Tokio, 2004: 47).
Нигерия. $ю млрд было потрачено за 12 лет, с 1985 по 1997 год. По оценкам экспертов, в 1997 году для завершения проекта требовалось от 2 до 4 млрд долларов. Moser, Gary; Rogers, Scott; Van Til, Reinhold. 1997. “Nigeria: Experience With Structural Adjustment,” IMF Occasional Papers (Washington DC), March, p. 37. В 1985–1992 годах ВНП Нигерии значительно вырос. При расчете с учетом среднего ВНП за эти 7 лет (244 млрд долларов) процент расходов на строительство новой столицы составляет 5 или 6.3 % от ВНП.
Россия. Первая оценка принадлежит Лужкову (2002), вторая Иосифу Дискину (Бабаян, 2011).
Мьянма. Оценка стоимости Шона Тернелла (Sean Turnell), специалиста по бирманской экономике, профессора Macquarie University in Sydney, Australia. “Built to Order: Myanmar’s New Capital Isolates and Insulates Junta,” The New York Times, June 24, 2008.
Казахстан. По официальным оценкам, на перенос было потрачено 2 млрд долларов из государственного бюджета и 2 млрд из частных фондов к 1998 году. Эти цифры некоторые эксперты считают заниженными. С 2002 года только в строительство правительственного комплекса частными компаниями было инвестировано около $5 млрд.
Афганистан. Частные фонды – 23 млрд, государственный бюджет – 11 млрд.
ТАБЛИЦА 5.
Столицы Персии
ТАБЛИЦА 6.
Столицы китайских династий
Список литературы
Adebanwi, Wale (2011). Abuja // Therborn, G. and Bekker, S. (eds.). Capital Cities in Sub-Saharan Africa (Pretoria & Dakar: HSRC & CODESRIA), pp. 84–102.
Ades, A. F., Glaeser, E. L. (1995). Trade and Circuses: Explaining Urban Giants. Quarterly Journal of Economics, 110, pp. 195–227. Anderson, Benedict (1991). The Imagined Community. Verso: London.
Akam, Simon (2011). Not Such a Capital Idea After All // Independent, Feb 24.
Bae, Se-Young (2004). The Effects of Capital City Relocation in Korea Based on Total Factor Productivity Analysis // Japan Economic Policy Association Annual Conference, November 11.
Baldussi, D. (2010). Brasilia, 50 Years as the Capital // Rio Times, January 12. Bangkok Post (2011). PT MPs propose new capital city. November 15. BBC News (2009). Taking the Capital Out of a City. November 3.
Benjamin, Walter (2002). Paris, Capital of the Nineteenth Century // Walter Benjamin: Selected Writing, vol. 3, 1935–1938 / Howard Eiland, Michael W. Jennings (eds.). Cambridge: Harvard University Press.
Berry, Brian (2008). Urbanization, Urban Ecology. An International Perspective on the Interaction between Humans and Nature / John Marzluff et al (eds.).NY: Springer.
Bertaud, Allen (2004). The Spatial Organization of Cities: Deliberate Outcome or Unforseen Consequence? Institute of Urban and Regional Development: University of California at Berkeley.
Best, A.C. (1970). Gaberone: problems and prospects of a new capital// Geographic Review, 60, pp. 1–14.
Bettencourt, L. M. A.; Lobo, J.; Helbing, D.; Kuhnert, C.; West, G. B. (2007). Growth, innovation, scaling, and the pace of life in cities // Proceedings of the National Academy of Sciences 104 (17): 7301–7306.
Bianchini, Аnnik (2009). The ten ‘Grand Paris’ projects for the coming decades // Actualité en France n° 15, April.
Boiy, T. (2004). Late Achaemenid and Hellenistic Babylon. NY: Peeters Publishers.
Borgatti, Stephen & Everette, Martin (2006). A Graphtheoretic perspective on centrality // Social Networks, no. 28, pp. 466–484.
Bowring, B. Moscow: Third Rome, Model Communist City, Eurasian Antagonist – and Power as Power, A London Metropolitan University Research Institute // Polis, 2005–2006.
Bozdoğan, Sibel (2001). Modernism and Nation Building: Turkish Architectural Culture in the Early Republic. Seattle & London: University of Washington.
Brade, Isolde & Rudolph, Robert (2004). Moscow, the global city? The position of the Russian capital within the European system of metropolitan areas // Area, 36.1, 69–80.
Brakman, Steven; Garretsen, Harry; Marrewijk, Charles Van (2001). An Introduction to Geographical Economics: Trade, Location and Growth. Cambridge University Press.
Braudel, Fernand (2001). Memory and the Mediterranean. NY: Knopf).
Braudel, Fernand (1992). The Function of Capital Cities // Civilization and Capitalism, 15th–18th Century: The structure of everyday life. Berkeley University Press, Berkeley & LA, pp. 527–563.
Braudel, Fernand (1977). Aferthoughts on Material Civilization and Capitalism. Baltimore & London: John Hopkins University.
Braun, Dietmar (2011). How Centralized Federations Avoid Over-centralization // Regional & Federal Studies, vol. 21, 1: 35–54. Brenner, Reuven (2001). From the Force of Finance: Triumph of the
Capital Markets. Texere, NY. Campbell, Scott (2000). The Changing Role and Identity of Capital Cities in the Global Era // Paper presented at the Association of American Geographers, Pittsbourgh, 27 p. Campbell, Scott (2003). The Enduring Importance of National Capital Cities in the Global Era // University of Michigan, Working Papers Series, 32 p. Campos, Thai (2011). Brasilia – The Mystical Capital of Brazil. http:// suite101.com/article/brasilia – the-mystical-capital-of-brazila367914 Chase-Dunn, Christopher & Willard, Alice (1993). Systems of Cities and World-Systems: Settlement Size Hierarchies and Cycles of Political Centralization, 2000 BC-1988 AD// Paper presented at the
International Studies Association meeting, March 24–27. Acapulco: Mexico.
Chocrane, Allan & Jonas, Andrew (1999). Reimaging Berlin: World City, Capital City or Ordinary Place//European Urban and Regional Studies, 6 (2).
Chevrant-Breton, Marie (2007). Selling the world city: A comparison of promotional strategies in Paris and London//European Planning Studies, vol. 5, issue 2, pp. 137–161.
Clarke, J. (1971). The Growth of Capital Cities in Africa // Afrika Spectrum 2: 33–40.
Cerutti, Furio & Lucarelli, Sonia (eds.) (2008). The Search for a European.Identity: Values, Policies and Legitimacy of the European Union. London & NY: Routledge.
Charle, Cristophe & Roche, Daniel. (eds.) (2002). Capitales culturelles, capitals simboliques. Paris et les expériences européennes // xvIIIe – xxe siècles. Paris: Publications de la Sorbonne.
Çinar, Alev (2007). The Imagined Community as Urban Reality: The Making of Ankara, Urban Imaginaries: Locating the Modern City / Alev Çinar & Thomas Bender (eds.). The University of Minnesota Press, pp. 151–181.
Clark, Peter; Lepetit, Bernard (1996). Capital Cities and Their Hinterlands in Early Modern Europe. Cambridge: Scholar Press. Cohen, Gary & Szabo, Franz (eds.) (2008). Embodiments of Power. Building Baroque Cities in Europe.NY & Oxford: Berghan.
Corey, Kenneth (2004). Relocation of National Capitals // International Symposium on the Capital Relocation on September 22, Seoul: 43–107.
Cox, Wendell (2005). 21st Century Highways: Innovative Solutions to America’s Transportation Needs. NY. Coulanges, Fustel de (2001). The Ancient City. Kitchener: Batoche Books. Curl, James (2011). Freemasonry & the Enlightenment: Architecture, Symbols, & Influences. NY: Historical Publications. Dagron, Gilbert (1974). Naissance d’une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451. Presses universitaires de France: Paris.
Dascher, Kristof (2000). Are Politics and Geography Related? Evidence from a Cross-Section of Capital Cities // Public Choice, 105, pp. 373–392.
Daum, Andreas & Mauch, Christof, eds. (2009). Berlin – Washington. 1800–2000. Capital Cities, Cultural Representations, and National Identities.NY: Cambridge University Press.
Davies, David (2007). Nottingham: The New Capital of England? //
Britology Watch: Deconstructing ‘British Values’, Nov. 6. Djament, Géraldine (2005). Le débat sur Rome capitale // L’Espace Géographique, no. 3, pp. 369–380.
Dogan, M. (2004). Four Hundred Giant Cities Atop the World//International Social Science Journal, September, pp. 347–360. Eaton, Jonathan & Eckstein, Zvi. (1994). Cities and Growth: The The ory and Evidence from France and Japan // Nber Working Paper Series, no. 4612.
The Economist (1998). Who says Brasilia does not work? June 20.
The Economist (2004). The Pros and Cons of Capital Flight, Aug 13.
The Economist (2006). Ani, a disputed city. The ruins of a contested capital are still hostage to geopolitics, June 15.
The Economist (2010). Sing a song of $40 billion, July 22.
The Economist (2012). The Laws of the City, June 23.
The Economist (2012). On a high. London. Special Report, June 30.
The Economist (2012). The City roars back, July 21.
Eisenstadt, Shmuel (1986). The Origins and Diversity of Axial Age Civilizations. NY: SUNY Press. Eisenstadt, Shmuel N. and Shachar, Arie (1987). Society, Culture, and Urbanization (Newbury Park: Sage). Eldredge, Hanford (1975). World Capitals: Toward Guided Urbanization. Anchor Press, Garden City, NY. Emet, Chad (1996). The Capital Cities of Jerusalem//Geographical Review, vol. 86, no. 2. Epstein, David. (1973). Brasilia from the Plan to Reality: A Study of Planned and Spontaneous Urban Development. Berkley: University of California Press. European Commission & Belgian Presidency. (2001). Brussels, Capital of Europe. Final Report, October. Evanson, Norma (1973). Two Brazilian Capitals: Architecture and Urbanism in Rio de Janeiro and Brasilia. New Heaven: Yale University Press. Falula, Toyin (2003). Power of African Culture. Rochester, NY.: University of Rochester Press. Fields, Gary (1999). City Systems, Urban History, and Economic Modernity // Berkeley Planning Journal, 13, pp. 102–128. Frank, Andre (1969). Latin America: Underdevelopment or Revolution? NY: Monthly Review Press.
Galiani, Sebastian & Kim, Sukkoo (2008). The Law of the Primate City in the Americas//Proceedings of a conference honoring the contributions of Kenneth Sokoloff at UCLA.
Gao, Jing (2010). Discussion on relocating China’s capital resumes after Beijing is deemed unlivable // China News, Dec 18.
Geerz, Clifford (1973). The Interpretation of Cultures. Selected Essays (NY: Basic Books). Geil, William Edgar (2005). Eighteen Capitals of China (Lippinkot Co: Philadelphia). Originally published in 1911. Gilbert, August (1989). Moving the Capital of Argentina: A Further Example of Utopian Planning? // Cities, 6, pp. 234–242. Goethem, Ellen von (2008). Nagaoka. Japan’s Forgotten Capital. Brill Nv: Leiden.
Gordon, David L.A.; Seasons, Mark L. (2009). Administrative and Financial Strategies for Implementing Plans in Political Capitals // Canadian Journal of Urban Research, June.
Gordon, I. R. (2006). Capital Needs, Capital Growth and Global City Rhetoric in Mayor Livingstone’s London Plan // Research paper, London: LSE.
Gottmann, Jean (1985). The Study of Former Capitals//Ekistics 314/315 (Sept./Oct – Nov./Dec.), pp. 541–546. Gottman, Jean (1990). Capital Cities // After Megapolisis. The Urban Writings of Jean Gottman, Baltimore, pp. 63–82. Gravier, Jean-Francoise (1947). Paris and the French Desert. Paris: Portulan.
Grief, Avner & Tabellini, Guido (2010). Cultural and Institutional Bifurcation: China and Europe Compared // American Economic Review, 100: 2, 1–10.
Ghurye, G. S. (1962). Cities and Civilization. Bombay: Popular Prakashan. Florida, Richard (2005). Cities and the Creative Class. NY: Routledge. Hall, C.Michael (2002). Tourism in Capital Cities//Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 50 (3): 235–248.
Hall, Peter (1993). The Changing Role of Capital Cities: Six Types of Capital City // J. Taylor, J. G. Lengelle and C. Andrew (Eds.). Capital Cities/Les Capitales: Perspectives Internationales/International Perspectives. Ottawa: Carleton University Press.
Hall, John W. (1968). The Castle Town and Japan’s Modern Urbanization//John W.Hall and Marius Jansen (eds.). Studies in the
Institutional History of Early Modern Japan. Princeton UP, pp. 169–188.
Hamdan, G. (1964). Capitals in the New Africa // Economic Geography 40: 239–253.
Hansen, Niles, Higgins, Benjamin & Savoie, Donald (1990). Regional Policy in a Changing World (NY: Plenum Press).
Harris, C. (1970). Cities of the Soviet Union. Chicago: Сhicago Univ. Press.
Henderson, Vernon (2005). Urban Primacy, External Costs and Quality of Life //Resource and Energy Economics, vol.24, issues 1–2, 95–106.
Hiromi, Otsuka (1999). A Study on the National Capital City. Relocating Capital City Functions: The Significance in Japan and Other Countries // City Planning Review, no. 218, pp. 25–28.
Hirst, Paul (2005). Space and Power: Politics, War and Architecture. Cambridge: Polity.
Horvath, Ronald J. (1969). The Wandering Capitals of Ethiopia // The Journal of African History, vol. 10, Issue 02: 205–219.
Hohenberg, Paul & Lees, Lynn (1985). The Making of Urban Europe, 1000–1950. Cambridge: Harvard University Press.
Ho, K.C. (2005–2006). Globalization and Southeast Asian Capital Cities // Pacific Affairs, vol. 78, no. 4.
Hoselitz, Bert. (1955). Generative and Parasitic Cities // Economic Development and Cultural Change, vol. 3, no. 3, Apr, pp. 278–294.
Hein, Carola (ed.) (2006). European Brussels: Whose Capital? Whose City? Brussels: La Lettre Vole.
Hitti, Philip (1973). Capital Cities of Arab Islam. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Holston, James (1989). The Modernist City: An Anthropological Critique of Brasilia. Chicago: University of Chicago Press.
Hosking, Geoffrey (1998). Russia: People and Empire, 1552–1917 (Harvard University Press).
Iannaccone, Laurence; Haight, Colleen; Rubin, Jared. 2011. Lessons from Delphi: Religious Markets and Spiritual Capitals//Journal of Economic Behavior & Organization, 77, pp. 326–338.
Ikoku, Goomsu (2004). The City as Public Space: Abuja – the Capital City of Nigeria// Forum, vol. 6, issue 1, pp. 34–45.
Innovation Cities™ Top 100 Index, 2010, 2thinknow Innovation Cities Analysis Report, Melbourne. -cities.com/ innovation-cities-top-100-index-top-cities/
Inwood, Stephen (1998). A History of London. London: Carroll & Graf Publishers.
Isserman, Andrew (1995). Comments on ‘Urban Concentration’ by Krugman//Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics.
Izazola, Haydea (2004). Migration to and from Mexico City, 1995–2000 // Environment & Urbanization, vol. 16, no. 1.
Jacobs, Jane (1984). Cities and the wealth of nations: Principles of economic life. NY: Random House.
Joffe, Alexander (1998). Disembedded Capitals in Western Asian Perspective // Society for Comparative Study of Society & History.
Kedourie, Elie (1984). Foreign Policy: A Practical Pursuit // The Crossman Confessions and other Essays in Politics, History, and Religion. London: Mansell, pp. 133–136.
Kacar, Duygu (2010). Ankara, a small town transformed to a nation’s capital // Journal of Planning History, vol. 9, 43–65. Keating, Michael (1983). Decentralization in Mitterand’s France, Public Administration, 61: 237–252. Kearns, K.C. (1973). Belmopan: perspective on a new capital//Geographic Review, 63: 147–169. Kern, Iara & Pimentel, Ernani Figueiras (2001). The Secret Brasilia: Enigmas of Ancient Egypt. Porfiro (Brasilia). Keyes, Sean (2012). How Capital Cities Can Turn into Parasites? // Money Week, Mar 13.
Kezer, Zeynep (1992). The Making of a National Capital: Ideology and Socio-Spatial Practices in Early Republican Ankara. Ph.D. diss., University of California at Berkeley.
Kim, Yeong-Hyun, Short, John (2008). Cities and Economies. NY: Routledge.
Keiting, Frank (1994). Sacred Capitals of Asia, The Asian City: Processes of Development, Characteristics and Planning/Ed. by Ashok Dutt. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Khayutina, Marina (2008). Did the first Kings of the Zhou Dynasty Relocate their Capital? The Topos of the Central Place in Early China and its Historical Contexts, xvII Conference of the European Association of Chinese Studies, 6–10. August, Lund.
Khayutina, Marina (2007). Zur Konstruktion der imperialen Hauptstadt im frühen China, Workshop Metropolen of the interdisciplinary project Comparison of Empires at the Ruhr-University Bochum. 2 February, Bochum.
King, Ross (2010). Re-writing the City: Putrajaya as Representation // Cities, vol. 27, Issue 4, August 2010, pp. 285–297.
Kirkup, James (2008). Londoners’ £2000 tax subsidy for rest of UK // The Telegraph, Sep 30.
Kironde, J.M.Lusugga (1993). Will Dodoma ever be the new capital of Tanzania? // Geoforum, vol. 24, issue 4, November 1993, pp. 435–453.
Kolbe, Laura (2006). Helsinki: From Provincial to National Centre. // Gordon, David (ed.). Planning Twentieth-Century Capital Cities. London: Routledge.
Kotarumalos, Ali (2010). Indonesia Mulls Plans to Relocate Capital City // Hufftington Post, Sep 30.
Krugman, Paul (1995). Urban Concentration: The Role of Increasing Returns and Transport Costs // Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics.
Kuper, Herbert (1972). The Language of Sites in the Politics of Space// American Anthropologist, 74 (1972): 411–425.
Landau-Wells, Marika (2008). Capital Cities in Civil Wars: The Locational Dimension of Sovereign Authority // Crisis States Occasional Papers, London School of Economics, April.
Lee, Man-Hyung, Choi, Nam-Hee, Park, Moonseo Park (2005). A Systems Thinking Approach to the New Administrative Capital in Korea: Balanced Development or Not? // System Dynamics Review, vol. 21 (1), pp. 69–85.
Lewis, Mark Edward (2006). The Construction of Space in Early China. NY: SUNY Press. pp. 238.
Leroi-Gourhan, André (1965). L’espace humanisé. Préhistoire de l’art occidental. Paris: Mazenod.
Lin, Pai (2006). Options are plentiful for the capital’s relocation // Taipei Times, Oct 26.
Lindsay, Greg (2010). Can Port-au-Prince Be Saved, or Should Haiti Move the Capital? // Fast Company, Feb 8.
Lee, Richard, Pelizzon, Sheila (1991). Hegemonic Cities in the Modern World-System // Cities in the World-System: Studies in the Political Economy of the World-System / Reşat Kasaba, Immanuel Wallerstein (eds.). NY: Greenwood Press.
Lilly, I (ed) (2002). Moscow and Petersburg: The City in Russian Culture. Nottingham: Astra Press.
Logan, William S. (2005). The Cultural Role of Capital Cities: Hanoi & Hue, Vietnam // Pacific Affairs, vol. 78, no. 4 (Winter).
Lohausen, Heinrich Jordis von (1992). Wien und Belgrad als geopolitische Antipoden // Staatsbriefe. Heft 12.
London, Bruce (1977). Is the Primate City Parasitic? The Regional Implications of National Decision Making in Thailand // The Journal of Developing Areas, vol. 12, no. 1 (October): 49–68.
London’s Place in the UK Economy, 2009–2010. London: London School of Economics:.
Magutt, Joseph (2009). Need to Relocate the Capital City, November 10 -development/need-torelocate-the-city/
Mango, Cyril (2005). Constantinople: Capital of the Oikoumene? Presented at ‘Byzantium as Oecumene’ Conference, Athens, Greece 2001. Published by the Institute for Byzantine Research, Athens.
Manning, Clarence (1952). The Forgotten Republics.NY: Philosophical Library.
Markusen, Ann (1999). Second Tier Cities: Rapid Growth Beyond the Metropolis. University of Minnesota Press.
Marlow, Jeffrey (2011). Relocation: the pros and cons of plans in South Sudan, // Geographical Magazine, December.
McGee, Terence (1967). The Southeast Asian City: a Social Geography of the Primate Cities of Southeast Asia. London: Bell & Sons.
McKinsey Global Institute, Urban World: Mapping the Economic Power City.
McDonnell, Patrick & Ordonez, Oscar (2007). Plan to Move Capital Seen as Step to Divide Bolivia // Los Angeles Times, Aug 12.
McLynn, Frank (1997). Napoleon. Biography. NY: Arcade Publishing.
Meining, Donald (1956). Heartland and Rimland in Eurasian History // The Western Political Quarterly, vol. 9, no. 3 (September), pp. 553–569.
Melman, Yossi (2009). Israel should give up Jerusalem as its capital // Haarez, 06.12.09.
Meyer, Jeffrey F. (1976) Peking as a Sacred City. Taipei: Chinese Association for Folklore.
Moomaw, Ronald, Alwosabi, Mohammad (2004). An Empirical Analysis of Competing Explanations of Urban Primacy. Evidence from Asia & the Americas//The Annals of Regional Science, 38: 149–171.
Morrill, John (2000). Stuart Britain: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford Paperbacks.
Moser, Sarah (2010). Putrajaya: Malaysia’s new federal administrative capital // Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning 27 (3), pp. 285–297.
Moser, Gary; Rogers, Scott; Van Til, Reinhold (1997). Nigeria: Experience With Structural Adjustment // IMF Occasional Papers (Washington DC), March.
Myers, David (2002). The Dynamics of Local Empowerment: An Overview, Capital City Politics in Latin America: Democratization and Empowerment (Boulder, CO: Lynne Riener), pp. 1–27.
Mumford, Louis (1968). The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects. Harvest Books, NY.
Murphey, Rhoads (1957). New Capitals of Asia, // Economic Development and Cultural Change, vol. 5, no. 3 (April), pp. 216–243.
Nedrebø, Tore (2012). City-belt Europe or Imperial Europe? Stein Rokkan and European History // Europæus norvegicus, 30. mars 2012 (originally published in Nervegian at Nytt Norsk Tidsskrift, no. 3, 2012).
Nwafor, J.C. (1980). The relocation of Nigeria’s Federal Capital: A device for greater territorial integration and national unity // Geo-Journal, vol. 4, no. 4, pp. 359–366.
Nagel, Klaus-Jürgen (2011). Capital cities of federations. On the way to analysing the normative base of their asymmetrical status (working paper). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.
Nagel, Klaus-Jurgen (2011). Der Status der Bundeshauptstädte: Plädoyer für eine vergleichende Hauptstadtforschung, Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (ed.). Jahrbuch des Föderalismus 2011. Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, pp. 57–66.
NCC (National Capital Commission) (2000). Planning Canada’s Capital Region. Ottawa: National Capital Commission.
Nieuwkoop, Renger von (2012). City Size and City Growth, Lecture, November 2, Department of Management, Technology and Economics, ETH Zurich.
Neue Zürcher Zeitung (2002). Russland heimliche Hauptstadt. Neue Debatten um den alten Status St. Petersburgs, 5. März. Neal, Zachary (2011). Differentiating Centrality and Power in the World
City Network // Urban Studies, vol. 48, no. 13. Ortega y Gasset, José (1967). La redención de las provincias y La decencia nacional. Articulos de 1927 y 1930. Madrid: Alianza. Ovason, David (2002). The Secret Architecture of Our Nation’s Capital: The Masons and the Building of Washington, D.C.Harper: NY.
Pacione, Michael (2002). The City in Global Context. Routledge: London & NY.
Parkinson, John (2012). Symbolic Representation in Public Space: Capital Cities, Presence and Memory, Democracy and Public Space. Oxford: Oxford University Press.
Pingree, David (1989). Classical and Byzantine Astrology in Sassanian Persia // Dumbarton Oaks Papers, vol. 43, pp. 227–239.
Pipes, Daniel. (2001). The Muslim Claim to Jerusalem // Middle East Quarterly, September.
Poliszuk, Joseph (2004). Ciudad Libertad // El Nacional, Jueves 29 de Julio.
Preecharush, Dulyapak (2009). Naypyidaw. The New Capital of Burma. Bangkok: White Lotus.
Przeworski, Adam; Michael E.Alvarez, Jose Antonio Cheibub, Fernando Limongi (2000). Adam Przeworski. ed. Democracy and Development; Political Institutions and Well-Being in the World, 1950–1990. New York: Cambridge University Press.
Prakoso, Hananto (2012). Moving capital city to improve transport conditions? The Case of Jakarta // Colloque international La fabrique du movement, Paris, 26–27 Mars.
Perception Survey on Quality of Life in European Cities. Analytical Report (2009). Conducted by the Gallup Organization, Hungary, for European Commission.
Perrot, Jean (1998). Birth of a City: Susa // Capital city: urban planning and spiritual dimensions. Jerusalem: Bible Lands Museum.
Pinto, Christian (2007). Riddles in Stone: The Secret Architecture of Washington D.C. (USA, 2007).
Potts, Deborah (1985). Capital Relocation in Africa: The Case of Lilongwe in Malawi // Geographical Journal, vol. 151, no. 2, 182–196.
Proudfoot, Peter (1994). Secret Plan of Canberra: Masonic Architecture of Australia’s Capital. University of New South Wales Press.
Raafat, Hassan (2008). UAE to Get New Capital, The National, Apr 17 www. thenationalae/article/20090311/NATIONAL/786098729/1010
Radović, Srđan (2008). From Center to Periphery and Vice Versa: The Politics of Toponyms in the Transitional Capital // Bulletin of the Institute of Ethnography, 56 (2), pp. 53–74.
Rawat, Rajiv (2006). Capital City Relocation: Global-Local Perspectives in the Search for an Alternative Modernity // Annual Meeting of the Association of American Geographers. Chicago, Illinois, March 8.
Reichart, Thomas (1993). Städte ohne Wettbewerb. Bern: Haupt.
Remington, T. (2011). The Politics of Inequality in Russia. Cambridge: Cambridge University Press.
Remington, T. (2011). Russian Regional Inequality in Comparative Perspective, Paper prepared for Benjamin F. Shambaugh Conference // Lessons from Subnational Comparative Politics: Theory and Method in the Third Decade of Studying Russia’s Regions. University of Iowa October 6–9, 2011.
Richardson, H.W. (1981). National Urban Development Strategies in Developing Countries // Urban Studies, 18, pp. 267–283. Richardson, H.W. (2003). The Location and Relocation of National
and State Capitals in North America and the Rest of the World// The International Symposium on a Planning Policy for Korea’s New Capital City. Seoul: Korea Planners Association.
Ringrose, David (1998). Capital Cities, Urbanization and Modernization in Early Modern Europe // Journal of Urban History, vol. 24 (2), January, pp. 155–183.
Ringrose, David (1983). Madrid and Spanish Economy. 1560–1850. University of California Press, Berkeley.
Röber, Manfred & Schröter, Eckhard (2004). Governing the Capital – Comparing Institutional Reform in Berlin, London, and Paris, Working Paper PRI-8.
Robertson, James (2001). Stuart London and the Idea of a Royal Capital City // Renaissance Studies, vol 15, № 1, pp. 37–58.
Rokkan, Stein (1999). State Formation, Nation-Building, and Mass Politics in Europe / Ed. by Peter Florida.Oxford: Oxford University Press.
Rokkan, Stein (1973). Building State and Nation/Ed. by Stein Rokkan and Shmuel Eisenstadt. Sage, 1973.
Rokkan, Stein (1976). Dimensions of State Formation and Nation Building: A Possible Paradigm for Research on Variations Within Europe // Charles Tilly (ed.). The Formation of National States in Europe. Princeton: Princeton University Press.
Rokkan, Stein (1980). Territories, Centers and Peripheries: Toward a Geoethnic, Geoeconomic, Geopolitical Model of Differentiation Within Western Europe // Jean Gottman (ed.). Centre and Periphery. Spatial Variations in Politics. Sage: Beverly Hills.
Rowland, Daniel (1996). Moscow – The Third Rome or New Israel // Russian Review, vol. 55, no. 4, pp. 591–614.
Ruble, Blair (1990). Leningrad. Shaping a Soviet City. Berkeley: University of California Press.
Sakyi, Kwesi Atta (2011). Does Ghana need a new capital city? GhanaWeb, Oct 21.
Sassen, Saskia (2011). Cities in a world economy. Thousand Oaks, Calif.: Pine Forge Press, 2011, updated 4th ed.
Shatkin, Gavin (2005–2006). Colonial Capital, Modernist Capital, Global Capital: The Changing Political Symbolism of Urban Space in Metro Manila, The Philippines//Pacific Affairs, vol.78, no. 4.
Siegenthaler, Peter (1999). Japanese Domestic Tourism and the Search for National Identity // The CUHK Journal for Humanities, no. 3, pp. 178–195.
Schatz, Edward (2003). What Capital Cities Say About State and Nation Building // Nationalism and Ethnic Politics, 9 (4), pp. 111–140. Schlögel, Karl (1988). Jenseits des Grossen Oktober, Das Laboratorium der Moderne, Petersburg 1909–1921. Berlin: Siedler. Sellers, Jeffrey (2005). Re-Placing the Nation, An Agenda for Comparative Urban Politics//Urban Affairs Review, vol.40, pp. 419–445. Shevryev, A. (2003). The Axis Petersburg – Moscow: Outward and Inward Russian Capitals // Journal of Urban History, 30 (1), pp. 70–84. Shrestha, Hari (2011). Nepal Needs New Capital City: With Reference to Some Capital Cities Transfer//American Chronicle, October 1. Simsir, Bilal (2007). Ankara: The Republic’s Capital – to be or not to be! // The Guide Ankara Magazine, 192078 Slack, Enid & Chattopadhyay, Rupak (2009). Finance and Governance of Capital Cities in Federal Systems. Montreal: McGill-Queen’s University Press. Smith, Anthony D. (1995). Nations and Nationalism in a Global Era. Cambridge: Polity Press. Stratfor (2000). A Shift in Asia as Mongolia Stirs//Global Intelligence Update, May 19. Tarling, Nicholas (ed.) (1999). Cambridge History of South-East Asia. Cambridge: Cambridge University Press. The Telegraph (2011). Afghanistan: New Kabul to be built north of war torn capital, Apr 1. Therborn, Göran & Bekker, Simon (eds.) (2011). African Capital Cities. Power and powerlessness. Cape Town and Dakar: HSRC Press.
Theborn, Göran & Ho, Kong Chong (eds.) (2009). Capital Cities and their contested roles in the life of nations // City, vol. 13 (1).
Therborn, Göran (2008). Identity and Capital Cities: European Nation and European Union//The Search for a European Identity: Values, Policies and Legitimacy of the European Union / ed. by Furio Cerutti & Sonia Lucarelli. NY: Routledge.
Therborn, Göran. (2002). Monumental Europe. The National Years. On the Iconography of European Capital Cities//Housing Theory and Society, no. 1.
Therborn, Göran (2006). Eastern Drama. Capitals of Eastern Europe, 1830s–2006: An Introductory Overview // International Review of Sociology – Revue.
Internationale de Sociologie, 16 (2), pp. 209–242. Tilly, Charles (1992). Violence, Capital and European States. 990–1992. Cambridge: Cambridge University Press. Tocqueville, Alexis de (1856). The Old Regime and the Revolution. NY: Harper & Brothers. Toynbee, Arnold (1970). Capital Cities: Their Distinctive Features and Capital Cities: Melting-Pots and Powder-Kegs // Cities on the Move. pp. 67–78, 143–152. NY and London: Oxford University Press. Toynbee, Arnold (1987). A Study of History. Abridgement of Volumes vII–X by D.C.Somervell. NY and Oxford: Oxford University Press. Tyrwhitt, J. & Gottmann, Jean (eds.) (1983). Capital Cities // Ekistics, 50, March/Aprial. Oslo, Warsaw, Rome, Tokyo, and Washington, D.C. Turchin, Peter (2009). A Theory for Formation of Large Empires//Journal of Global History, vol. 4, issue 2 (July), pp. 191–217. http:// -A-Turchin5.pdf Turner, Sidney & Turner, Richard (2011). Capital Cities: a Special Case in
Urban Development, Annals of Regional Science, 46, pp. 19–35. UNESCO World Heritage Sites List. 2012. Capital Cities and Tombs of the Ancient Koguryo Kingdom, / list/1135 Vale, Lawrence (1992). Architecture, Power, and National Identity. Yale: Yale University Press. Van Damme, Stéphane (2005). Paris, capitale philosophique de la Fronde à la Révolution. Paris: Odile Jacob. Van Damme, Stéphane (2007). How to produce local knowledge in an European Capital? The territorialization of Science in Paris from Descartes to Rousseau // Les Dossiers du Grihl.
Vedder, Richard (1996). Capital Crimes, Political Centers and Parasite Economies // Cato Policy Analysis, no. 250, Feb. Vogel, Ronald K. (2001). Decentralization and Urban Governance: Reforming Tokyo Metropolitan Government//Blair A.Ruble, Richard E.Stren,Joseph S.Tulchin (eds.). Urban Governance Around the World. Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars, pp. 114–148. Vries, Jan de (1984). European Urbanization, 1500–1800. London: Methuen. Vries, Jan de (2002). Great Expectations: Early Modern History and the Social Sciences // Testing the Limits of Braudel’s Meditteranean / Ed. by John Marino. Truman State University Press. Yoon, Hong-Key (2006). The Culture of Fengshui in Korea: An Exploration of East Asian Geomancy. Lanham: Lexington Books, 332 p. Xu Shanji and Xu Shanshu (1969). Dili-Renzixuzhi (地理人子知). Hsinchu: Chulin Shu-chu. Yahye, Mahamud (2005). Move the Capital from Mogadishu? Wardheernews.com, May 30. Wagenaar, Michiel (2001). The Capital as a Representation of a Nation // Gertjan Dijkink and Hans Knippenberg (eds.). The Territorial Factor: Political Geography in a Globalizing World. Amsterdam: Vossiuspers. Wagenaar Michiel (2000). Townscapes of Power // GeoJournal, 51, pp. 1–2. Weber, Max (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology. Berkeley: California University Press. Originally published in 1925. Wellhofer, E. S. (1989). Core and Periphery: Territorial Dimensions in Politics // Urban Studies 26, 340–355. Westenholz, Joan G. (ed.) (1996). Royal Cities of the Biblical World. Jerusalem: Muzeon artsot ha-Miḳra.
Westenholz, Joan G. (ed.) (1998). Capital Cities: Urban Planning and Spiritual Dimensions. Jerusalem: Bible Lands Museum:. Wheatley, Paul (1971). The Pivot of the Four Quarters: a preliminary enquiry into the origins and character of the ancient Chinese city. Chicago: Aldine Publishing House. Wheatley, Paul & See, Thomas (1978). From Court to Capital: A Tentative Interpretation of the Origins of the Japanese Urban Tradition // Journal of the Royal Asiatic Society, vol. 111, issue 2, pp. 181–200.
World Bank (2005). From Transition to Development. A Country Economic Memorandum for the Russian Federation, Report No. 32308-RU, March.
Williams, Richard (2005). Modernist Civic Space and the Case of Brasília // Journal of Urban History, vol. 32, no. 1, 120–137.
Wise, Michael. Capital Dilemma. Germany’s Search for a New Architecture of Democracy. Princeton Architectural Press.
Wise, Michael (2002). A Capital of Europe?//New York Times, March 2.
Wolfel, R. L. (2002). North to Astana: Nationalistic Motives for the Movement of the Kazakh Capital // Nationalities Papers, 30 (3), pp. 485–506.
Wusten, Herman van der (2001). Dictators and Their Capital Cities: Moscow and Berlin in the 1930s // Geojournal 52, no. 4, pp. 331–352.
Zimmerman, Horst (2010). Do Different Types of capital cities make a difference for economic dynamism? // Environment and Planning C: Government and Policy, vol. 28, pp. 761–767.
Zurga, Guillermo (2011). Cambio de Capital: Una solución estratosférica, Analitica.com, 1 de agosto.
Аверьянов Ю. Москва – национальный центр русского народа // Российский этнограф. 1993. № 3. (отредактировано в 2011 г. для сайта Западная Русь 08.09.2011).
Аксаков К.С. Значение столицы (1856).
Алимбекова Г. Отношение астанчан и алматинцев к переносу столицы: результаты социологического исследования, ХХ век: переносы столиц, 4 июля 2008 года. Астана: Елорда, 2008. Ата-Мекен, Перенос столицы Кыргызстана в Ош невозможен и неэффективен – эксперты, 9.07.2010.
Ахметжанова Г., Спанов М. От Пекина до Астаны: история переносов столиц. Астана: Институт развития Казахстана, 2001. Бауман З. Национальное государство: что дальше? // Отечественные записки. 2002. № 6. Бенлиян А., Мукашев К. Перенос столицы: рациональное предложение или политическая акция? // Вечерний Бишкек. 2010. 16 июля. Бернгарди Фридрих фон. Современная война: Т. 1–2. СПб: В.Березовский, 1912.
Блинкин М. Этиология и патогенез московских пробок. http:// polit.ru/article/2008/01/24/probki/
Буко А., Буко Л. Паранойя, репрессии и наркобизнес в Бирме // Свободная мысль. 2006. 9–10.
Бекус Н., Медеуова К. Смена эпох как смена столиц: Астана как глобальный центр // НЗ. 2011. № 80 (6).
Вильковский М. Символическая география архитектуры городского пространства на примере Вашингтона, Москвы и Санкт-Петербурга // Символическое и архетипическое в культуре и социальных отношениях. Материалы II международной практической конференции 5–6 марта 2012 года. М.: Социосфера, 2012.
Воробьев М. Система пяти столиц чжурчжэней // Доклады отделений и комиссий Географического общества СССР. Вып. 5. Л., 1968.
Вучик Вукан. Транспорт в городах, удобных для жизни. М.: Территория будущего, 2011.
Вучик Вукан. Дорожное движение и городской транспорт в Москве и других российских городах. Письмо профессора-урбаниста, советника министра транспорта США Вукана Вучика в переводе и с предисловием Михаила Блинкина // Полит. ру. 10 дек, 2009.
Габуев А. Формирование региональной идентичности политии в Китае III–II вв. до н. э. (по материалам Ши цзи) // Путь Востока. Культурная, этническая и религиозная идентичность. (Сер. Symposium. Вып. 33). СПб., 2004. C. 71–74.
Герцен А. Россия и Европа// Герцен А. Собр. соч.: в 30 т. Т. 7. М.: Изд-во Академии Наук СССР, 1956.
Глазычев В. Город без границ. М.: Территория будущего, 2012.
Гольц Г. Культура и экономика России за три века, xvIII – ХХ вв. Т. 1. Менталитет, транспорт, информация (прошлое, настоящее, будущее). Новосибирск, 2002.
Е Лун-ли. История государства киданей/пер. В.С.Таскина. М.: Наука, 1979.
Задвернюк Л., Козыренко Н. Миграция столиц в Китае и феномен пустого города // Россия и Китай на дальневосточных рубежах: Сб. науч. ст. Вып. 6. Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2002. С. 154–159.
Масонский город в самом сердце Евразии//Земля. Хроники жизни. 2012. Июнь.
Ибн Халдун. Мукаддима // Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока Ix – xIv вв. /сост. С.Григорян, А.Сагадеев. М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1961.
Исупов К. Диалог столиц в историческом движении // Полития. 2002. № 3. С. 29–67.
Каганов Г. Санкт-Петербург. Образы пространства. М.: ИД Ивана Лимбаха, 2004.
Карапетьянц А. Китайская цивилизация как альтернатива Средиземноморской // Общественные науки и современность. 2000. № 1. С. 132–138.
Карамзин Н. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: Наука, 1991.
Касьянова К. Россия переживает период перехода к национальному государству // О русском национальном характере. М.: Деловая книга, 2003.
Курбатов Г.Л. История Византии. От античности к феодализму. М., 1984.
Лабрюйер Ж. де. Характеры. Ларошфуко Ф. де. Максимы. Паскаль Б. Мысли/пер. Ю.Корнеева, Э.Линецкой. М.: Худож. лит., 1974.
Материалы международной научной конференции ХХ век: переносы столиц, 4 июля 2008 года. Астана: Елорда, 2008.
Мацих Л. Метафизика Северной столицы, лекция в серии Академия на канале Культура. 19 янв, 2011.
Международная научно-практическая конференция Астана: триумф Казахстана и его лидера, 2008, 23.06.
Менделеев Д. К познанию России. М., 2002.
Мечников Л. Цивилизация и великие исторические реки. М.: Прогресс, 1995.
Москва – Петербург: pro et contra. Диалог культур в истории национального самосознания. СПб., 2000.
Моммзен Т. История Рима. Т. 3. От смерти Суллы до битвы при Тапсе/пер. И.Масюкова. М.: ОГИЗ, 1941.
Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств / ред. – сост. А. Лидов. М., 2009.
Нырко В. Город раздора // Совершенно секретно. 2003. 15 янв.
Патраков В. Рождение столиц: от прошлого к будущему. Харьков, 2008.
Петрова В. Продавцы впечатлений // Strana.ru, 28.09.2011.
Плеханов С. Реформатор на троне. М.: Международные отношения, 2003.
Погорельская С. Боннский стиль, берлинский дух//Эксперт. 2011. Июль. № 26 (760).
Полывянный Д.Н. Столицы средневековой Болгарии как модификация традиционной модели//Античный и средневековый город. Тезисы докладов vII Сюзюновских чтений. Севастополь, 1994. С. 20–23.
Поляковская М. Византия. Византийцы. Византинисты. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2003.
Полян П., Нефедова Т., Трейвиш А. (ред.) Город и деревня в европейской России: сто лет перемен. М.: ОГИ, 2001.
Проблемы урбанизации на рубеже веков/отв. ред. А.Г.Махрова. Смоленск: Ойкумена, 2002.
Пряников П. Как сократить Москву на пять миллионов человек. Интервью урбанолога Игоря Бестужева-Лада // Русская жизнь. 2007. 26 окт.
Похлёбкин В.В. Столицы России. История их смены и причина окончательного установления столицы в Москве. М., 1997.
Рогачев С. Найпьидо – новая столица Мьянмы//География. 2008. № 19.
Россман В. Мистерия центра: Идентичность и организация социального пространства в современных и традиционных обществах // Вопросы философии. 2008. № 2. С. 42–57.
Россман В. Перенос столицы России: Схема анализа // Представительная власть. 2010. № 2/3. С. 37–46.
Россман В. В поисках Четвертого Рима. М.: Территория будущего, 2013.
Рубл Блэр. Я не понимаю решения о расширении Москвы // Финансовая газета, 2011. 11 ноября.
Салимпур Мирзои. Душанбе – столица таджиков Мовароуннахра // Радио Одзи, 21.04.2012
Сванидзе А. Средневековый город: вертикаль прогресса // Знание – сила. 1995. № 2.
Светляковский Е.Е., Иллс У.К. Центрографический метод и региональный анализ // География и хозяйство. Вып. 3. Центрографический метод в экономической географии. Л.: Изд-во географического общества СССР, 1989.
Семёнов-Тянь-Шанский П. О могущественном территориальном владении применительно к России. Петроград, 1915.
Семенов-Тян-Шанский В. П. Центр России, его особенности и значение для страны // География и хозяйство. Вып. 3. Центрографический метод в экономической географии. Л.: Изд-во Географического общества СССР, 1989.
Смирнягин Л. Русские в пространстве и пространство русских // Знание – сила. 1995. № 3. С. 73–80.
Смирнягин Л. Культура русского пространства // Космополис. 2002/2003. № 2. С. 50–59.
Смирнягин Л. Путешествия столиц. Историко-географический очерк.
Тархов С.А.Переносы столиц//География. 2007. № 5–6.
Толкователь. Российское государство как кочевник, природный анархист и технократ, 20.08.2012
Тынянова О. Текущая государственная политика и модель России и экстраполяционный прогноз ее среднесрочных результатов в мировых координатах//Научный эксперт. 2011. № 4. С. 36–67.
Успенский Ф.И. История Византийской империи, vI–Ix вв. М.: Мысль, 1996. Федотов Г. Три столицы // Вёрсты. Париж, 1926. № 1. С. 147–163. Хоскинг Дж. Россия: народ и империя (1552–1917). Смоленск: Русич, 2000.
Шакиев В. Центры тяжести страны сходятся в Башкортостане. Интервью руководителя Федеральной службы государственной статистики Башкортостана Акрама Ганиева//Республика Башкортостан. 2005. № 187.
Шлегель К. Постигая Москву. Город как книга. М.: РОССПЭН, 2010.
Шмелев Н., Федоров В. России нужна новая столица. Москва должна уйти в отставку и тем помочь сохранению государственной целостности // Независимая газета. 2012. 4 апр.
Цымбурский В. Остров Россия. Геополитические и хронополитические работы. 1993–2006 (М., 2007). (незащищенная докторская диссертация Морфология российской геополитики.)
Цымбурский В.Л. Зауральский Петербург: альтернатива для российской цивилизации // Бизнес и политика. 1995. № 1.
Эджмиацинский Мамикон. Двенадцать столиц древней Армении.
Институт экономической политики имени Егора Тимуровича Гайдара – крупнейший российский научно-исследовательский и учебно-методический центр.
Институт экономической политики был учрежден Академией народного хозяйства в 1990 году. С 1992 по 2009 год был известен как Институт экономики переходного периода, бессменным руководителем которого был Е. Т. Гайдар.
В 2010 году по инициативе коллектива в соответствии с Указом Президента РФ от 14 мая 2010 г. № 601 институт вернулся к исходному наименованию, и ему было присвоено имя Е.Т.Гайдара.
Издательство Института Гайдара основано в 2010 году. Задачей издательства является публикация отечественных и зарубежных исследований в области экономических, социальных и гуманитарных наук, трудов классиков и современников.
На фотографиях Марселя Готеро, сделанных в конце 1950‑х – начале 1960‑х запечатлено строительство Бразилии, города‑мечты, будто появляющегося из ничего, как мираж в пустыне. Cтроительство здания Конгресса.
Бразилиа. Кафедральный собор, достроенный в 1970 году. Архитектор Оскар Нимейер.
Астана. Фотографии Виктора Борисова.
Круглая площадь и здание «КазМунайГаз». Сквозь арку проглядывает развлекательный комплекс Хан Шатыр (Ханский шатер).
Водно‑Зеленый бульвар (пешеходная эспланада). По центру виден монумент «Байтерек» (высота 97 метров, наверху есть смотровая площадка). Высотное здание слева – «Темiр Жолы» (Управление железной дороги Республики Казахстан). Высотки справа – ЖК «Северное сияние» (высота 32, 37 и 42 этажа).
Резиденция Президента «Ак‑Орда». Высота здания вместе со шпилем составляет 80 м. Справа на горизонте – Дворец мира и согласия.
Левое крыло Дома Министерств (золотая башня). По центру – Парламентский комплекс.
Первоначальный план Канберры американского архитектора и дизайнера Уолтера Гриффина.
Претория (ЮАР). Здание Союза (Union Buildings) на холмах исторического района Аркадия построено в 1913 году архитектором Гербертом Бейкером. В здании расположены официальная резиденция президента ЮАР, правительство Южной Африки и Министерство иностранных дел. Слова «Здание» (The Building) и «Аркадия» (Arcadi) стали синонимами слов «правительство» и «государственная власть».
Нейпидьйо, новая столица Мьянмы.
Столица Федеративной Республики Нигерия Абуджа была спроектирована известным градостроителем, японским архитектором Кендза Танге. Планировка и реконструкция города заняли пятнадцать лет. Абуджа стала столицей Нигерии 12 декабря 1991 года. На снимке Нигерийская Национальная Мечеть в Абудже.
Планируется, что новая столица Судана, Джуба, будет построена в форме носорога на новом месте. Запланированная форма города.
Скромное обаяние старых столиц. Кайфын.
Городские районы Путраджайи, расположенные на берегу искусственного озера. Studio Nicoletti. Архитекторы Манфреди и Лука Николетти.
Исламабад. Пакистанский монумент (англ. Pakistan Monument) – национальный мемориал в историческом центре Исламабада в форме цветка, лепестки которого символизируют собой четыре провинции и три территории государства. Построен по проекту пакистанского архитектора Арифа Масуда. Памятник был торжественно открыт 23 марта 2007 года на площади Шакарпариан.
Лилонгве, новая столица Малави.
Новый Кабул (Dehsabz City). Генеральный план Нового Кабула, рассчитанный на 15 лет и утвержденный кабинетом министров в 2009 году, предусматривает три фазы имплементации этого проекта. Намечается, что первая его фаза, которая обойдется в 34 миллиарда долларов (с участием государственного и частного капитала), завершится к 2015 году. Проект финансируется японскими инвесторами.
План города Халифа, новой столицы Обьединенных Арабских Эмиратов. Конституция 1971 года предусматривала строительство новой столицы Аль Карамы для Обьединенных Арабских Эмиратов на границе между эмиратами Абу Даби и Дубай. Этот город должен был стать столицей Федерации Арабских Эмиратов: первоначально предполагалось, что в нее войдут также Бахрейн и Катар. Город так и не был построен, и в 1996 году официальной столицей Обьединенных Арабских Эмиратов стал город Абу Даби. В 2008 году было обьявлено о начале строительства нового столичного округа в районе города Халифа, в 20 километрах от Абу Даби. Предполагается, что к 2030 году население столицы достигнет 3 миллионов человек.
Карта Лярош Гуйон. Согласно планам французских технократов в городе Лярош Гуйон должна была разместиться «французская Бразилиа», новая административная столица Франции. Лярош Гуйон находится в 100 километрах на северо‑запад от Парижа. В 1960 году население города составляло 565 человек.
Примечания
Филадельфия, Пенсильвания (5 сентября, 1774-12 декабря, 1776; 4 марта, 1777-18 сентября, 1777; 27 июля, 1778-21 июня, 1783; б декабря, 1790-14 мая, 1800); Балтимор, Мэриленд (20 декабря, 1776-27 февраля, 1777); Ланкастер, Пенсильвания (27 сентября, 1777 [один день]); Йорк, Пенсильвания (30 сентября, 1777-2 июня, 1778); Принстон, Нью Джерси (30 июня, 1783-4 ноября, 1783); Аннаполис, Мэриленд (26 ноября, 1783– 19 августа, 1784); Трентон, Нью Джерси (1 ноября, 1784-24 декабря, 1784); Нью-Йорк, Нью-Йорк (п января, 1785-5 декабря, 1790) и Вашингтон, округ Колумбия (с 17 ноября, 1800).
Термин аспациальность был предложен российским географом Леонидом Смирнягиным для обозначения «ослабленной реакции на пространство» в России, обусловившей слабость в том числе региональных идентичностей (Смирнягин, 1995, 2002).
В случае Голландии такая необычная ситуация объясняется замороженным компромиссом эпохи противостояния Оранской династии, резиденция которой традиционно располагалась в Гааге как королевской столице государства, и амстердамского патрициата, сконцентрированного в самом богатом и экономически развитом городе страны.
Клаузевиц, в частности, писал: «Не всегда существует необходимость завоевания всей территории противника. В случае захвата Парижа в 1792 году война против Революции почти наверняка была бы выиграна. В 1814 году, напротив, даже захват Парижа не решил бы дела, если бы у Бонапарта оставалась достаточно большая армия. Но поскольку его армия была уничтожена, захват Парижа разрешил проблему и в 1814 году, и вновь в 1815» (Landau-Wells, 2008: 15).
1. В эпоху Западная Хань в Китае существовала концепция «пяти городов» (у-ду), которые представляли пять крупнейших городов страны помимо самой столицы и, вероятно, соответствовали пяти первоэлементам в китайской натурфилософии (Лоян, Ханьдан, Линьц-зы, Вань и Чэнду). В эпоху Тан существовала концепция трех столиц (Н|$), в число которых, помимо Чанъани (Западная столица), входили Лоян (Восточная столица) и Тайюань (Северная столица). Концепция трех столиц получила хождение также в период раздробленности Китая в эпоху Троецарствия. Классическая «Ода трем столицам» китайского поэта Цзо Сы (250–305) как раз повествует о трех столицах этого периода (столицах Шу, У и Вэй) как о воплощениях определенных моральных принципов. Она, в свою очередь, опирается на увещевательную и нравоучительную традицию видения столиц государства (в данном случае крупнейших городов страны) как моральных принципов в стихах знаменитого ученого и поэта эпохи Хань Чжан Хэна (77-139), а также на «Оду о двух столицах» известного ханьского историка Бань Гу (32–92). Чжан Хэн повествует о декадентско-расточительной, традиционалистской и спокойной столицах Хань в трех одах – одах Западной, Восточной и Южной – столицам (имеются в виду Чанъань, Лоян и Наньян). Американский синолог Марк Льюис отмечает, что развитие жанра прославления нескольких столиц представляет собой отход от более древней традиции прославления одной совершенной императорской столицы (Lewis, 2006: 235–238, 181, 192). В более поздний период эта древняя традиция восстанавливается, например в «Оде о славной столице», посвященной Цзянькану (Нанкину), цзиньского поэта Юй Чана (ум. в 339). Для позднейших периодов китайской истории, особенно для минской эпохи, характерна определенная двустоличность (Пекин и Нанкин). См. таблицу 6.
2. В «Истории государства киданей» (Циданъго чжи)пять столиц описываются следующим образом: «Столица Яньцзин – три финансовых ведомства; Западная столица – управление начальника перевозок; Средняя столица – счетно-финансовое ведомство; Верхняя столица – управление по делам соли и железа; Восточная столица – управление по делам денег и железа при финансовом ведомстве» (Е Лун-ли, 1979, гл. 22). Государство Бохай (698–926) включало в себя территории современного Приморского края, Приамурье, Северную Корею, а также большую часть Северо-Восточного Китая (Маньчжурию).
Робертсон замечает, что уже тогда была в ходу поговорка: о птице судят по ее гнезду (Robertson, 2001: 38).
Вопреки внешней аналогии, Александрия, основанная Александром Македонским, не имелась в виду в качестве новой столицы Греции подобно столицам древних восточных государств, названных по имени их царственных основателей, – городу Пер-Рамсесу, столице Древнего Египта, построенному фараоном Рамсесом II, или столицам Армении – Артаксату, построенному царем Артаксом, или Тигранакерту, построенному Тиграном Великим. Жан Готтман, французский географ, пишет о попытке построения общей столицы для греческих городов-государств, которая предпринималась фиванским генералом и пифагорейцем Эпаминондом (410–362 до н. э.). Он приступил к строительству новой столицы федерации греческих городов-государств – Мегалополиса (Большого города) – в Аркадии в Южной Греции, но его планам по объединению Греции не суждено было осуществиться (Gottman, 1985: 67).
Уместность и важность анализа в данном контексте Священной Римской империи, которую некоторые авторы до сих пор ошибочно рассматривают как эфемерное или фиктивное образование, не игравшее существенной роли в решении политических судеб Европы, определяется ее ролью своего рода федеративного образования, которое продолжает оказывать влияние или даже формировать политические процессы в Европе задолго после своей официальной гибели. Такие инерционные оценки, во многом созвучные известной формуле Вольтера, остроумной, но вряд ли верной (она не была ни Священной, ни Римской и ни империей), во многом опираются на клишированное представление об империях как чрезвычайно жестких политических образованиях. Многие современные историки рассматривают Священную Римскую империю как черновик и прообраз Евросоюза, считая линию и миссию Австро-Венгрии в европейской и международной политике и дипломатии прямым продолжением миссии Священной Римской империи (Nedreb0, 2012). Брюссель, находящийся недалеко от Аахена, продолжает эту линию и во многом ориентирован на ее ценности.
Подробный обзор азиатских сакральных столиц можно найти в статье Франка Кейтинга (Keiting, 1994). Интересная дискуссия сакральных столиц Индонезии и индуистских сакральных столиц в целом представлена в книге известного антрополога Клиффорда Гирца (Geertz, 1973: 223–230).
Возвышение конкретных номов и городов, куда переносились столичные функции, сопровождалось возвышением их религиозных культов. Гелиополь был известен своим культом бога Ра, Мемфис – бога Птаха, Фивы – культом Амона, Ахетатон – Атона. Тесная сопряженность политической власти с религиозными культами свидетельствует о более тесной связи религии и государства в Египте по сравнению с государствами Месопотамии.
В своей книге Бродель противопоставляет характер урбанизма в Египте и в Месопотамии. Если в последней города были достаточно автономны и больше ориентированы на торговлю, то в Египте города были по преимуществу религиозными центрами, что отчасти объясняется тупиковым географическим положением Египта и, напротив, большей рыночной открытостью государств Месопотамии, лежавших на торговых путях. Хозяйство Египта было по преимуществу сельским, а потому, пишет французский историк, главный его городской потенциал сосредоточился в столичных городах, которые контролировались храмами и жрецами. Напротив, в Месопотамии хозяйство было гораздо сильнее связано с коммерческой деятельностью; здесь даже складывается своеобразный городской патриотизм, который мы видим, например, в эпосе о Гильгамеше. Этими различиями определялась, по мнению Броделя, более высокая динамика месопотамской экономики и цивилизации и ее более высокое разнообразие (Braudel, 2001: 66–69). Интересно заметить, что внутри Месопотамии южная ее часть, Вавилония, располагала более густой и разветвленной сетью городов (Eisenstadt, 1986: 186–188).
Экономисты выделяют три типа религиозных рынков, которые подразделяются на монополистические и немонополистические, которые, в свою очередь, могут характеризоваться совершенной или несовершенной конкуренцией. Примером совершенной конкуренции на религиозном рынке выступает организация религий в США. Примером несовершенной конкуренции являются религиозные рынки, например, в описанных союзах племен (Iannaccone, Haight, Rubin, 2011).
Подобно императорам Священной Римской империи персидские шахи часто перемещались по разным городам государства. Лето царь царей, как правило, проводил в своей горной резиденции в Экбатане. Несколько месяцев в году он жил в окрестностях целебного источника в Сузах. Иногда останавливался в Вавилоне, самом большом городе Древнего Востока. Но Новый год он неизменно встречал в Персеполе (Парсе). Это был центр религиозного культа, связанный, прежде всего, с храмом Ормузда и ритуалами праздника Нового года. Интересно, что Персеполь был изъят из экономической жизни страны и находился на каменистой равнине, в бесплодной местности, которая зависела от поставок продовольствия из других регионов (Perrot, 1998). Хотя Персеполь по этому параметру был похож на отчужденные политические столицы, которые мы обсудим в главе специально посвященной этому типу столиц, роль его была скорее ритуальной, чем политической.
Вероятно, является ошибочной идентификация сакральной столицы с городом Хаоцзин, которая присутствует в некоторых статьях (Задвернюк, Козыренко, 2002). Хронология китайских столиц представлена в таблице б.
Некоторые аспекты византийского урбанизма и столичности более подробно обсуждаются в книге «В поисках Четвертого Рима» (Россман, 2013), где речь идет о новостоличных дебатах в России.
Эта тема более подробно освещается в книге: Clark, Peter; Lepetit, Bernard.
Capital Cities and Their Hinterlands in Early Modern Europe. Cambridge:
Scholar Press, 1996.
Национальная идентичность делает государства более эффективными в качестве «машин войны» и менее уязвимыми для врагов и внутренних переворотов. Если в древних государствах падение столиц как центров власти обычно означало поражение в войне, в новых государствах, особенно европейских, концепция гражданства делала государства более устойчивыми и падение их столиц с гораздо меньшей вероятностью означало поражение в войне.
В Общественном договоре Руссо призывает к более строгому различению понятий гражданина и горожанина, сетуя на то, что различия между ними оказались стертыми. Руссо ссылается здесь на книгу французского политического философа Жана Бодена (1529–1596), где тот, описывая политическое устройство Женевы, приписывал горожанам большие права, чем гражданам и рассматривал город (ville) в качестве гражданской общины. Руссо обращает внимание, прежде всего, на нормативное содержание понятия гражданина, а именно на тот аспект существования народа, который связан с «участием в верховной власти». Руссо, Ж.-Ж. Общественный договор (глава б).
Так характеризует этот процесс известный израильский социолог Шмуэль Айзенштадт (Eisenstadt, 1987: 178).
Историки отмечают, что в случае Европы, описанном Рокканом, трудно говорить о каком-то строго определенном торговом пути, который проходил через пояс городов и сформировал его (Nedreb0, Тоге, 2012). Кроме того, само устройство пояса городов достаточно аморфно и с трудом поддается геометрическому описанию.
Вебер указывал на пять основных составляющих города: укрепления, рынки, относительно автономный суд, специфически городские формы ассоциаций, по крайней мере частичная автономия самого города по отношению к государству. По мнению Вебера, такая констелляция факторов присутствовала только в европейских государствах. Главной чертой города он считал наличие городского сообщества (Weber, 1978: 1226). В тех неевропейских цивилизациях, где урбанизм и рынок были чрезвычайно развиты и где капиллярная сеть мелких и средних городов также достигала высокой степени густоты, они тем не менее не обладали функцией самоуправления и городские формы хозяйства и социального взаимодействия подчинялись родственным и клановым императивам (Grief & Tabellini, 2010: 4–5).
Историки связывают пребывание столицы Китая на границе со степью с необходимостью контроля над армией и генералами, которые в противном случае могли совершить государственный переворот и взять власть в стране.
В своем более позднем сочинении Тойнби выделяет уже четыре причины переноса столиц: престиж (Рим), географическое удобство (Константинополь), стратегические соображения (Петербург и Пекин), предотвращение конфликта различных составляющих групп (Toynbee, 1970). Эти мотивы представляются не совсем точными и логически неадекватными описаниями тех стратегий, о которых мы поговорим ниже.
В своей информативной и прекрасно аргументированной работе Даниэль Пайпс, американский историк и эксперт по ближневосточным делам, обращает внимание на преимущественно политическую ангажированность идеи Иерусалима в арабской истории, где нарратив религиозной важности этого города фабриковался или подверстывался под политические амбиции арабских правителей. Так он указывает на циклы подъема интереса к Иерусалиму в рамках политических планов различных арабских династий (Омейяды рассматривали возможность перенесения сюда своего политического центра) и спад или полное отсутствие интереса к нему в периоды политического затишья, когда город под властью мусульман приходил в запустение и упадок. Иерусалим ни разу не упоминается ни в Коране, ни в мусульманских молитвах и не играет никакой роли в земной жизни Мухаммада. Религиозные страсти по Иерусалиму разгорались в мусульманском мире всякий раз в контексте возрастания его политической значимости – в эпоху Омейядов, в ходе противостояния крестоносцам, во время британского мандата и израильской «оккупации». Так в эпоху Омейядов в ходе противостояния мятежникам, базой которых была Мекка, были предприняты попытки противопоставить Сирию Аравии и прославить Иерусалим, сделав его сирийским аналогом Мекки (Pipes, 2001).
Многие историки приписывают действиям Али также идеалистические или идеологические мотивы – попытки оградить Мекку и Медину от разлагающих политических и космополитических влияний, желание сохранить в неприкосновенности язык и жизненный уклад периода пророка Мухаммеда. Придание политического статуса этим городам согласно этой интерпретации неизбежно подорвало бы их статус святых городов и купели ислама. Мотив лояльности, однако, кажется гораздо более правдоподобным. Известно, что население Мекки и Медины не поддерживали Али в его военном противостоянии оппозиции. Интересно отметить, что, вероятно, следуя Али, ни один из последующих аббасидских халифов не решился использовать Мекку и Медину для политических целей (Carmichael, J. The Shaping of the Arabs (NY: 1967): 194)..
Отсроченным результатом крушения голландской колониальной системы, господство которой концентрировалось в Батавии (нынешняя Джакарта), кажутся и текущее дискуссии о смене столицы Индонезии.
Китайское население Куала-Лумпура достигало 90 %. Китайское население Батавии (колониальное название Джакарты) – 20–25 %, а если исключить из расчетов рабов, то около 50 %. Китайское население Манилы уже в середине XVIII века составляло около 40000 человек (Tarling, N-: 1999: 4–5).
В конце XVII века при Алексее Михайловиче Россия проводит широкомасштабную никоновскую религиозную реформу, вероятно в том числе и для того, чтобы более эффективно претендовать на роль наследника Византийской империи, приемлемого для греков и других православных народов. Два славянских балканских народа – болгары и сербы – на более ранних периодах своей истории также претендовали на наследие Византии, считая свои столицы восприемниками статуса Третьего Рима и конкурируя за византийское наследие с Россией и Австро-Венгрией.
Pitithawatchai, Wimonpan. «Eke Kasat Tai Ratthathamanoon» (Королевская власть в условиях конституции). Bangkok, 1985.
Эта формула имитирует известный китайский лозунг, который был выдвинут в связи с интеграцией Гонконга – «одна страна – два строя».
Другой целью Османа было построение именно национального французского города. К чести Османа и его босса, надо сказать, что в их Париже не было заметно никаких следов или даже намеков на культ Наполеона Третьего. По своей архитектуре это была типичная буржуазнонациональная столица.
Классическим примером «эффекта блокировки» является ситуация с расположением клавиш на печатной машинке. Первая система клавиш была изобретена в 1860-х годах и хотя с тех пор были предложены гораздо более оптимальные и повышающие скорость печатания системы расположения клавиш, мы по-прежнему продолжаем использовать старую систему. Существует множество других примеров эффекта блокировки доминирующей технологии, разблокирование которых требует настолько высоких дополнительных инвестиций времени, усилий и привыкания, что от новых технологий часто надолго отказываются (другим подобным примером здесь может служить также переход от VCR к DVD технологиям, который растянулся на 30 лет).
Известно, что большое значение при создании новых столиц в этих странах придавалось астрологическим прогнозам, и основание города было обычно приурочено к определенным астрологическим датам. Например, наиболее авторитетные астрологи своего времени участвовали в основании Константинополя и Багдада. В случае Багдада были адаптированы идеи персидской астрологии эпохи Сасанидов. Персидский астролог ан-Наубахт и еврейский астролог Машаллах ибн Асари в 762 году построили специальную астрологическую карту города и руководили измерениями при основании Багдада, который был заложен 30 июля. Masha’allah, Book of Nativities, translated by Robert Hand (Berkeley Springs: Golden Hind Press, 1994). Известно, что, когда император Константин решил основать свой город Константинополь, он консультировался у астролога, который посоветовал ему заложить камень в стену основания будущего города «в час Краба» 26 ноября 326 года н. э. О таких соответствиях между конкретным местом и знаком планеты, а также об «управителях часа» для конкретного места писал Аль-Бируни. Наиболее благоприятным для создания новой столицы считался момент «великого соединения Юпитера и Сатурна» (Pingree, David. 1989).
В какой мере сосредоточение функций в одном городе (например, соединение экономических и политических функций) благоприятно сказывается на национальной экономике государства? Какие причины приводят или способствуют подобному сочетанию функций? Каковы его социальные и политические импликации? Существуют ли вариации этих импликаций в зависимости от степени и стадии экономического развития, а также размера территории государства? Можно ли и в каком смысле можно говорить об оптимальных размерах столицы с точки зрения развития национальной экономики и ее динамики?
Для этих расчетов ученые использовали индекс Гастила (Gastil Index), который служит международной мерой политических прав и ежегодно публикуется м еж дун ар о д н ы м и агентствами. В выборке американских ученых были представлены крупнейшие города 88 стран, из которых уу одновременно были еще и столицами (Ades, Glaeser, 1995:195–196, 203–211).
В строгом смысле моноцефальность предполагает, что более 20 % всего городского населения государства живет в одном из городов страны.
Критика его модели со стороны представителей «старой» школы экономической географии и экономик развития представлена, например, в работе Эндрю Иссермана (Isserman, 1995).
Некоторые экономисты считают, что федеративность сама является следствием полицентричности урбанистической системы.
Концепция деревни на Капитолийском холме во многом вдохновлялась и специфическими антиурбанистическими идеалами Томаса Джефферсона и его видением Соединенных Штатов как аграрной страны, власть в которой должна быть сосредоточена в руках правительств штатов, а не в руках центрального правительства. Небольшая деревня в качестве столицы казалась ему в наибольшей степени соответствующей такому пасторальному духу страны. Город, напротив, ассоциировался в его представлениях с нищетой и неравенством, наиболее характерными для европейских столиц его времени.
Подъем Москвы, города, который до этого не играл заметной роли в русской истории и заметно уступал в престиже старинным русским княжествам, в качестве новой столицы также во многом определил апелляции к экстранациональным символам и даже особой историософии. Представляя себя то в качестве Нового Иерусалима, то в качестве Третьего Рима, Москва пыталась создать дополнительные легитимации для своего статуса нового национального центра (Кудрявцев, 2007).
Приматность, глобальность и столичность являются различными и автономными характеристиками города. Существуют приматные города (особенно в небольших государствах), которые не являются глобальными городами. Многие глобальные города не являются столицами.
Одесса была третьим по величине и по значимости городом Российской империи. Именно через Одесский порт вывозилась большая часть зерна, главная статья русского экспорта. Петербургский порт занимал только третье место по вывозу пшеницы (после Лиепаи). Миронов Б.Н. Экспорт русского хлеба во второй половине XVIII – начале XIX века//Исторические записки. 1974. Т. 93. С. 169. Табл. 9. См. также: Хутор. 1906. № 5. С. 376–386.

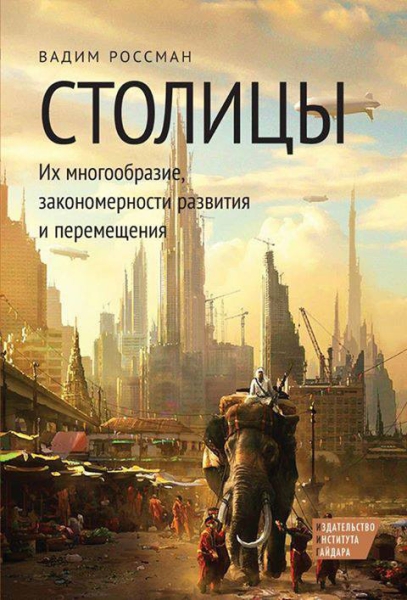

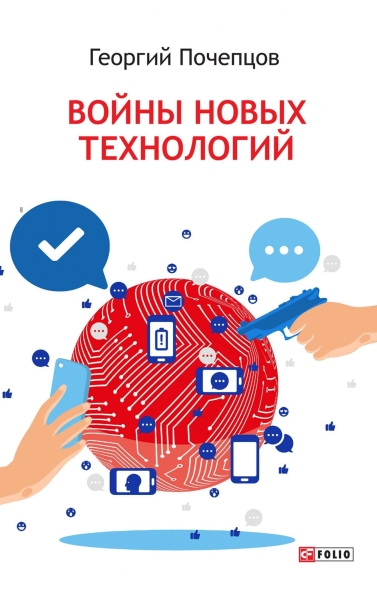
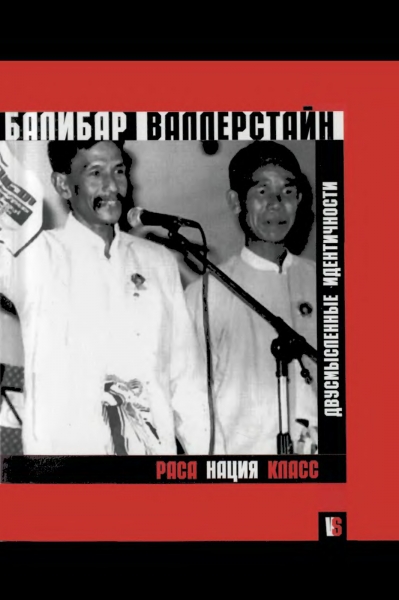
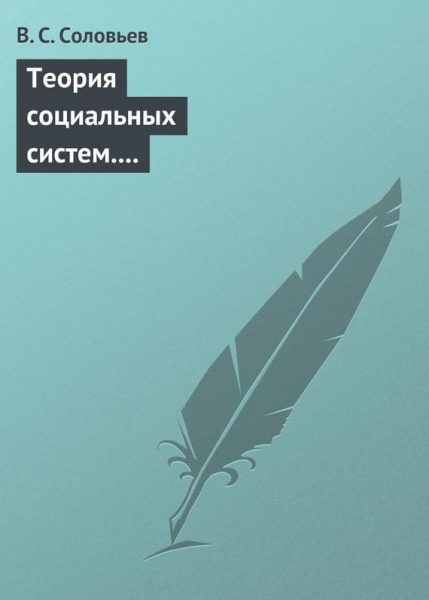
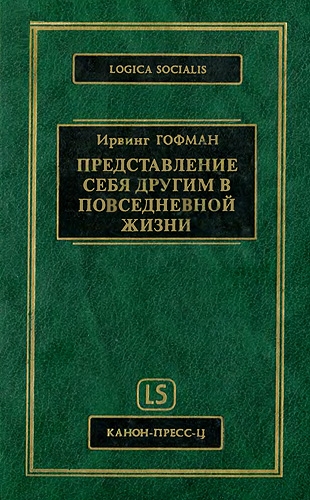
Комментарии к книге «Столицы. Их многообразие, закономерности развития и перемещения», Вадим Россман
Всего 0 комментариев