Для чтения книги купите её на ЛитРес
Реклама. ООО ЛИТРЕС, ИНН 7719571260, erid: 2VfnxyNkZrY
Нина Минаева Потаенные конституции России
Нина Васильевна Минаева
1929 – 2009
ПРЕДИСЛОВИЕ
Идеи сильной центральной власти и политического единства евразийской равнины пришли на Русь от монголов. Эти идеи были востребованы в московский период нашей истории, когда надо было мобилизовать все силы народа на защиту обширного, редко населенного пространства на западных, южных и восточных рубежах.
Однако сильная власть московских царей отнюдь не была неограниченной. Во-первых, наряду со светской властью царя стояла церковная власть патриарха и его нравственный авторитет. Во-вторых, для решения важных политических вопросов царь созывал «совет всея земли». Хотя это и было совещательное собрание, царь его рекомендациям следовал. И, в-третьих, значительной степенью самоуправления обладали местные миры, городские и сельские общества, церковные приходы. Они сыграли решающую роль в период междуцарствия ив 1612 г. добились прекращения смуты. Полгода «совет всея земли» заседал практически непрерывно, страна стала как бы республикой со столицей в Ярославле. Москва была взята, и в 1613 г. состоялись выборы нового царя, начавшего династию Романовых.
Реформы Петра Великого, во многом необходимые, нарушили равновесие властей Московской Руси. Патриаршество было отменено, соборы всея земли более не собирались, местное самоуправление зачахло под грузом административных поручений центральной власти. Петр объявил царскую власть неограниченной. В этот момент и восторжествовал в России абсолютизм.
И естественно, что вскоре начались попытки его ограничения, т. е. поиски конституции. Конституция – это основной закон страны, который ограничивает верховную власть, обеспечивает права граждан и определяет структуру главных учреждений государства. От других законов конституция, помимо ее содержания, отличается порядком ее принятия, затрудняющим ее изменения.
Поисками конституции в России занималась и сама царская власть, и ее противники. Ни те, ни другие проекты в свое время, в условиях цензуры, не публиковались, чтобы «не колебать устои». Отсюда и заглавие этой книги – «Потаенные конституции России». В книге описано 11 конституционных проектов (не обязательно отработанных текстов) с 1762 по 1881 г. Сюда входят и два проекта Александра I, и два проекта декабристов, и проект М.Т. Лорис-Меликова, окончательно утвержденный Александром II утром того дня, когда его убили террористы.
Вторая половина XVIII века и XIX век – время, когда в России сильно было влияние идей европейского Просвещения, и конституционные проекты отражают это влияние. Это же было и временем становления современной русской культуры, и конституционные проекты стали неотъемлемой частью этой культуры, хотя тоже и мерой ее неисполненных возможностей.
Как известно, реальную конституцию Российская империя обрела после царского манифеста 17 октября 1905 г. в виде Основных законов от 23 апреля 1906 г. Но в отличие от 1821 или 1881 г., когда конституция могла быть дарована царем по его собственной воле, Манифест 17 октября был у него вырван под дулом всеобщей забастовки в революцию 1905 г. Государственная Дума первых двух созывов оказалась не способной сотрудничать с правительством, и потребовалось изменение избирательного закона в июне 1907 г., чтобы добиться работоспособной Думы. Последовавший затем конституционный период империи до Первой мировой войны стал во многом ее самым успешным периодом. Но под покровом достигнутого в 1905–1907 гг. компромисса скрытое противостояние власти и оппозиции сохранилось. Оно вышло наружу после военных неудач 1915 г. Конфликт между царем и «Прогрессивным блоком» в Государственной Думе привел в итоге к падению монархии 2-го (15 н.с.) марта 1917 г. Царь, очутившись в полном одиночестве, не нашел должностных лиц, способных прекратить уличные беспорядки в Петрограде, а пришедший после его отречения к власти «Прогрессивный блок» не справился с управлением страной.
Само по себе падение монархии в России не было событием из ряда вон выходящим: в то же десятилетие пали монархии в Китае, Австро-Венгрии, Германии и Турции. Во всех этих странах, как и в России, революционные требования можно свести к двум: гражданского равноправия и правления с согласия управляемых. Но в России произошло событие действительно из ряда вон выходящее – Октябрьский переворот. Он именно эти два требования отверг. В результате Россия получила каскад четырех советских «антиконституций». В первой, 1918 г., сказано:
«§ 9. Основная задача <…> Конституции <…> заключается в установлении диктатуры городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде мощной Всероссийской Советской власти в целях полного подавления буржуазии и водворения социализма».
Провозглашается не только неограниченная диктатура, но и деление общества на два класса, один из которых господствует, а другой подлежит подавлению. Конституция 1924 г. в Декларации о создании Союза ССР отмечает, что этот Союз «открыт всем социалистическим республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем <…> и послужит решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику».
Таким образом, СССР уже не Россия, а зачаток мирового социалистического правительства.
Сталинская Конституция 1936 г. исходила из того, что в СССР больше нет антагонистических классов: все вроде бы равноправны и согласно ст. 125 обладают обычным набором гражданских свобод, однако с оговоркой: «В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя».
А кто решает, что в интересах укрепления строя, а что нет? Ответ в следующей ст. 126, где сказано, что Коммунистическая партия представляет собой «руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных».
Основное отличие брежневской Конституции 1977 г. от сталинской в том, что слова о «руководящей и направляющей роли КПСС» перенесены из 126-й в 6-ю статью. Когда после попытки путча 19 августа 1991 г. деятельность компартии была прекращена, стало очевидно, что ее роль в советской конституции действительно была ключевой. Без нее Верховный Совет, с его широкими и неопределенными полномочиями («Вся власть Советам!»), оказался без руля и без ветрил, способным делать что угодно: играть и административную и судебную роль, смещать президента и менять конституцию. Отмена советской системы стала насущно необходимой, и 12 декабря 1993 г. Россия обрела, наконец, современную конституцию, следующую канонам государственного права.
Пока шла Гражданская война и на занятой красными территории действовала Конституция 1918 г., на территории, занятой белыми, продолжали действовать Основные законы 1906 г. Оттуда, в частности, взят титул А.В. Колчака – Верховный правитель. Расчет был на то, что после победы над большевиками Национальное собрание примет новую конституцию. Победа тогда не состоялась, но устройство свободной России после советской власти продолжало занимать умы. Проект конституции новой России предложил Карел Крамарж – первый премьер Чехословацкой Республики, инициатор «русской акции», давшей бывшим участникам белых армий возможность получить в Чехословакии высшее образование. Политические программы для будущей России, не претендующие быть проектами конституции, писались в эмиграции до, во время и после Второй мировой войны. Из таких документов военного времени наиболее известна «Схема Национально-Трудового Строя» (96 с.), писавшаяся в 1942 г. совместно эмигрантами и советскими гражданами и изданная типографским способом при православном монастыре в Ладомирово, в Словакии, в 1944 г. Для большинства жителей Советского Союза этот и подобные документы тоже остались потаенными. Их анализ – отдельная тема, выходящая далеко за рамки настоящего труда. Но один из таких документов военных лет мы все же приводим в виде 12-й главы по двум причинам: во-первых, он до сих пор нигде не публиковался. И, во-вторых, его автор, Василий Васильевич Минаев – отец автора этой книги.
Б.С. Пушкарев
1. Тайная конституция Н.И. Панина – Д.И. Фонвизина (1762–1783 гг.)
Екатерина Великая пришла на русский престол, используя конституционную идею. Именно от начала ее царствования ведет свой исток русская конституционная мысль. Одним из условий возведения ее на престол братьями Орловыми и группой вельмож во главе с графом Никитой Паниным была своеобразная Конституция 1762 г., предусматривающая определенное ограничение абсолютной власти будущей императрицы и статус регентши при законном монархе – малолетнем наследнике Павле Петровиче.
Екатерина и ее фавориты Орловы пренебрегли этим условием, поддержав ее, как абсолютную монархиню. Но на ограничении самодержавной власти императрицы продолжал настаивать всю свою жизнь выдающийся государственный деятель – граф Никита Иванович Панин.
Автор первой потаенной конституции, Н.И. Панин заслуживает особой характеристики как основатель русской конституционной идеи.
Он родился в Данциге 18 сентября 1718 г. в родовитой дворянской семье. Его отец – генерал-поручик Иван Васильевич Панин – сенатор при Анне Иоанновне. Мать Никиты Ивановича – Аграфена Васильевна Эверлакова – племянница князя А. Д. Меншикова. Брат – Петр Иванович Панин – генерал-аншеф, сумевший поймать и пленить Пугачева.
История первой конституции неразрывно связана с биографией Н.И. Панина. Он начал службу вахмистром конной гвардии при Анне Иоанновне, быстро завоевал авторитет как независимо судящий человек. А при императрице Елизавете Петровне своими независимыми суждениями стал раздражать любимца императрицы – канцлера А.П. Бестужева-Рюмина. И Панина поторопились услать за границу, на дипломатическую службу. Сначала он получил пост русского посланника в Дании, где пробыл с 1747 по 1749 г.
В чине камергера он был переведен в Швецию, где занимал пост русского посланника в течение 12 лет. В Шведском Королевстве, увлекшись изучением политической системы этого государства, Панин стал поклонником конституционной монархии, где власть шведского короля ограничена Императорским советом из нескольких влиятельных вельмож. Сблизившись с королевским домом, он стал участником придворной масонской ложи и разделял устав шведской масонской системы. Он одним из первых русских масонов, вслед за Иваном Перфильевичем Елагиным (сторонником масонства по английской системе), познакомился с главной книгой масонов «Книга конституций» Д. Андерсона, изданной еще в 1723 г. В этой книге были собраны все руководящие нравственные идеи европейского масонства, где уставы масонских лож назывались «конституциями».
Таким образом, идея ограничения королевской власти или вообще власти монарха связывалась с принципом Просвещения о нравственности и обязанности монарха делиться своей, неограниченной до того, властью с советниками, которые, руководствуясь масонскими принципами самоусовершенствования, должны стать мудрыми и нравственными советниками монарха.
Европейски образованный вельможа, однако, вскоре понадобился на родине. Назначенный императрицей Елизаветой Петровной воспитателем цесаревича Павла Петровича, Панин вынужден был вернуться в Россию, где в высших кругах общества было распространено масонство по английской системе.
Английское масонство восходит к истории династии Стюартов. Лондонская ложа – родоначальница русских масонских лож, основателем которых стал статс-секретарь Екатерины II И.П. Елагин. Эта масонская система также оказала влияние на политические настроения Панина. К этому моменту у него сложился ясный план конституционного преобразования абсолютной монархии в России по шведскому образцу. Цесаревич Петр Федорович не внушал уверенности в возможности править в Российской империи. И еще при жизни императрицы Елизаветы Петровны ее фаворит Иван Шувалов начал тайные переговоры с Паниным. А с момента воцарения императора Петра III Шувалов и Панин начали разрабатывать план об отстранении законного монарха Петра III и последующей передачи власти его наследнику великому князю Павлу Петровичу при регентстве его матери великой княгини Екатерины Алексеевны. В то время введенная в этот заговор Екатерина соглашалась на такое развитие событий. Она признавалась датскому посланнику в Петербурге барону Остену: «Предпочитаю быть матерью императора, а не супругой!»
Однако в ходе переворота в июне 1762 г. победила партия Орловых, которые поддерживали Екатерину в ее самых амбициозных намерениях. Они настояли на провозглашении ее абсолютной монархиней, облеченной неограниченной властью. Но пособничество Панина в заговоре не прошло даром. В манифесте о воцарении Екатерины по настоянию Панина было введено положение об «узаконении особых государственных установлений» – это было обещание императрицы ввести в России «твердые законы», т. е. конституцию. Автором подготавливаемой конституции выступил Никита Панин. Сама идея ее была навеяна масонскими документами. Тайна, которой окутан первый политический проект Панина, объясняется принадлежностью самого автора к масонскому движению. Первый конституционный проект Панин представил Екатерине еще в 1762 г. В основу его положен принцип государственного устройства Королевства Швеции, где власть монарха периодически ограничивалась представительным риксдагом.
Доклад графа Н.И. Панина, представленный Екатерине II вместе с текстом соответствующего манифеста, опубликован в Сборнике Императорского русского исторического общества – РИО (СПб., 1871. Т. VII. С. 200–221).
Кроме того, С.М. Соловьев рассмотрел этот проект в книге «Императорские советы в России в XVIII – перв. пол. XIX в.» (Пг., 1916. С. 67).
По конституционному проекту 1762 г. Панин предлагал создать Императорский совет из шести-восьми советников, при нем четыре статс-секретаря или министра для наблюдения за четырьмя департаментами: иностранных дел, внутренних дел, военного и морского департамента. Точку зрения Панина разделяла группа придворных: А.П. Бестужев-Рюмин, кн. Я.П. Шаховской, гр. М.И. Воронцов, Н.В. Репнин, Екатерина Дашкова, А.Г. Разумовский. Однако в ходе бурного обсуждения проекта Екатерина разорвала уже скрепленный ее подписью документ и бросила список его сторонников в огонь. Но идея конституции была заронена в сознание хотя и узкого круга, но образованного общества.
Следующая редакция Конституции Панина относится к 1773–1774 гг., когда наследник русского престола Павел Петрович достиг совершеннолетия, и вновь встал вопрос о передаче власти законному наследнику. К работе над этой редакцией был привлечен Д.И. Фонвизин, начавший сотрудничать с Паниным еще со времени совместной их работы в Уложенной комиссии в 1767–1769 гг.
Фонвизиным к основному проекту было написано обширное введение – «Рассуждение о непременных государственных законах». В основу этой редакции конституционного проекта положен проект 1762 г. Полностью редакция 1773–1774 гг. не сохранилась. Она была сожжена во время налета полиции, преследующей масонов, в доме брата Дениса Фонвизина – Павла Ивановича, в то время директора Московского университета. Удалось спасти лишь введение – «Рассуждение о непременных государственных законах», которое незаметно вынес младший из братьев Фонвизиных – Александр Иванович. Оно и сохранилось в библиотеке младшего Фонвизина и стало известно его сыновьям – будущим декабристам Михаилу и Ивану Александровичам Фонвизиным.
«Рассуждение…» основано на широкой просветительской аргументации и свидетельствует о разделении и Паниным, и Фонвизиным принципов французского Просвещения: главенства закона, разделения властей и др.
В проекте 1773–1774 гг. появился новый постулат по сравнению с предшествующей редакцией: все возрастающая роль дворянства как опоры государства. Этот принцип заимствован у Ш.Л. Монтескье. Императорский совет в этой редакции заменялся Верховным Сенатом, часть несменяемых членов которого назначалась «от короны», а другая избиралась «от дворянства» – Дворянскими собраниями в губерниях и уездах. Сенату же передавалась полнота законодательной власти.
Эволюция взглядов Панина прослеживается и дальше. Во второй половине 1770-х гг. Панин читает и постигает труд Л.-К. Сен-Мартена «О заблуждениях и истине», вышедший в свет в 1775 г. Сен-Мартен развенчивал просветительскую теорию естественного права, обосновывал новый взгляд на необходимость корректировки политических курсов государств, вступивших в полосу кризисов феодальных монархий. В этом отношении Сен-Мартен был предшественником Луи Габриэля Бональда и Жозефа де Местра – идеологов легитимизма, т. е. теории, обосновывавшей обновленную монархию в постфеодальном обществе. Эта теория особенно распространилась после Французской революции в странах, где еще сохранялся монархический режим.
Граф Панин добился большого, почти абсолютного влияния на наследника престола – великого князя Павла Петровича, который воспитывался в конституционном духе и большом уважении к масонству.
Свои идеи Панин воплотил в третьей редакции Конституции, где в наиболее полном виде выражены его искания.
Третья редакция Конституции Панина – Фонвизина датируется 1783 г. Хотя полного текста этого документа также не сохранилось, в архивах найдены две записки, написанные рукой великого князя Павла Петровича под диктовку умирающего учителя – графа Панина в ходе последнего их свидания. Это своеобразное «Завещание» Панина.
Одна из записок имеет заголовок «Рассуждение вечера 28 марта 1783 года». Это текст конституции, продиктованный Паниным своему воспитаннику. Он открывается положением о главной функции государства, обязанного обеспечить безопасность своим подданным. Далее развивается положение о разделении властей: законодательная власть отделена от власти, законы хранящей и исполнительной. Законодательная может быть в руках Государя, но с согласия государства; власть, законы хранящая – в руках всей нации; исполнительная – «под Государем».
В третьей редакции Конституции Никиты Панина повторяется мысль о роли дворянства, которое должно участвовать в государственной власти через Сенат и министерства.
Вторая записка посвящена министерской структуре и утверждению нового закона о престолонаследовании с «предпочтением мужской персоны». Этой второй запиской Панин убеждал наследника Павла Петровича в его законных претензиях на русский престол.
Сопоставляя содержание этих двух записок, написанных Павлом по следам последнего разговора со своим учителем, можно считать их последующей, третьей редакцией Конституции Панина – Фонвизина. Поиски полного текста этой третьей тайной конституции уводят в царский дворец (РГАДА. Ф. 1. Д. 57. Бумаги Павла Петровича).
После убийства 11 марта 1801 г. ставшего императором Павла I его сын – новый император Александр I случайно обнаружил в его письменном бюро потайной ящик, где находились «важные документы». Издатель «Русской старины» М.И. Семевский нашел подтверждение этому факту: «Все бумаги Павла Петровича, – писал он, – после его насильственной смерти перепуганный сын его, ставший императором Александром I, поручил разобрать другу Павла Петровича князю Александру Борисовичу Куракину. Сам молодой царь обнаружил “собственную шкатулку” своего отца, наткнувшись на потайной ящик письменного бюро» (Семевский М.И. Материалы к русской истории XVIII века // Вестник Европы. 1867. Март. Год второй. Т. 1. С. 301).
Куракин собственноручно снял копию с этих документов и «озаботился оставлением у себя еще одной копии». Еще при жизни Павла I в дом Куракина в качестве секретаря был приглашен Михаил Михайлович Сперанский. Его внимание и необыкновенная тщательность в работе привели к тому, что Сперанский познакомился с «бумагами Павла Петровича». Оттуда, по всей видимости, ведут свои начала идеи будущего великого реформатора о примате закона, принципе разделения властей и, наконец, об ограничении самодержавия в России.
Никита Иванович Панин задолго до революции во Франции с интересом изучал политические системы Западной Европы. Его внимание привлекли представительные органы власти в Великобритании, Швеции, Дании, Польше.
С октября 1763 г. Панину было поручено заведование Коллегией иностранных дел. Он слыл знатоком международной политики Европы. В течение двадцати лет Панин руководил российским внешнеполитическим ведомством. Он фактически стоял над вице-канцлером князем А.М. Голицыным.
Панину пришлось разрабатывать новую внешнеполитическую доктрину России, предусматривающую активную роль России после Семилетней войны и отражающую защиту национальных интересы России на Европейском континенте. В феврале 1764 г. он представил Екатерине II доктрину так называемого Северного аккорда.
В дальнейшем М. Корф поддержал и развил мысль графа Панина: «нельзя ли на Севере составить знатный и сильный союз держав против держав Бурбонского союза?» Дело усугублялось тем, что к этому времени сложился и укрепился союз южноевропейских государств: Франции, Австрии и Испании, основанный на общих религиозных, династических и политических связях. Панин стремился мирным дипломатическим путем усилить роль России на Европейском континенте: «…поставить Россию способом общего северного союза на такой ступени, чтобы она, как в общих делах, знатную часть руководства имела. Так особливо на севере тишину и покой нерушимо сохранять могла» (Цит. по кн.: Чечулин Н.Д. Внешняя политика России в начале царствования Екатерины II. СПб., 1896. С. 23).
Панину принадлежит идея пригласить в Северный союз Пруссию, Данию, Швецию и Польшу, в трех последних державах время от времени возобновляли работу представительные органы власти. Размышлял Панин и об Англии, чей парламентарный строй был ему наиболее близок. Признавая недостаточное влияние России в европейском мире, Панин рассматривал доктрину «Северного аккорда» скорее как средство, которое можно использовать в дипломатии. Французский посланник в Петербурге М.-Д. Буре де Корберон отмечал особые черты Панина-дипломата: «Величавый по манере держаться, ласковый, честный против иностранцев, которых очаровывал при первом знакомстве, он не знал слова “нет”, но исполнения его редко следовали за его обещаниями, и если, по-видимому, сопротивление с его стороны – редкость, то и надежды, возлагаемые на его обещания, ничтожны» (Письмо Корберона от 9 апреля 1778 г. // Лебедев П. Опыт разработки новейшей истории по неизданным источникам. СПб., 1863. С. 48).
Знаток внешней политики Ф.Ф. Мартенс считал проект Панина «доктринерством в политике» (Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. СПб., 1895. Т. VI. С. 39).
В.О. Ключевский признавал достоинства и выгоду заключения «Северного аккорда» для России, но приходил к выводу: «Трудно было действовать вместе государствам, столь разнообразно устроенным, как самодержавная Россия, конституционно-аристократическая Англия, солдатски-монархическая Пруссия, республиканско-анархическая Польша» (Соч. М., 1989. Т. V. С. 39).
Исследователь начала двадцатого века П.А. Александров считает, что Панин позволил Пруссии сделать Россию орудием в защите прусских интересов (Северная система. М., 1914. С. 11).
Наша современница Е.М. Миронова выделяет наиболее существенные шаги по оформлению Союза северных государств: договор с Пруссией – 1764 г., с Данией – в два этапа – в 1766 и 1769 гг., с Польшей – в 1768 и оборонительный союз Великобритании и Швеции – в 1765 г. (Складывание «Северной системы» Н.И. Панина в 60-е гг. XVIII в. // Вестник МГУ. Сер. История. 1999. № 6. С. 41–51).
Однако никто не обратил внимания на то, что «Северный аккорд» складывался параллельно с работой Панина над конституционным проектом. Рассмотрение «Северного аккорда» в контексте главной идеи Панина придает более глубокий смысл всему проекту. В политических системах северных стран в эпоху нарастающего кризиса феодальных монархий автор искал опоры и обоснования своего конституционного замысла.
В канун Французской революции, обнажившей глубокий кризис абсолютной монархии, Панин выступил с настойчивым требованием изменить форму государственного правления в России. Сторонник мирного решения вопроса, он стремился к торжеству закона, к установлению конституционной монархии, показав себя крупной исторической личностью своего времени.
2. Конституция Республики Семи Соединенных Островов (1799 г.)
Влияние Французской революции на все страны Европы было очевидным и поучительным. Екатерина II, отказавшаяся в 1775 г. поддержать Англию в ее борьбе с революцией в восставших североамериканских колониях, теперь вступила в коалицию с Англией и Австрией для борьбы с последствиями революции во Франции. Развернувшаяся уже после ее кончины война России с Францией в 1798–1799 гг. с появлением Наполеона стала еще более решительной.
Новый император Павел I, напуганный революцией во Франции и одновременно не желающий придерживаться внешнеполитического курса Екатерины, прибегнул к противоречивому курсу, который позже А.И. Герцен назвал «деспотическим и революционным». В идеях Павла переплелись, казалось бы, несовместимые идеи: стремление к гегемонии в Европе, служение «общему благу» и попытка борьбы с революционной опасностью. Император Павел воспринимал Наполеона Бонапарта как борца с революцией и позволял себе высказываться в пользу Наполеона в то время, когда Россия в союзе с Англией и Австрией воевала против Франции. В Наполеоне он видел сильную личность и мог утверждать так: «Что касается сближения с Францией, то я бы ничего лучшего не желал, как видеть ее прибегающей ко мне, в особенности, как противовес Австрии» (цит. по кн.: Милютин Д.А. История войны между Россией и Францией в царствование Павла I в 1799 г. СПб., 1852. Т. V. С. 498).
Участвуя во второй антифранцузской коалиции, Россия преследовала свои национальные интересы. Их выразителем стал адмирал Ф.Ф. Ушаков. Блестящий флотоводец и основатель Черноморского флота, он с 1790 г. командовал русской Черноморской флотилией. Ушаков успешно провел военную операцию во время Средиземноморской войны России в 1798–1799 гг. Одержав блистательную победу при острове Корфу в 1798 г., он взял на себя смелость провести на семи островах, освобожденных от французов, административную реформу, которая по существу была конституцией Республики Семи Соединенных Островов (1799 г.), находящихся под протекторатом России и Турции. Это были острова: Корфу, Кефалиния, Закинф, Левкое, Итака, Паксос и Китиру.
Ф.Ф. Ушаков проявил себя как выдающийся мыслитель своего времени. Учитывая современные конституционные веяния как результат разочарования во Французской революции, он, вопреки настояниям турецкого султана Селима III, попытавшегося присоединить острова к Османской империи, провозгласил на островах республиканский строй.
Ушаков разделял либеральные идеи Просвещения, был сторонником «истинной монархии» с ее разделением ветвей власти: законодательная власть отделена от исполнительной и судебной. Он разделял и убеждение Монтескье о том, что географически пространные государства должны сохранить монархию, а малые географические территории могут иметь республиканский строй. Он учитывал настроения местной элиты и исторические традиции. Еще в средние века на горном побережье Адриатики с центром в Дубровнике существовала Дубровницкая Республика, игравшая большую роль в транзитной торговле. Жители семи соединенных островов хранили в благодарной памяти этот исторический опыт, и Ушаков учел их настроения. Вместе с губернатором острова Кефалинии адмиралом графом А. Орно русский адмирал Ушаков составил «Предварительный план управления освобожденными от французов бывшими венецианскими островами». Документ назывался «Временным планом». В нем определялся государственный порядок островов.
Высшим органом власти становились Генеральные советы Семи Островов. В выборах участвовало дворянство и «цензовые второклассные». Из состава Генеральных советов избирался высший орган законодательной власти – Сенат. Сенат ведал финансами, армией и мог вносить изменения в конституцию. Сенат избирался членами Советов Семи Островов. Ежегодно половина состава Сената переизбиралась.
Исполнительная власть находилась в руках президента Сената, избираемого из числа сенаторов на полтора гола.
Нормы представительства в Сенате определялись по количеству избирателей и размеру островов. Корфу, Кефалиния и Закинф, как крупные острова, избирали по три депутата; норма представительства от сословий дворян и «второклассных» определялась также величиной островов.
Судебная власть принадлежала выборным трибуналам.
Ионические острова превращались в конституционную республику. Местное управление получал каждый остров. Все острова объявлялись Централизованным унитарным государством («Временные правила» опубликованы в кн.: Станиславская А.М. Русско-английские отношения и проблема Средиземноморья. 1798–1807. М., 1961. Т. 11. С. 158).
Ушаков предпочитал среднюю линию и равновесие общественных сил во имя «Общего блага». Другой точки зрения придерживался русский посланник в Стамбуле В.С. Томара. Он отстаивал консервативно-аристократический вариант конституции. Противоборство этих двух сановников доказывало, что Федор Федорович Ушаков тонко улавливал изменившийся европейский мир и предложил конституцию, определяющую необходимость частичного приспособления к новому порядку в европейском послереволюционном мире.
Политические права жителей семи соединенных островов определяют первые 30 статей. Активным избирательным правом пользуются: потомственное дворянство и так называемые второклассные, которые имеют определенное имущество и общую веру (православие). Специально было оговорено, что избирательным правом пользуются и те лица, которые преуспели «в науке, художествах и т. д.» и получили чиновное дворянство. Не получали избирательного права те лица, которые занимались «черным трудом», в том числе торговлей.
По предложенной Ушаковым Конституции Республики Семи Соединенных Островов Сенат должен был согласовать этот проект в Петербурге и Константинополе. «Временные правила» не были полностью реализованы. По настоянию Турции они были заменены «Византийской конституцией» 1800 г., восстановившей преобладание дворянства на Ионических островах. Тем не менее, «Временные правила» – Конституция Семи Соединенных Островов 1799 г., предложенная русским адмиралом Федором Федоровичем Ушаковым, имела историческое значение.
Политика Российской империи на Ионических островах значительно усилила влияние этой державы в Средиземноморье, а «Временные правила» положили начало нового внешнеполитического курса России, который вполне открывал «конституционную дипломатию» Российской империи.
Кроме того, Конституция Семи Соединенных Островов продолжила историю русской конституционной мысли.
3. Проект «Всемилостивейшей жалованной грамоты, российскому народу жалуемой» (1801 г.)
Конституционная идея пережила и графа Панина, и «Временные правила» Ионических островов и органически перешла в девятнадцатый век. Она укоренилась в сознании наиболее образованной части общества, имеющей длительные связи с Западной Европой. Выразителями ее стали вельможи графы Воронцовы. Их давние связи с императорской властью давали им право на самостоятельное мнение.
Граф Михаил Илларионович Воронцов (1714–1767) верно служил императрице Елизавете Петровне, стоял за санями, на которых еще цесаревной она въезжала в казармы Преображенского полка в ночь провозглашения ее императрицей. Он выгодно женился на двоюродной сестре императрицы – А.К. Скавронской и в 1744 г. был назначен вице-канцлером, а в 1758 г., когда А.П. Бестужева-Рюмина постигла опала, М.И. Воронцов получил пост канцлера. К новой императрице Екатерине II он отнесся враждебно, что и привело к его отставке с поста канцлера в 1763 г. Его племянники Александр Романович и Семен Романович Воронцовы были тоже оппозиционно настроены по отношению к Екатерине II.
Старший из братьев – Александр Романович (1741–1805) учился в Страсбургском военном училище, бывал в Париже и Мадриде и составил для дяди вице-канцлера описание испанского политического строя. Александр Романович обладал государственным умом, был одним из влиятельных сенаторов, занимал пост президента Камерц-коллегии. А в царствование императора Александра I занимал пост канцлера до своей смерти в 1805 г.
Его брат граф Семен Романович Воронцов (1744–1832) был блестящим военным. Он отличился в битвах при Ларге и Кагуле, много служил по дипломатической части, был полномочным министром в Венеции в 1783 г., в 1785 г. в том же ранге был переведен в Лондон. Он был умен и образован и пользовался большим влиянием, несмотря на разногласия с императрицей Екатериной II. Его положение давало ему преимущества высказывать свои взгляды и обращаться к императрице с политическими записками и предложениями.
Взгляды братьев Воронцовых в канун революции во Франции, в эпоху французского Просвещения, были оппозиционны по отношению к русскому абсолютизму. Имена французских просветителей были знакомы Воронцовым не только по их сочинениям – со многими из них они находились в личном контакте. А.Р. Воронцов был знаком с Вольтером, встречался с ним в 1757 г. при дворе пфальцграфа в Шветцингене, бывал гостем Вольтера в его поместье в Ферне в 1760 г. Вольтеровская библиотека Воронцова – одна из ценнейших в России.
Братья Воронцовы, усвоив некоторые идеи французского Просвещения, возглавили своеобразное русское просветительское течение – вольтерианство. Воронцовы осуждали абсолютизм Людовика XVI и Марии-Антуанетты, но и революцию не могли принять. В «Записке к графу А.А. Безбородко», который был другом Александра Романовича и в то время возглавлял Коллегию иностранных дел, Воронцов летом 1791 г. писал: «Сей перелом во французской конституции и все то, что им опрокинуто, заслуживает особого внимания Государей, дворянства» (Архив князя Воронцова. Т. 2. С. 501).
Отмена революционным правительством феодальных привилегий, сословных преимуществ дворянства и вся цензовая конституция 1791 г. – все эти нововведения Учредительного собрания Франции вызывали у А.Р. Воронцова и его корреспондента А.А. Безбородко отрицательную реакцию. Он выдвигал определенную политическую программу, созвучную тем положениям, которые вошли в «Пильницкую декларацию» 27 августа 1791 г. Этот документ стал свидетельством первой антифранцузской коалиции монархических правительств Австрии и Пруссии.
А.Р. Воронцов призывал канцлера Безбородко содействовать вступлению России в антифранцузскую коалицию. Он обращался с призывом ко всем монархам Европы издать декларацию, направленную против революции во Франции, консолидироваться с венским и иными дворами по охране королевской семьи Людовика XVI, покровительствовать королевской партии и разорвать дипломатические отношения с революционной Францией.
После казни Людовика XVI в январе 1793 г. отрицательная оценка Французской революции приобретает у Воронцова категорический тон. «Лучше быть соседями антропофагов, чем ужасной Французской республики… Лучше жить в Марокко, чем в этой стране мнимого равенства и свободы», – восклицал другой Воронцов – граф Семен Романович.
Их политическая программа исходила из полного отрицания революции как метода общественного преобразования. Но они и не желали сохранения старого режима абсолютной монархии. Их позиция не была чисто аристократической или олигархической. Свидетельством того может служить отношение графа Александра Романовича к своему сотруднику по Камерц-коллегии и Петербургской таможне Александру Николаевичу Радищеву. И это отношение во многом проясняет политическую позицию Воронцовых.
В фамильном собрании Воронцовых сохранилось большое количество рукописей Радищева. Это несомненное свидетельство близкого сотрудничества демократа Радищева и аристократа Александра Воронцова. Некоторые из автографов Радищева имеют следы правки и замечаний его патрона и покровителя графа Воронцова. Многолетняя переписка этих двух незаурядных личностей, не прерывавшаяся даже в годы гонений на «политического преступника» Радищева, – свидетельство человеческих отношений и нравственных норм той эпохи.
Александр Николаевич Радищев, изучавший историю, филологию и право в Лейпцигском университете, воспитанный на просветительской философии К. Гельвеция, Вольтера, Д. Дидро, Жан-Жака Руссо и Г. Мабли, был одним из самых образованных людей своего времени. Он вернулся на родину в 1771 г. Служба в Первом департаменте Сената скоро пробудила в нем критические настроения. Этот общественный протест особенно возрос после восстания Пугачева, свидетелем которого стал Радищев. В это время он занимал должность дивизионного прокурора в штабе девятой финляндской дивизии. Через его руки проходили дела беглых рекрутов, штрафных прокуроров. Перед ним открывалась бездна безысходной солдатчины, отупляющий ужас карательных экспедиций против народных движений. Выход в отставку стал неизбежным шагом в дальнейшей его судьбе.
С 1776 г. Радищев – чиновник Камерц-коллегии, председателем которой был граф Воронцов. Изучение экономической жизни страны, торговли ее с соседними государствами расширили экономические познания Радищева. Многочисленные поездки по стране открыли перед ним истинную картину состояния крепостного населения. Служебные отчеты читаются теперь как обличительные памфлеты. Радищев поднимает голос в защиту тех, кто «по принуждению должен оставить навсегда может быть дом свой… жену, детей и расстаться со всем тем, что делает приятности общественного сожития и узы крепит общества…» (Проект Радищева о податях, 1786–1788).
В этом вполне легальном служебном документе, поданном в Камерц-коллегию своему начальнику А.Р. Воронцову, обличаются и «прихоти начальства», и «местные правила». В дальнейшем сила его обличения разовьется до масштабов обличения всей государственной системы Российской империи. До призыва к уничтожению тирана-самодержца. Вершиной общественно-политической программы Радищева явилось его знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву». Над этим сочинением, которое сам Радищев считал «главным вопросом своей жизни», он работал с 1783 по 1790 г.
1783 годом датируется ода «Вольность», частично вошедшая в «Путешествие…»:
Когда Радищев был осужден как политический преступник, А.Р. Воронцов выразил к нему симпатию и сочувствие. В письме к брату в Лондон он писал Семену Романовичу Воронцову: «Я не знаю ничего более тяжелого, как потерять друга, в особенности, когда не распространяешь широко свои связи… Я только что потерял, правда, в гражданском смысле, человека, пользовавшегося уважением двора и обладавшего наилучшими способностями для государственной службы. Его предполагалось назначить вместо г-на Даля, и на этом поприще его помощь мне была велика. Это господин Радищев; Вы несколько раз видели его у меня, но я не уверен, что вы хорошо знали друг друга. Кроме того, он исключительно замкнут последние семь или восемь лет. Я не думаю, чтобы его можно было бы заменить; это очень печально. Не был ли он вовлечен в какую-то организацию? Но что меня, однако, более всего удивило, когда случившееся с ним событие стало широко известно, это то, что я в течение долгого времени считал его умеренным, трезвым и абсолютно ни в чем не заинтересованным, хорошим сыном и превосходным гражданином… он только что выпустил книгу под названием “Путешествие из Петербурга в Москву”. Это произведение якобы имело тон Мирабо и всех бешеных Франции» (ЦГАДА. Ф. 1261. Оп. 3. Д. 43. Лл. 432–435).
Всю ссылку Радищева сопровождали письма к нему графа А.Р. Воронцова. Он писал к губернаторам всех городов, через которые ссыльный Радищев следовал, желая облегчить его участь. Граф Воронцов взял под опеку малолетних сыновей Радищева и вел переписку об этом с братом Радищева Моисеем Николаевичем. История отношений Радищева с графом Воронцовым не ограничивается лишь личными контактами, но обнаруживает и определенную идейную связь.
Среди бумаг Радищева за 1790 г. в архиве А.Р. Воронцова имеется документ под названием «Вопросные пункты коллежскому советнику и кавалеру Радищеву». Самого сочинения крамольного Радищева в архиве Воронцова нет, но известно, что сочинение «Путешествие из Петербурга в Москву» Воронцов хорошо знал. Представляет интерес сохранившийся в рукописном собрании A.P. Воронцова «Разбор книги “Путешествие из Петербурга в Москву”», сделанный императрицей Екатериной II. Можно вполне допустить, что «Разбор» был важен для владельца не только как средство защиты Радищева, но и как материал для нападок на императрицу
Несколько страниц сочинения Радищева посвящено зверскому обращению помещиков со своими крепостными. Императрица замечает: «Суетное умствование». Воронцов возражает здесь же на страницах рукописи: «Он был царь. Скажи, в чьей голове может быть больше несообразности, если не в царской!» (Архив ЛОИИ. Ф. 36. Л. 67).
Одним из сочинений Радищева, написанных после ссылки, был «Проект гражданского уложения». В редактировании его участвовал А.Р. Воронцов. Сенатор вполне одобряет красноречивую формулировку защиты свободы личности в «Проекте гражданского уложения», заимствованную из английского законодательного акта «Habeas corpus act». Этот важнейший правовой акт английского законодательства XVI в., определяющий защиту свободы личности, позже вошел во «Всемилостивейшую жалованную грамоту, российскому народу жалуемую». Одна из статей этого документа гласила: «если человек арестован и ему не будет предъявлено обвинение в течение трех дней, он должен быть освобожден из-под стражи». Это положение о защите свободы личности – краеугольное в европейском законодательстве. Его введение во «Всемилостивейшую грамоту» отражало близость Воронцова и Радищева по ряду правовых вопросов.
Но были вопросы, которые никогда бы не сделали этих двух людей единомышленниками. Вопрос о помещичьей собственности на землю, о движимом и недвижимом имуществе приобретает для Воронцова особую остроту. Именно здесь проходит та грань, которая разделяет Воронцова и Радищева. В своих пометках на полях радищевских параграфов: «О правах вещественных, об имуществах и владении»; «О правах собственности», «О приобретении имений, переходящих в распоряжение на случай смерти» Воронцов – крупнейший землевладелец России – предостерегает Радищева от слишком широкого толкования права займа для всех социальных категорий. Он предлагает Радищеву уточнение в праве «подарка» и поднимает голос в защиту наследственного права на помещичью собственность. «Чтобы лишить наследства, – замечает он на полях радищевского «Проекта», – должны быть вполне важные причины».
Однако уважение, которое Воронцов испытывал к демократу Радищеву, проявилось в уникальном памятнике конституционной мысли самого начала XIX в. – «Всемилостивейшей жалованной грамоте». Вопрос о причастности Радищева к работе над этим документом, принадлежащим перу сенатора Александра Романовича Воронцова, до сих пор дискуссируется.
Этика того времени вполне допускала, что за блестящими формулировками графа Н.И. Панина мог скрываться скромный секретарь Денис Фонвизин; за проектами сенатора Воронцова – чиновники Радищев или Сперанский. Круг приближенных царя исключал внимание к кому бы то ни было, стоящему за тем или другим политическим проектом. Имя же Радищева вообще не могло быть упомянуто. Он только что был возвращен из ссылки, занимал небольшую должность и стоял на слишком низкой ступени иерархической лестницы.
«Всемилостивейшая жалованная грамота» – один из первых документов, содержащих идею представительного правления. Задуманный как Манифест на воцарение Александра I, этот документ претерпел сложную историю, так и не был принят официально и остался в Государственном архиве. Он составлялся сенатором графом А.Р. Воронцовым еще до воцарения императора Александра I. Причастность А.Н. Радищева к авторству этого документа доказывается сопоставлением его с текстом «Путешествия из Петербурга в Москву» и более поздним его сочинением – «Описанием моего владения».
По всей видимости, Воронцов поручил Радищеву разработку статей «Грамоты» о крестьянской собственности. Параграф 25 утверждает «право частной собственности, упраздняя деление имущества на родовое и благоприобретенное», т. е. помещичья собственность заменяется частной.
Сохранилось три редакции «Всемилостивейшей грамоты». Основным ее автором был граф Александр Романович Воронцов, который подготовил ее к 23 апреля 1801 г. как Манифест на воцарение Александра I. Эта редакция имела 26 параграфов. На заседании Негласного комитета краткий вариант «Грамоты» под названием «Articles» обсуждался 23 июля 1801 г. Окончательный текст «Грамоты», представленный Воронцовым императору Александру 113 августа 1801 г., имел уже 28 параграфов и был дополнен положениями о Сенате, заимствованными из новой записки Воронцова «О Сенате».
Однако император Александр не решился ее утвердить ни в одной из трех поданных ему редакций. Принятая официально, «Грамота» потребовала бы слишком далеко идущих изменений жизни крепостной России.
Последняя попытка склонить императора к принятию «Всемилостивейшей грамоты» относится к коронации в сентябре 1801 г. Но и тогда Александр I отклонил ее и с ремаркой: «В Государственный архив» передал Д.П. Трощинскому – председателю Непременного совета. Так этот документ, уже отвергнутый верховной властью, прошел через руки сотрудника Трощинского М.М. Сперанского, который отредактировал параграф о крестьянской собственности. Он расширил понятие движимой собственности. Кроме: «сохи, плуга, бороны, косы, телеги» он включил: «лошади, волы, житницы с семенным хлебом, овины или риги и другие земледельческие строения». Кроме того, он на полях «Грамоты» вписал право крестьянам, в том числе помещичьим, т. е. крепостным, дать возможность покупать незаселенные земли, т. е. предоставить им право на недвижимую собственность (РО ГНБ. Ф. 637. Д. 922. Лл. 8-10).
Гораздо позже секретарь Сперанского К.Г. Репинский, разбирая его бумаги, поставил на этой редакции «Всемилостивейшей жалованной грамоты» ошибочно дату – «сентябрь 1802 г.» вместо «сентябрь 1801 г.».
Император Александр I так и не удостоил вниманием документ, вобравший авторские усилия таких выдающихся людей, как граф А.Р. Воронцов, А.Н. Радищев, М.М. Сперанский.
Между тем, содержание «Всемилостивейшей жалованной грамоты» стало той идейной основой, на которой пытались объединиться ведущие политические течения русского общества самого начала XIX столетия, вступившего в эпоху постреволюционной Европы и нарастающего кризиса сословных монархий.
Полный текст «Всемилостивейшей жалованной грамоты» 1801 г. приведен ниже (Приложение 2).
4. План государственного преобразования М.М. Сперанского (1809 г.)
Следующим конституционным проектом, также не увидевшим света, был проект политических реформ уникального реформатора Михаила Михайловича Сперанского. Появление Сперанского, как носителя конституционной идеи, было ключевым этапом в развитии конституционной мысли в России.
Сперанский – человек из народа. Его появление предвещало приход разночинцев в общественную и государственную жизнь России. Само появление этого человека, сумевшего встать в один ряд с ведущими мыслителями своего времени, уникально. За свою не очень долгую жизнь (1772–1839) Сперанский сумел подготовить радикальные реформы по ряду областей государственной политики. И хотя они не были сразу приняты государственной властью, его идеи легли в основу Великих реформ 60-70-гг. XIX столетия и послужили примером для развития русского парламентаризма начала XX в.
Сперанский, точнее, Михайло Михайлов, родился в 1772 г. в глубокой провинции – в старинном селе Черкутино Владимирской губернии в бедной семье сельского священника. С детства отличался большими способностями, на которые поначалу никто не обращал внимания. В семилетием возрасте поступил в духовную семинарию губернского Владимира, которую блестяще окончил.
В 1790 г. Александро-Невская духовная семинария в Петербурге преобразовалась в первую в России духовную академию. Сюда стали присылать из провинции способных выпускников. Так Сперанский, получивший фамилию во Владимирской семинарии (от латинского sperare – надеяться), попал в Петербург.
Вскоре он и там обратил на себя внимание незаурядными способностями и удивительным трудолюбием. Он стал преподавателем академии по риторике, богословию, физике и математике. Самостоятельно выучил французский язык и читал произведения французских просветителей. Его личный архив в Рукописном отделе Российской национальной библиотеки в Петербурге поражает обилием литературных упражнений, стихов, философских и публицистических сочинений (ОР РНБ. Ф. 731).
В Петербурге Сперанскому удалось сделать головокружительную карьеру. Сначала он попал в качестве домашнего секретаря к князю Куракину, чье имение находилось поблизости от Александро-Невской лавры. С 1797 г. он был зачислен на службу при Куракине с чином титулярного советника, затем – коллежского советника, а с воцарением императора Александра I – государственного секретаря Государственного Совета. Позже перешел на службу к графу В.П. Кочубею в Коллегию иностранных дел, где по воле случая познакомился с императором Александром I, который сразу же выделил Сперанского среди чиновников, его окружавших, и предложил ему пост статс-секретаря при императоре. Его головокружительная карьера породила зависть и клевету в придворных кругах, где к нему прилипло презрительное прозвище parvenu – выскочка.
Близкое сотрудничество Сперанского с царем все больше придавало ему веса. В особенности расположение императора к своему секретарю усилилось после свидания Александра I с Наполеоном в Эрфурте в сентябре 1808 г. Удача этого свидания заключалась в определенном разделе интересов России и Франции. Наполеону была предоставлена свобода рук в Польше, а России – право на победоносную войну на северо-западе и отторжение Финляндии от Шведского Королевства.
После завершения русско-шведской войны и заключения Фридрихсгамского мирного договора в 1809 г. встал вопрос о государственном статусе Финляндии, вошедшей в состав Российской империи.
И, несомненно, под влиянием убеждений Сперанского русский император издал 20 января 1809 г. повеление о созыве народных представителей Финляндии в Борго. И через несколько недель император в сопровождении Сперанского и русского канцлера С.П. Румянцева выехал в Финляндию для торжественного открытия финского Сейма.
Подготовить текст конституции Финляндии было поручено Сперанскому. Так же как и составить речь при открытии первого финского Сейма.
В Петербурге была создана специальная комиссия по финляндским делам, в которую, также по совету Сперанского, вошли представители финской аристократии. Возглавлял комиссию епископ Тангенстрен. Крыло сторонников более радикальной конституции возглавлял генерал Спренгпортен, бывший посол Финляндии в Петербурге. Однако весь текст конституции Финляндии принадлежал перу Сперанского.
15 марта 1809 г. было обнародовано Удостоверение финляндской конституции, подписанное русским царем Александром I. В этом предварительном документе было обещано введение незыблемых законов, соблюдение прав и привилегий всех сословий. Сперанский вложил в этот документ свои излюбленные идеи о всесословном парламенте. Но вместе с тем именно он, Сперанский, советовал царю сохранить все старинное шведское законодательство, которое составляло историческую традицию народа Финляндии.
17 марта 1809 г. состоялся торжественный акт чтения конституции и принесение присяги каждым из сословий своему новому монарху – великому князю Финляндскому, императору всероссийскому – Александру I.
Речь Александра I – абсолютного монарха звучала диссонансом по отношению к представителям всех сословий Финляндии. По существу она была речью главы конституционного государства.
С каждым новым актом, обращенным к Финляндии, Сперанский делал новый шаг по направлению к цивилизованному конституционному строю. Он определял значение свободы слова, общественного мнения, народного представительства, частной собственности, охраны человеческого достоинства. Он не уставал повторять царю – Финляндия не провинция, не губерния, а государство.
Финская конституция поставила Россию в очень выгодное положение накануне войны с Наполеоном. Когда Наполеон дал понять Шведскому Королевству, что предоставляет ему свободу рук относительно Финляндии, Швеция не смогла этим воспользоваться – Финляндия благодаря своей конституции предпочла остаться под скипетром Российской империи.
Еще во время Эрфуртского совещания Александр I спросил Сперанского: «Как нравится тебе за границей?» Сперанский отвечал: «У нас люди лучше, но здесь лучше установления». Император ему отвечал: «Мы еще поговорим с тобой об этом, когда воротимся!» И царь сдержал свое слово: вернувшись в Петербург, он поручил Сперанскому план государственного преобразования России.
Сперанский, образованнейший человек своего времени, сумел облечь в понятные правовые нормы, господствовавшие в послереволюционной Европе, свои политические идеи. Он понимал необходимость политических реформ в России. «Если Бог благословит все сии начинания, то в 1811 г., к концу десятилетия настоящего царствования, Россия воспримет новое бытие и совершенно во всех частях преобразится» (воспоминания современника). Сперанский был совершенно уверен в успехе своего замысла. Он с большой осторожностью относился к расположению царя и стремился ничем не дать ему повода заподозрить его в неуважении монаршей власти.
Сперанский с большим искусством составил документ под названием «Введение к уложению государственных законов». Это была своеобразная конституция России. Его проект предусматривал глубокую реформу общественного и государственного строя России, при этом он постарался сделать так, чтобы самолюбие царя не пострадало.
Из всего хаоса предшествующих правовых документов, полученных в наследство от своих предшественников, он создал лаконичный, глубокий, насыщенный новейшей политической мыслью, приспособленный к реальной обстановке в России план государственного преобразования. Образованность Сперанского, глубокое понимание насущных потребностей России и фантастическое трудолюбие сделали свое дело.
Основная и насущная задача Сперанского – реализация идеи народоправства. Он стремился реализовать идею участия народа в управлении государством, но при сохранении власти императора, хотя и ограниченной. Принцип разделения властей был основополагающим в его проекте. Законодательная власть отделялась от исполнительной и судебной. Важнейшим принципом его проекта было положение о первенстве закона как основы государства. Сперанский исходил из того, что народ еще надо приучить к народоправству, и уже поэтому его идея в большей степени осуществлялась на местах.
Его конституционный план имел следующий вид:
План государственного преобразования М.М. Сперанского
К этой схеме прилагалась система выборов во все органы центральной и местной власти. Свободное население Российской империи должно быть поделено на три группы: дворянство, люди среднего состояния и народ рабочий. Все три группы обладали «гражданскими правами общими», т. е. провозглашалась свобода личности (за исключением крепостного крестьянства). Выборы должны были быть ступенчатыми: волостные Думы избирали депутатов в Думы окружные, те в губернские, и только последние – в Думу Государственную, так что на каждом уровне все избиратели имели возможность лично знать тех, кого они избирают.
«Права гражданские частные» могли принадлежать только тем, «кои образом жизни и воспитания к ним будут приуготовлены», т. е. людям, обладающим определенным имущественным цензом. В зависимости от величины ценза эти категории населения могли участвовать и быть избранными в определенные органы власти на местах. Третья категория населения, кроме «прав гражданских общих», имела и «права политические». Эту группу населения составляло дворянство, на которое Сперанский возлагал наибольшие надежды. Дворянство приобретало статус опоры императорской власти. В этом отношении Сперанский повторял принцип Монтескье о значении дворянства как опоры монархической власти.
План Сперанского тщательно оберегал полномочия монарха, хотя, разумеется, власть уже не могла быть абсолютной. План Сперанского был подступом к конституционной монархии. Известный легитимист граф Жозеф де Местр, находясь в Петербурге, особо отметил роль Сперанского в ту пору в государственной политике. Он называл его «великим и всемогущим Сперанским, генеральным секретарем Империи, на деле премьер-министром или даже уникальным министром».
Император был под обаянием личности Сперанского. 1 января 1810 г. он назначил его на должность государственного секретаря новоучрежденного Государственного Совета. В Плане Сперанского этот орган власти должен был венчать всю созданную им систему реформ, где русская идея патриархальной монархии сочеталась с европейской идеей народовластия. Но далее Государственного Совета дело не пошло, и блестящий план Сперанского пополнил ряд неосуществленных конституционных замыслов России.
К началу 1812 г. военные и дипломатические приготовления к войне были закончены, а вал зависти и клеветы в придворных кругах против Сперанского достиг своего апогея. Император Александр I колебался. Он очень ценил Сперанского. Он, несомненно, всерьез думал о конституции для России. Но не решился. Колебания – отличительная черта его характера – взяли верх. Сперанский был подвергнут жестокой опале.
В воскресенье 17 марта 1811 г. Сперанский спокойно обедал у госпожи Вейкарт, когда неожиданно появился фельдъегерь с приказом в тот же вечер явиться к Государю. Аудиенция продолжалась более двух часов. Сперанский был сослан в ту же ночь в ссылку в Нижний Новгород, потом в Пермь, а в 1819 г. получил поручение отправиться с инспекцией в Сибирь в чине генерал-губернатора.
В 1821 г. Александр разрешил Сперанскому вернуться в Петербург, но продолжал опасаться реформатора. Только в царствование Николая I Сперанский доказал, что может быть еще полезен государству.
Человек исключительный по своей образованности и осведомленности в современных ему принципах права, Сперанский создал целый ряд проектов представительного правления в России. Менее известны его проекты по крестьянскому вопросу. Изучение его личного архива и архива его секретаря Козьмы Григорьевича Репинского (ОР РНБ. Ф. 731. Ф. 637. Д. 837. Д. 899) позволило выявить документы, содержащие предложения об освобождении крепостных крестьян.
Его план основывался на принципах законности; сочинение на эту тему имеет название «Историческое обозрение изменений в праве поземельной собственности и в состоянии крестьян». Автор этого документа прослеживает историю закабаления крестьян. Для него была очевидной связь свободы человека с правом собственности. Придавая большое значение праву собственности, Сперанский отстаивает принцип неприкосновенности личности, свободы человека. Вышедшие из-под его пера документы пронизаны формулировками, заимствованными из французских конституций 1791 и 1793 гг. «Свобода заключается в возможности делать все, что не вредит другому», гласит статья четвертая «Декларации прав человека и гражданина» 1789 г., предваряющая конституцию 1791 г. «Свобода – это принадлежащая всем и каждому человеку возможность делать все, что не нарушает прав другого…» – сказано в статье шестой конституции 1793 г.
В одном из правовых документов Сперанского имеется перефразировка этих французских статей: «…я желаю того, что не вредит никому, желаю того, что я позволил бы и другим… желаю не стеснять их свободы…» (РО РНБ. Ф. 637. Д. 899. Л. 28). Переложение на русский лад принципа свободы личности послужило для Сперанского правовой основой для постановки вопроса об освобождении крестьян.
Следующий примечательный документ, также впервые вводимый в научный оборот, «О крепостных людях», является как бы продолжением первого. Основываясь на принципе свободы, Сперанский анализирует в нем положение различных групп зависимых крестьян: дворовых, кабальных или холопов, крестьян, принадлежащих помещику. Все эти состояния определены в «Соборном уложении» 1649 г. Сперанский тщательно изучил их и выработал основанные на законе условия освобождения крестьян.
Он предполагал правительственную отмену тех законодательных актов XV–XVIII вв., на которых основывалось крепостное право, и освобождение в первую очередь наиболее зависимых категорий крестьян или перевод их в менее зависимые от воли помещика. Крепостное право в таких условиях как бы само собой должно было отойти в прошлое. Сперанский ратовал за личное освобождение крестьян и освобождение их с землей как собственностью, не оговаривая до поры – за выкуп или на иных условиях, за создание системы сельского крестьянского самоуправления, сельских судов без вмешательства помещиков. Он утверждал: «Крестьянин – принадлежность государства, а не отдельного лица».
В программе Сперанского много идей, которые позже воплотились в реформе государственных крестьян графа П.Д. Киселева в 40-е гг. XIX столетия и в «Положении 19 февраля 1861 года».
Критика Сперанским рекрутчины заставляет вспомнить о будущей военной реформе братьев Н. и Д. Милютиных, племянников графа П.Д. Киселева, министра государственных имуществ в 40-е годы.
Однако император Николай I призвал Сперанского заниматься не реформами, а кодификацией существующих законов. И он вошел в историю как составитель 45 томов «Полного собрания законов Российской империи» в 1826–1830 гг. и 15 томов «Свода» (действующих) законов в 1832 г.
5. Государственная уставная грамота (1818–1821 гг.)
Император Александр I отрекся от Сперанского, но идея конституции для России его не оставляла.
После Отечественной войны 1812 г. жизнь заставила самодержавие снова поставить вопрос о пересмотре старых патримониальных форм. Александр I сумел использовать идею конституции в дипломатических целях. Эпоха конституционной дипломатии в ходе работы Венского конгресса 1814–1815 гг. определилась на основании пункта Акта Венского конгресса от 14 (26) сентября 1815 г., предусматривающего дарование конституционных статусов всем вновь образованным территориям: Сенатскую конституцию 1814 г. Франции, Польскую конституционную хартию 1815 г. А вслед за ними были введены в 1818 г. конституция в Баварии, в 1819 г. цензовая конституция в Вюртемберге.
В актах Венского конгресса было оговорено создание «свободнозаконных учреждений» для Пруссии и Австрии. Делалась специальная оговорка и для России. По распоряжению Александра I вслед за Польской конституционной хартией 1815 г. в имперской канцелярии Царства Польского (в Варшаве), входившего на положении автономии в состав Российской империи, началась работа над «Государственной уставной грамотой» для России.
В условиях конституционной дипломатии Российской империи, выступившей инициатором создания общеевропейского Священного союза, когда начали действовать Польская конституция и с 1809 г – конституция Финляндии, императору Александру I было неудобно отставать от европейских государств в своих подвластных Польше и Финляндии.
В послевоенном Царстве Польском было неспокойно. Наместником царя был назначен великий князь Константин Павлович. Имперская канцелярия в Бельведерском дворце возглавлялась верным императору Александру Николаем Николаевичем Новосильцевым. Там кипела работа над текстом Французской сенатской конституции 1814 г. и Польской конституционной хартией 1815 г.
В Варшаве был расквартирован русский Литовский полк и другие части русских войск, наводненных прогрессивной дворянской молодежью. Среди них были и участники тайных революционных обществ. В этих условиях скромный чиновник Пьер Дешамп трудился над переводом Сенатской конституции, текст которой было решено положить в основу подготавливаемой русской конституции – «Государственной уставной грамоты». Специалистов явно не хватало. И царь с Новосильцевым решили пригласить опытного и эрудированного, а также верного престолу толмача-переводчика, князя Петра Андреевича Вяземского. Его лояльность была сильно преувеличена царским окружением: Вяземский к этому времени был уже тесно связан с декабристскими обществами, был участником оппозиционного литературного объединения «Арзамас».
Едва ли следует считать случайностью переговоры Вяземского с Николаем Ивановичем Тургеневым – одним из идеологов возникшего через некоторое время Северного общества декабристов, об издании в Варшаве русского журнала. Вяземский писал Н. Тургеневу 3 июня 1818 г.:«.. хороший журнал был бы в самую пору и назвать его “Восприемником” (по традиционной связи с периодическим изданием
Новикова). Мы, то есть русские, могли бы обойтись вовсе без журналов, но при дурных журналах один хороший необходим» (Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1. С. 107). Однако замысел друзей Вяземского не осуществился.
П.А. Вяземский прибыл в Варшаву как чиновник Первого отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, которое занималось переводом государственных документов. Над ним стоял чиновник Второго отделения Императорской канцелярии Петр Дешан, в компетенции которого было создание проектов законов и положений. Но Петр Иванович Дешан был старым сотрудником русского делопроизводства, воспитанным в духе строгого следования законам. В 1819 г. Дешан умер, и полновластным чиновником в работе над «Уставной грамотой» остался Вяземский. Он проявлял горячую заинтересованность в подготовке русской конституции.
В марте 1819 г. Вяземский пишет Николаю Тургеневу о своем настойчивом желании создать такой проект конституции, который мог быть действительно полезен для России: «На теперешний перевод имею я большие упования» (Остафьевский архив. СПб., 1899. Т. 1. С. 198).
Весьма важно отметить, что при переводе предшествующих конституционных актов (Сенатской конституции и Польской хартии) Вяземский широко пользовался и юридическими терминами и правовыми положениями, заимствованными из проектов Сперанского (Вяземский П.А. Поли. собр. соч. СПб., 1878. Т. 1. С. 239–243). Кроме прямых упоминаний о Сперанском, осведомленность Вяземского в политических трактатах своего предшественника обнаруживается при сопоставлении разделов об административном и судебном устройстве во «Введении к уложению государственных законов» и в самой «Государственной уставной грамоте».
Вклад Вяземского, рядового чиновника, в составление «Государственной уставной грамоты» был неизмеримо большим, чем француза Дешана. В 1807–1808 гг. он числился иностранным юрисконсультом, затем вторым помощником референдария в Комиссии составления законов (Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи. СПб. Запись 1807 г. Ч. 1). Петр Андреевич Вяземский был образованнейшим человеком своего времени. Друг Пушкина, участник литературного общества «Арзамас», включающего интеллектуальную элиту либерально настроенных людей, Вяземский заверял своих друзей, что подготовит достойную конституцию для России.
Друзья по «Арзамасу» с большим напряжением следили за его работой в Варшаве. Проезжающий через Варшаву в 1819 г. Сергей Иванович Тургенев прямо называет «Государственную уставную грамоту» «проектом Вяземского» и считает, что этот документ «лучший, какой возможен в настоящих обстоятельствах» (Лотман Ю.М. Вяземский и движение декабристов // Ученые записки Тартуского университета. 1960. Вып. 98. С. 57. Прим. 112). Декабрист М.Ф. Орлов высоко ценил вклад Вяземского в создание официального проекта конституции и выражал надежду на представительное правление в России (Литературное наследство. 1956. Т. 60. Ч. 1. С. 21).
В зарубежной печати, между тем, все чаще появлялись суждения о готовящейся русской конституции. Прусский генеральный консул в Варшаве Шмидт сообщал в Пруссию министру иностранных дел графу Бернсдорфу о готовящейся русской конституции и вскоре послал ее первоначальный набросок: «Precis de la charte constitutionelle pour 1 Empire russe».
21 ноября 1819 г. во Франции в газете Бенжемена Констана «La Constitutionnelle» появилась заметка о введении в России конституции с кратким ее изложением. Когда это известие дошло до Вены, им заинтересовался К. Меттерних и поручил австрийскому послу в Петербурге Лебцельтерну разузнать подробности.
А Вяземский все продолжал мучиться над русским проектом конституции. Кроме того, он занимался переводами на польский язык речей императора Александра I на первом польском Сейме.
Работа над «Уставной грамотой» велась безостановочно, а император находился в больших сомнениях. Новый конституционный проект не должен был противоречить Польской конституционной хартии и в то же время считаться с самодержавным строем метрополии – Российской империи, и с теми сложными социальными явлениями, которые сложились к 20-м гг. XIX столетия. В разных частях России нарастало массовое движение, волна донских волнений, затянувшихся до 1820–1822 гг., нашумевшее восстание гвардейского Семеновского полка 1820 г. Проникновение мятежного духа в армию, в самый оплот, в гвардейские полки, призванные быть опорой самодержавия и личности императора, зарождающиеся офицерские артели – как предшественники тайных революционных обществ – все это страшило царя. Работа над «Уставной грамотой» затягивалась. Были готовы варианты – 1818 г., 1819 г., 1820, 1821 г. – и все они по прибытии князя Вяземского в резиденцию царя в Петербург, в Каменноостровский дворец, отвергались.
Вяземского, однако, не отстраняли от работы. В марте 1819 г. он был произведен в надворные советники, а в конце года получил чин коллежского советника. Он был полон желания создать такой проект конституции, который действительно мог быть полезен России. В то время он делился своими настроениями с другом – Александром Ивановичем Тургеневым: «Впрочем, на теперешний перевод я имею большие упования, но… если я и тут не разгрызу ореха, то в тот же час ослицей прыг с рябины и, предавши тебя, потом всех и каждого проклятью, плюну на все – и по домам» (Остафьевский архив, т. 1. с. 109).
На первом заседании польского Сейма в 1818 г. император Александр I произнес весьма обещающую речь. Ее готовил также Вяземский. Приветствуя поляков, как обладателей представительной конституции, он приветствовал и создание законно-свободных учреждений в Европе и Польше и утверждал, что они будут введены и во «вверенном ему отечестве».
Содержание «Государственной уставной грамоты» во всех ее редакциях сохраняло идеи политической свободы, представительного правления и федерализма.
В статье 81 главы третьей сказано: «Без суда никто да не накажется; «чтобы никто без объявления ему вины снятия с него допроса в течение трех дней по задержании не лишился свободы и не содержался в тюрьме» (РО РНБ. Ф. 859. Шильдер Н.К. К. 19. № 6. Лл. 18–28).
В «Уставной грамоте» несколько статей отстаивают независимость личности и ее неприкосновенность и в большой степени воспроизводят те правовые документы, которые оставались потаенными. В более лаконичной форме они присутствуют в «Жалованной грамоте, российскому народу жалуемой» 1801 г. и нескольких записках Сперанского. Разумеется, заимствование и из западноевропейских правовых документов – Сенатской конституции Франции 1814 г. и Польской конституционной хартии 1815 г., также оказали сильное воздействие на составителей «Уставной грамоты» 1818 г. Это обстоятельство, важное само по себе, доказывает, что Вяземский, как и его русские предшественники, хорошо знал и использовал классическое английское законодательство. Принципы защиты личности заимствованы из английского законодательного свода «Habeas corpus act». Присутствие в «Уставной грамоте» статей о свободе личности доказывает стремление авторов предоставить русскому гражданину не только права гражданства, но и гарантировать свободу личности.
В «Уставной грамоте» представлен и другой европейский принцип законодательства – представительное правление, сопряженное с народоправством. В этом отношении «Уставная грамота» во многом следует Польской конституционной хартии 1815 г. Одним из свидетелей этого стал близкий друг князя П.А. Вяземского – Сергей Иванович Тургенев. Он читал один из первых проектов, подготавливаемый под большим секретом в Варшавской канцелярии Новосильцева. Сергей Тургенев замечает в своем «Дневнике»: «Вчера читал мне князь Вяземский некоторые места из проекта Российской конституции. Главнейшие основания ее те же, что и в польской» (Цит. по кн.: Лотман Ю.М. Вяземский и движение декабристов // Ученые записки Тартуского университета. 1960. Вып. 98. С. 57. Прим. 12).
Статья 91 главы третьей «Ручательства державной власти» гласила: «Да будет российский народ отныне и навсегда иметь народное представительство. Оно должно состоять в Государственном Сейме (Государственная Дума), составленном из Государя и двух палат. Первую под именем Высшей палаты образует Сенат, а вторую под именем Посольской палаты – земские послы и депутаты городских обществ» (РО ГНБ. Ф. 859. К. 19. № 6. Лл. 18–28).
Идея представительного правления в условиях господства крепостного права и абсолютной власти в России приобретала особый смысл. Она была высказана и раньше в проектах братьев Воронцовых, адмирала Н.С. Мордвинова, М.М. Сперанского. Ее новая жизнь в «Уставной грамоте» отвечала мятежному духу 20-х гг. XIX в., была преддверием идеи народного представительства в идеологических документах декабристов и уже имела своих сторонников в лице декабристского Союза спасения, Союза благоденствия, Ордена русских рыцарей и Общества соединенных славян, возникшего в 1823 г.
В «Уставной грамоте» идея представительного правления сочетается с важнейшим принципом разделения властей. По поводу законодательной функции авторы «Уставной грамоты» выдержали большую борьбу. Следуя известным европейским конституциям, идея представительного правления должна была бы сочетаться с принципами народного суверенитета. Однако, отступая от общего правила и даже от Польской конституционной хартии 1815 г., «Уставная грамота» провозглашала суверенитет русского царя-самодержца: «Государь есть единственный источник всех в империи властей: гражданской, политической, законодательной и военной. Он управляет исполнительной частью во всем ее пространстве…»
В четвертой статье подводился итог суверенитету самодержца: «Особа Государя священна и неприкосновенна» (РО ГНБ. Ф. 859. К. 19. № 6. Лл. 18–28).
Законодательная власть, хотя и переставала быть компетенцией одного монарха, но не становилась принадлежностью представительного органа власти. Она делилась между императором и Сеймом или между императором и местными сеймами. Мера уступок Государственному Сейму вызывала ожесточенную борьбу, затянувшую подготовку «Грамоты». В результате ожесточенных споров Государственный Сейм получил право совещательного голоса в проведении закона в жизнь. Последнее слово, в случае прохождения закона в жизнь, оставалось за императором. Но и с таким положением дел Александр I не хотел согласиться. В результате «Государственная уставная грамота» так и не вышла за пределы имперской канцелярии Новосильцева в Варшаве. Но, тем не менее, этот правовой документ в большой степени развил конституционную традицию. Определенную структуру получил представительный орган власти – Государственный Сейм, состоящий из двух палат: Сенат во время работы Сейма пополнялся новыми сенаторами, назначаемыми царем. Вторую палату представляла палата Земских послов. Она избиралась из послов и депутатов наместничеств по назначению императора.
Принцип разделения властей распространялся и на местные органы власти.
Весьма важной частью правовой основы «Уставной грамоты» стало толкование частной собственности и вводимый имущественный ценз для реализации избирательного права. «Всякая собственность, на поверхности земли находящаяся или в недрах оной сокровенная… признается священной и неприкосновенной. Никакая власть ни под каким предлогом посягнуть на нее не может… Посягающий на чужую собственность осуждается и наказывается как нарушитель общественного спокойствия» (РО ГНБ. Ф. 859. К. 19. Ст. 97). Введение имущественного ценза способствовало допущению в Посольскую палату представителей не только дворянства, но и городского населения и разночинной интеллигенции.
В «Уставной Грамоте» сохранялось и очень много элементов феодального права.
Главным итогом всех усилий П. А. Вяземского в течение 1818–1821 гг. стала остановка работы над этим конституционным проектом России, который нес обновление обветшавшему политическому строю общества.
«Государственная уставная грамота» также осталась потаенной. О ней стало известно неожиданно. В ходе восстания в Польше в 1830 г., когда 19 ноября повстанцы захватили Варшаву и создали временное правительство, в Имперской канцелярии среди других документов оказалась подготовленная русская конституция. Временное революционное правительство приняло решение обнародовать этот документ. А через девять месяцев, 27 августа 1831 г., карательная русская армия под командованием генерала Паскевича взяла штурмом передовые укрепления Варшавы. В книжных лавках свободно продавалась «Государственная уставная грамота Российской империи», изданная на трех языках: русском, французском и польском. Она была напечатана за полтора месяца до взятия Варшавы армией генерала Паскевича. Предисловие к русской конституции было написано министром иностранных дел повстанческой Польши – Андреем Гродецким. «Предоставляем русскому народу, – писал он, – оценить причины, по которым столь великая мысль, столь важное дело пришло в забвение. Поляки горячо желают, чтобы это случайное открытие напомнило русскому правительству, что пора бы было, наконец, народу, повинующемуся ему и столь давно ожидающему улучшения своего политического существования, народу, состоящему из стольких миллионов угнетенных людей, начать, наконец, наслаждаться плодами конституционной монархии. Поляки сочли бы себя счастливыми, если бы, делая этот проект общеизвестным, они могли оказать тем услугу этому великому народу» (РО ГНБ. Ф. 859. К. 19. Д. 6. Лл. 49–50 об.).
Появление русской конституции в революционной Варшаве привело в ужас императора Николая I. 26 сентября он направил Паскевичу секретное письмо следующего содержания: «Чертков привез мне экземпляр проекта конституции для России, найденный в бумагах у Новосильцева. Напечатание сей бумаги крайне неприятно: на 100 человек наших молодых офицеров 90 прочтут, не поймут или презреют. Но 10 оставят в памяти, обсудят и, главное, не забудут (подчеркнуто Николаем I). Это пуще всего меня беспокоит. Для того столь желательно мне, как только возможно, продержать Гвардию в Варшаве, и вообще чаще менять в ней гарнизоны. Вели гр. Витту стараться достать елико возможно экземпляров сей книжки и уничтожить, рукопись отыскать и прислать ко мне, равно как и оригинальный акт конституции Польской. Который искать должно в архиве Сената» (РО ГНБ. Ф. 859. К. 19. Д. 6).
Паскевич со всем рвением принялся за дело и уже 15 ноября того же 1831 г. царь Николай сообщал Паскевичу из Москвы: «Я получил ковчег с покойницей конституцией, за которую благодарю весьма, она изволит покоиться здесь в Оружейной палате» (Там же. Письмо Николая I Паскевичу от 3-14 ноября 1831 г.).
Между тем книги русской конституции быстро разошлись по Европе, они были раскуплены в Польше, о них уже знали в России. Не случайно обеспокоенный царь приказал скупить разошедшиеся экземпляры и уничтожить. Секретная депеша полетела в Варшаву, и вскоре был получен ответ:
«Секретно.
Кн. Варшавский – гр. Чернышеву.
Варшава 26-го окт. 1831. № 646.
М. Г-рь граф А.И.
Препровождаю при сем к Вашей Светлости для предоставления Г.И. в двух запечатанных печатью Варшавского военного губернатора генерала от кавалерии гр. Витта в ящиках выкупленные нами 1578 экземпляров напечатанной здесь так называемой Русской Конституции.
Кн. Варшавский гр. Иван Паскевич
Эриванский»
(Там же. Связка 51).
Разыскания русского командования во главе с Паскевичем показали, что было напечатано две тысячи экземпляров, из них 150 было взято революционным правлением, 102 книги распроданы частным лицам до взятия Варшавы Паскевичем и 18 – в первые дни после занятия города. Проводились расследования, кем раскуплены разошедшиеся экземпляры. Правительство опасалось, что «Уставная грамота» может попасть в руки русских гвардейских офицеров, которыми была наводнена Варшава.
Приказ министра двора Адлерберга московскому коменданту генералу М. Стаалю от 23 ноября 1831 г. призывал сжечь все собранные экземпляры книги и сообщить о выполнении приказа:
«Секретно.
Московского коменданта Г.М. Стааля
и ген. – адъютант Адлерберга
Во исполнение Высочайшего В.И.В. повеления, доставленные от главнокомандующего действующей армией два запечатанных ящика сего числа, со всеми находящимися в оных 1578-ю экземплярами так называемой Русской Конституции на арсенальном дворе в Кремле сожжены.
Моск. ком… ген. – майор Стааль.
Ген. – адъютант Адлерберг
Москва. 27 ноября 1831»
Оставлена была только рукопись «Государственной уставной грамоты», которую поспешили передать в Государственный архив. Но это не помешало распространению российской конституции. Она была перепечатана у кого-то из частных лиц и вышла в Париже в 1859 г. Кроме того, она вышла в составе «Исторического сборника» А.И. Герцена (Кн. 2. Лондон, 1861); в сборнике «Материалы для истории царствования императора Николая Павловича» (Лейпциг, 1880). В русской исторической периодике также появились сведения об «Уставной грамоте» 1818 г. (Русский вестник. 1871; Русская старина. 1880. Т. 28. С. 816).
Кроме Государственного архива «Государственная уставная грамота» сохраняется в Музее книги РГБ (Ф. 1-5932). Нет сомнения, что этот документ был хорошо известен в русском обществе. То, что «Государственную уставную грамоту» хорошо знал и изучил глава Северного общества декабристов Никита Муравьев, доказал виднейший русский историк Г.В. Вернадский в статье «Тайные источники Конституции Никиты Муравьева», вышедшей в Трудах Новороссийского университета в 1918 г.
6. «Русская Правда» П.И. Пестеля (1821–1824 гг.) и смежные документы декабристов
Декабристы в советское время восхвалялись как предтечи большевиков, которыми они явно не были хотя бы по своему социальному происхождению. Они были выходцами из верхов тогдашнего русского общества. И судить о них можно как о таковых, а не по советским лекалам, пусть и с обратным знаком.
Виднейшей фигурой среди декабристов был Павел Иванович Пестель. Лютеранин по вероисповедованию, он происходил из семьи высокопоставленного чиновника. Отец его – Иван Борисович Пестель (1765–1843) вышел из среды московского чиновничества, служил по почтовой части. При Александре I обратил на себя внимание аккуратностью исполнения своих обязанностей и был назначен на несколько ревизий в Вятскую и Казанскую губернии.
Проявив себя как опытный чиновник, он в 1806 г. был назначен генерал-губернатором Сибири, где царили произвол, взяточничество и казнокрадство. Иван Борисович предпочел не выезжать в Сибирь и всю свою службу пробыл в Петербурге. Он оказался впутанным в питейные откупа, что не помешало ему стать членом Государственного Совета в Департаменте законов.
Он успел дать своим сыновьям блестящее образование. Старший сын – Павел Иванович Пестель, окончил Пажеский корпус, где в свое время учился Радищев, а в начале XIX столетия преподавал блестящий профессор Герман, знакомя своих слушателей с учениями Давида Рикардо о трудовой теории стоимости и сочинением шотландского экономиста Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов». Самостоятельно Павел Пестель изучил «Завещание» Жана Me лье, французского священника-утописта, защищающего бедных и обездоленных.
Одержимый идеей модернизации России, декабрист Пестель создал самый радикальный в XIX в. политический проект преобразования государственного устройства России и решения крестьянского вопроса.
Пестель разошелся с отцом, что не помешало ему в дальнейшем помогать семье выплачивать многочисленные долги отца. С матерью у него сложились самые теплые отношения, что отражено в его письмах к матери из крепости, после отказа от исповеди, предложенной православным протоиереем П.Н. Мысловским.
Главный документ Южного общества декабристов – «Русская Правда» – серьезно и глубоко разрабатывался, но остался незаконченным и не был принят официально тайным обществом. Арест Пестеля приостановил работу над этим памятником декабристской мысли, доставленным в Верховную следственную комиссию из секретного тайника по доносу. Правильное прочтение этого документа принадлежит историкам Саратовского университета С. Чернову и Преображенскому. Они сумели выделить первую редакцию «Русской Правды» 1821–1822 гг. и вторую редакцию этого документа 1824 г. (см.: Восстание декабристов. М., 1958. Т. VII. С. 113–216), а также важнейший фрагмент «Русской Правды» – «Дележ земель» и документ, представляющий по существу VI главу «Русской Правды» и написанный для Общества соединенных славян, которое, как предполагали участники Южного общества С.И. Муравьев-Апостол и М.П. Бестужев-Рюмин, должно было слиться с Южным обществом. Этот документ имеет название «Конституция – Государственный завет».
Русская Правда, или Заповедная государственная грамота великого народа российского, служащая заветом для усовершенствования государственного устройства России и содержащая верный наказ как для народа, так и для Временного верховного правления
Введение. Основные понятия
Параграф 11. О необходимости Русской Правды и временного верховного правления.
Сия цель двойная не может иначе, с успехом быть достигнута как посредством учреждения Временного верховного правления и обнародования Русской Правды ко всеобщему сведению. Причины к тому суть следующие: предлагаемый новый порядок, по обширности государства и многочисленности статей и предметов преобразованию подлежащих, не может быть введен вдруг одним разом.
Для сего нужно множество мер приуготовительных или переводных, которые должны постепенно в ход и действие быть приводимые, дабы государство не подверглось беспорядкам, волнениям и превращениям, которые вместо улучшения могли бы только ввергнуть оное в гибель. Все происшествия в Европе, в последнем полустолетии случившиеся, доказывают, что народы, возмечтавшие о возможности внезапных действий и отвергнувшие постепенность в ходе государственного преобразования, впали в ужаснейшие бедствия и вновь покорены игу самовластия и беззакония.
Сие доказывает необходимость приступить к преобразованию государства постепенными мероприятиями. Кому может быть поручено исполнение сего важного дела, как не Временному верховному правлению: прежняя верховная власть довольно уже доказала враждебные свои чувства против народа русского; а представительный Собор не может быть созван, ибо начала представительного верховного порядка в России еще не существуют.
Но поелику Россия должна иметь залог в том, что Временное верховное правление точно будет действовать для одного только блага России и для всевозможного усовершенствования положения и состояния ее по всем предметам и статьям, то необходимым оказывается издание Русской Правды в виде наказа верховному правлению. С другой стороны, составление Уложения, или Полного свода законов есть дело обширное, многотрудное, требующее много времени и больших соображений, дабы все статьи оного в совершенном между собой находились согласии и соответствии. А посему и не может быть вдруг ныне издано. К тому же государственное уложение должно содержать одни только точные, или Положительные законы и постановления, утверждающие будущий порядок в государстве, а следовательно, и не должно оно содержать:
1) Ни воспоминания о ныне существующем порядке: ибо оный прекратит свое существование;
2) Ниже изложения переводных и приуготовительных мероприятий или средств, коими нынешний порядок заменен будет предполагаемым новым: ибо приготовительные или переводные меры суть действия преходящие;
3) Ниже, наконец, основных умозрительных соображений и правил, на коих государственное здание имеет быть сооружено: ибо умозрения не могут входить в состав Положительных законов или Уложения.
Но поелику три сии предмета преимущественно важны и России непременно известны быть должны при самом начале ее возрождения и преобразования, то тем еще более оказывается необходимость в Русской Правде, которая, излагая коренные начала и основания сего преобразования, содержала бы указания на целое государство и на все оного части, члены и отрасли.
«Русская Правда» предполагалась в десяти главах. Первая редакция 1821–1822 гг. состояла из первых нескольких глав, стык между первой и второй (1822 г.) редакциями проходил по одной из глав. Шестая глава, в которой должно было быть прописано политическое и государственное устройство будущей России, не сохранилась. Она восстанавливается по записи М.П. Бестужева-Рюмина, написанной под диктовку Пестеля для Общества соединенных славян. Этот документ – единственное свидетельство для суждения о VI главе «Русской Правды», имеет самостоятельное название:
Конституция – Государственный завет
1) Границы Российского Государства суть-
При сем случае действуют два правила: правило благоприличия для России и правило народности племен или народов, смежных и подвластных. Когда речь идет о народе, могущем пользоваться независимостью, тогда правило народности берет перевес. Когда дело идет о народе, не могущем оными пользоваться и долженствующем быть под покровительством и зависимостью у другой славнейшей державы, тогда правило благоприличия для России берет перевес – Польша – правило народности объявляет независимость и самостоятельность народа, но правило благоприличия определяет в сем случае частности границеположения.
2) Российское Государство разделяется в отношении законного своего пространства на 10 областей и 3 удела. Уделы суть Столичный, в коем пребывает и сосредоточивается государственное правление, Нижний Новгород или Москва, Донской и Киргизский. Каждая область состоит из 5 губерний или округов. Губернии состоят из уездов, уезд состоит из волостей. Волости бывают цельные и приписные – 1000 обывателей мужского пола.
3) Государство состоит из народа и правительства.
4) Весь российский народ составляет одно сословие – гражданское; все нынешние сословия уничтожаются и сливаются в одно сословие – гражданское. Все различные племена, составляющие Российское государство, признаются русскими и, слагая различные свои названия, составляют один народ русский. Все россияне расписаны по областям. Каждый российский гражданин есть член какой-либо волости. Сие заменяет теперешнее распределение россиян по сословиям. Волость имеет для своих членов два списка: гражданский и скарбовой. В скарбовой список вносятся граждане, имеющие в волости какую-нибудь собственность. Подать берется с собственности – посему может один и тот же человек в скарбовых списках многих волостей быть записан, но в гражданском списке может каждый быть записан только по одной волости, ибо гражданский список означает политическое состояние, а политическим правом пользуется каждый русский в той только волости, в которой состоит в гражданском списке.
5) Вся земля, к каждой волости принадлежащая, разделяется на две части: волостную и частную. Первая принадлежит всему обществу, вторая – частным людям. Первая составляет собственность общественную, вторая – собственность частную. Волостная земля есть неприкосновенная. Она разделяется на участки. Участки раздаются по требованиям членов волости. Остальная земля отдается в наем посторонним лицам не иначе, как на один год. Если требуется более участков, чем таковых имеется, тогда не удовлетворяется требование тех, которые наибольшее число участков взять желают; участки сии переходят из рук в руки в тех только случаях, когда являются новые требователи. Сии требователи суть или такие, кои прежде никакого участка не брали или желают взять более. У кого участок отбирается, тот сам назначает, какой участок он отдает. Правило совокупной стоятельницы (principe de la Solidarite) перед правительством является всегда волость, а не люди порознь. Россияне составляют народ, состоящий из одних обывателей Земли. Все россияне суть помещики, или частные или общественные.
6) Переход из нынешнего положения в порядок, здесь предлагаемый, есть постепенный. У нынешних помещиков земля откупается оброком или работою летнею. Наперед заводится сие в казенных имениях и волостях, а потом уже в частных. Оброчные селения и пахотные селения, дворовые люди, заводские крестьяне продолжают нынешнее занятие положенное время, те же сами откупаются, а дворовые в волости поступают.
7) Правительство разделяется на Верховную власть и государственное правление.
8) Насчет устроения Верховной власти отвергается правило равновесия властей, но принимается правило определенности круга действий. Верховная власть разделяется на законодательную и верховно-исполнительную-Первая поручается – Народной вече, вторая – Державной Думе. Сверх того нужна еще власть блюстительная, дабы те две не выходили из своих пределов. Власть блюстительная поручается верховному собору.
9) Народная веча состоит из народных представителей, выбранных народом на 5 лет. Каждый год пятая часть нисходит и заменяется новыми выборами. Тот же самый может быть опять выбран. Устройство внутреннего порядка веча принадлежит ему самому. Председатель избирается ежегодно из членов, последний год заседающих. Народная веча есть одно целое и на каморы не разделяется. Вся законодательная власть в ней обретается. Она объявляет войну и заключает мир.
Различие в составлении законов заветных и всех прочих законов. Первые обнародываются и на суждения всей России предлагаются.
Народная веча имеет свое время, когда не заседает, тогда оставляется временная комиссия. Никто не может распустить Народной вечи. Она определяет волю в государстве, душу народа.
10) Державная Дума состоит из 5 членов, народом выбранных на 5 лет. Ежегодно один из Думы выходит и заменяется другим выбором. Председатель есть член, заседающий последний, или пятый, год. Ежегодно предлагает каждая губерния кандидата. Из числа сих кандидатов выбирает Народная веча окончательно. Державная Дума имеет всю верховно-исполнительную власть, ведет войну и производит переговоры, но не объявляет войны и не заключает мира. Все министерства и все вообще правительствующие места состоят под ведомством и начальством Державной Думы, действуя с распоряжением и исполняя с приказанием. Она имеет собственную свою канцелярию.
11) Верховный собор состоит из 120 членов, именуемых боярами. Бояре назначаются на всю жизнь и не могут участвовать ни в законодательном, ни в исполнительном порядке. Губернии назначают кандидатов, а Народная веча замещает упразднившееся число бояр. Председатель выбирается на год самим собором. Собор имеет Верховно-блюстительную власть. Народная веча препровождает к нему на утверждение все законы. Собор не рассуждает о сущности предметов, но смотрит на одни формы, дабы во всем соблюдено законное: после сего утверждения получает закон свою действительную силу. Сам же собор не действует. Собор назначает из своих членов по одному генерал-прокурору в каждое министерство и по одному генерал-прокурору в каждую область (приказной блюститель, областной посадник). Генерал-прокурор рассматривает журналы палат министерства, утверждает их определение, взирая на одну законность и соблюдение предлагаемого порядка, но не входя в суждение о сущности самого содержания; без их утверждения не может исполнение последовать, они утверждают за свои действия. Державная Дума решает, а Верховный собор может чиновника отдать под суд. Отданный под суд судится судебным порядком. Генерал-губернатор имеет таковые же обязанности в отношении областных правлений. Из сего явствует, что собор удерживает в пределах законности Народную вечу и Державную Думу. Сам же не имеет никакого действия положительного. Главнокомандующие действующих армий назначаются Верховным собором. Он принимает начальство над армией, когда выступает за пределы государства, и слагает, когда в пределы вступает губернии на военном положении.
«Конституция – Государственный завет» определяет желаемое политическое и государственное устройство России. Пестель предложил республиканскую форму правления. Высшая законодательная власть предоставляется Народной вече. Исполнительная власть сосредоточена в Державной Думе. Ежегодно один из членов Державной Думы выходит и заменяется другим путем выборов. Председателем Думы становится последний, заседающий последний год. В Народной вече также каждый год пятая часть делегатов выбывает и заменяется новыми путем выборов. Председатель Народной вечи избирается ежегодно из числа заседающих последний год.
С целью избежать коррупции вводится еще один орган контрольной «блюстительной» власти – Верховный собор. Он должен состоять из «120 бояр» и назначаться пожизненно из числа самых уважаемых в России государственных деятелей. Так, участники Южного общества предполагали ввести в состав Верховного собора М.М. Сперанского, Н.С. Мордвинова и А.П. Ермолова, а из членов тайного общества – С.И. Муравьева-Апостола.
После событий Испанской революции в 1823 г. и расстрела испанских революционеров – полковников Риего и Квироги, несмотря на данное испанским королем Фердинандом VII слово сохранить им жизнь, по предложению Пестеля была внесена поправка в «Русскую Правду» о введении диктатуры Временного революционного правления и физическом уничтожении представителей царствующей династии.
Следующим важнейшим фрагментом «Русской Правды» является документ под названием «Дележ земель». Датировка его совпадает со временем написания второй редакции программы Южного общества, т. е. 1824 или началом 1825 г. Этот документ раскрывает суть решения крестьянского вопроса по Пестелю. Он категорически связывал освобождение крестьян от крепостной зависимости с обязательным наделением их землей.
Постановка Пестелем вопроса о праве каждого крестьянина на землю определялась известным принципом идеологии Просвещения – «естественным правом». Пестель утверждал: «Человек может только на земле жить и только от земли пропитание получать» (см.: Русская Правда // Восстание декабристов. Материалы и документы. М.-Л., 1958. Т. VII).
Как убедительно в свое время доказал С.М. Фаерштейн, Пестель руководствовался идеями французского сельского священника Жана Мелье, высказанными им еще в 1729 г. в его «Завещании»: Беднейшие слои общества обязательно должны быть защищены государством (Фаерштейн С.М. Решение аграрного вопроса в «Русской Правде» Пестеля // Очерки из истории движения декабристов / Под ред. Н.М. Дружинина. М., 1954. С. 32^0).
Пестель хорошо изучил и сочинение Морелли «Кодекс природы, или Истинный дух ее законов», вышедшее в свет еще в 1755 г. Он вполне разделял его мнение о необходимости частной собственности, которое гарантирует чувство независимости личности. Но если в Европе эти идеи имели отвлеченный характер, то в крепостной России Пестелем впервые была конкретно высказана мысль о частичной конфискации земли у крупнейших землевладельцев, чтобы обеспечить всех крестьян пашенной землей.
Документ «Дележ земли» содержит цифровую раскладку частичного отчуждения помещичьей землевладения в пользу крестьянской общины.
Дележ земель
I. У кого есть 1000 душ и более.
1. Если на каждую душу имеется по 10 или более десятин земли, тогда половина земли останется за помещиком, а другая половина отберется для волости без всякого помещику возмездия.
2. Если на каждую душу имеется менее 10 десятин земли, но не менее пяти, тогда половина земли останется за помещиком, а другая половина отберется для волости, а за оную получит помещик возмездие:
1000 – 9. – 9000. – 4500. – 4500. – 500. – 5000
1000 – 8. – 8000. – 4000. – 4000. – 1000. – 5000
1000 – 7. – 7000. – 3500. – 3500. – 1500. – 5000
1000 – 6. – 6000. – 3000. – 3000. – 2000. – 5000
1000 – 5. – 5000. – 2500. – 2500. – 2500. – 5000
1000 – 4. – 4000. – 2000. – 2000. – 2000. – 4000
1000 – 3. – 3000. – 1500. – 1500. – 1500. – 3000
1000 – 2. – 2000. – 1000. – 1000. – 1000. – 2000
1000 – 1. – 1000. – 500. – 500. – 500. – 1000
Таким образом, ему додается к его земле из казенных земель нужное число десятин, дабы итог всех его земель составлял 5000 десятин.
3. Если на каждую десятину имеется менее 5 десятин земли, тогда к половине остающейся за помещиком додается точно такое же число десятин, каковое от него отберется».
Далее идет второй вариант изложения проекта «дележа земель»:
«1. Если у помещика имеется 10 000 десятин земли или более, тогда отбирается у него половина земли без всякого возмездия.
2. Если у помещика имеется менее 10 000 десятин, но не менее 5000 десятин земли, тогда за отбираемую половину земли дается ему возмездие, состоящее в таковом числе десятин земли, чтобы итог возмездной земли и за ним остающейся земли составлял всего-навсего 5000 десятин.
3. Если у помещика имеется менее 5000 десятин земли, тогда ему дается за отбираемую для волости землю таковое же точно число десятин возмездной земли.
4. Число десятин возмездной земли может быть выдано из казны помещику деньгами или натурою. Если выдаваться будет деньгами, то ценность определится показанием волости или помещика. За то обязан будет.
(Восстание декабристов. М., 1958. Т. VII. С. 113–216)
Личность Павла Ивановича Пестеля – многогранна. Определенное представление о его взглядах дают его ответы Верховной следственной комиссии. Он последовательно и достаточно откровенно освещал этапы становления своих вольнолюбивых взглядов.
Вот отрывок из его следственного дела:
П. И. Пестель о причинах своего вольномыслия
1. Имя и отчество мои суть: Павел Иванович сын Пестель. Имею от роду 34 года, скоро минет 35.
2. Я принадлежу к лютеранскому вероисповедованию. Ныне царствующему Императору я не присягал на верное подданство, ибо арестован был 13 декабря прошедшего 1825 года.
3. До двенадцати лет возраста воспитывался в доме родителей, а в 1805 году отправлен с моим братом в Гамбург, а оттуда – в Дрезден… В 1810 году был отправлен в Пажеский корпус, оттуда выпущен в конце 1811 года прапорщиком в Лейб-гвардии Литовский полк, что ныне Лейб-гвардии Московский полк. О политических науках не имел ни малейшего понятия до самого того времени, когда стал готовиться к вступлению в Пажеский корпус, в коем их знание требовалось для поступления в Верхний класс. Я им тогда учился у профессора и академика Германа, преподававшего в то время сии науки в Пажеском корпусе.
7. Когда я получил довольно основательные понятия о политических науках, тогда я пристрастился к ним… Я видел, что благоденствие и злополучие царств и народов зависит большею частью от правительств, и сия уверенность придала мне еще более склонности к тем наукам, которые о сих науках рассуждают и путь к оным показывают… Продолжая таким образом заниматься, начал я потом уже рассуждать и о том: соблюдены ли в устройстве российского правления правила политических наук, и начал разные предметы обдумывать: какими постановлениями они могли бы быть заменены, пополнены или усовершенствованы.
Обратил также внимание на положение народа, причем рабство крестьян всегда на меня сильно действовало, а равно и большие преимущества аристократизации, которую я считал сменою, между монархом и народом стоящую и от монарха ради собственных выгод скрывающую истинное положение народа… Тогда начал во мне возникать внутренний ропот против правительства.
Возвращение Бурбонского Дома на французский престол и соображения мои впоследствии о сем происшествии могу я назвать эпохою в моих политических мнениях, понятиях и образе мыслей: ибо начал рассуждать, что большая часть коренных постановлений, введенных революциею, были при реставрации монархии сохранены и за благие вещи признаны… От сего рассуждения родилась мысль, что революция не так вредна, как говорят, и что может быть даже весьма полезна, в каковой мысли я укреплялся тем другим еще суждением, что те государства, в коих не было революции, продолжали быть лишенными подобных преимуществ и учреждений.
Тогда начали сии причины присовокупляться к выше уже приведенным и начали во мне рождаться почти совокупно, как конституционные, так и революционные мысли…
От монархически-конституционного образа мыслей был я переведен в республиканский главнейшими следующими причинами и соображениями: сочинение Детю де Траси на французском языке очень сильно на меня подействовало. Он доказывает, что всякое правление, где главою государства есть одно лишь лицо, особенно, если сей сан наследственен, неминуемо кончается деспотизмом.
Все газеты и политические сочинения так сильно прославляли возрастание благоденствия в Северных Американских Штатах, приписывая сие государственному их устройству, что сие мне казалось ясным доказательством в превосходстве республиканской конституции для России, но еще спорил тогда в пользу монархических, а потом стал его суждения себе припоминать и с ними соглашаться… Мне казалось, что главное стремление нынешнего века состоит в борьбе между массами народными и аристократиями всякого рода, как в богатстве, так и на правах наследственных <…> Происшествия в Неаполе, Гишпании и Португалии имели тогда большое на меня влияние. Я в них находил, по моим понятиям, неоспоримые доказательства в непрочности монархических конституций и полные достаточные причины к недоверчивости к истинному согласию монархов на конституции, ими принимаемые. Сии последние соображения укрепили меня весьма сильно в республиканском и революционном образе мыслей.
8. Я вступил на службу в 1811 году в ноябре месяце из Пажеского корпуса в Лейб-гвардии Литовский, а ныне Л.Г. Московский полк.
По открытии кампании 1812 года находился я на фронте при полку и был с полком в сражении при селе Бородино, где под самый уже вечер 26 августа ранен был жестоко ружейной пулей в ногу с раздроблением костей и повреждением жил, за что и получил золотую шпагу с надписью “За храбрость”.
За Лейпцигское сражение получил орден св. Владимира четвертой степени с бантом. За все предшествующие дела 1813 года был переведен в поручики. За кампанию 1814 года получил орден св. Анны 2-го класса. По окончании войны был я переведен в Кавалергардский полк в прежней должности, в коей пребывал до 1821 года.
Я, между тем, был употреблен в главной квартире 2-й Армии по делам возмущения греков и по сим же делам был троекратно посылаем в Бессарабию, представив тогда начальству две большие записки о делах греков и турок, которые и были отосланы к министру иностранных дел. В ноябре 1821 года был я не по старшинству произведен в полковники и в том же месяце назначен командиром Вятского пехотного полка, коим и продолжал командовать до 13 декабря 1825 года.
Ответы Пестеля Верховной следственной комиссии раскрывают весь путь становления его как оппозиционера существующему строю. Перед нами образованнейший человек своего времени. Он воспитан не только на литературе французского Просвещения, но и на более поздних сочинениях легитимистов, появившихся в период кризиса феодальных монархий в Европе. Идеи Бенжемена Констана, Детю де Траси, Шатобриана Пестель использует в своих политических сочинениях. Он тщательно следит за политическими событиями в Западной Европе, огорчается поражениями революций в Неаполе, Пьемонте, Испании и Португалии. Он знает о подвигах Боливара в Бразилии – колонии Португалии, огорчается приходом Бурбонов на французский престол и совершенно сознательно приходит к необходимости республиканской формы правления как выгодному большинству народа политическому строю.
Документы декабристов полны замечаниями по поводу революционного подъема в европейских государствах в 20-е годы. Декабристы разных убеждений приветствовали шествие революций в Западной Европе и Америке. Пестель в ответах следователям дал тонкий анализ современных ему политических событий, отметив шествие революционной мысли от одного конца Европы до другого: «…дух преобразований охватил все страны от Португалии до России, не исключая Англии и Турции», – утверждал он на следствии (Восстание декабристов. Т. 4. С. 105).
Ему вторил Поджио: «…дух преобразований взволновал народы. Испания, Неаполь, Пьемонт, Греция вслед один за другими приняли образ свободного правления» (Восстание декабристов. Т. 9. С. 37).
В идейном арсенале Южного общества декабристов, к которому принадлежал Пестель, есть и другие документы, отражающие политические взгляды его членов. Они связаны с именами Сергея Муравьева-Апостола и Михаила Бесужева-Рюмина, которые также закончили жизни на виселице кронверка Петропавловской крепости.
Особую роль в движении декабристов сыграли братья Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы. Их отец – Иван Матвеевич Муравьев-Апостол – сенатор, участник просветительского кружка Н.И. Новикова, один из образованнейших людей своего времени. В начале XIX в. он был приближен к трону. Позже участвовал в том тайном заседании Государственного Совета, которое обсуждало секретное завещание Александра I о престолонаследии.
Иван Матвеевич Муравьев-Апостол был горячим патриотом, и в годы Отечественной войны написал знаменитые «Письма из Нижнего Новгорода в Москву». В годы наполеоновской оккупации Испании, точнее, несколько ранее, он по делам службы долго жил в Испании. Его сыновья хорошо изучили испанские обычаи и местное управление кортесами – органами власти в испанских провинциях.
Образование и воспитание братья Муравьевы-Апостолы получали во Франции, учились во французских пансионах и хорошо знали новейшие политические учения французских просветителей Монтескье и Руссо. События Испанской революции и национально-освободительное движение против нашествия наполеоновских войск живо переживали.
Испанская Кадисская конституция 1812 г., принятая на острове Кадисе испанскими инсургентами, была хорошо знакома всем декабристам. Она была сколком с французской конституции 1891 г.
Но братьям Муравьевым-Апостолам были также хорошо знакомы и так называемые катехизисы – агитационные документы, написанные католическими монахами-инсургентами для борьбы за национальный суверенитет в годы испанского сопротивления в 1808–1812 гг.
Во время восстания Черниговского полка Сергеем Муравьевым-Апостолом был составлен «Православный катехизис», по образцу испанского агитационного документа. «Православный катехизис» содержал всю революционную риторику декабристской идеологии.
Его младший друг – Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, глубоко преданный ему, в то же время обратился к солдатом Черниговского полка с «Воззванием» – агитационным документом в поддержку «Православного катехизиса».
Катехизисы стали оригинальной формой политической агитации среди солдат. Эти краткие наставления, передающие стиль и слог священного писания, были выбраны не случайно. Такая форма сочинения была знакома и доступна широкой массе солдат и рассматривалась декабристами как действенный прием агитации. Еще в период Отечественной войны 1812 г. в русских журналах, в частности, в «Сыне Отечества» Сергея Глинки, в разделе иностранной хроники печатались текущие европейские события. Там впервые в русской печати появился «Гражданский катехизис, или Краткое обозрение должностей испанца с показанием, в чем состоит свобода и кто враги ее» (Сын Отечества. 1812. Ч. 1. С. 58–66).
Любопытно, что на эту публикацию обратили внимание независимо друг от друга и Сергей Иванович Муравьев-Апостол, и автор Северной конституции Никита Муравьев. Последний позже (в середине 1820 г.) под впечатлением этого испанского агитационного документа написал собственное сочинение «Любопытный разговор». А представитель Южного общества декабристов независимо от своего северного коллеги написал «Православный катехизис». Составлял он этот документ совместно со своим верным другом Михаилом Бестужевым-Рюминым в 1825 г., т. е. значительно позже.
По свидетельству отца декабриста, Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола, его сын познакомился с испанским катехизисом как агитационным приемом по роману де Сальванди за месяц до восстания Черниговского полка, мысль прочитать катехизис перед солдатами была почерпнута именно оттуда.
Как утверждает П.Е. Щеголев, роман об Испанской революции был привезен Михаилом Бестужевым-Рюминым из Бобруйска в декабре 1825 г., и мысль о прочтении катехизиса в среде солдат появилась непосредственно перед восстанием Черниговского полка.
Есть смысл сравнить испанский и декабристский агитационные документы.
Испанское влияние на южных декабристов несомненно. Восстание Черниговского полка и замысел С.И. Муравьева-Апостола совершить поход со своим полком на Киев и на Москву как бы повторял движение колонны испанского полковника Риего. Подготавливая солдат своего полка к восстанию, Сергей Муравьев-Апостол приводил примеры из истории похода Риего, который, по его словам, «с тремястами повстанцев достиг цели и восстановил Конституцию 1812 года» (см.: Алексеев М.П. Этюды из истории испано-русских отношений // Культура Испании: Сборник. М.,1940. С. 408).
Агитационные документы декабристов – реальное свидетельство их уверенности в том, что тактика «военной революции» может принести свои плоды.
7. Конституция Никиты Муравьева (1822–1826 гг.)
Дворянские революционеры, к которым принадлежал глава Северовного общества декабристов Никита Муравьев, сознательно вышли на поединок с самодержавной властью.
Из всего арсенала рационалистической философии Запада Никита Муравьев выбрал устойчивую систему правового порядка, охраняющего собственность и ее носителей – людей. Теоретическую опору своим идейным построениям Никита нашел в критике Эдмунда Берка, английского публициста XVIII в., который обрушился с резкой критикой на Французскую революцию. Никита Муравьев отбросил Якобинскую конституцию 1793 г. и в своей первой редакции (Список Трубецкого 1822 года) использовал монархическую конституцию Франции 1891 г., отражающую интересы умеренной части общества (см.: Дружинин Н.М. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933. С. 207).
Но был еще один источник идеологических поисков Никиты Муравьева, который отметил знаток декабризма В.И. Семевский, – Испанская конституция 1812 г., подписанная на острове Кадис. Вождя дворянской революционности привлекало в этом конституционном акте удачное сочетание элементов средневековой Арагонской конституции, отражающих феодальное право, и наличие просветительских принципов, заимствованных из Французской конституции 1791 г. В обширном теоретическом введении к Кадисской конституции 1812 г. содержалась обстоятельная критика патримониальной теории, оправдывающей абсолютную монархию. Ей умело противопоставлялась идея народного суверенитета. Первые параграфы первой редакции Конституции Никиты Муравьева (список Трубецкого) 1822 г. являются дословным переводом соответствующих статей Испанской конституции.
Муравьев хорошо знал и Американскую конституцию 1787 г., когда Соединенные Штаты еще объединяли 23 штата в Северной Америке (Там же. С. 207). Кроме того, преобразования, содержащиеся в Конституции Никиты Муравьева, заимствованы из либеральных воззрений периода реставрации. Как убедительно показал Н.М. Дружинин, Муравьев выступает последователем Бенжемена Констана, приветствовавшего наступившую эру Реставрации и решительно осуждавшего «преступления революции».
Идеология декабристов – сложнейшее построение, которое определяется многими моментами внутренних русских социально-экономических условий, западными политическими веяниями и логикой эволюции взглядов и убеждений самих декабристов. Конституция Никиты Муравьева – основополагающий источник идеологии декабристов. В нем в полной мере воплотилась идея народного суверенитета. В условиях господства самодержавия эта идея получала в Конституции Никиты Муравьева особую политическую заостренность в борьбе с патримониальной идеей, доказывающей необходимость абсолютизма.
При этом ограничение власти монарха суспензивно-мажоритарным вето (двукратным возвращением законопроекта в Народное вече с оставлением последнего слова за этим органом народного представительства) делало проект Никиты Муравьева близким к республиканскому. Весь комплекс принципов европейского законодательства: идеи народного суверенитета, разделения властей, имущественного ценза в избирательной системе, защиты частной собственности – создает особый фон этого революционного документа. Но сохранение крупного дворянского землевладения, даже с учетом наделения (в последней редакции Конституции) крестьян двумя десятинами полевой земли, дают основания говорить о значительной дворянской ограниченности этого документа.
При всей отточенности принципиально важных положений Конституции Никиты Муравьева этот документ не был закончен и еще не был принят в качестве руководящего идейного источника всем Северным обществом декабристов.
Известно о существовании четырех редакций Конституции: первая – Список С. Трубецкого, или Минская редакция – датируется 1822 г.; вторая – Пущинская редакция – 1824 г. Третья редакция была закончена осенью 1825 г. непосредственно перед выступлением на Сенатской площади и уничтожена ее автором Никитой Михайловичем Муравьевым в связи с опасностью ареста. Четвертая редакция написана по требованию Следственной комиссии в крепости и имеет название Тюремной. Никита Муравьев, как и опасался, был арестован и заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости как наиболее опасный политический преступник. Полный текст всех трех сохранившихся редакций Конституции Никиты Муравьева впервые был опубликован в Приложении к книге Н.М. Дружинина «Декабрист Никита Муравьев» (М., 1933. С. 289–369).
Наиболее полно, откровенно и отважно автор этого документа высказался в Тюремной редакции, которая и приводится ниже.
Конституция соч. Никиты Муравьева
(написанная его рукою в каземате крепости и представленная при ответах)
В донесении моем на 16 пункт запроса мне генваря 5-го дня я изъяснялся уже, что не будучи в состоянии представить писанного мною проекта Конституции совершенно в том виде, в каком он оный был написан, сохраню дух оного и содержание. Вследствие сего имею честь оную здесь представить.
Предлагаемый мною конституционный устав о России вообще
Образ правления ее монархический представительный, одинаковый для всех частей ее.
Разделение оной. Основным разделением принимаются уезды, которые соединяются в области, равные нынешним генерал-губернаторствам.
Уезды составлены из городов и волостей, которые делятся на сотни и на десятки домов или дворов.
Столица предполагалась в Москве, коей губерния составила бы округ, независимый от областей. Итак, следующие были бы центры управления и правосудия:
Об обязанностях и правах жителей
Все русские подчинены одним и тем же законам без различия состояний, обязаны участвовать в выборах, если ответствуют условиям, требуемым законом, и не отклоняться от должностей, на которые они изберутся – Крепостное состояние отменяется. Помещичьи крестьяне получают в свою собственность дворы, в которых они живут, скот и земледельческие орудия в оных находящиеся и две десятины земли на каждый двор, для оседлости их. Земли же они обрабатывают по договорам обоюдным, которые они заключают с владельцами оных. Они получают право приобретать землю в потомственное владение.
Все жители, какого бы они состояния ни были (если они не порочны перед законом, пользуются здравием ума, совершеннолетние и не находятся в услужении при ком-либо), имеющие движимого или недвижимого имения на 500 серебряных рублей, составляют класс избирателей и присяжных. Гражданские чины и классы отменяются.
За долги всякий ответствует своей личностью и заключается в тюрьму. Служба не освобождает от заключения за долги.
Заключенные за легкие проступки или долги и несовершеннолетние должны находиться вместе с преступниками: обвиненные с обличенными.
Подушный оклад распространяется на всех жителей. Оный платится только с 18 лет возраста и прекращается на 60-м году.
В мирное время безденежный постой войск и взимание подвод возбраняются.
Цехи мещанские и гильдии в купечестве отменяются. Книги подвергаются обвинению в обыкновенных судилищах при присяжных.
Об императоре
Лицо императора священно и неприкосновенно. – Он не подлежит суждению. Он облечен всею верховною исполнительною властью. Он верховный начальник всей сухопутной и морской силы, назначает и отменяет по своему произволу министров, главнокомандующих армиями и флотами и всех чиновников исполнительной власти – представляет Россию во всех ее сношениях с иностранными державами, назначает посланников и ведет переговоры.
Имеет право сзывать по своему произволу обе палаты Народного веча и отсрочивать их заседания – но не более, как на три месяца. Он предлагает Народному вечу проекты законов, принуждает его к вторичному рассмотрению принятого или отвергнутого им предложения. В случае суда он имеет власть созвать Верховную Думу отдельно. Он заключает мирные трактаты с согласия одной Верховной Думы.
Император дает грамоты назначения всем сановникам империи. Его изображение чеканится на монетах. Он пользуется определенным на все его царствование доходом. Женщины не наследуют престола. Министерства полагается четыре: финансов, иностранных дел, военное и морское.
Министры ответствуют за всякое противозаконное веление, ими подписанное.
Законодательная власть вверяется Народному вечу, составленному из двух палат: Верховной Думы и Палаты представителей.
Верховная Дума
Члены оной должны быть не моложе 30 лет и владеть движимым или недвижимым имением не менее 60 000 серебряных рублей. Они избираются областными палатами на 6 лет, от каждой области по три. И так Дума состояла бы из 45 членов. Дума возобновляется каждые два года по третям.
Дума участвует в заключении мирных трактатов, и ей одной Министерство иностранных дел сообщает свои сношения.
Трактат, на который она согласилась, пребывает непоколебимым. Ей принадлежит суд над министрами и вообще сановниками империи, обвиненными Палатою представителей – но власть не судная ограничивается тем, что она имеет только право лишить судимого его политического звания, после чего он уже не подлежит Думе, а отступает в обыкновенные судилища и получает присяжных. Верховная Дума наравне с Палатою представителей представляет законы и отвергает ей предложенные на рассмотрение, если их не одабривает.
Палата представителей
Каждые 50 000 жителей мужского пола посылают в оную одного представителя, что составит около 450 членов. Они избираются на два года.
Условия, чтобы быть представителем: совершеннолетие, здравие ума, непорочность перед законом и доверие избирателей. Чиновники, находящиеся на службе, не могут быть избраны ни в ту, ни в другую палату – равно, как и все те, которые приняли на себя казенные подряды и не очистили еще дел своих по оным. Обвинение чиновников предоставлено Палате представителей. Народное вече собирается, по крайней мере, два раза в продолжение каждого двухлетия. Продолжение сих съездов не определено, но зависит от большего или меньшего числа занятий. Обе палаты от времени до времени печатают журнал своих заседаний, кроме того, что положено будет оставить тайным.
Заседание обеих палат происходит при открытых дверях. В Верховной Думе по соглашению 5-ти членов, а в Палате представителей по соглашению 50-ти, происходят тайные заседания. По востребованию императора, всегда бывает тайное совещание в обеих палатах. Когда Дума рассуждает о дипломатических сношениях и трактатах, то ее заседания всегда должны быть тайными. Народное вече имеет право распустить областные палаты, преступившие пределы своей власти, и повелеть избирателям приступить к новым выборам. Члены Народного веча получают денежное вознаграждение за всякий день, в который они заседали в своей палате – равномерно на путевые издержки в столицу и обратно к себе.
О составлении законов
Власть предлагать законы имеют министры и члены обеих палат. Вход в Народное вече, кроме министров, имеют еще особенно на то определенные чиновники от каждого департамента министерств для доставления сведений и советов членам Веча. Закон принимается или отвергается большинством голосов. Ежели император не согласится на какой-либо закон, то он возвращает его со своими возражениями в ту палату, в которой возник сей закон. Замечания сии вписываются в протокол палаты без сокращений, и возобновляется прение. Имена всех членов, противящихся или согласившихся на сей закон, записываются в журнал, и две трети голосов необходимы для решения сего прения.
После того предложенный закон поступает в другую палату, где подлежит таковому же испытанию. Если же проект при вторичном рассмотрении оного принят двумя третями голосов всего Веча, то он становится законом. Объявление войны по предложению министров принадлежит Вечу. Вече не имеет права ни уничтожить сего устава, ни даже делать в оном изменений. Право сие принадлежит народному и областным соборам, на сей единственно предмет собираемым.
Областные палаты
В каждой области должны находиться две палаты: областная Дума и Палата выборных.
Палата выборных состоит из депутатов, выбранных обыкновенными избирателями, на каждые 10 000 душ мужского пола по одному выборному.
Областная Дума в населенных областях должна быть не более трети Палаты выборных, а в малонаселенных не более половины.
Условия, чтобы быть членом областной Думы, суть те же, которые требуются от областного судьи. Выборные назначаются на год. Члены Думы на четыре и каждый год четвертая часть оной возобновляется новыми выборами. Дела Министерств внутренних дел и просвещения, равным образом занятия Департамента путей сообщения, поступают в особое ведомство сих палат. Они обязаны во всем соображаться с общими законами империи, не имеют права делать частные постановления по предметам внутреннего управления и учреждать для сего налоги при определенных законодательной властью ограничениях.
Палаты не могут оставаться в кругу возмущенном или занятом неприятелем. В таком случае они теряют свою законность, и каждый из членов оных подвергается личной ответственности.
Палата выборных пользуется правом обвинить областных чиновников; суд же оных предоставляется Думе.
Правление волостное, городское и уездное
В каждой волости все жители мужского пола без изъятия или отцы семейств выбирают себе голову, писаря и волостной Совет из 24 человек.
В каждом городе все владельцы домов избирают из среды своей городничего, секретаря и советников сообразно населению города.
Городовое и волостные управления, соединяясь в уездном городе, избирают уездного голову, секретаря и уездный Совет.
Управление уездное и городовое ни в коем случае не могут состоять из одних и тех же лиц.
Сим управлениям вручается хозяйственная или административная власть, сбор податей и пр. Судная же и полицейская власти им вовсе чужды, хотя они пользуются правом брать под стражу нарушителей порядка и тишины и представлять их полиции или сов. судье.
Об изменениях устава
Если б нашлась необходимость изменить, усовершенствовать или вовсе отменить сей устав, Народное вече объявляет сие предметом обыкновенного закона и созывает в столице или в другом каком-либо городе на сей предмет Народный собор. Члены оного должны быть равны числом членам Народного веча и назначаются теми же избирателями. Народный собор не имеет никакой власти и должен только заниматься порученною ему работою.
Рассуждения его происходят гласно и печатаются. Все решится в оном две трети голосов. Шесть месяцев определяются для приведения к окончанию его поручения. По окончании оного Народный собор распускается и председатель оного доносит о том Вечу, препровождая при том проект Собора, который немедленно печатается.
После того другой закон назначает областные Соборы для обсуждения, принятия или отвержения проекта устава, сочиненного Народным собором. Каждая область назначает в Собор свой двойное число депутатов против того, которое она имела в Народном соборе – Областные Соборы созываются все в один и тот же день.
Им назначается срок, к которому они должны решительно принять или отвергнуть предлагаемый им устав – и они должны разойтись все в один и тот же день. Они не имеют уже права делать новые соображения, но должны только принять или отвергнуть проект Народного собора. Для сего нужны две трети голосов в каждом областном Соборе.
Так как народонаселение областей весьма не равно, то для принятия или отвержения нового устава считаются не Соборы, но две трети голосов наличных членов, заседавших в оных.
После того новый устав приводится уже в исполнение или остается старым.
Капитан Муравьев
Января 13-го дня 1826
Этот уникальный документ для всего XIX столетия являет собой развитие и преемственное восприятие отечественной конституционной мысли.
Провозглашенная монархия – лишь дань уважения к традиции императорской власти в России. Многие из декабристов шли дальше монархического правления в России, и сам Никита Муравьев понимал по-своему предложенный им принцип конституционной монархии.
Там же, где писался Тюремный вариант его Конституции, в каземате Алексеевского равелина Петропавловской крепости, Верховной следственной комиссией ему были предъявлены вопросные пункты. 27 апреля 1826 г. генерал-адъютант Чернышев получил ответы Никиты Муравьева:
Изложив все мое поведение в сем случае, мне остается представить мои предположения. Я полагал:
1-е. Распространить между всеми состояниями людей множество экземпляров моей Конституции, лишь только оная будет окончена.
2-е. Произвесть возмущения в войске и обнародовать оную.
3-е. По мере успехов военных, во всех занятых губерниях и областях приступить к собранию избирателей, выбору тысяцких, судей, местных правлений, учреждению областных палат, а в случае великих успехов и Народного веча.
4-е. Если б и тогда императорская фамилия не приняла Конституции, то, как крайнее средство, я предполагал изгнание оной и предложение республиканского правления.
(Восстание декабристов. М., 1925. Т. 1. С. 325)
Итак, Никита Михайлович Муравьев работал над своим конституционным проектом несколько лет. В условиях мрачного застенка Алексеевского равелина, зная, что его не пощадят и, по всей вероятности, лишат жизни, он нашел в себе мужество откровенно высказать самые смелые свои суждения относительно необходимости смены политического строя в России, вплоть до принятия республиканского способа правления. Из всех редакций своей Конституции он представил Следственной комиссии самую радикальную, где ограниченное право вето императора оставляло последнее слово за Народным вече. А крестьянский вопрос решался не только формальным освобождением крестьян от крепостной зависимости, но и наделением их полевым наделом в размере двух десятин земли, что было близким к условиям освобождения крестьян по реформе 1861 г. Никита Муравьев и его единомышленники опережали свое время.
Верховная следственная комиссия и Верховный уголовный суд по делу политических преступников подготовили доклад от 30 мая 1826 г. и Манифест. 13-го июля 1826 г., которые подводили итог «делу, которое считали делом всей России», «…преступники восприняли достойную их казнь» (см.: Восстание декабристов: Документы. М.,1980. Т. 17: Дела Верховного уголовного суда и Следственной комиссии. С. 252–253. Подробнее см.: Минаева Н.В. Люди русского сопротивления. М.: Академия, 2004. С. 143–167).
Однако идеологические документы декабристов вошли в историю русской конституционной мысли и продолжили ход ее развития. Многие современники дворянских революционеров глубоко сочувствовали им и старались, в меру своих возможностей, продолжить их дело.
8. Регламент Молдавии и Валахии (1831 – 1832 гг.)
Граф П.Д. Киселев (1788–1872) – выдающийся государственный деятель. Участник Отечественной войны 1812 г., он позже служил на юге России, где познакомился с главой Южного общества декабристов Павлом Ивановичем Пестелем. Был с ним в доверительных отношениях, много обсуждал судьбу крепостных крестьян и политическое положение в России. После разгрома декабристов вынужден был оправдываться перед царем в своих связях с «государственными преступниками» – декабристами. Однако его собственные убеждения были близки к радикальным. В 1816 г. он представил императору Александру I свой первый проект освобождения крестьян, а позже был привлечен Николаем I к проведению известной реформы государственных крестьян.
После Адрианопольского мира 1829 г., завершившего русско-турецкую войну, генералу Киселеву, активно участвовавшему в этой войне, было поручено создать администрацию Молдавии и Валахии (на территории нынешней Румынии и Молдавии), переходивших под протекторат России.
Были созданы «Органические регламенты 1831–1832 гг.», оформленные генералом Киселевым как государственный акт. Они отражали многие положения предшествующих этапов развития русской потаенной конституционной мысли, которые, несомненно, разделял генерал Павел Дмитриевич Киселев. Сам он изложил суть нового регламента в следующих словах:
О существе регламента в Молдавии и Валахии 1831–1832 гг.
С предоставлением по Адрианопольскому трактату избрания господарей из местных бояр регламент определяет порядок сего избрания; для сего устанавливаются экстраординарные собрания по Валахии из 190, а по Молдавии из 132 членов, а именно: а) митрополита и епархиальных епископов; б) бояров первых двух классов, имеющих недвижимую собственность; в) уездных депутатов из местных владельцев; г) депутатов городских из торгующего сословия.
За сим определяется образование законодательной части. Для чего учреждаются ординарные собрания по Валахии из 43, а по Молдавии в составе 34 членов из высшего духовенства, бояров по избранию боярского сословия и уездных депутатов из местных владельцев. Ординарное собрание созывается в исходе каждого года, рассматривает и одобряет проекты новых законов; поверяет отчеты по разным частям управления и в особенности по части финансовой. Оно рассматривает также сметы на предстоящий год и представляет на утверждение господаря. В случае замеченных злоупотреблений ординарное собрание доводит о том до сведения господаря для предания виновных ответственности; оно может представлять также о требованиях и жалобах обывателей и вообще о предметах, относящихся до общей пользы.
Правительственная часть вверяется советам, под председательством первенствующих бояр, из управляющих департаментами.
Дела текущие, по части исполнительной. Разрешаются в обыкновенном составе совета из председателя, ворника внутренних дел, вистиара и постельника; в важных случаях составляется экстраординарное собрание, в которое приглашаются управляющие прочими департаментами, как то логофеты юстиции и духовных дел, начальник земской стражи и главный контролер. Определение совета приводится в исполнение с утверждения господарей.
Образование внутреннего управления в частях его определяется следующим образом:
Департамент внутренних дел заведовает: а) полициею, б) учреждениями охранения общественного здоровья и в) хозяйственною частью.
Полицейское управление собственно по исполнительной части составляют в столицах «аджии», в уездах – исправники, которым подчиняются полицмейстеры по городам и подуправители по классам: исправительная часть, заключая в себе заведование тюрьмами и исправительными домами, вверяется ворнику темниц.
Для сохранения внутреннего спокойствия и порядка регламент определяет корпус доробанцев, который распределяется в соразмерном количестве при всех полицейских местах и тюремном управлении.
Учреждения, для охранения общественного здоровья, составляют карантинные комитеты, которые, с одной стороны, заведовают дунайскою карантинною линиею, а с другой – наблюдают за благополучным состоянием здоровья в крае, посредством медицинских управ и медиков, определенных по городам.
Хозяйственную часть составляют: 1) строительный комитет, заведовающий публичными зданиями и устройством дорог и мостов; 2) резервные магазины для обеспечения жителей в продовольствии; 3) городское управление, вверяемое магистратам, которые, на основании городских учреждений, пользуясь определенными доходами, имеют обязанностью устройство городов во всех хозяйственных отношениях и, наконец, 4) распоряжение о крестьянах. В сем отношении регламент определяет права и обязанности поселян к правительству и особо к владельцам.
В первом случае, поелику все повинности натурою, исключая устройства дорог, уничтожены, то сельские общества, для исполнения разных земских потребностей, должны иметь общественные сельские кружки, полагая по три лева с семейства.
За счет сих кружков должны быть исполняемы все наряды и повинности, на обязанности селений лежащие.
В отношении к владельцам земель прежде всего утверждается свобода крестьян переходить с одной земли на другую и даже в городское сословие.
Обязанности крестьян ограничены, по соразмерности, с количеством земли, для каждого семейства отводимой.
Приняв в расчет ценность продуктов, получаемых с участка, назначается из сего, во-первых, казенная подать, во-вторых, содержание поселянина с семейством и продовольствие скота, остаток дохода определяется в пользу владельца таким образом, чтобы поселянин, вместо денег, уплачивал по соразмерности работою, полагая в год по 12 рабочих дней.
Затем назначение в пользу бояров послушников и сокотельников уничтожено; и люди, составлявшие сии два класса, поступают в общее податное состояние; в вознаграждение за сие владельцев определяется им в виде пенсий по Молдавии до 1 000 000, а по Валахии 1 500 000 лев.
Управление благотворительными заведениями и училищами составляет предмет обязанности по Валахии департамента духовных дел, а по Молдавии центрального комитета, подчиненного логофету внутренних дел.
В сем отношении регламент устанавливает:
1. Учреждение начальных школ по уездным городам и центральных училищ в столицах; способы содержания оных и порядок преподавания наук;
2. Учреждение и содержание госпиталей;
3. Заведование классами призрения бедных и воспитательными домами, сему же департаменту вверяется управление монастырскими имениями и получение с оных доходов, назначенных в помощь благотворительных учреждений.
Определяя, таким образом, часть монастырских доходов на предметы общественных надобностей, регламент возлагает сверх того на обязанность духовного начальства учреждение трех семинарий для образования юношества, принадлежащего к духовному сословию.
В отношении к департаменту финансов регламент устанавливает, во-первых, новую финансовую систему, и, во-вторых, правила о торговле.
1. Закон о финансах, уничтожая все косвенные налоги с предметов сельских произведений и сбор натурою, определяет общую поголовную подать по 30 левов с семейства в год.
Ремесленники должны платить за право патентов 1-го класса – 90 и 2-го – 50 левов.
Далее следует доход с откупов: соляного, таможенного, рыбных ловель и за выпуск продуктов.
Расходы разделяются по предметам и определены штатами: на содержание господаря; на управление; на учреждения, обеспечивающие общественное спокойствие; на благотворительные заведения.
Все косвенные доходы должностных лиц уничтожаются. За сим определяется порядок сбора доходов, правила расходования и составление отчетности.
2. По предмету торговли все сборы сельской промышленности внутри княжества уничтожаются.
Вывоз продуктов за границу допускается свободно, с одним только ограничением, когда правительство найдет нужным, в случае неурожая, приостановить выпуск продуктов.
Для обеспечения правильности движения сумм по всем частям управления регламент устанавливает контроль, который, ревизуя по общим контрольным правилам приходо-расходные книги, составляет за каждый год генеральные отчеты для представления на рассмотрение ординарного собрания и, в то же время, доносит господарю о начетах. Какие по ревизии будут подлежать к взысканию.
В отношении судебной части регламент, отделяя оную от исполнительного ведомства, устанавливает три инстанции.
В первой (уездный трибунал) начинаются все процессы гражданские, коммерческие и уголовные, и решения приводятся в исполнение, если цена иска не превышает 1500 левов. Выше сей цены дела переходят по апелляции во вторую инстанцию: гражданские – в судебный диван, коммерческие – в коммерческий трибунал и уголовные – в уголовный департамент.
Третья инстанция-верховные диваны, которые решают всякого рода дела окончательно и представляют приговор через логофета юстиции на утверждение господарю. Господарь, не имея права судить, пользуется властью, в случае сделанного неправильно приложения закона, обратить дело для пересмотра: по Молдавии – в княжеский диван, а по Валахии – в высший ревизионный диван.
Дела, единожды решенные в установленных формах, не могут быть подвергаемы новому рассмотрению и остаются навсегда неприкосновенными.
Далее определяется порядок судопроизводства, обязанность логофета юстиции и подведомственных ему прокуроров, по наблюдению за правительственным решением дела, охранением форм и прочее.
Для прекращения процессов, возникающих по случаю беспрерывных поземельных споров, устанавливается общее специальное размежевание земель в обоих княжествах, которое имеет быть приведено в действие через особые межевые комиссии.
Наконец, регламент определяет учреждение земской стражи, которой образование, состав и обязанности подробно изложены в 1-й части, в 7-м отделении.
Таковое преобразование княжеств, объемля все части внутреннего управления, все права личные, от верховного правителя до поселянина, составляет переворот общий, которого народ домогался издавна, и который столь часто возобновляем был мятежами и кровавыми позорищами без всяких последствий добра. Если временное российское правительство успело совершить сие преобразование спокойно, то оно достигло сего строгим уважением прав личных, верным распределением гражданских преимуществ, не стесняя одного класса в пользу другого, и уничтожило те токмо частные привилегии, которые, будучи введены злоупотреблением, нарушали общественное благосостояние. – Трехлетний опыт существования регламентов вполне оправдал сии основания; успешное развитие новых учреждений, общее одобрение всех сословий служат тому доказательством.
Будущему управлению предлежит строго держаться основных правил регламента и охранять святость оного, как залог общественного благосостояния; иначе всякое уклонение к прежнему порядку дел может произвести пагубные для края последствия.
Заключение
В чем состоят распоряжения по управлению княжествами в продолжение 4-х лет: действия опустошительной заразы уничтожено, благополучное состояние обеспечено внутри: устройством медицинского управления, извне: учреждением карантинной линии, составляющей неразрывную цепь с карантинными учреждениями Европы.
Разбои прекращены, внутреннее спокойствие и неприкосновенность границ ограждены достаточными полицейскими учреждениями и сформированием земского войска.
Дороги, мосты и почты приведены в устройство. Города получили свои муниципальные учреждения: устройство мостовых, сушение болот, освещение улиц, заведение пожарных инструментов, устройство тюрем и, наконец, составление значительных городских капиталов суть следствия сего нового преобразования.
Управление духовной части получает приличное устройство, значительная часть монастырских доходов отделяется на общественные надобности и учреждение семинарий.
Бедные и больные находят пристанище в благотворительных заведениях. Юношество приобретает средства образования в отечественных училищах.
Естественные богатства края исследованы и представляют новые источники для трудолюбия и промышленности. Состояние сельского класса улучшено, злоупотребления уничтожены, повинности уменьшены. Народное продовольствие обеспечивается учреждением резервных магазинов.
Промышленность получает возможное облегчение и покровительство, устроение портов, установление непременного курса на монету, свобода торговли умножают избыток произведений, и край приобретает огромные выгоды в заграничной торговле.
Доходы увеличились в три раза и доставили возможность, за удовлетворением всех потребностей края, за уплатою долгов, простиравшихся до 7 000 000 лев, за отделением в пользу российской казны до 6-ти миллионов, оставить еще в пользу края сбережений по разным частям управления более 5-ти миллионов левов.
Судебная и уголовная часть получают надлежащее устройство, остается токмо желать большей опытности познаний в судьях, чего, по новости учреждений, нельзя еще требовать, и что довершено будет временем; между тем, установление порядка и форм, составление гражданского, уголовного и коммерческого уложений служат ручательством к обеспечению прав, ищущих правосудия.
Наконец, край, призванный к политическому существованию благотворным действием Адрианопольского трактата, получает гражданское бытие, утверждаемое на твердых основаниях регламента. Многолетние постоянные усилия нашего министерства увенчиваются в течение нескольких месяцев самым счастливым успехом; и народ, доселе чуждый всякого гражданского порядка, с признательностью признает цену новых учреждений, дарованных отеческою заботливостью Августейшего покровителя сего края.
Событие, сие столь важное в отношении к сим двум провинциям, будет служить новым доказательством, что не буйными требованиями народа утверждается общее благоденствие, но властию высшею, беспристрастною, которая одна токмо может уравновесить права различных сословий и укрепить народное благосостояние на правилах твердых и сообразных с общими потребностями и выгодами.
(Публикация по кн: Заболоцкий-Десятовский А.П. Граф П.Д. Киселев и его время. СПб., 1882. Т. 4. С. 138–145).
Этот конституционный документ вобрал в себя ряд принципов западноевропейского и отечественного правоведения:
1. Идея народовластия; высшим органом законодательной власти являются Ординарные собрания в княжествах Валахии и Молдавии.
2. Эти народные собрания избираются из трех высших сословий: духовенства, бояр и уездных депутатов.
3. Осуществляется принцип разделения властей: законодательная власть отделена от исполнительной и судебной.
4. Вводится местное самоуправление в уездах, на которые возлагается часть социальных обязанностей.
5. Крестьяне получают право переходить с одной земли на другую, т. е. частично отменяется крепостное право.
6. И, наконец, провозглашается неприкосновенность личности: провозглашается «строгое уважение прав личных, не стесняя одного класса в пользу другого».
9. Великие реформы и проект П.А. Валуева (1862 г.)
Эпоха Великих реформ началась с Положения 19 февраля 1861 г. и отмены крепостного права. Она открывала перед Россией огромные перспективы. У ее истоков стояли умнейшие люди России. Среди них выделялись братья Милютины, Дмитрий Алексеевич (1816–1912) и Николай Алексеевич (1818–1872). Это либеральная элита, просвещенная бюрократия, своего рода гувернаменталисты, по образному выражению академика Н.М. Дружинина, использовала свое служебное положение для проведения в жизнь собственных взглядов, направленных на успешную модернизацию России. Был еще и младший Милютин – Владимир Алексеевич (1826–1855), входивший в сороковые годы XIX столетия в кружки петрашевцев, он занимался экономическими проблемами и разделял социалистические идеи Шарля Фурье.
Братья Милютины были племянниками графа П.Д. Киселева – одного из влиятельных государственных деятелей николаевского времени и автора реформы государственных крестьян, подготовившей освобождение крестьян частновладельческих.
Бесспорную роль в проведения реформ в России сыграла личность нового царя Александра II. В его воспитании и обучении принимали участие гуманнейший Василий Андреевич Жуковский, крупномасштабный реформатор Михаил Михайлович Сперанский, либерал и профессор Петербургского университета Константин Дмитриевич Кавелин. Характер Александра II также должен был сыграть определенную роль. Лучше всего его нрав отражен в воспоминаниях Анны Федоровны Тютчевой, фрейлины императрицы Марии Александровны. Анна Федоровна в какой-то степени отражала прозорливость своего отца, поэта Федора Тютчева. Она писала: «Император – лучший из людей. Он был бы прекрасным Государем в хорошо организованной стране и в мирное время, где приходилось бы только охранять. Но ему недостает темперамента преобразователя». И далее, говоря уже о чете Романовых: «.. В них нет той мощи, того порыва, которые владеют событиями и направляют их по своей воле». А 21 января 1856 г. она продолжает: «Мне невыразимо жаль его, когда я вижу, что, сам того не ведая, он вовлечен в борьбу с могучими силами и страшными стихиями, которых он не понимает» (Тютчева А. Ф. Дневник).
В этих обстоятельствах решающую роль должны были сыграть так называемые гувернаменталисты – высокопоставленные чиновники, использующие свои служебные посты для проведения собственной программы реформ.
Накануне реформы в обществе и в правительственных кругах не умолкало обсуждение о представительных учреждениях в России, а также обсуждение крестьянского вопроса.
Весьма любопытно, что либеральное окружение пыталось склонить императора к инициативе решить крестьянский вопрос. В имении тетки царя Елены Павловны в селе Карповка Полтавской губернии был применен проект освобождения крестьян, разработанный Н.А. Милютиным, занимавшим тогда должность директора хозяйственного департамента Министерства внутренних дел. Группа либеральной бюрократии (К.Д. Кавелин, В.А. Черкасский, А.А. Абаза во главе с Николаем Милютиным) выдвинула проект освобождения крестьян с землей за выкуп при сохранении крупного помещичьего землевладения.
В 1857 г. за границей, во Франции, император встречался с русским послом в Париже Павлом Дмитриевичем Киселевым, который посоветовал Александру II осуществить проект его племянника Николая Милютина и освободить крестьян с землей.
В ноябре 1858 г. Николай Милютин получил пост товарища министра внутренних дел и стал идейным вдохновителем Редакционных комиссий по подготовке крестьянской реформы. Председателем редакционных комиссий был назначен личный друг царя – генерал-адъютант Яков Иванович Ростовцев, в свое время замешанный в дела тайных обществ декабристов, а председателем Главного комитета по крестьянским делам – брат царя великий князь Константин Николаевич, известный симпатиями к либеральному русскому обществу и защитой крестьянской реформы.
Главным исполнителем Положения 19 февраля 1861 г. стал Николай Алексеевич Милютин. Его труды по экономической истории России способствовали подготовке крестьянской реформы. Позже, в 1863 г., Милютину было поручено проведение крестьянской реформы в Польше. Но такое радикальное действие, как крестьянская реформа, не могло не вызвать оппозицию. В апреле 1861 г. Николай Милютин был выведен в отставку. Министром внутренних дел был назначен его оппонент граф П.А. Валуев.
Петр Александрович Валуев (1815–1890) все более становился доверенным лицом Государя. С апреля 1861 по 1868 г. он занимал пост министра внутренних дел. Ему было поручено проведение в жизнь Земской реформы.
Была создана специальная комиссия по проведению Земской реформы. Император был непоследователен в проведении реформ. По выражению Валуева, он придерживался политики «немыслимых диагоналей», которая с самого начала таила в себе большие опасности. Пойдя на отмену крепостного права, он ненавидел гласность, его раздражала реакция общества на происходящие политические события. Царь находился в плену самодержавных представлений о политической обстановке в России. Он не терпел противоречий, обвинял периодическую печать и всю русскую литературу в необузданности. Во главе Министерства просвещения он поставил адмирала Е.Ф. Путятина, попечителем Петербургского университетского округа сделал боевого генерала Г.И. Филиппсона. Поднявшаяся волна студенческого движения была грубо подавлена.
Серьезно испугали царя события в Польше в 1863 г. Николай Милютин, посланный туда для проведения крестьянской реформы, обратился к царю с советом собрать Сейм и восстановить Конституционную Хартию Польши, на что Александр II возразил, ссылаясь на то, что в этом случае надо созывать и Земский собор в Москве.
Александр II был органически связан с монархически-патримониальной идеей. Но страх перед нарастающим освободительным движением заставлял его идти на уступки. В том же 1863 г. в Финляндии он восстановил Сейм, не собиравшийся полвека, и 6 сентября 1863 г. в Гельсингфорсе торжественно выступил по-французски перед финнами, отстаивая «неприкосновенность конституционной монархии», к которой привык финский народ.
Однако в первые годы после отмены крепостного права царь поддержал проведение целого ряда буржуазных реформ: 17 апреля 1863 г. были отменены телесные наказания (в день рождения императора); в 1863 г. был введен университетский устав; введена гласность государственного бюджета; в 1864 г. – земская реформа и Судебные Уставы, началась подготовка военной реформы, доверенная либеральному Дмитрию Алексеевичу Милютину.
Царь вполне осознанно допускал введение всесословного местного выборного самоуправления. Но когда Валуев выступил с проектом ограничения аристократии в Государственной Совете, царь категорически отказался от этой затеи.
В апреле 1861 г. Валуев вступил в должность министра внутренних дел, а в 1862 г. уже представил императору свой новый проект политического переустройства России. В 1872–1879 гг. он занял пост министра государственных имуществ, а с 1879 по 1881 г. Валуев – председатель Комитета министров. Он оставил ценнейший источник – Дневник, в котором отражена вся драматичность его попыток модернизировать Россию. Его сочинение «Дума русского», написанное в эмиграции, передает, сколь сложно было внушить императору необходимость политической реформы в России.
Отмена крепостного права неудержимо влекла за собой необходимость реформации всей экономики страны и политической системы Российской империи. Подготовка земской реформы была поручена комиссии во главе с министром внутренних дел П.А. Валуевым.
Еще с 1859 г. все явственнее раздавались голоса со стороны либерального дворянства о допущении его к законодательству. Поэтому
Валуев счел возможным обратиться к царю Александру II с запиской «О внутреннем состоянии России» (июнь 1862 г.). Суть ее определялась критическим состоянием страны.
Правительство находится в тягостной изоляции, внушающей серьезную тревогу.
Дворянство не понимает своих истинных интересов, раздроблено на множество различных течений.
Купечество мало вмешивается в политику и не пользуется доверием.
Духовенство содержит в себе самом элементы беспорядка.
Крестьяне образуют более или менее независимую или беспокойную массу, подверженную влиянию опасных иллюзий и несбыточных надежд.
Армия – единственный магнит, удерживающий различные элементы государства, но она начинает колебаться и уже не представляет собой гарантии абсолютной безопасности.
Правительство как единство действия или намерений уже длительное время оставляет желать многого с точки зрения согласия и взаимной поддержки его главных органов.
Преданность монархии и личности Государя подорваны.
Полнота власти Государя не проявляется как полное самодержавие, но только как временная диктатура.
Император предпринял ряд реформ, которые составят славу его царствования. Они не могут быть более прерваны. Но нельзя скрыть тех трудностей, которые встречает их осуществление в политической обстановке данного момента.
Кроме изоляции и затруднений в деятельности правительства… есть еще финансовый вопрос, вопрос о Польше и Западе, вопрос о прессе и вопрос о том состоянии, в котором находится не только школьная молодежь, но и молодежь, которая вышла из школ за последние годы.
Наша пресса вся целиком в оппозиции к правительству. Органы прессы являются или открытыми и непримиримыми врагами, или очень слабыми и недоброжелательными друзьями, которые идут дальше целей, какие ставит себе правительство.
Его собственные органы не способны или не реализованы.
Для того чтобы правительственная пресса могла действовать, нужно, чтобы она могла говорить. Для того чтобы она могла говорить, нужна и программа, и некоторая свобода слова. Мы не имеем ни того ни другого.
Современная молодежь может считаться временно потерянной – Исправить школы – это одна цель. Речь идет о том, чтобы их преобразовать с основания и снова начать создавать новое поколение.
Наиболее общая черта, почти универсальная – это стремление известной части общества иметь некоторое участие в управлении.
До тех пор, пока эти стремления не будут в известной мере удовлетворены, не будет ни мира, ни перемирия».
{Валуев П.А. О внутреннем состоянии России // Исторический архив. 1958. № 1.С. 141–143).
В следующей части записки содержится позитивная программа Валуева:
Мы сделали первый шаг проектом земско-хозяйственных учреждений, но более чем сомнительно, что это шаг достаточен. Аналогичную попытку необходимо сделать и в центральной администрации… В эпоху общественного возбуждения важнее, чем когда-либо для правительства, овладеть социальным движением и стоять во главе социального движения, делающего три четверти истории… Именно в этом смысле давно известная и провозглашенная идея заслуживает того, чтобы к ней вернуться и зрело обработать ее. – Это – реформа Государственного Совета на основаниях, аналогичных австрийскому Рейхрату и Государственному Совету Польского Королевства– Это не наносит никакого удара полновластию Государя, сохраняет ему всю законодательную и административную силу, а между тем создает центральное учреждение, которое было бы чем-то вроде представительства страны…» (Указ, источник. С. 143–144).
Предложение П.А. Валуева, сделанное в столь деликатной и, вместе с тем, объективной форме, содержало целый комплекс идей, повторяющих предложения отечественной и европейской конституционной мысли.
Прежде всего, необходимость народного представительства, хотя и в ограниченном виде.
Смена неограниченной монархии, основанной на незыблемости патримониальной теории, представительной, несколько ограниченной формы монархической власти, уже вошедшей в жизнь в европейском мире.
И, наконец, Валуев предложил реальный способ избежать социального взрыва введением двухпалатного Государственного Совета.
Записка Валуева была подана Александру II, но, как пишет в своем Дневнике П.А. Валуев, «Государь долго говорил о современном положении дел и моих предложениях на счет преобразования Государственного Совета. Он повторил однажды уже сказанное, что противится установлению конституции не потому, что дорожит своим авторитетом, но потому, что убежден, что это принесло бы несчастье России и привело бы к ее распаду» {Валуев П.А. Дневник. 1861–1865. М., 1861. С. 181).
Между тем, положение в стране все более усугублялось. В 1863 г. вспыхнуло большое восстание в Польше. Министр внутренних дел П.А. Валуев вновь обратился к императору со следующим своим проектом осенью 1863 г.:
Всемилостивейший Государь!
Даруйте любезноверной Вам верноподданной России политическое первенство перед крамольной Польшей.
Дайте России на пути развития государственных учреждений шаг вперед перед Польшей…
Коренные начала, – писал Валуев во втором своем проекте, – на основании коих было бы допущено, в известных пределах, участие представителей разных сословий в делах общего государственного управления, могли бы… быть следующие:
1. Означенное участие должно быть только совещательное.
2. Собрание представителей должно быть приурочено к Государственному Совету потому именно, что и он имеет только совещательное участие в разрешении подведомых ему дел.
3. Участие сословных или земских представителей обнимает вопросы законодательные и распространяется на главные вопросы по части государственного хозяйства.
4. Представители земства или сословий призываются изо всех частей империи кроме Царства Польского и Великого Княжества Финляндского.
5. В тех частях империи, где имеют быть введены в действие земско-хозяйственные учреждения, представители избираются местными земскими собраниями. В прочих областях для их выбора устанавливаются особые правила.
6. Число представителей должно быть, по возможности, ограничено. Не предстоит надобности в отдельных представителях от городов. При определении числа их для каждой области государства (примерно от 2-х до 4-х на губернию) может быть установлено известное соотношение между выборными от уездов и выборными от городов.
7. Изъятие может быть допущено для столиц и для значительнейших торговых и губернских городов.
8. Представители не получают никакого денежного вознаграждения от казны.
9. Их участие в делах Государственного Совета ограничивается в течение каждого года известным сроком.
10. Сообразно с сим распределяются и дела Совета на два разряда: на дела, которые могут быть разрешены без оного, или только при содействии нескольких из них.
11. В состав Государственного Совета призываются, в одно время с представителями земств и сословий, но по непосредственным высшим соображениям некоторые члены высшего духовенства (Конституционные проекты России XVII – начала XX в. М., 2000. С. 571–573).
Замысел Валуева заключался в том, чтобы земские учреждения стали реализацией идеи народного представительства. Но царь и на этот раз отказался принять его, сочтя проект Валуева «неприятным» {Валуев П.А. Дневник. Т. 1. С. 261).
Под влиянием нового проекта министра внутренних дел и земская реформа оказалась сильно ограниченной.
1 января 1864 г. «Положение о земских учреждениях» получило более сдержанную редакцию (ПСЗ. Собр. второе. Т. XXXIX. № 40457). Деятельность земств ставилась под контроль местных и центральных органов исполнительной власти.
Однако Валуев не собирался останавливаться. Он сохранял доверительные отношения с императором и пресекал опасные тенденции аристократической части русского дворянства, претендующего на исключительное положение в новом правительственном аппарате в случае реорганизации Государственного Совета. «“Палаты лордов” – не будет», – отстаивал свою позицию о земских представителях Валуев. А остроумный и глубокомысленный Ф.И. Тютчев в великосветское общество забросил эпиграмму:
Однако ироническая оценка деятельности Петра Александровича Валуева столь проницательным Тютчевым вовсе не снимала остроту постановки вопроса о необходимости модернизации политической власти в Российской империи.
10. Политический проект великого князя Константина Николаевича (1873 г.)
Самостоятельную роль играл новый проект реорганизации государственного аппарата, который принадлежал брату царя великому князю Константину Николаевичу За ним закрепилась репутация лидера либеральной группировки дворянства. Его называли «мужикофилом». Он как бы противостоял строгим намерениям своего венценосного брата сохранить в неприкосновенности незыблемость самодержавия.
Второй сын императора Николая I, Константин Николаевич (1827–1892) играл особую роль в истории Великих реформ. Из всего окружения Романовых «можно сказать, что один только великий князь Константин Николаевич искренно и сознательно сочувствовал предпринятым реформам и сам усердно принимал в них участие», – писал Дмитрий Милютин (Мылютин Д.А. Воспоминания. 1860–1862. М., 1999. С. 45). Как генерал-адмирал, он в 1855–1881 гг. управлял Морским министерством. В октябре 1860 г. возглавил Секретный комитет по крестьянскому делу, более двадцати лет был главой Главного комитета по устройству сельского состояния, а также принимал участие, после смерти Ростовцева и замены его безынициативным Паниным, и в составлении текста Положения 19 февраля 1861 г. И это дало основание императору лично поблагодарить Константина Николаевича, который «от Его Величества получил прекрасный рескрипт», где выражена была «живейшая и глубокая признательность за точное, скорое и вполне соответствующее Высочайшей воле окончание сего государственного дела» (Мылютин Д.А. Вспоминания. 1860–1862. М., 1999. С. 65–66). Его положение Наместника Царства Польского в 1862–1863 гг. было прервано грандиозным восстанием в Польше в 1863 г. После отставки в конце 1863 г. он вернулся в Петербург и занял важные государственные посты, а с 1865 г. возглавил Государственный Совет. Начиная с 60-х гг. он стоял во главе Императорского географического общества. Позже все Константиновичи всегда имели собственную позицию в политических вопросах России и, как правило, либеральную.
Об умонастроении великого князя был хорошо осведомлен его адъютант Александр Алексеевич Киреев. Это, несомненно, весьма значительная фигура в политическом раскладе пореформенных десятилетий. Он не раз будет давать советы великому князю и выражать свои весьма либеральные суждения. Киреев, кроме прямой служебной должности, имел и общественную. Он был «гласным», т. е. членом Московского земского собрания. Именно он убеждал великого князя Константина Николаевича в необходимости считаться с оппозиционными настроениями земского дворянства. Об этом свидетельствует «Дневник» Киреева. Близость с авторитетным князем Щербатовым – главой московского дворянства, позволяла Кирееву быть в курсе всех скрытых настроений и чаяний влиятельного слоя этого ведущего сословия. Московские дворяне во главе с князем Щербатовым высказывались за создание общедворянского и общеземского представительства. Киреев, несомненно, передавал настроения московского дворянства великому князю, и тот так или иначе должен был согласиться с необходимостью считаться с настроениями в Москве.
Среди окружения Константина Николаевича немалую роль играл генерал-майор Р.А. Фадеев. Герой русско-турецкой войны в 70-е годы, он еще полковником был рекомендован военным окружением великого князя как либерал, поддерживающий строительство железных дорог и технический прогресс России. Но великий князь Константин Николаевич не решался взяться за составление конституционного проекта и привлек к этому делу князя Урусова.
Князь Сергей Николаевич Урусов (1816–1883) был придворным высокого ранга. По давно заведенной традиции князья Урусовы всегда были близки к трону. Действительный статский советник, камергер, статс-секретарь, с 1865 г. – государственный секретарь, с 1867 по 1881 г. он возглавлял 2-е Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, которое ведало подготовкой законодательства. Князь Урусов принимал активное участие и в Главном цензурном комитете. Кроме того, он был членом Московского губернского комитета по крестьянским делам и хорошо ориентировался в настроениях московского дворянства. Но Урусов никогда бы не решился на самостоятельную постановку вопроса о дворянском или земском представительстве не только потому, что не смел возражать своему высокопоставленному патрону, но и потому, что занимал пост товарища обер-прокурора Святейшего Синода. Он долго ведал духовными учебными заведениями, но это вовсе не делало его решительным в делах реформирования, которые предстояли России.
Великий князь Константин Николаевич слепо доверял ему и поручил именно Урусову подготовить собственный проект о представительстве дворян в Государственном Совете. В дальнейшем князь Урусов приобрел имидж специалиста по конституционному вопросу и уже не случайно принимал участие в составлении Конституции Болгарии в 1878 г.
При составлении проекта вел. кн. Константина Николаевича не обошлось без помощи и поддержки уже опытного Петра Александровича Валуева. Как свидетельствует сам Валуев в своем «Дневнике», «великий князь замышляет о приведении в исполнение моей идеи» (Т. 2. С. 113–114). Но принципиальное различие этих двух проектов заключалось в том, что великий князь не решался сразу же создать вторую палату при Государственном Совете с представителями от земств и городов, а предполагал довольствоваться так называемыми «Подготовительными комиссиями» – дворянской и земской, которые бы выбирали выборщиков в палату Государственного Совета.
Константин Николаевич намеревался привлечь Валуева к редактуре своего проекта, и Валуев не возражал.
4 апреля 1866 г. у Летнего сада в Петербурге ишутинец Дмитрий Каракозов стрелял в императора Александра II. В этот же день, за несколько минут до выстрела, великий князь Константин Николаевич, князь Урусов и граф Валуев приступили к обсуждению проекта правительственной записки о допущении земских и дворянских представителей для участия в Государственном Совете. Выстрел Каракозова, несомненно, повлиял на ход дела. Великий князь не хотел, чтобы появление его проекта выглядело как «вынужденная уступка». Кроме того, хлынули верноподданнические адреса по поводу «чудесного спасения» венценосного самодержца. Урусов советовал повременить с проектом, но великий князь настаивал на необходимости выбора момента для обнародования своего проекта.
Суть проекта Константина Николаевича заключалась в «допущении местных деятелей в особые приуготовительные комиссии, которые, в свою очередь, из своего состава со временем могли бы выдвинуть депутатов в нижнюю палату Государственного Совета.
Взгляды Константина Николаевича оставались далеко позади тоже ограниченных воззрений Валуева в его собственном «Проекте». Переписка Урусова с Валуевым показывает, сколько темных мест было обнаружено в проекте великого князя. Было неясно, каков круг вопросов этих комиссий – это лишь экономические и хозяйственные проблемы? В комиссии войдут только представители земств или дворянства тоже? Наконец, какой предлагается порядок работы комиссий – постоянный или сессионный? На все эти вопросы проект великого князя не давал определенного ответа. Валуев, познакомившись с этим проектом, писал в «Дневнике»: «Взгляд Урусова хорош, но робок!»
Валуев оставался верным слугой самодержавия, но он предусматривал опасность сохранения незыблемости абсолютного монархического строя в настоящих условиях нарастающего революционного кризиса. «Я думаю, – писал он, – что интересы самодержавного монарха, его династии и всего государства в настоящее время требуют, чтобы вопрос о допущении известной доли представительных элементов в центры управления был разрешен утвердительно, но с большой осмотрительностью и в самой ограниченной по возможности форме. Вести борьбу на почве общего начала невыгодно. На почве форм и размеров она представляет более удобств и обещает более успеха». И далее: «Опасно ничего не делать, но еще опаснее сделать слишком мало». Поэтому Валуев расценивал проект великого князя как неудовлетворительный.
Как и великий князь Константин Николаевич, Валуев понимал необходимость создания представительных учреждений, считая их открытие обязательным. Но ограничиться лишь созданием «приуготовительных комиссий» значило свести на нет всю компетенцию выборных депутатов, что лишило бы смысла всю идею представительства, не разрядив общественного напряжения.
Валуев приложил немало усилий, чтобы сблизить свой проект с проектом великого князя. Возражая Урусову как выразителю мнения Константина Николаевича, он считал, что заседания комиссий не должны быть постоянными и находиться при министерствах, а собираться только на сессии – один раз в полгода. Валуев считал, что депутаты могли высказывать свое мнение «по известным законодательным вопросам». Председатель «комиссий», считал Валуев, назначался бы из состава Государственного Совета. Вице-председатель – из состава депутатов «приуготовительных комиссий». Мнение депутатов «комиссий» оформлялось бы в некое «Заключение», которое бы вносилось в Государственный Совет.
Великий князь Константин Николаевич придавал собственному проекту большое значение, хотя и не очень вникал в его тонкости. Он передал записку, содержащую его соображения, брату – императору Александру II22 декабря 1866 г. И уже на следующий день ждал ответа, считая, что ответ последует министру внутренних дел графу Валуеву. Однако Александр II не заговорил о проекте ни с Валуевым, ни с братом. Константин Николаевич был разгневан и даже хотел поставить условие о дальнейшем своем участии в государственной деятельности. Он считал Валуева своим союзником и 29 декабря заявил ему: «Нам следует провести дело или убраться». Но у Валуева была своя позиция: «Солидарности с ним я вовсе не добивался и теперь ее не желаю. Мы по временам можем сходиться, но наши взгляды и приемы различны» (Дневник. Т. 2. С. 178). Валуев не собирался подавать в отставку и отступать так быстро. Он еще долго будет бороться за воплощение в жизнь своих убеждений, оставаясь преданным советником императора.
И еще не раз возникали трения между императором и великим князем по вопросу о конституционном проекте; закончились они решительным отказом Александра II идти на уступки идее общегосударственного представительства. Царь постарался пресечь ропот дворянства и земства, издав 13 июня 1867 г. закон «О порядке производства дел в сословных и общественных собраниях».
Позже Валуев назвал этот закон «задвижкой» для конституционных поползновений.
11. Конституция M.T. Лорис-Меликова (1881 г.)
Михаил Тариелович Лорис-Меликов (1825–1888) как государственный деятель сыграл особую роль в истории России. Первоначально он не обещал стать столь значительной фигурой в Российской империи, какою стал в результате всех своих весьма предусмотрительных шагов по модернизации России. Имя его незаслуженно умалчивалось в нашей исторической литературе. Между тем оно ярко отображено в суждениях современников.
Прежде всего, Анатолий Федорович Кони, знаменитый судья и беллетрист, прославившийся освобождением Веры Засулич прямо из зала суда по приговору присяжных, высоко ценил Лорис-Меликова. Столь известный современник – Кони – крупный юрист XIX и первой четверти XX столетий, блестящий оратор, член Государственного Совета, а с 1900 г. – почетный академик Петербургский Академии наук. Анатолий Федорович обладал большим литературным талантом, в 1918–1922 гг. – профессор Петроградского университета и автор уникальных мемуаров (Очерки и воспоминания «На жизненном пути». СПб., 1912–1929. Т. 1–5).
О своем друге Михаиле Тариеловиче Лорис-Меликове Кони писал:
25 декабря прошлого года исполнилось 33 года со смерти Михаила Тариеловича Лорис-Меликова. Люди, близко знакомые с кипучей деятельностью этого выдающегося человека в конце семидесятых и начале восьмидесятых годов, не находили возможным поделиться своими воспоминаниями о нем с русским обществом, а когда один из них – его бывший секретарь Скальковский – стал печатать в «Новом времени» свои записки о личности и деятельности графа Лорис-Меликова, то появление их внезапно прекратилось, да и самые подлинные записки, как свидетельствует доктор В.Б. Бертенсон в «Историческом вестнике», исчезли, по-видимому, бесследно.
Быстрая и резкая смена событий в жизни русского общества в первые десятилетия XX века застлала туманом человека, имя которого одно время было у всех на устах. Если в начале этих десятилетий это почти забытое имя и мелькало изредка в печати при упоминании о попытках задуманных им преобразований, то по большей части в сопровождении пренебрежительных отзывов о последних, причем высокомерие этих отзывов нередко свидетельствовало лишь о полном непонимании условий, места и времени, в которых мог действовать покойный…
А, между тем, среди людей, игравших в русской жизни последних десятилетий крупную и влиятельную роль, одно из ярких и в то же время трагических мест занимает граф Лорис-Меликов (Кони А.Ф. Собр. соч. М., 1968. Т. 5.С. 184).
Мемуарист продолжает:
Искусный военачальник и тактичный местный администратор на Кавказе и в Терской области, он был внезапно выдвинут судьбою на самый видный пост в России, облечен чрезвычайной властью, сосредоточил на себе внимание всего мира и, пролетев как метеор, умер, сопровождаемый злобным шипением многочисленных врагов и сердечною скорбью горсточки друзей… Он и теперь, более чем через 30 лет после нашей встречи, ярко вспоминается мне как живой, с блестящим взором умных и добрых глаз, с милою как бы застенчивою улыбкой под густыми усами, с живым жестом и горячей речью, пересыпаемой поговорками и освещаемой вспышками добродушного юмора (Указ. соч. С. 185).
Появившиеся в последнее время публикации официальных документов обнаруживают неслучайность назначения Лорис-Меликова главой Верховной распорядительной комиссии. Именно эти документы обнаруживают уникальный военный и административный опыт и феноменальную способность этого человека находить выход из сложнейших политических ситуаций.
Доклады Лорис-Меликова императору Александру II от 11 апреля 1880 г. и 28 января 1881 г. представляются уникальными документами возможной модернизации России. (Они были опубликованы в России в ставшем уже раритетом журнале «Былое» за 1918 г.)
Фонды харьковского генерал-губернатора (Секретная канцелярия), Верховной распорядительной комиссии, Главного управления цезуры, Министерства юстиции, личные фонды императоров Александра II и Александра III, великого князя Михаила Николаевича, графа П.А. Валуева, графа Н.П. Игнатьева, К.П. Победоносцева, М.Н. Каткова сохраняют еще далеко не осмысленные материалы об этом непревзойденном опыте модернизации России.
Михаил Тариелович Дорис-Меликов родился в губернском Тифлисе в армянской семье в тот мятежный 1825 год, когда декабристы мечтали осуществить смену политической власти в России и, если не республику, то, по крайней мере, конституционную монархию даровать своему отечеству.
Богатый старинный армянский дворянский род Лорис-Меликовых за заслуги перед российским государством в 1832 г. получил русское дворянство.
Глава семьи Лорис-Меликовых сделал все, чтобы два его старших сына, Михаил и Василий, получили русское образование. Отец вел обширную торговлю с немецким Лейпцигом, считал необходимым обеспечить сыновьям хорошее знание языков. К братьям были приставлены русские воспитатели, и оба брата говорили по-русски без акцента. К двенадцати годам старший Михаил говорил на французском и немецком языках, конечно, знал армянский, грузинский и татарский. Он был отправлен в Москву, в Лазаревский институт восточных языков, где получил уже вполне европейское образование и завел обширные связи с русской бюрократией. Но юношеский проступок прервал спокойное учение в Лазаревском институте, и он, по протекции высшей бюрократии, был переведен в школу подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в Петербург, где получил военное образование.
Несмотря на жесткое начало военной службы, положение Михаила Лорис-Меликова в 1847 г. наладилось. Он был назначен на Кавказ «состоять для особых поручений» при главнокомандующем Кавказским отдельным корпусом генерал-адъютанте князе М.С. Воронцове. Общение с просвещенным Воронцовым очень обогатило Лорис-Меликова. Он признавался: «Ему я обязан всем. Эти десять лет при нем были для меня школой жизни… Приходилось бывать в обществе, не хотелось быть хуже других. Стал учиться, читать, думать, – не забывал и своего специального дела» (.Кони А.Ф. Собр. соч. Т. 5. М., 1968. С. 195).
Воронцов направил его в Чечню. Он сражался в Малой Чечне и Дагестане. Именно ротмистр Лорис-Меликов был избран для охраны Хаджи-Мурата, перешедшего на сторону русских войск. Он быстро поднимается по службе. В сентябре 1848 г. поручик Лорис-Меликов «за отличие, оказанное в делах с горцами», награждается орденом Святой Анны второй степени с подписью «За храбрость». Затем ему было присвоено звание полковника за удачные боевые операции против горцев и посыпались награды.
Михаил Тариелович отличился и в ходе Крымской войны. На Кавказском театре военных действий он руководил взятием Карса и усмирением населения. С назначением его начальником Карской области положение его еще более укрепилось. Он преодолел сложную хозяйственно-административную обстановку на турецкой территории, считаясь с местными обычаями. По Парижскому мирному договору в марте 1856 г. Карс был возвращен туркам в обмен на Севастополь. Местное население поднесло ему дары за гуманное и разумное администрирование в крае. За военные и административные заслуги Лорис-Меликов в 30 лет был произведен в генерал-майоры.
В 1857 г. Лорис-Меликов женился на представительнице древнего и знатного армянского рода – княжне Нине Ивановне Долгоруковой-Аргутинской. Семья счастливо сложилась. Она имела большие фамильные владения. Кроме того, император пожаловал Лорис-Меликову пять тысяч десятин в Кубанской области.
Он был признанным знатоком по восточному вопросу. Летом 1859 г. Лорис-Меликов встречался с великим князем Константином Николаевичем в Константинополе и обсуждал с ним политику России на Кавказе.
В 1860 г. он получил пост военного начальника Южного Дагестана и дербентского градоначальника. Вскоре его полномочия расширились. Он теперь распоряжался огромным краем от Главного Кавказского хребта – на юге до Ставрополя и Астраханской области на севере. В своих административных действиях Лорис-Меликов пытался сочетать военные методы с попытками либеральных решений.
Наместник Кавказа великий князь Михаил Николаевич и император Александр II следили за деятельностью Лорис-Меликова. Между тем не все шло гладко в его крае: назревал конфликт между генералом Лорис-Меликовым и великим князем Михаилом Николаевичем. Генералу прочили новую должность – начальника Туркестанского края, но его прошение об отставке предупредило это назначение, и Михаил Тариелович отправился на лечение на воды в немецкий Эмс. Там он, уже критически настроенный к порядкам, царящим в русском обществе, познакомился с несколькими русскими мыслителями. Одним из них был славянофил Александр Иванович Кошелев, труд которого «Наше положение» Лорис-Меликов хорошо изучил; он вступил с ним в весьма плодотворную дискуссию. Другим его приобретением стала дружба с историком М.П. Погодиным, человеком весьма консервативных взглядов, крупным ученым и знатоком России.
Кошелев познакомил Лорис-Меликова со своим новым трудом «Общая земская дума в России». Много позже Кошелев в «Записках» делился своими впечатлениями о генерале: «Много он мне рассказывал интересного о военных событиях за Кавказом, о взятии Карса и пр. Мы ежедневно вместе обедали, много гуляли и по вечерам часто сходились. Еще более полюбил я этого человека» (с. 234–235).
Начавшаяся русско-турецкая война заставила великого князя Михаила Николаевича вновь прибегнуть к помощи Лорис-Меликова. 11 ноября 1876 г. последовал приказ о назначении генерал-адъютанта М.Т. Лорис-Меликова командующим корпусом на кавказско-турецкой границе с оставлением в звании генерал-адъютанта и по Терскому казачьему войску.
12(24) апреля 1877 г. император Александр II издал манифест о начале войны с Турцией. С самого начала она развивалась успешно. Были взяты крепости Баязет, Ардаган. Началась осада Карса.
Его отношения с Наместником Кавказа великим князем Михаилом Николаевичем складывались неблагоприятно. А через его голову наметились дружественные отношения с военным министром Дмитрием
Алексеевичем Милютиным, который приветствовал Лорис-Меликова по случаю взятия Карса. Сближение, а позже истинная дружба с Дмитрием Алексеевичем Милютиным станет зароком убежденности Лорис-Меликова в необходимости модернизировать Россию, создать опору для формирования гражданского общества в Российской империи.
В то время либеральные взгляды Милютина на широкие радикальные преобразования уживались с жесткой позицией в вопросах имперской внешней политики. Это касалось не только сохранения статус-кво на Кавказе, но и присоединения новых территорий. Милютин поддерживал энергичную политику на Кавказе и лично принимал участие в реализации присоединения кавказских территорий силой оружия. Умиротворение Кавказа понималось как «очищение» горной полосы от исконного населения (шапсуги, убыхи, абадзехи), которому предлагалось спуститься на контролируемую царской администрацией равнину или отправиться в Турцию. Параллельно с этим шло заселение Закавказья казаками. Поднимался даже вопрос о заселении Кавказского побережья черногорцами.
После окончания войны с Турцией и заключения мира в 1878 г. в Сан-Стефано, пересмотренного в 1880 г. на Берлинском конгрессе не в пользу России, Дорис-Меликов получил долгожданный отпуск для лечения за границей. Он отправился в Эмс на воды, где бывало много русских. Конституция, которую обрела Болгария по Сан-Стефанскому мирному договору, будоражила общество. Лорис-Меликова все приветствовали, называя героем Карса. В это время вспыхнула эпидемия чумы на Волге, в Астрахани.
Царским указом 25 января 1879 г. Лорис-Меликов был назначен генерал-губернатором Астраханской, Саратовской, Самарской и Ставропольской губерний, «в видах безотлагательного принятия мер к прекращению обнаружившейся заразы и предупреждения дальнейшего распространения на другие местности» (Д.А. Милютин. Дневник 1878–1880 гг. М., 1950. С. 113).
Состоялось знакомство генерала Лорис-Меликова с краем. Его поразило грубое несоответствие природного богатства края с нищетой и антисанитарией податного населения. В нем все более и более накапливался политический потенциал, который будет скоро востребован в истории императорской России. Успешная борьба с чумной эпидемией стяжала ему славу энергичного и умелого администратора.
По совету Дмитрия Милютина Лорис-Меликов для борьбы с крамолой был назначен военным генерал-губернатором Харьковской губернии, где активизировались народовольцы.
В Петербурге между тем продолжались покушения на царя. Прибыв в Петербург 2 апреля 1879 г., Лорис-Меликов уже вечером был у военного министра Дмитрия Милютина.
В феврале 1880 г. произошел взрыв в столовой Зимнего дворца. К счастью для царя, в этот момент его не было на месте.
Император все больше погружался в личную жизнь. В Зимнем дворце под одной крышей жили больная императрица Мария Александровна и молодая княжна Екатерина Михайловна Долгорукая, с которой царь создал новую семью. У Долгорукой было трое детей (две дочери – Ольга и Екатерина и сын Георгий, второй мальчик умер).
В мае 1880 г. старая императрица скончалась, а император, едва дождавшись сорока дней после ее смерти, 18 июля 1880 г. вступил в морганатический брак с княжной Долгорукой. В тот же день царь издал Указ Правительствующего Сената о совершившемся событии и о даровании княжне Долгорукой титула и фамилии светлейшей княгини Юрьевской, в память о Юрии Долгоруком, к которому восходил ее род. Всем трем ее детям были дарованы те же титулы.
Воспоминания современников сохранили свидетельства ликования царя по поводу новой свадьбы: «Четырнадцать лет я ожидал этого дня, я боюсь моего счастья. Только бы Бог не лишил меня его слишком рано» («Воспоминания» князя Барятинского – брата мужа младшей дочери Александра II Екатерины Александровны).
30 января 1880 г. Лорис-Меликов прибыл в Петербург и был принят во дворце в числе других сановников. Дмитрий Милютин записал в своем Дневнике: «Обедал вместе с Лорис-Меликовым у царя».
5 февраля грянул взрыв в столовой Зимнего дворца. Это было делом народовольцев. Лорис-Меликов с большим возмущением квалифицировал этот акт как «преступление, позорящее наше общество». Правительство судорожно стало изыскивать экстренные меры для предотвращения последующих террористических актов. 9 февраля 1880 г. по решению императора Александра II была учреждена Верховная распорядительная комиссия с чрезвычайными полномочиями, направленными против злоумышленников и террористов. Председателем Распорядительной комиссии царь назначил Лорис-Меликова. Ему предоставлялись диктаторские полномочия.
Лорис-Меликов все более и более убеждался в том, что причины зла коренятся в разладе между верховной неограниченной властью в России и просвещенной частью общества. Он стал изыскивать средства к пробуждению гражданских чувств в среде либеральной интеллигенции. Круг его сторонников среди просвещенной бюрократии и либеральных публицистов расширился. Но со стороны консерваторов он встречал и сильное сопротивление.
О введении диктатуры уже давно курсировали слухи во дворце. К.П. Победоносцев – воспитатель и многолетний собеседник наследника великого князя Александра Александровича, был инициатором такой меры в условиях нагнетания опасной политической ситуации. Но представители просвещенного общества с большой настороженностью отнеслись к новому временщику. Политика «лисьего хвоста и волчьей пасти» стала живо обсуждаться в обществе. Ф.М. Достоевский, мысленно обращаясь к диктатору, размышлял: «Да знает ли он, отчего все это происходит, твердо ли знает он причины?» И продолжал размышлять: «Ведь у нас все злодеев хотят видеть…» (Новое время. 1881. 1 февраля).
Лорис-Меликов, еще будучи на посту харьковского генерал-губернатора, не исключал жестких мер и в своем отчетном докладе советовал царю ужесточить карательные операции.
Прошла лишь неделя после назначения Лорис-Меликова председателем Верховной распорядительной комиссии, как на него было совершено покушение. 20 февраля он приехал домой на Морскую улицу передохнуть перед продолжением многочисленных заседаний, и, направляясь к подъезду, был настигнут пулей террориста. Им оказался народоволец И.П. Молодецкий, который был тут же схвачен и вскоре повешен на Семеновском плацу.
Но диктатор сохранял полное самообладание. Он намеревался в состав Верховной распорядительной комиссии ввести как можно больше порядочных людей из состава профессуры и либеральной интеллигенции. По желанию Лорис-Меликова в нее вошли не только консерваторы, но и люди либерального направления: Дмитрий Милютин, А.А. Аба-за, П.А. Валуев. Сенаторы М.Е. Ковалевский и И.И. Шамшин не принадлежали к либералам, но были отличными учеными и порядочными людьми. Их Лорис-Меликов также пригласил в Верховную распорядительную комиссию. К.П. Победоносцев, П.А. Черевин, С.С. Перфильев станут скрытыми врагами диктатора в составе Верховной распорядительной комиссии.
В «Правительственном вестнике» за 14 февраля 1880 г. генерал-адъютант Дорис-Меликов опубликовал довольно красноречивое послание «К жителям столицы». Диктатор писал:
Сознаю всю сложность предстоящей мне деятельности и не скрываю от себя лежащей на мне ответственности. Не давая места преувеличенным и поспешным ожиданиям, могу обещать лишь одно – приложить все старание и умение к тому, чтобы, с одной стороны, не допускать ни малейшего послабления и не останавливаться ни перед какими строгими мерами для наказания преступных действий, позорящих наше общество, а, с другой – успокоить и оградить законные интересы его здравомыслящей части. Убежден, что встречу поддержку всех честных людей, преданных Государю и искренне любящих свою родину, подвергнувшуюся ныне столь незаслуженным испытаниям. На поддержку общества смотрю как на главную силу, могущую содействовать власти к возобновлению правильного течения государственной жизни, от перерыва которого страдают интересы общества…
В разумном и твердом отношении населения к настоящему тягостному положению вижу прочный залог успеха в достижении цели, равно для всех дорогой – восстановления потрясенного порядка и возращения отечества на путь дальнейшего мирного преуспевания, указанного благими предначертаниями Августейшего вождя.
Обращение к общественному мнению ставило Лорис-Меликова в положение лидера, сознающего свой гражданский долг, уповающего на постепенное складывание гражданского общества. Его надежда на спокойное, «разумное и твердое отношение населения к настоящему тягостному положению» – залог успеха. Однако намерения его противоречивы: с одной стороны, он испытывает ответственность перед русским образованным обществом и уповает на складывание принципов гражданственности в нем, с другой – все намерения главы Распорядительной комиссии направлены на усиление репрессий, в то же время они содействовали ослаблению системы полицейского террора.
Лорис-Меликов прежде всего заботился о соблюдении закона и рекомендовал в свою Распорядительную комиссию многих видных юристов. (В его комиссии были Михаил Евграфович Ковалевский, П.А. Марков, да и К.Н. Победоносцев был юристом.) Глава Распорядительной комиссии призывал к «разумному и твердому отношению населения России к настоящему тягостному положению». В этом он видел залог успеха.
У Лорис-Меликова все более и более расширялись связи с либеральным обществом. Западники – К.Д. Кавелин и Б.Н. Чичерин, ела-вянофилы – И.С. Аксаков и А.И. Кошелев входят в круг его общения. Это также способствовало формированию общественного мнения в пользу спокойного проведения реформ как альтернативы взрывоопасной революционной ситуации. Общество вызревало.
20 марта 1880 г. за подписью двадцати лиц Лорис-Меликову была подана записка «О внутреннем состоянии России». Среди подписавшихся были либерально настроенные С.А. Муромцев, В.Ю. Скалой и еще несколько известных лиц. Записка предлагала воспользоваться советами общества, отчуждение общества сказывалось отрицательно на общественной ситуации в стране. Авторы записки предлагали вернуться к политике начала 60-х гг. XIX в.
Лорис-Меликов стремился делать то же самое. Он собирал издателей и редакторов известных журналов и газет, чтобы ориентироваться в общественном мнении, надеясь, что его начинания будут поддержаны прогрессивной печатью и будут воздействовать на формирование общественного мнения в пользу долгожданных реформ. В особенности он был расположен к газете «Голос», умеренно либерального издания. За поддержку начинаний Лорис-Меликова газета «Голос» не раз подвергалась взысканиям. Но, тем не менее, все это было знаком складывания общественного мнения, постепенного формирования гражданского общества.
Дмитрий Милютин был убежден, что государственное устройство России требует коренной реформы снизу доверху: сельского самоуправления, земства, местной администрации и центральных высших учреждений. Он сетовал на тупость высших чиновников, которые не в состоянии были подняться даже до уровня полицмейстера или городового.
Однако, в отличие от своего друга военного министра Дмитрия Алексеевича Милютина, генерал Лорис-Меликов был сторонником постепенных мер, старался избегать ломки и крутых преобразований. Первый шаг он сделал спустя два месяца после назначения в Верховную распорядительную комиссию – представил царю всеподданнейший доклад 11 апреля 1880 г. В этом документе он призывал «охранять государственный порядок, способствовать общественному спокойствию, усилить учебную и воспитательную работу с молодежью, особое внимание обратить на состояние семьи.
Александр II наверху текста доклада диктатора начертал: «Благодарю за откровенное изложение твоих мыслей, которые почти во всем согласны с моими собственными. Вижу с удовольствием, что ты вполне понял тяжелую обузу, которую я на тебя возложил. Да поможет тебе Бог оправдать мое доверие!»
Лорис-Меликов писал о двух сторонах своей комиссии: о полицейско-охранительной задаче и изучении разнородных причин, приведших к неустойчивому настроению общества и «к изысканию тех способов, кои могли бы служить к достижению желаемой цели и восстановлению потрясенного порядка». За короткий срок Лорис-Меликов сумел понять, что общество раскололось именно по отношению к проведенным реформам. Одни продолжали считать, что реформы были не нужны, другие считали их незавершенными, половинчатыми. И с последними представителями общества (а это были профессора университетов – западники, публицисты-славянофилы) соглашался диктатор.
Александр II, по меткому выражению А.Д. Градовского, был травмирован реформами и их результатом, а Лорис-Меликов вдохновлял монарха идти дальше по пути реформ. «Никогда, и, может быть, нигде сила правительственной власти не выражалась блистательнее и торжественнее, как в то время», – вдохновлял он царя на доведение реформ до их логического конца.
Мысль об общественных представителях в верховных органах власти представлялась Лорис-Меликовым царю, как «давно намеченная». Он нуждался в поддержке в своих реформистских начинаниях. Он дорожил советами сенатора Михаила Евграфовича Ковалевского, который был первым лицом в уголовном кассационном департаменте Сената.
Профессор А.Д. Градовский – всемирно известный историк права – был в большой дружбе с Лорис-Меликовым и консультировал его по многим вопросам. Их связывала старая дружба и единство взглядов. Глубокий ученый и гражданин, профессор Градовский выше всего ценил личность в ее правовых условиях, ту личность, о которой так часто забывает государство, заботясь о собственных интересах, подавляя отдельного человека, которому предоставляется лишь исполнение своих обязанностей. Он настаивал на необходимости политического воспитания личности и, следовательно, современного общества.
Лорис-Меликов, профессор Градовский и судья А.Ф. Кони составляли тесный круг единомышленников, питающих надежду на возможные преобразования в политическом порядке Российской империи.
Диктатор постепенно хотел отделаться от одиозных консерваторов. Так, ему с трудом удалось освободиться от министра просвещения Дмитрия Толстого, пятнадцать лет занимавшего самые реакционные позиции. Явным врагом диктатора становится К.Н. Победоносцев, которого Дорис-Меликов, с присущей ему дипломатией, решил «успокоить» назначением его обер-прокурором Святейшего Синода. Эту должность до него занимал теперь уже бывший министр просвещения Дмитрий Толстой. Но сторонник реформ Лорис-Меликов не учел, как может это назначение отозваться позже. Победоносцев был очень доволен, так же как и его ученик, цесаревич великий князь Александр Александрович.
Программа Лорис-Меликова предусматривала включение всего русского общества в процесс публичного обсуждения грядущих реформ. С этой целью он стремился убедить императора в необходимости прислушаться к мнению «сведущих людей» о созыве сельскохозяйственных съездов – окружных и всероссийских.
Лорис-Меликов отводил важную роль земской деятельности, считая, что земства со временем создадут основную опору на местах и станут опорой центральной власти. Он также был убежден, что земство не может и не должно остаться в настоящем виде, а местная власть должна быть подкреплена изменениями в центральном государственном аппарате.
Надежды общества на перемену власти в оценке земских учреждений и необходимости представителей общества в центральных органах власти наиболее ярко определились на пушкинском празднике 5 июня 1880 г. при открытии памятника Пушкину в Москве. Затем праздник переместился в Московский университет и Благородное дворянское собрание, где 7 и 8 июня продолжались пушкинские чтения и где так ярко выступили И.С. Тургенев и Ф.М. Достоевский о значении Пушкина как выразителя русского национального самосознания. Эти события показывали потребность общества пробудиться для общего блага страны; гражданские настроения обострялись и находили выход в периодической печати, многочисленных земских сообществах и публичных выступлениях.
Диктатор 26 июля 1880 г. представил императору всеподданнейший доклад, где доказывал необходимость ликвидации Верховной распорядительной комиссии. Подводя итог ее деятельности, он писал: «Я далек от мысли, что преступная деятельность социально-революционной партии прекратилась, а тем более не смею приписывать исключительно трудам комиссии обнаруживающиеся в обществе некоторые благоприятные признаки, свидетельствующие о заметном успокоении умов…»
Он предложил ликвидировать 3-е Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Его функции переходили к департаменту полиции Министерства внутренних дел. Император согласился и на это предложение Лорис-Меликова и в июле того же 1880 г. назначил его министром внутренних дел и шефом жандармов.
Ликвидация 3-го Отделения вызвала ликование в прогрессивной печати. Само имя Лорис-Меликова приобрело новый оттенок – человек добровольно отказался от возложенной на него царем неограниченной власти. Его авторитет и в правительственных кругах, и в обществе возрос.
Отдавая себе отчет в том, что царь не захочет даровать России конституцию, умный, энергичный и вместе с тем гибкий Лорис-Меликов начал медленно внедрять в общество свой проект: учреждение Общей комиссии, куда кроме назначенных правительством лиц входили бы представители от земств и городов. По предложению Лорис-Меликова Общая комиссия рассматривала бы все наработанные проекты законов. Кроме Общей комиссии должны были действовать две подкомиссии: финансовая и хозяйственно-административная. После предварительного рассмотрения проекты законов вносились бы в Государственный Совет, в который Лорис-Меликов предлагал послать также представителей общественных учреждений.
Он осторожно искал пути подхода к самодержцу. Благоприятно складывались его отношения с княгиней Юрьевской, которая питала надежду на возведение ее в императорское достоинство и узаконивание своего сына Георгия в качестве наследника русского престола. Среди исторических свидетельств этих доводов выделяется мнение князя Барятинского: «Царь проникся к бывшему диктатору большим доверием. Лорис-Меликов был пожалован высшим орденом Империи – орденом Святого апостола Андрея Первозванного».
В знак полного доверия императора Александра II к вновь назначенному министру внутренних дел граф Лорис-Меликов был взят молодой семьей императора в Крым. Царь, только что овдовевший, в июле 1880 г. направлялся в Крым с тайно обвенчавшейся с ним княгиней Долгорукой и своими младшими детьми. Лорис-Меликов в числе самых доверенных лиц был посвящен в тайну морганатического брака русского царя. Пребывание в Ливадии вместе с царем еще более способствовало сближению царя и графа Лорис-Меликова. В Крыму Лорис-Меликов заручился поддержкой княгини Екатерины Михайловны Юрьевской в своем стремлении убедить царя в необходимости даровать России представительство в центральных органах власти. Как свидетельствует князь Барятинский, «…в Ливадии Лорис-Меликов вел долгие беседы с Государем в присутствии его супруги о политических делах и о новых реформах. Иногда вскользь во время разговора он делал смутные намеки на то, что народ был бы счастлив иметь царицу – русскую по крови. Делая эти намеки, он сознавал, что отзывается на сокровенные намерения Государя, и тем самым все более завоевывал себе его расположение, необходимое для проведения реформ. Александр мечтал короновать княгиню Екатерину Михайловну императрицей всероссийской, выполнить намеченные государственные преобразования, а затем отречься от престола в пользу цесаревича и уехать с женой и детьми в Ниццу…» (Цит. по очерку Л.Г. Захаровой в кн.: Романовы. Исторические портреты. 1762–1917. М., 1997. С. 486).
Вернувшись в Петербург, Лорис-Меликов стал подбирать себе единомышленников в осуществлении намеченной программы реформ. Первым его помощником и единомышленником стал Дмитрий Алексеевич Милютин – военный министр России. В октябре Лорис-Меликов добился назначения на пост министра финансов А.А. Абазы, товарища министра – ученого экономиста Н.Х. Бунге. Осенью 1880 г. вокруг Лорис-Меликова сложилась группа его единомышленников.
А.Ф. Кони вспоминал: «Я живо помню ночь на 1 января 1881 года, когда все обычные собеседники за “круглым столом” собрались встречать Новый год у Стасюлевича, терпеливо ждали до двух часов появления совсем сырого нового номера “Порядка” и пили за процветание и долголетие последнего. Это было осуществлением давнишней мечты Стасюлевича о необходимости издания большой политической газеты одного направления с “Вестником Европы”. Казалось, что многое слагалось благоприятно для успеха такого предприятия. С вступлением Лорис-Меликова в управление внутренними делами повеяло свежим воздухом, с печати фактически почти были сняты наиболее тяжелые путы, а ряд сенаторских ревизий и предложенный созыв сведущих людей для обсуждения того, что будет этими ревизиями открыто, знаменовали собой, хотя и довольно робкие, но все-таки шаги к дальнейшему политическому развитию общества» (Вестник Европы. 1911. Февраль).
Лорис-Меликов все более и более завоевывал симпатии прогрессивного общества. Университетский друг А.Ф. Кони, харьковский прокурор Окружного суда Сергей Федорович Морошкин писал ему: «У меня уже два месяца лежит письмо Лорис-Меликова (писал ли я тебе, что я очень сошелся за границей с этим прелестным, сердечным и оклеветанным человеком?), и я все не могу на него ответить» {Кони А.Ф. Собр. соч. Т. 5. М., 1969. С. 75).
Но в правящих кругах было и много противников реформ. Главой консерваторов был К.П. Победоносцев и его покровитель и друг вел. кн. Александр Александрович. Определенную ревность испытывал к Лорис-Меликову и П.А. Валуев.
11 августа 1880 г. Лорис-Меликов был назначен министром внутренних дел, в то же время он подготовил очередной доклад на имя царя. Августовский доклад Михаила Тариеловича содержал обширную программу подготовки гражданского современного общества:
Изыскивая меры к прочному охранению государственного порядка и общественного спокойствия, я пришел в убеждению, что назначение Сенаторских ревизий в некоторые губернии различных полос империи было бы мерою в высшей степени полезною. Кроме тех выгод, кои представляет всегда поверка действий местных учреждений, ревизии эти, при удачном выборе ревизующих лиц, послужили бы и к выяснению разнообразных воззрений, кои существуют ныне в отношении умов вне столичных центров и к пополнению современными данными имеющихся в Министерстве внутренних дел и у Шефа жандармов сведений по многим весьма существенным вопросам, разрешение коих возложено волею Вашего Императорского Величества всецело на это Министерство. К числу таких вопросов принадлежат: указанное Вашим Величеством еще в начале шестидесятых годов преобразование административных губернских учреждений, времени, способов к прочному объединению полицейских властей, уяснения степени распространения социально-революционной пропаганды, изучение влияния административных высылок и некоторые другие.
Вступив ныне в управление Министерством внутренних дел и обязанный принимать меры к скорейшему движению и разъяснению упомянутых дел и вопросов, всеподданнейшим долгом считаю доложить Вашему Величеству, что находящаяся минута была бы в высшей степени удобною для назначения Сенаторских ревизий в 6 или 7 губерниях различных полос империи. Ревизии эти были бы крайне полезны не только для ведомства Министерства внутренних дел, но, и без сомнения, и для других ведомств, которые могли бы также дополнить этим путем сведения свои по многим весьма важным предметам, как, например, по предрешенному уже Вашим Величеством вопросу о замене подушной подати. Самое назначение ревизий не может, по моему убеждению, не произвести весьма успокоительного впечатления на общество, как новое доказательство высочайшего Вашего Величества попечения о благе народном.
Повергая на благоусмотрение Вашего Величества общие свои по сему предмету соображения, имею счастье всеподданнейше просить соизволения Вашего Величества на предоставление Министерству внутренних дел:
1. Повергнуть на всеобщее благоусмотрение Вашего Величества список тех губерний в разных полосах империи, в коих ревизия представлялась бы наиболее полезною;
2. Войти в соглашение с Министерством юстиции об испрошении Высочайшего Вашего Величества указаний относительно назначения сенаторов для ревизий;
3. Войти в соглашение с министром юстиции и подлежащими ведомствами о составлении подробной для ревизий инструкции в развитие существующих по этому предмету постановлений закона и применительно потребностям управления в настоящее время с тем, чтобы проект таковой инструкции был повергнут на Высочайшее Вашего Величества утверждение (Из всеподданнейшего доклада графа Лорис-Меликова императору 11 августа 1880 г. ГАРФ. Ф. Лорис-Меликова. On. 1. Д. 87. Л. 1–5).
Прежде всего, новый министр внутренних дел стремился оживить общественную мысль на местах. С этой целью он предложил включить в ревизии авторитетных сенаторов и ученых. Первое место среди выбранных сенаторов принадлежало Михаилу Евграфовичу Ковалевскому, авторитетному члену Государственного Совета. Он изучил Казанскую и Костромскую губернии, а затем Оренбургскую и Уфимскую. Ковалевский собрал неоценимый материал, предложил меры к исправлению замеченных неустройств, провел анализ различных мнений, экономических и политических позиций в провинциальном обществе. Подобную работу провели и другие назначенные сенаторы: С.А. Мордвинов – в Тамбовской и Воронежской губерниях; А.А. Половцев – в Киевской и Черниговской, И.И. Шамшин – в Самарской и Саратовской. Их суммированные доклады объединились в общий документ, где предлагалось:
1. Принять меры против распространения в России «социалистических лжеучений», об административной высылке опасных агитаторов этих учений. Отмечалось бедственное экономическое положение местного населения, рассматривались причины упадка народного благосостояния. Сенаторами была выработана система местного самоуправления.
2. Изучение судебной реформы на местах показало слабость прокурорского надзора, несоблюдение института присяжных заседателей и присяжных поверенных.
3. Отмечались недостатки по финансовому ведомству и ведомству государственных имуществ.
4. Особое внимание уделялось народному образованию. Сенаторы предлагали ряд мер по развитию народного просвещения.
5. Состояние путей сообщения обратило особое внимание сенаторов, которые также выступили с предложениями усовершенствования дорог.
6. Сенаторы предлагали пересмотр запретительных указаний о периодической печати.
Лорис-Меликов добился назначения своих сторонников на ответственные министерские посты. На место генерал-адьютанта Грейга минстром финансов был назначен друг графа А.А. Абаза.
Сенаторские ревизии создали убедительные свидетельства в необходимости привлечь общество к разработке новой политической системы. Создание временных Подготовительных комиссий по примеру Редакционных комиссий 1859 г. стало насущной объективной необходимостью. По предложению авторитетных сенаторов Подготовительные комиссии создавались из среды земского общества и общества «некоторых значительных городов». Тем самым формировалась обширная среда для складывания гражданского общества.
Как утверждал маститый дворянский историк Сергей Татищев, разумеется, идеализируя царя, Александр II мечтал «видеть народ свой счастливым, просвещенным светом христианской истины и охраняемым в своем развитии твердыми законами и ненарушимым правосудием».
Между тем, осуществляя свою программу по реформированию России, Лорис-Меликов считал необходимым пересмотр «Положения о земских учреждениях». Еще в январе 1880 г. по его инициативе был отменен соляной налог, что должно было несколько облегчить положение крестьян. После русско-турецкой войны 1877–1878 гг., унесшей много крестьянского населения, положение в стране значительно ухудшилось, в стране было беспокойно.
А.В. Головнин, известный участник реформ 60-х гг., в том числе университетской, свидетельствовал: «Признаюсь, что будущее кажется мне крайне беспокойным… Рассматривая вблизи состояние страны и вспоминая бюджет государства, я нахожу, что за последние 40 лет правительство много брало у этого народа, а дало ему очень мало. Оно брало людьми, прямыми и косвенными налогами, тяжелыми работами… брало большую часть его доходов, а затем народ, благодаря плохой администрации, платил гораздо более, нежели казна получала… Все это было большой несправедливостью, а так как каждая несправедливость всегда наказывается, то я уверен, что наказание это не заставит себя долго ждать. Оно настанет, когда крестьянские дети, которые теперь еще грудные младенцы, вырастут и поймут все то, о чем я только что говорил. Это случится в царствование внука настоящего Государя…» (Цит. по очерку Л.Г. Захаровой, с. 489).
Сенаторские ревизии очень хорошо показали бедственное положение русских провинций.
Для осуществления своей программы Лорис-Меликову требовалась поддержка просвещенного общества, в чем он стремился убедить царя.
28 января 1881 г. он подготовил новый доклад Александру II. Это была своего рода программа министра внутренних дел. Автор считал, что император уполномочил его не только покончить с крамолой, но и найти средства для удовлетворения потребностей мыслящей части общества. Докладчик призывал найти способы для завершения начатых реформ: «Призвание общества к участию в разработке необходимых для настоящего времени мероприятий есть именно то средство, какое и полезно и необходимо для дальнейшей борьбы с крамолой» (Былое. 1918. № 4–5. С. 163).
К концу февраля 1881 г. он почти добился согласия Александра Николаевича на созыв представителей от общества и приобщение их к законосовещательной деятельности. Если бы это намерение Лорис-Меликова было закреплено законом, ход истории России мог измениться кардинально. Но революционные силы, в частности народовольцы, не понимали этого и, разумеется, не были обстоятельно осведомлены.
Доклад 28 января 1881 г. содержал развернутую программу преобразований и был итоговым документом, который лег в основу Конституции Лорис-Меликова. Этот документ не увидел публикации в России, но позже, в 1904 г., появился в печати в Берлине на русском языке.
Наверху первой страницы этого доклада рукою уже императора Александра III написано: «Слава Богу, этот преступный и спешный шаг к конституции не был сделан, и весь этот фантастический проект был отвергнут в Совете министров весьма незначительным меньшинством. – А.».
В феврале минувшего года Вашему Императорскому Величеству благоугодно было возложить на меня обязанности по званию главного начальника Верховной распорядительной комиссии, учрежденной для охранения государственного порядка и восстановления общественного спокойствия.
Затем, в августе того же года, по упразднении Верховной распорядительной комиссии, Ваше Императорское Величество соизволили призвать меня к управлению Министерством внутренних дел, на попечении коего лежит поддержание внутреннего порядка в государстве. Возлагая на меня столь трудные обязанности в тяжкую для России минуту, Ваше Величество соизволили преподать мне указания на необходимость, для успешного выполнения порученной мне задачи, принятия мер, направленных не только к строгому преследованию вредных проявлений социального учения и к твердому упрочению правительственной власти, временно поколебленной прискорбными событиями минувших дней, но, главным образом, и к возможному удовлетворению законных потребностей и нужд населения.
Действуя с того времени в предуказанном мне Вашим Величеством направлении и являясь лишь неуклонным исполнителем намерений Ваших, Государь, могу засвидетельствовать ныне перед Вашим Величеством, что первые шаги по этому, предначертанному Высочайшею волею, пути принесли уже заметную пользу: постепенное возвращение государственной жизни к правильному ее течению удовлетворяет в значительной степени внутренним стремлениям благомыслящей части общества и укрепляет временно поколебленное доверие населения к силе и прочности правительственной власти в России.
Объединение действий правительственных органов, охраняющих государственный и общественный порядок; облегчение участи административно высланных, особенно из среды учащейся молодежи; внесение более сердечного участия в руководство учебной частью в империи, усиленное внимание правительства к местным земским нуждам в широком объеме, выразившееся как в удовлетворении некоторых ходатайств, оставленных прежде без движения, так и в назначении сенаторских ревизий с главнейшею целью изучения сих нужд; отмена ненавистного для народа соляного налога; предпринятый пересмотр неудовлетворяющего своей цели законодательства о печати – оказали и оказывают благотворное влияние на общество в смысле успокоения тревожного состояния оного и возбуждения верноподданнической готовности служить Вам, Государь, всеми силами для завершения великого дела государственных реформ, предпринятого Вами с первых же дней восшествия Вашего на прародительский престол.
Смею всеподданнейше доложить Вашему Императорскому Величеству, что, в видах прочнейшего установления порядка, таким настроением необходимо воспользоваться.
Великие реформы царствования Вашего Величества, вследствие событий, обусловленных совместными с ними, но не ими вызванными проявлениями ложных социальных учений, представляются до сих пор отчасти не законченными, а отчасти не вполне согласованными между собой. Кроме того, многие первостепенной государственной важности вопросы, давно уже предуказанные державною волею, остаются без движения в канцеляриях разных ведомств.
Для окончания реформ и для разрешения стоящих на очереди вопросов в центральных управлениях имеется уже много материалов, добытых опытом прошедших лет и приуготовительными работами. Сенаторские ревизии, имеющие главною своею целью исследование настоящего положения провинции и местных потребностей, должны внести богатый вклад в эти материалы и уяснить местными данными то направление, какое для успеха дела необходимо будет дать предстоящим преобразовательным работам центральных учреждений, но и эти данные, при окончательной разработке их, несомненно, окажутся недостаточными без практических указаний людей, близко знакомых с местными условиями и потребностями.
Ввиду изложенного нельзя, по моему убеждению, не остановиться на мысли, что призвание общества к участию в разработке необходимых для настоящего времени мероприятий есть именно то средство, какое и полезно, и необходимо для дальнейшей борьбы с крамолою.
Существенно важным и подлежащим зрелому обсуждению представляется при этом способ осуществления этой мысли.
Обращаясь к изысканию этого способа, обязываюсь, прежде всего, вновь выразить перед Вашим Императорским Величеством, что, по глубокому моему убеждению, для России немыслима никакая организация народного представительства в формах, заимствованных с Запада; формы эти не только чужды русскому народу, но могли бы даже поколебать все основные его политические воззрения и внести в них полную смуту, последствия коей трудно и предвидеть. Равным образом мне представляется далеко не своевременным и высказываемое некоторыми приверженцами старинных форм Российского государства предложение о пользе образования у нас Земской думы, или Земского собора. Наше время настолько удалилось от периода указываемой старинной формы представительства, по изменившимся понятиям и взаимным отношениям частей Русского государства и современному географическому его очертанию, что простое воссоздание древнего представительства являлось бы трудно осуществимым и, во всяком случае, опасным опытом возвращения к прошедшему.
При таком воззрении на высказываемые в среде некоторой части общества мнения о необходимости прибегнуть к представительным формам, для поддержания порядка в России, и признавая, что мнения эти составляют лишь выражение созревшей потребности служить общественному делу, мне представляется наиболее практическим способом дать законный исход этой потребности в порядке, испытанном уже по мудрым указаниям Вашего Величества, при разработке крестьянской реформы. Порядок этот следует, конечно, применить к потребностям и задачам настоящей минуты.
Исходя из этого основного начала и принимая во внимание, что на местах имеются ныне уже постоянные учреждения, способные представить сведения и заключения по вопросам, подлежащим обсуждению высшего правительства, мне казалось бы, что следует остановиться на учреждении в С.-Петербурге временных Подготовительных комиссий, наподобие организованных в 1858 году Редакционных комиссий, с тем чтобы работы этих комиссий были подвергаемы рассмотрению с учетом представителей от земства и некоторых значительнейших городов.
Состав таких Подготовительных комиссий мог бы быть определяем каждый раз высочайшим указанием из представителей центральных правительственных ведомств и приглашенных, с высочайшего соизволения, сведущих и благонадежных служащих и не служащих лиц, известных своими специальными трудами в науке или опытностью по той или другой отрасли государственного управления или народной жизни.
Председательство в комиссиях должно бы принадлежать особо назначенным, по Высочайшему доверию, лицам из числа высших государственных деятелей. В состав комиссий войдут и ревизующие сенаторы по окончании ими ревизий.
Число комиссий должно бы быть ограничено на первое время двумя по главным отраслям, к которым могут быть отнесены предметы их занятий: административно-хозяйственные и финансовые. Каждая комиссия могла бы подразделиться на отделы и подкомиссии.
Круг занятий административно-хозяйственной комиссии могли бы составить нижеследующие предметы ведомства Министерства внутренних дел, одновременно или в последовательном порядке:
а) преобразование местного губернского управления, в видах точного определения объема прав и обязанностей оного, и приведение административных учреждений в надлежащее соответствие с учреждениями судебными и общественными и потребностями управления;
б) дополнение, по указаниям опыта, положений 19 февраля 1861 года и последующих по крестьянскому делу указаний, соответственно выяснившимся потребностям крестьянского населения;
в) изыскание способов: 1) к скорейшему прекращению существующих доныне обязательных отношений бывших крепостных крестьян к своим помещикам и 2) к облегчению выкупных крестьянских платежей в тех местностях, где опыт указал на крайнюю их обременительность;
г) пересмотр положений земского и городского, в видах пополнения и исправления их по указаниям прошедшего времени;
д) организация продовольственных запасов и вообще системы народного продовольствия, и
е) меры по охранению скотоводства.
Предметы занятий финансовой комиссии (вопросы: податной, паспортный и другие) подлежали бы определению Вашим Императорским Величеством по всеподданнейшему докладу министра финансов, основанному на предварительном соглашении с министром внутренних дел, тем более что многие из предметов ведомства обоих названных министров находятся в тесной между собой связи.
На обязанности комиссий лежало бы составление законопроектов в тех пределах, кои будут им указаны высочайшею волею.
За сим составленные Подготовительными комиссиями законопроекты подлежали бы, по указанию верховной власти, предварительному внесению в общую комиссию, имеющую образоваться под председательством особо назначенного высочайшею волею лица из представителей и членов Подготовительных комиссий, с призывом выборных от губерний, в коих введено положение о земских учреждениях, а также от некоторых значительнейших городов, по два от каждой губернии и города; причем в видах привлечения действительно полезных и сведущих лиц, Губернским и Земским думам должно быть предоставлено право избирать таковых не только из среды гласных, но и из других лиц, принадлежащих к населению губернии или города.
Из губерний, где земские учреждения еще не открыты, могли бы быть призваны лица, по указанию местной власти.
Для занятий общей комиссии могло бы быть назначено крайним сроком не более двух месяцев.
Рассмотренные и одобренные или исправленные общею комиссиею законопроекты подлежали бы внесению в Государственный Совет, с заключением по оным министра, к ведомству коего относится предмет нового законопроекта, причем для облегчения Государственного Совета в предстоящих ему работах, быть может, Вашему Величеству благоугодно будет повелеть призвать и в состав его, с правом голоса, несколько, от 10 до 15, представителей от общественных учреждений, обнаруживших особенные познания, опытность и выдающиеся способности.
Работа не только Подготовительных, но и Общей комиссии должна бы иметь значение исключительно совещательное и ни в чем не изменяющее существующего ныне порядка возбуждения законодательных вопросов и рассмотрения их в Государственном Совете.
Установление изложенного выше и испытанного уже с успехом порядка предварительной разработки важнейших вопросов, соприкасающихся к интересам народной жизни, не имеет ничего общего с западными конституционными формами. За Верховною властью сохраняется всецело и исключительно право возбуждения законодательных вопросов в то время и в тех пределах, какие Верховная власть признает за благо указать.
Приглашению членов, избираемых общественными учреждениями, будет предшествовать составление нового законопроекта Подготовительными комиссиями из чинов правительственных, при участии лишь некоторых, особо известных правительству, посторонних лиц.
Весь личный состав Подготовительных комиссий войдет в состав общей комиссии и будет разъяснять и поддерживать выработанные проекты. Эта обязанность будет лежать на председателях Подготовительных комиссий, в качестве помощников председателя общей комиссии.
Самый состав общей комиссии будет каждый раз предуказываем Высочайшею волею, причем комиссия будет получать право заниматься лишь предметами, предоставленными ее рассмотрению.
Но, предварительное приведение всех изложенных выше предположений в окончательное исполнение, мне казалось бы необходимым ныне же сделать распоряжение, чтобы имеющиеся в разных департаментах и других центральных учреждениях всех ведомств материалы, имеющие соотношение к перечисленным выше вопросам, кои будут подлежать обсуждению Подготовительных комиссий, были собраны, приведены в порядок и известную систему и сгруппированы по однородным предметам. Труд этот в каждом отдельном учреждении должен быть возложен на наиболее способных и дельных чинов подлежащих ведомств, причем начальство этих ведомств может, буде пожелает, приглашать для участия в таких приуготовительных работах и посторонних лиц, кои своею опытностью и научными познаниями могли бы способствовать их успеху. На окончание этих работ должен быть назначен срок, совпадающий с окончанием сенаторских ревизий, причем каждому отдельному ведомству, независимо от собрания и группировки имеющихся в его ведении материалов, могли быть предоставлены в Подготовительные комиссии результаты своих трудов не только в виде сырых материалов, но и основанные на них формулированные предложения, в форме проектов законоположений. По приблизительным соображениям такие приуготовительные работы по разработке данных и материалов, как имеющихся в различных учреждениях, так и тех, кои доставлены будут реализующими сенаторами, могут быть совершенно закончены к осени текущего года и переданы в Подготовительные комиссии. По открытии тогда же в них занятий деятельность их должна быть ведена с таким расчетом, чтобы созыв Общей комиссии, с учетом общественных представителей, мог последовать в начале будущего года, по окончании сессий губернских земских собраний.
Между тем, такое учреждение может дать правильный исход заметному стремлению общественных сил к служению престолу и отечеству, неминуемо внесет в народную жизнь оживляющее начало и предоставит правительству возможность пользоваться опытностью местных деятелей, ближе стоящих к народной жизни, нежели чиновники центральных управлений.
Соображения эти, в связи с возбужденными в благомыслящей части общества радостными ожиданиями дальнейшего развития великодушно предначертанных Вашим Императорским Величеством преобразований, не могут не заслужить самого серьезного внимания. Позволяю себе повергнуть пред Вами, Государь, глубокое мое убеждение, что неудовлетворение приведенным выше ожиданиям в настоящее время будет неминуемо иметь последствием, если не полное охлаждение, то, по меньшей мере, равнодушие к общественному делу, представляющие, как указал прискорбный опыт недавно истекших лет, самую удобную почву для успеха анархической пропаганды.
Если, Ваше Императорское Величество, соизволите разделить высказанные мною мысли, то, по одобрению Вами изложенных в настоящей записке предположений, не благоугодно ли будет повелеть обсуждение способа приведения их в исполнение поручить рассмотрению нескольких лиц по избранию Вашего Императорского Величества?
Генерал-адъютант Лорис-Меликов 28 января 1881 г., С.-Петербург
(Подлинник этого Доклада Лорис-Меликова от 28 января 1881 г. хранится в ГАРФе. Ф. 678. Александр II. On. 1. 693. Пубрикация в России: Былое. 1918. № 4–5. С. 162–165).
Михаил Тариелович Лорис-Меликов готовил императора Александра II к восприятию необходимых преобразований очень постепенно. Его программный доклад от 28 января 1881 г. выглядел весьма умеренным. Но суть его сводилась к введению принципа выборности представителей от общества, от земств и городов в так называемые Приуготовительные комиссии при Государственном Совете, который подчинялся императору. Но созыв представителей от общества должен был повлечь за собой преобразования в области финансов, в губернском и земском управлении и, наконец, в крестьянском вопросе.
Проект Лорис-Меликова не мог не учитывать западноевропейский опыт конституционализма. Лорис-Меликов с уважением относился к славянофильскому проекту Земского собора. Но его собственный проект был оригинален. Он был приспособлен к настоящему моменту и согласован с царем.
К концу февраля 1881 г. император Александр II, наконец, согласился на созыв выборных представителей от общества и приобщение их к государственной (законосовещательной) деятельности.
5 февраля 1881 г. этот проект обсуждался в присутствии наследника Александра Александровича, великого князя Константина Николаевича, министра двора графа А.В. Адлерберга, статс-секретаря князя С.Н. Урусова, министра финансов А.А. Абазы, министра юстиции Д.Н. Набокова, председателя комитета министров П.А. Валуева и министра внутренних дел Лорис-Меликова и получил поддержку. 9 и 14 февраля проходили совещания в Аничковом дворце под председательством наследника. Совещание одобрило проект Лорис-Меликова.
В «Воспоминаниях» А.Ф. Кони сохранился разговор его с Лорис-Меликовым по поводу главного конституционного проекта. Бывший диктатор рассказывал: «Председателем Общей комиссии сведущих людей (при Государственном Совете. – Н.М.) предполагался наследник, помощниками его – я и Милютин. У нас, даже между государственными людьми, распространено нежелание сознаваться в своих ошибках или незнании. Поэтому я боялся кому-либо вверить председательство и хотел фактически быть им сам… Срок заседаний Общей комиссии был бы шестинедельный. Вы правы! У меня было и другое в данном случае достоинство: я не был связан ничем с петербургской бюрократией, у меня были свободны руки и ничто в прошлом меня не связывало. Главное было – опубликование общих начал. Это был своего рода вексель на будущее. Я точно предчувствовал» (Кони А.Ф. Воспоминания, с. 197).
17 февраля 1881 г. результаты совещания были одобрены царем. В журнале Особого совещания император начертал: «Исполнить!»
В «Дневнике» Д.А. Милютина сохранилась запись великого князя Владимира Александровича об историческом моменте почти дарования России Конституции: «…в самое утро злополучного дня 1 марта покойный император, утвердив своей подписью представленный доклад Секретной комиссии и выждав выхода Лорис-Меликова из кабинета, обратился к присутствующим великим князья с такими словами: “Я дал свое согласие на это представление, хотя не скрываю от себя, что мы идем по пути к конституции”» (Дневник Д.А. Милютина).
На 4 марта было решено созвать Совет министров для одобрения проекта.
Позже Лорис-Меликов рассказывал своему другу Кони: «Вернувшись 1 марта с одобрением и повелением созвать Совет министров на 4, я при Н.С. Абазе, не входя в кабинет, сказал: “Вот, милый! Прочитай!” и, перекрестясь, невольно сказал: “Господи! Сохрани его!”… А через два часа слышу – трах, трах! Да! Этим было убито политическое развитие России, быть может, на много лет… у меня вырвано из рук то, что, по моему мнению, могло составить благо для России… Государь подписал мой проект Общей комиссии очень легко и лишь раз и то с чьих-то чужих слов спросил меня: “А это не будут ли Etats generaux?” и снова отдался ежедневным заботам, официальным суетам и огромному механическому труду дня…» (Кони А.Ф. Воспоминания, с. 197–198).
А 1 марта грянул взрыв на Грибоедовом канале. Со словами: «Кажется, я уцелел!» царь вышел из кареты… Вторая бомба народовольца Игнатия Гриневицкого смертельно ранила Александра II.
Петр Алексеевич Кропоткин в «Записках революционера», оценивая личность императора Александра II, писал: «…несмотря на настоятельные убеждения кучера не выходить из кареты… Александр II все-таки вышел. Он чувствовал, что военное достоинство требует посмотреть на раненых черкесов и сказать им несколько слов… Я мог заглянуть, – пишет Кропоткин, – в глубь его сложной души… и понять этого человека, обладавшего храбростью солдата, но лишенного мужества государственного деятеля».
Психологию императора Александра II пытался разгадать известный эмигрантский писатель Марк Алданов. Для него этот царь – добрый, но «пустой малый». Безупречно воспитанный светский человек, хорошо образованный, совсем неглупый, но не может понять, чего от него хотят все эти народовольцы. Всерьез дела страны его не интересуют, он больше озабочен тем, хорошо ли спала княжна Долгорукая и не плакал ли их сын Гога.
Романы Алданова «Начало конца» и «Истоки», основанные на огромной документалистике, получили премии американского общества «Книга месяца» и британского общества «Книга».
Образованнейший Алданов, крупный ученый в области химии и математики, выдвинул концепцию «всесилия иронии истории над судьбами племен и народов на протяжении столетий». Итог его исторических размышлений: грустный и трезвый взгляд на историю, не лишенный гуманистического начала в постепенной переделке «черной человеческой природы».
План Лорис-Меликова был сорван. Его первый шаг в общении с новым императором Александром III состоял в попытке обсуждения своего проекта правительственного сообщения о привлечении к законотворчеству выборных от общества. В заключительную часть новой редакции правительственного сообщения им было введено принципиально важное положение: «исполнить в точности родительский завет». И далее сообщалось: император «соизволил повелеть принять к точному исполнению изложенную выше священную волю своего державного родителя» (Былое. 1918. № 4–5. С. 180). Однако новый император Александр III уже был настроен иначе. Он оттянул дату ответственного заседания Совета министров и перенес его на 8 марта.
Лорис-Меликов не учел, что консервативная оппозиция во главе с К.П. Победоносцевым приготовилась к наступлению, к активной атаке, используя свое влияние на нового императора. «Теперь спасать Россию или никогда», – таков был девиз Победоносцева. Он настойчиво убеждает императора освободиться от Лорис-Меликова.
И сам Лорис-Меликов сделал несколько опрометчивых шагов, не учитывая изменения политической обстановки с приходом к власти Александра III. Его иллюзия, что новый царь останется верным своему слову, закрепленному в предшествующих политических документах, быстро рассеялась.
Бывший диктатор сделал ошибку, приостановив выступление прогрессивной печати в защиту готовящейся конституции. Он надеялся заручиться доверием нового императора, переоценивая его эрудицию и политическую подготовленность. Неприязнь Александра Александровича к княжне Долгорукой, теперь графине Юрьевской, придворные интриги, боязнь потерять право на наследование престола, обида за мать – императрицу Марию Александровну, поддержка теперь уже императора Александра III его супругой Марией Федоровной – все это изменило политическую ситуацию не в пользу конституции.
Накануне решающего заседания Совета министров Лорис-Меликов отсек поддержку демократической печати. По желанию царя на заседание Совета министров был приглашен член Государственного Совета и теперь уже получивший власть обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев. В Зимнем Дворце все присутствующие понимали, что будут обсуждать не просто проект Лорис-Меликова, а судьбу империи.
В результате сложившейся неблагоприятной политической ситуации выступление обер-прокурора Святейшего Синода Победоносцева стало решающим. Заручившись поддержкой императора накануне, он со всей яростью обрушился на реформы 60-х годов: «России даруют “говорильню”. Это определит гибель России». Сторонники Лорис-Меликова не сумели мобилизоваться.
Д.А. Милютин позже в своем «Дневнике» назвал речь Победоносцева «иезуитской», огульно порицающей все царствование предшествующего императора Александра II (Дневник Д.А. Милютина. Т. 4. С. 35).
Сторонники Лорис-Меликова на совещании 8 марта 1881 г. вынуждены были доказывать естественную совместимость проекта Лорис-Меликова с предшествующими реформами и сохранением самодержавия с его полномочиями законодательной власти. Но все оказалось напрасным. Либеральные сторонники Лорис-Меликова вынуждены были отступить перед яростным напором противников реформы при явной поддержке нового императора.
«Дневник» П.А. Валуева содержит богатейший материал о «мартовских идах» – постепенном вытеснении Лорис-Меликова из правительственного окружения. Устная и письменная атака Победоносцева на Лорис-Меликова с каждым днем приобретала все большую и большую остроту. Обер-прокурор не переставал настраивать Александра III против министра внутренних дел.
В письмах к Е.Ф. Тютчевой Победоносцев отмечал слабоволие Александра Александровича и его нерешительность в выборе своего самостоятельного политического курса (Русский архив. 1907. Кн. 2. С. 90–93).
Противоборство либеральной и консервативной линий все более склонялось в сторону последней. Семейство Александра III поселяется в Гатчине. Победоносцев часто навещает императора, он еще более сближается с издателем «Московских ведомостей» М.Н. Катковым и находит опору своим политическим настроениям в его публицистике. Сторонники «конституции» Лорис-Меликова проявляют определенную деликатность, обещают уйти в отставку, если проект Лорис-Меликова не будет принят, а Победоносцев и компания ведут наступательную политику.
Ситуация в стране приобретает все более острый политический характер. Либеральное крыло правительственных чиновников-реформатов оттесняется на задний план. Вот и Валуева перестали приглашать на совещания. Великий князь Константин Николаевич был выведен в отставку. Великий князь Владимир Александрович попробовал поддержать проект Лорис-Меликова, но с ним провел беседу старший брат-император, и у того отпала охота продолжать полемику.
Целый ряд новых предложений Лорис-Меликова о переводе всех крестьян на выкуп, отмена подушной подати и пересмотр паспортной системы – все эти начинания Лорис-Меликова были остановлены.
Политика Лорис-Меликова подготавливала комплекс социальных и политических преобразований. Еще в докладе 12 апреля 1881 г. он повторял все положения январского доклада 1881 г. о призыве выборных от общества. Еще не коронованного императора Лорис-Меликов своим докладом 12 апреля поставил перед необходимостью принять новую программу царствования. Однако положение осложнялось тем, что на совещании в Гатчине 21 апреля 1881 г. царь попытался выслушать мнения сторон. После доклада Лорис-Меликова вступили либеральные министры Д.А. Милютин, А.А. Абаза, Д.Н. Набоков, барон А.П. Николаи. Но новый император был уже настроен на укрепление государственного порядка и возвращение «к исконным рубежам».
В том же составе, что и в Гатчине, на Фонтанке в резиденции министра внутренних дел Лорис-Меликова собралось следующее совещание. Победоносцев стал решительно доказывать вред выборного начала. По окончании этого заседания в первом часу ночи был зачитан царский манифест (29 апреля 1881 г.), где царь объявлял, что намерен править с верой в силу истинно самодержавной власти, которую намерен охранять и утверждать от всяких на нее поползновений.
Победоносцев вынужден был признать, что он писал манифест. Возмущенные Милютин, Абаза и Лорис-Меликов подали в отставку. Позже Лорис-Меликов признавался: пройдя весь путь и разрешив все свои задачи, он «потерпел крушение в самой пристани» (.Николадзе Н. Из воспоминаний о гр. М.Т. Лорис-Меликове // Новое обозрение. 1889. 22 января).
Крушение программы Лорис-Меликова означало смену линии развития России, ориентированной на мирные преобразования, на реформы как альтернативу революции.
4 мая 1881 г. последовал указ об увольнении министра внутренних дел, члена Государственного Совета, генерал-адъютанта от кавалерии графа Лорис-Меликова. И уже 6 мая 1881 г. на пост министра внутренних дел был назначен граф Н.П. Игнатьев, человек лояльный, в чем-то напоминающий Лорис-Меликова. Но в правительственном сообщении объявлялось, что новое назначение не просто смена государственного деятеля, но и смена политической программы (Русские ведомости. 1881. 8 мая).
С отставкой Лорис-Меликова страна потеряла наиболее компетентного высокопоставленного чиновника, прекрасно оценивающего политическую обстановку, человека, который реально взялся за мирный исход сложившейся взрывоопасной ситуации в стране. Либеральная печать отмечала, что хорошо начатая государственная политика, к сожалению, не вышла из своего зачаточного периода, а главные ее проводники неожиданно и несвоевременно отошли от дела.
Близкий к Лорис-Меликову Н.А. Белоголовый, известный либеральный деятель, отмечал, что с отставкой Лорис-Меликова завершился этап политического курса России, ушла в небытие скромная попытка примирения культурных классов с бюрократией и абсолютизмом. Так был утрачен единственно верный путь к мирному развитию российского общества и завершению тех реформ, начало которых было положено отменой крепостного права (см.: Конституция графа Лорис-Меликова. Лондон, 1893. С. 43).
В новой политической реальности Лорис-Меликову уже не было уютно в России, да и сам император дал понять, что лучше всего реформатору поселиться за границей. В мае 1881 г. семья графа переехала в Эмс, куда несколько позже последовал и сам Михаил Тариелович.
За границей Лорис-Меликов подружился с врачом Николаем Андреевичем Белоголовым, оставившим о графе содержательные воспоминания. Он утверждал, что Лорис-Меликов остался верным сторонником реформ и продолжал защищать идею народного представительства. В своих воспоминаниях доктор Белоголовый утверждал, что «Россия лишилась в лице Лорис-Меликова одного из даровитейших, бескорыстнейших и преданнейших своих сынов, и можно лишь искренне пожелать ей побольше таких» (Белоголовый Н.А. Граф М.Т. Лорис-Меликов. 1878–1888. СПб., 1889).
12. Конституция Всероссийской Национальной Партии (1942–1949 гг.)
Последний вариант «Конституции Никиты Муравьева» был, как мы видели, написан им по памяти в тюрьме, незадолго до его казни. Мало кто мог тогда подумать, что 122 года спустя другой автор конституции для свободной России будет тоже в тюрьме по памяти восстанавливать текст незадолго до своей смерти.
Тюрьма на этот раз находилась не в Петропавловской крепости, а в Москве, в Бутырке. Она мало в чем изменилась со времен императрицы Екатерины II. К 1948 г. сталинский министр Лаврентий Берия решил отделить политических заключенных от уголовников, и чтобы не путать их, на спинах политических напечатать зловещую цифру: 58 (статья 58, пункт 11 «Антисоветская агитация в немецком плену»). Вот в это время в этом застенке по этой статье и оказался автор нижеприведенного документа – Василий Васильевич Минаев.
Конституция Всероссийской Национальной Партии
Исходя из исторического прошлого России мыслится система, в которой вся власть сосредотачивается в руках Всероссийского земского собора, конструируемого на основе выборов представителей от всех слоев населения – сел и городов, и от всех народов, населяющих Россию.
Всероссийский земский собор из среды представителей, выбранных от всех слоев населения, избирает постоянно действующие органы государственной власти:
Государственный Совет в составе – 100 человек Земского собора и высших государственных должностных чинов – состава Сената, состава Кабинета министров, высших чинов администрации на местах и глав внутренних государственных образований (Украины, Белоруссии, Азербайджана и т. д.), организуемых на началах автономии из состава союзных республик СССР
Всероссийский земский собор избирает из своей среды главу государства с титулом «Правитель всея Руси», который должен стать постоянным председателем Государственного Совета.
Состав Всероссийского земского собора может быть пополнен путем кооптации сведущих лиц при разработках различных законоположений.
Всероссийский земский собор рассматривает вопросы только конституционного характера и утверждает законы, принятые Государственным Советом в период между сессиями Земского собора.
Глава государства – «Правитель всея Руси» пользуется всей полнотой государственной власти на межсессионный период Земского собора.
С момента начала каждой сессии Земского собора глава государства лишается всей полноты власти и в таком состоянии отчитывается перед Земским собором в своей деятельности и в деятельности Государственного Совета за период между сессиями Земского собора.
Глава государства назначает и смещает весь состав Сената, Кабинета министров, высших чинов администрации, вооруженных сил страны и всех чинов до VI разряда включительно.
Все должности государственных служащих делятся на 12 разрядов.
Таким образом, структура высших органов власти была представлена в следующем виде:
Основными частями России должны стать следующие виды автономных образований:
а) внутренние автономные государственные образования;
б) автономные области;
в) автономные округа;
г) автономные районы.
Депутаты Земского собора от всех автономных образований объединяются в национальные группы, которые из своей среды выбирают старшин своих групп и имеют право внесоборных совещаний по всем вопросам, как отдельно каждой группой, так и совместно с другими национальными группами. На сессии Земского собора старшины всех национальных групп имеют право выступать от имени своих групп.
Решения в Земском соборе принимаются простым большинством голосов. Органы высшей власти в автономных государственных образованиях строятся аналогично:
а) высшим органом власти во всяком внутреннем государственном образовании являлось собрание народных депутатов, наименование которого устанавливало это народное собрание в зависимости от исторических традиций соответствующего внутреннего государственного образования (Рада, Сейм, Народное собрание и т. д.);
б) глава внутреннего государственного образования избирается соответствующим народным собранием и входит по положению в состав Государственного Совета России;
в) исполнительной властью в государственных внутренних образованиях должен быть Совет главноуправляющих, назначаемых и смещаемых главой внутреннего государственного образования с последующим утверждением в Государственном Совете России.
Каждое внутреннее государственное образование принимает свою конституцию в соответствии с Конституцией всей страны, и суверенитет ее ограничен соответствующей статьей Конституции страны.
Каждое внутреннее государственное образование имеет право на отделение от России, но только путем всенародного голосования в присутствии и под наблюдением всех депутатов Земского собора.
Местные органы, начиная от сел до районов и городов, имели широкое самоуправление, которое заключалось в избрании населением соответствующих народных собраний. Последние избирали из своей среды исполнительные органы в форме правлений. В состав этих правлений входили назначаемые лица по отраслям управлений в форме районных инспекторов, возглавлявших соответствующие отделы районных правлений, а в сельских правлениях – агентов.
Для руководства каждого правления соответствующими народными собраниями избирались председатели правлений, их заместители и секретари.
Областные правления составлялись из отделов, во главе которых стояли советники. Для разрешения вопросов областного характера депутаты Земского собора от данной области могли собираться как по инициативе старшин областных групп, так и по инициативе главы данной области.
Области объединялись в более крупные административные единицы внутри страны – в наместничества, а на окраинах государства – в генерал-губернаторства.
В каждой такой административной единице исполнительной властью являлся Совет главноуправляющих, а для разрешения дел, касающихся наместничества, все депутаты Земского собора могли собираться как по инициативе старшин областных групп, так и по инициативе наместников.
Состав Совета главноуправляющих назначался и смещался Наместником с последующим утверждением в Государственном Совете страны.
В том случае, когда в состав наместничества или генерал-губернаторства входили внутренние государственные автономные образования, Наместником назначался один из глав этих внутренних государственных образований.
Таким образом, депутаты Земского собора от данной области, а также и от такой более крупной административной единицы, как наместничество, одновременно выполняли функции избранных представителей от населения для данной области или для наместничества.
Районы, села и города имели специально избранных депутатов районных, сельских и городских народных собраний.
III. Рабочий и крестьянский вопрос
Раздел третий определяет структуру социального законодательства и поэтому содержит:
а) В вопросах рабочего законодательства следующие части:
1. Экономика страны.
2. Основы законов о труде, налогах и сборах и социального обеспечения.
б) В вопросах крестьянства следующие части:
1. Земельная политика.
2. Агротехнические мероприятия в сельском хозяйстве.
Экономика страны излагалась как народное хозяйство, составлявшееся из двух типов промышленности:
а) государственная промышленность;
б) негосударственная промышленность.
К составу государственной промышленности относились: транспорт и связь всех видов, финансовая, все недра. Леса и водоемы государственного значения, все промышленные предприятия тяжелой и легкой индустрии по особому списку, утвержденному Государственным Советом, а также государственная промышленность, находящаяся в ведении Советов главноуправляющих внутренних автономных образований и наместничеств.
Вся остальная негосударственная промышленность передавалась:
а) в ведение местных органов власти;
б) в ведение всех видов коопераций;
в) в ведение различного рода обществ, уставы которых зарегистрированы органами власти (профсоюзы, добровольные общества);
г) в ведение артелей ремесленников, объединенных в общества;
д) в ведение рабочих и служащих того или иного предприятия на правах собственности или аренды.
Кроме того, к числу негосударственной промышленности были отнесены предприятия промышленности, сданные в концессию сроком до 10 лет как отдельным обществам, так и отдельным лицам по договорам, заключенным между концессионерами и государством, через главный концессионный комитет.
Торговля делилась также на два основных типа:
а) государственная торговля с монополией внешней торговли;
б) негосударственная торговля.
Внутренняя государственная торговля имела в своем составе монопольную торговлю (водка, нефтяные изделия, табак, спички, сахар, игральные карты) и оптовую торговлю предприятий государственной промышленности.
Негосударственная торговля включала в свой состав торговую сеть всех видов кооперации, добровольных обществ трудящихся, всех видов негосударственной промышленности, артелей кустарей, единоличную торговлю отдельных лиц без применения постоянной рабочей силы по выбираемым ими в финансовых органах патентах и, наконец, единоличную торговлю кустарей на рынках и базарах на основе единовременных сборов с этих крестьян за право торговли привезенной продукции их хозяйств, а также торговли семей рабочих и служащих продукцией их личных пригородных хозяйств.
Б) Основы законов о труде, налогах и сборах и социального обеспечения
Вопросы найма и увольнения рабочих и служащих регулировались государственными органами в форме бирж труда для всех категорий лиц, работающих по найму как в государственном, так и в негосударственном секторе народного хозяйства.
Зарплата рабочих и служащих устанавливалась на основе минимума ее и в соответствии с квалификацией по шкале тарифной сетки.
Минимум зарплаты устанавливался в зависимости от средней стоимости:
а) продуктов питания калорийностью в 3200 больших калорий;
б) одежды и обуви;
в) удовлетворение культурно-бытовых нужд, что исчислялось в золотой валюте в 23 рубля золотом.
Жилище, размером 12 кв. метров жилой площади на человека, со всеми коммунальными услугами, предоставлялось нанявшемуся бесплатно, либо натурою, либо кредитованием нанявшегося на рабочее строительство за счет предприятия. Жилище и подсобные постройки, возведенные нанявшимся, в течение 10 лет переходят вместе с участком земли в личную собственность трудящегося.
Зарплата предусматривала процент надбавки на семейность и многосемейность.
Все рабочие и служащие страхуются за счет государства, и всему населению обеспечивается бесплатная медицинская помощь, вплоть до специальных видов лечения.
Минимальный период ежегодных отпусков в нормальное время года определяется для всех трудящихся в 30–40 рабочих дней с сохранением средней зарплаты за весь период отпусков.
Все трудящиеся, имеющие стаж работы в 25 лет, а также утерявшие полностью или частично трудоспособность, обеспечиваются за счет государства пенсиями и пособиями, с правом продолжать свою работу по собственному желанию, сохраняя пенсионное обеспечение, не влияющее на размер зарплаты.
Все рабочие и служащие, желающие воздвигнуть на правах собственности жилища и организовать подсобные хозяйства, обеспечиваются за счет предприятий земельными участками не менее 2000 кв. метров и не дальше 1 км от предприятий и учреждений и кредитуются всеми необходимыми строительными материалами, подвезенными на место постройки за счет предприятия. В первую очередь те, кто не может быть удовлетворен при найме жилой площадью натурой. Размер возводимых жилых строений определялся из расчета 12 кв. метров жилой площади на каждого члена семьи нанявшегося.
По вопросу налоговой политики была изложена мысль об отмене прямых налогов с зарплаты рабочих и служащих и единого сельскохозяйственного налога с индивидуальных и артельных хозяйств крестьян.
Взамен прямых налогов устанавливались косвенные налоги на все товары и монополию государственной торговли (водка, нефтяные изделия, спички, сахар, табачные изделия и игральные карты).
Косвенные налоги мыслились в форме акцизного сбора, устанавливаемого на себестоимость продуктов и товаров промышленного широкого потребления.
Для этой цели продукты и товары всей промышленности широкого потребления делились на три категории:
1. Продукты и предметы первой необходимости с акцизными сборами до 5 %;
2. Продукты и предметы полного довольства с акцизным сбором до 20 %;
3. Продукты и предметы роскоши с акцизного сбора до 200 %.
Таким образом, все продукты и товары потребления населения поступали на склады оптовой торговли по ценам с включением акцизного сбора, оплачиваемого государству предприятием и взимаемого затем с населения в торговой сети.
Лица и артели свободных профессий выбирали патенты в финансовых органах на право своей трудовой деятельности с уплатой патентного сбора, в зависимости от размера оборота.
Индивидуальные и артельные сельские хозяйства при продаже на рынках и базарах или заготовительным организациям своей продукции уплачивали единый сбор в зависимости от размера стоимости продаваемых ими продуктов и предметов своего хозяйства.
Для составления доходных статей органов местного самоуправления в городах и селах устанавливался единый годовой сбор на местные нужды в городах на каждого члена семьи рабочего и служащего, а в селах от каждого индивидуального или артельного хозяйства в зависимости от размера хозяйства и числа едоков в этом хозяйстве.
Торговля на рынках и базарах семей рабочих и служащих продуктами и предметами их подсобных хозяйств никакими сборами не облагалась.
Доходная часть государственного бюджета предусматривала, таким образом, доходы не только от государственных предприятий и хозяйств, но и доходы от внешней и внутренней монополии акцизных, патентных сборов и разовых сборов.
Доход местных органов самоуправления составлялся из доходов местной промышленности и единого сбора с населения на благоустройство городов и сел.
Социальное обеспечение предусматривало обязательное социальное страхование всех рабочих и служащих, а также обязательное страхование жилищ и имущества от огня, посевов и скота в сельском хозяйстве.
Определение размеров социальной помощи и пенсионного обеспечения зависело от размеров потери трудоспособности или возникало в силу выслуги лет (25-30-35 лет и т. д.).
Временная потеря трудоспособности влекла за собой социальную помощь в размере 100 % зарплаты за все время временной потери трудоспособности.
В) Земельная политика и агротехнические мероприятия в сельском хозяйстве
Сельское хозяйство, как и промышленные предприятия, делилось на два основных типа:
а) государственное сельское хозяйство в форме крупных государственных имений, учебно-показательных хозяйств различного типа, государственных питомников и образцовых показательных хозяйств с научно-исследовательскими и опытными станциями;
б) негосударственные типы сельского хозяйства, принадлежащие органам местного самоуправления, всем типам сельскохозяйственной кооперации, различным юридическим обществам, устав которых предусматривал ведение сельского хозяйства; сельское хозяйство, принадлежащее отдельным крестьянским дворам или их артельным объединениям.
Таким образом, для крестьянского хозяйства устанавливались следующие формы землепользования:
а) артельные;
б) общественные;
в) хуторские;
г) отрубные.
Формы землепользования избирались добровольно каждым крестьянским двором по их письменным заявлениям в органы сельской власти. При этом под крестьянским двором подразумевались все члены крестьянского двора, в возрасте от 15 лет и выше. Выбранная крестьянским двором форма землепользования не могла быть изменена в течение всего периода между государственным генеральным межеванием, проводимым государством через каждые 15–20 лет.
Трудовые нормы земельных наделов делились на три категории:
а) приусадебные участки размером от 0,5 до 10 га, в зависимости от наличия свободных земельных пространств той или иной области; как европейской, так и азиатской части России, в зависимости от числа членов крестьянского двора или их артелей;
б) надельные пахотные угодья или угодья, предназначенные под пахоту в размере от 2 до 10 га на каждого члена двора и члена с.-х. артели, также в зависимости от пахотных угодий той или иной местности;
в) прочие с.-х. угодья, не могущие быть выделенными отдельным дворам или их артелям (выгоны, пастбища, водоемы, леса местных органов самоуправления, луга, реки, дороги и т. д.).
Приусадебные участки закреплялись за крестьянским двором в полную и неограниченную собственность безвозмездно и могли быть отчуждаемы со всеми возведенными на них жилыми и нежилыми постройками полностью или по частям, но в нормах не ниже минимальной нормы.
Пахотные надельные земли не могли быть отчуждаемы другим лицам без согласия на то сельского общества. В случае согласия сельского общества отчуждение производилось по ценам, устанавливаемым сельским обществом в размерах произведенных двором или их артелями затрат на улучшение качества этих угодий.
Наконец, с.-х. угодья общего пользования сельского общества предметом купли, продажи, дарения или другого вида отчуждения служить не могли.
Правом на земельные наделы пользовались и те юридические общества, устав которых предусматривал наличие с.-х. угодий.
Земельные фонды выделялись в распоряжение городских органов самоуправления и промышленным предприятиям с учетом запасов земельных угодий для индивидуального жилищного и дачного устройства рабочих и служащих.
Все остальные земельные запасы оставались в ведении соответствующих государственных органов.
Под агротехническими мероприятиями подразумевались широкие мероприятия в целях повышения интенсивности всех видов сельского хозяйства, в том числе и крестьянских дворов и их артельных объединений.
В этих целях сеть машинотракторных станций государство должно было всемерно расширять, возложив на них не только обслуживание индивидуальных крестьянских и артельных хозяйств путем проката сельхозмашин, но и развитие и ведение показательных и опорных хозяйств, ремонт с.-х. инвентаря крестьянских дворов и их артельных объединений, организацию бесплатного низшего с.-х. профессионального образования и внедрение в индивидуальные и артельные хозяйства крестьян сельхозмашин и новейших методов ведения сельского хозяйства. На машинотракторные станции возлагалась функция государственного планирования сельского хозяйства крестьян и государственного заготовителя продукции сельского хозяйства в районе своего функционирования.
Таким образом, МТС превращалась в центр всех агротехнических мероприятий в данном районе.
IV. Национальный вопрос
По национальному вопросу была изложена мысль, что все многочисленные национальности, населяющие Россию, получают широкую автономию в формах автономных областей, округов и районов с вырабатываемыми их народными собраниями конституциями.
Каждая национальность получала возможность строить свою жизнь в соответствии с ее историческими традициями и являлась равноправным членом семьи всех народов России.
В этом разделе признавалось, что национальный вопрос практически разрешен был советской властью правильно. Изменения касались исключительно формы и наименований органов власти национальных объединений.
(из личного архива автора настоящего исследования. См.: Архивное дело Н-20150 в 20 т.).
Изучение представленного документа позволяет сделать следующие выводы:
1. Представленная конституция – глубоко демократический документ. В нем осуществляются:
а) идея народного суверенитета – народоправства;
б) принцип разделения властей; законодательная власть отделена от исполнительной, судебной и власти на местах;
в) всеобщее избирательное право обеспечивает демократический принцип выборов в верховный законодательный орган власти – Земский собор;
г) «Правитель всея Руси» является по существу президентом, отчитывающимся перед Верховным земским собором.
В итоге перед нами – конституция президентской демократической республики.
Более того, разделы, касающиеся рабочего и крестьянского вопросов, убеждают в глубокой социальной направленности предложенной конституции и защите интересов тружеников российского общества, основанного на честном труде и смешанной государственно-частной собственности. Подобный социальный уклон был свойственен многим оппозиционным программам того времени, стремившимся показать, что они вовсе не за «возврат к капитализму».
Автор этого документа – мой отец – Минаев Василий Васильевич, доцент кафедры высшей математики одного из московских вузов, добровольно ушедший на фронт Великой Отечественной войны с московским народным ополчением в июле 1941 г. и исчезнувший из поля нашего зрения на долгие годы.
И вот, наконец, я держу в руках письмо моего отца, смятый треугольник, чудом дошедший до нас – тогда московских детей еще недавнего военного времени, из холодного заполярного советского концлагеря.
Вот это письмо:
12 марта 1946 г.
Мои родные и дорогие!
Вот уже более 4-х с половиной лет, как я оторван от вас… Пишу кратко о себе. В ночь с 3 на 4 окт. 4 1 г., вблизи г. Спас-Демьянск Смоленской обл. я был пленен немцами и прошел через лагеря военнопленных в городах Рославле, Смоленске, Борисове и Минске… а с 5 апреля 42 г. – в 70 км от Берлина.
В августе 1944 г. был арестован органами гестапо за мою антифашистскую нелегальную работу в скором поезде, который должен был меня доставить в Словакию для того, чтобы возглавить группу ранее нелегально переброшенных туда наших военнопленных для открытия партизанских действий в тылу немцев в восточной части Словакии. Нелегально в марте 1944 г. я ездил туда и провел весь март у брата Миши, в деревне Прешевская, на западных склонах Карпат… он учительствовал 12 лет… хозяйство: куры, гуси, пчелы, огород. Жил одиноко и хорошо меня подкормил. Попытка пробраться к нему в августе 1944 г. не увенчалась успехом… Я оказался в одиночной камере Берлинской тюрьмы в весьма тяжелом положении.
Из тюрьмы 17 апреля 45 г. меня перевели в лагерь, а 1 мая 1945 г. сов. войска меня освободили. 4 сентября 45 г. в составе целого эшелона я направился на Родину и прибыл в Инту 21 октября 45 г. Недавно переболел плевритом и лежу в госпитале с 9 января 46 г. и сейчас веду в том же госпитале канц. работу…
Крепко вас целую,
Ваш папка.
Брат Миша, о котором в письме упоминает мой отец, это его старший брат Михаил Васильевич Минаев – русский эмигрант (1889–1961). Сведения о нем имеются в «Казачьем словаре-справочнике донских казаков» (Под ред. Г.В. Губарева. Сан-Франциско, 1968).
Выходец из старинного рода донских казаков, М.В. Минаев окончил физико-математический факультет Петербургского университета, затем Константиновское артиллерийское училище, где ему было присвоено воинское звание. С началом Первой мировой войны – фронт и новые повышения.
С началом революции полковник Михаил Минаев – в рядах Белого движения, принял участие в борьбе за Дон. Прошел полный курс первой в России авиационной школы.
Вместе с отступающими частями белой армии попал в Константинополь, потом был интернирован в Галлиполи, где к концу 1920 г. было зарегистрировано двадцать тысяч человек. Длина Галлиполийского полуострова всего девяносто километров. Здесь расположился армейский корпус, часть которого составляли регулярные части Добровольческой армии, в том числе и артиллерийские подразделения, куда входил Михаил Васильевич Минаев.
Тяжелые условия существования Галлиполийского лагеря привлекли внимание Чехословацкой Республики, образовавшейся 28 ноября 1918 г., в которую вошли Чехия, Моравия, Словакия и земли восточных русинов, живших в Карпатах. Первый президент новой республики профессор-философ Томаш Масарик и премьер-министр Карел Крамарж организовали «русскую акцию». Она предусматривала приглашение нескольких тысяч студентов в высшие учебные заведения Чехословакии. Так Михаил Васильевич попал в Пражский университет, на геологический факультет, на отделение сельского хозяйства.
В эмиграции он оказался один, без семьи. Но как, каким образом он встретился там со своей женой Верой Лепневой-Минаевой, остается неясным. Но известно, что в 1927 г. у них в Берлине родилась дочь, тоже Верочка – Вера Михайловна Минаева. Дальнейшие следы и дочери, и жены туманны. Вероятно, около 1930 г. М.В. Минаев один переезжает в Ладо-мирово, где был уже возведен православный храм Почаевско-Успенской лавры из Кременец-Подольска, перекочевавший сюда еще в Первую мировую войну во время боев на Луцком направлении. Здесь в Ладомирове начала действовать монастырская типография, восстанавливая почаевскую традицию XVII в.
Школа при монастыре в Ладомирове и стала местом службы Михаила Васильевича. Митрополит Лавр, впоследствии глава Русской Православной Церкви Заграницей, в юные годы был учеником М.В. Минаева, преподававшего математику, русский язык и русскую литературу.
Будущий митрополит Лавр (в миру Шкурла Василий Михайлович, 1928–2008, по национальности карпаторосс) в 1944 г. стал послушником Почаевской лавры, а после ее эвакуации в Австрию выехал в 1946 г. вместе с монастырем в Джорданвилль (США), где был основан новый Свято-Троицкий монастырь, ставший духовным центром Русской Православной Церкви Заграницей. В 1948 г. пострижен в монахи с именем Лавра. С 1954 г. преподавал в Свято-Троицкой семинарии догматическое богословие и каноническое право. В 1967 г. хиротонисан в епископа Манхэттенского и назначен секретарем Архиерейского Синода. Будучи в 2001 г. избранным Первоиерархом Русской Православной Церкви Заграницей, митрополит Лавр приложил много усилий для ее сближения с Московской патриархией. Он участвовал в закладке в 2003 г. храма в честь новомучеников российских в Бутово, а в мае 2007 г. патриарх Алексий II и митрополит Лавр восстановили каноническое общение двух ветвей русской Церкви.
Что касается учителя митрополита Лавра, Михаила Васильевича Минаева, то Вторая мировая война внесла много изменений в мирную тишину Ладомирова. На рубеже 1943–1944 гг. установилась связь Михаила Васильевича с родным братом – Василием, попавшим в немецкий плен.
Как можно заключить из письма Василия Васильевича к семье, его в начале апреля 1942 г. перевели из общего лагеря военнопленных в учебный лагерь Вустрау под Берлином. Там немцы собирали интеллигенцию из военнопленных для подготовки к административным должностям на оккупированной ими территории. Преподавателями в Вустрау были преимущественно белоэмигранты, члены Национально-трудового союза (НТС), действовавшего во время войны подпольно. Они несли своим слушателям не идеи национал-социализма (хотя и их надо было знать), а собственное видение будущей свободной России. Целью их прихода в лагерь и был поиск единомышленников. Кроме того, они, работая в лагере по найму, сохраняли свои связи с внешним миром и с русской эмиграцией в разных странах. Василий Васильевич Минаев, будучи освобожден из плена по окончании курса в Вустрау, получил там же должность заведующего библиотекой. Он использовал возникшую возможность общения с людьми, как для отстройки собственной подпольной организации – Всероссийской Национальной Партии, так и для связей с внешним миром. Возможно, что через белоэмигрантов среди преподавателей он и нашел своего брата Михаила в Словакии, с которой у НТС была тесная связь. Вот одно из писем Михаила Васильевича, посланное своему брату в Берлин:
20 июля 1944 года
Дорогой и родной брат Вася!
Последнюю твою открытку от 7 июля получил. Теперь ожидаю от тебя извещения об окончательном устройстве всех формальностей, с отъездом связанных, а затем и твоего приезда. Правда, теперь у нас, в связи с приближением фронта, наблюдается повышенное настроение. Но, в общем, это, надеюсь, не помешает тебе тут отдохнуть и подкрепиться силами. Только приезжай поскорее, не задерживайся там.
Мое хозяйство по-прежнему ведется по установленному плану. В огороде закончил все, что предполагал сделать в этом году. Малина уже созрела, жду тебя, чтобы угостить. Животноводство увеличилось – купил цыплят, подкармливаю. Надеюсь, что на этот раз не станет так, как в прошлом году перед твоим первым приездом, когда из молодых цыплят, в ожидании твоего приезда, получились взрослые петухи, оглашавшие своим пением свидание. До сих пор все в моей квартире остается по-прежнему, как было в твой последний приезд.
Но, кажется, придется пошевелиться в моей долголетней берлоге. Если будет взят Львов, начну эвакуировать свои вещи в Жилину. Конечно, далеко не все, но только самое ценное и к жизни необходимое. Остальное, быть может, удастся вывезти при принудительной эвакуации, хотя я сильно сомневаюсь в этом. Придется многое бросить и отнестись к этому, как наш покойный дедушка Алексей Михайлович – когда вода прорвала плотину, он снял шапку, перекрестился и сказал: “Ну, что же, Его святая воля! Бог дал, Бог взял!” Во время такой мировой катастрофы потери имущества отдельным человеком – ничтожное обстоятельство, которым надо пренебречь.
Целую тебя крепко, твой Михаил.
В августе 1944 г. развернулось антигитлеровское восстание в Словакии, продолжавшееся до конца октября. Затем началась расправа гитлеровских войск с повстанцами и наступление советской армии. Жители Свитника и Почаевского монастыря поднялись с оседлых мест и двинулись в Австрию. В австрийских городах Клагенфурт и Келлерберг были разбиты лагеря беженцев.
Михаил Васильевич делал попытки добиться освобождения брата Василия Васильевича из гестаповской тюрьмы на Александрплац в Берлине. Но все было напрасно.
Душевное состояние Михаила Васильевича и потрясение развившимися трагическими событиями привели к решению принять духовный сан. Но он еще два года провел в подготовке к этому сану. Он не решился отправиться в Соединенные Штаты, откуда поступило приглашение от монахов Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле, вместе с монахами Почаевского монастыря, среди которых было много его учеников,
В 1947 г. он стал священником, а возможно, и иеромонахом эмигрантских храмов на австрийской территории. Только в 1955 г. Михаил Васильевич решил переехать в Соединенные Штаты, в монастырь Святой Троицы в Джорданвилле.
Ему предложили небольшой приход неподалеку, в городе Скенекте-ди, где он и прослужил до конца своих дней. Он был талантливым проповедником и инспектором духовной семинарии в монастыре Святой Троицы в Джорданвилле, куда стал ездить на автобусе несколько раз в неделю.
Но жизнь на чужой стороне не заладилась. Вскоре он сильно заболел. Но и больной ездил в Джорданвилль. Там его всегда ждали и ценили его исключительные качества. Но болезнь взяла свое. Умер Михаил Васильевич тихо, как бы уснул – в августе 1961 г. Отпели его в том же приходе; подивились на его просветленное лицо и решили похоронить в монастыре. Там и покоится Михаил Васильевич Минаев у самой церкви Святой Троицы.
Между тем, в условиях немецкого лагеря для военнопленных еще под Минском в 1942 г. Василий Васильевич создал конспиративную Всероссийскую Национальную Партию и написал ряд идеологических документов к ней, в том числе Конституцию ВНП (Подробнее см.: Минаева Н.В. Люди русского Сопротивления. М., 2004. Гл. 15. С. 143–167).
Из лагеря в лагерь сначала на территории России, потом Германии переводился В.В. Минаев, пополняя ряды своей партии и продумывая программу и конституцию. Комитеты его партии ВНП были созданы в Дрездене, Катовицах, Берлине и еще нескольких городах.
В конце концов его подпольная деятельность была замечена органами гестапо, и 5 августа 1944 г. он был арестован по доносу одного из своих солагерников. Его арестовали в скором поезде Берлин-Братисла-ва за пять минут до отхода поезда.
Гестаповцы искали связь его деятельности с участниками заговора против Гитлера 20 июля 1944 г. Он был помещен в одиночную камеру № 73 гестаповской тюрьмы на Александрплац в Берлине. Допросы следователей гестапо продолжались до апреля 1945 г.
А далее – не менее трагическое развитие судеб советских военнопленных.
За победой в Берлине следовали суды советского СМЕРШа и отправка русских военнопленных «на Родину» в советские концлагеря за Полярный круг и в среднеазиатские степи. Здесь он провел более двух лет, до середины 1948 г., когда началось дознание и вызов в Москву в конце того же 1948 г., в страшную Бутырку политических заключенных по 58-й статье, новое следствие, которое продолжалось около года. Его принудили восстановить Конституцию Всероссийской Национальной Партии по памяти. Началась мужественная диктовка подследственным Минаевым своей Конституции ВНП в тюремной камере, где каждый машинописный листик подписан собственной рукой Василия Васильевича Минаева, столь знакомой мне, дочери, еще с довоенных пор. И, наконец, – расстрел как раз на разделе «Национальный вопрос», излюбленной теме Иосифа Виссарионовича, в знаменательную дату – 8 ноября 1949 г.
Сталину оставалось жить еще три с половиной года, Берии – неполных шесть.
Василий Васильевич был уничтожен. И никто бы не узнал ничего об его Конституции и других работах, которые были им продуманы в условиях немецких и советских лагерей, если бы историки не обратили внимание на его политическое дело.
На одной из стен гестаповской тюрьмы начертаны строки кого-то из арестантов, обреченных на немоту: «Бывают времена, когда торжествует безумие. Тогда головы секут самым благородным».
Автор одной из самых демократических потаенных конституций России – математик Василий Васильевич Минаев как нельзя более точно должен быть определен этой надписью.
Приложения
Приложение 1 Текст Всемилостивейшей жалованной грамоты, российскому народу жалуемой
Всемилостивейшая грамота,
российскому народу жалуемая
На титуле Его Императорского Величества
При вступлении нашем по воле Всевышнего на прародительский престол, извещая о сем любезных наших верноподданных, того ж дня манифестом изъявили мы волю и намерение наше употребить все силы и старания к усчастливлению России, управляя народом, скипетру нашему от Бога вверенным, коренными законами, имея первым предметом благоденствие всех наших верноподданных. Сей приятный долг сердцу нашему потешимся мы во всем его пространстве выполнить, принося теплые молитвы пред Богом, да подкрепит и поможет в бремени сего служения, по воле Царя царей на нас возложенном.
По случаю коронования и миропомазания нашего за долг себе поставляем пред сердцевидцем Богом и пред сим славным и многочисленным народом, скипетру нашему подвластным, изъявить, что всегда первый и единый наш предмет будет благополучие, спокойствие и сохранение целости Российского государства и народа. Не менее правилом себе поставляем признать сию истину, что не народы сделаны для
Государей, а сами Государи промыслом Божиим установлены для пользы и благополучия народов, под державою их живущих, а посему узаконяем и обещаем Императорским нашим словом за нас и преемников наших, яко коренным законом, следующие статьи:
Признавая сколь существующие законы, о поправлении коих и предшествующие нас Государи помышляли, недостаточны суть, мы долгом почитаем особливое внимание к важному предмету сему обратить, и для того учредили уже особливую комиссию, ничего так не желая, как видеть успехи сего нашего намерения, клонящегося к тому, дабы Россия достаточными и ясными законами на всякую часть и на каждое состояние людей, пространную Империю нашу составляющих, обрела новую твердость и блаженство, дабы безопасность личная и собственность каждого ограждены были, дабы наказания, если они место иметь должны, извлекаемы были не иначе, как из натуры самого преступления и не отягощали судьбу каждого выше им содеянного. Не прежде ощутим мы некоторое внутреннее удовольствие, как когда увидим отечество наше снабженным всеми нужными узаконениями для основания вообще блага оного, и дабы каждый под охранением их мог жить спокойно и безопасно при нас и преемниках наших.
Подтверждаем и возобновляем все права преимущества, данные дворянству прежними российскими Государями, а наипаче указом императора Петра III, именуемым: «О вольностях дворянства», и «Грамоту дворянскую» императрицы Екатерины Второй.
Подтверждаем и даем дворянству полную свободу жительство иметь в той части Российской империи, где кто пожелает, переменять свое пребывание, выезжать из государства и возвращаться в оное по своему благоусмотрению, не опасаясь нимало, чтобы по отбытии за пределы России остающиеся имения или права могли подвергнуться опасности или нарушению, ибо пребывают они под защитою законов, собственность ограждающих. Свобода выезжать за пределы государства да будет навсегда ненарушимым правом российского дворянина, и да не будет обязан он испрашивать на сие каждый раз монаршего соизволения, исключая только чрезвычайных случаев, как например: пресечение сообщения с какою-либо державою или тому подобное, о чем, однако ж, всегда будет обнародовано.
Российскому дворянству да будет свободно вступать или не вступать в службу нашу, но те, кои не будут отправлять никакого рода служения, не могут пользоваться выгодами и преимуществами, службою приобретаемыми. Воля наша, однако ж, есть, чтоб и те из дворян, кои по разным обстоятельствам сего долга пред отечеством выполнить не могут, лишаясь выгод и преимуществ, службою приобретаемых, пользовались правом, естественно каждому дворянину недвижимую собственность имеющему принадлежащим, участвовать в выборах и быть избираемыми на места, от выбора дворянского зависящие.
Российскому дворянству да будет свободно вступать на службу дружественных союзных держав, не испрашивая на то особого дозволения.
Порядок наследства и право в приобретении оного да будут впредь непоколебимы и ненарушаемо постановлены законами Российской империи, и сей законами утвержденный порядок наследства да не будет никогда и ни под каким предлогом отменен или нарушен какою-либо властию, и все особые постановления, порядок сей испровергающие, как то – конфирмованная духовная, или прошение, утвержденное Императорским Величеством, или другая каковая перемена в узаконенном правиле да будет без действия (разумея сие на будущее время, если бы таковые распоряжения, несходные с законами, после настоящего постановления могли быть учинены; что же касается до прежних, на которые последовали Императорские конфирмации, оные остаются в своей силе без нарушения) от ныне и впредь.
Общее и законным исстари признанное правило о наследствах недвижимого имения состоит в том, что всякой российский подданный, собственность имеющий, располагает родовым или наследственным имением на основании, российским законом определенном, благоприобретенное же отдает или завещает по воле и благоусмотрению своему.
Торговля Российской империи, внешняя и внутренняя, да пользуется всегда и во всякое время особливым покровительством правительства, и да обратит оно неослабное попечение о размножении естественных и искусственных произведений в государстве, да поощряет отыскание всяких вещей полезных, как то: металлических руд, минералов, солей и других земных произведений.
Владелец, обретший и отыскавший в пределах земель, ему принадлежащих, вышеуказанные земные произведения, толико государству полезные и к распространению торговли толико способствующие, да имеет к оным всегдашнее и неоспоримое право, и где бы таковые произведения ни были, на поверхности земли или в ее недрах, в лесах, в водах и где бы то ни было, но во владениях его да имеет право обрабатывать их для собственной своей пользы; казна же, исключая установленной законами подати, никакого другого права тут да не предъявит.
Долг правительства есть пещися, чтобы внутри государства существовала везде всевозможная удобность для перевоза и пересылки всяких естественных и искусственных произведений; да покровительствует и да чинит оно всякое вспоможение в обращении, произведении и товаров, и никто да не опасается, чтоб когда и под каким-либо предлогом положена была сему внутреннему обращению преграда, или оное стесняемо было впредь последовать могущее какое-либо установление, затрудняющее достижению сея полезные для блага народного цели, да почтется недействительным.
Утверждаем и постановляем впредь навсегда и ненарушимо, что безопасность личная есть право, российскому подданному существенно принадлежащее; почему каждый да пользуется оною сообразно со званием и чино со стоянием своим. Право сие да пребудет всегда под священною стражею закона.
Возобновляем, утверждаем и постановляем, что право собственности движимого и недвижимого имения есть право российского подданного, поколику оно свойственно в силу законов каждому чиносостоя-нию в государстве.
Каждый российский подданной да пользуется невозбранно свободою мысли, веры или исповедания, богослужения, слова или речи, письма и деяния, поколику они законам государственным не противны и никому не оскорбительны.
Подтверждаем, по силе указа 1787 года, право гражданской давности, касающееся до собственности или владения движимым и недвижимым имением так, что если кто владеет каким-либо имением или если пользоваться кто чрез десять лет каким-либо правом бесспорно и спокойно, и если в течение сих десяти лет никто не оспаривал такого владения или права и о том не производил иска, то по окончании сего узаконенного десятилетнего срока всякой владелец да почтется законным того имения владельцем, и да не приемлется на оное спора, и иска о нем да не произведется ни от кого, ни от частных людей, ни со стороны казенной.
Сие мирное и бесспорное десяти лет владение, правом давности или просрочки утвержденное, обращается для пользовавшегося оным в право владения действительного и неоспоримого, и да послужит впредь вместо всяких законных документов на имение, если бы оных кто не имел.
Подтверждаем и возобновляем все права и преимущества, данные городам, купечеству и мещанству российскими Государями, а наипаче Грамотою Ее Величества Императрицы Екатерины Второй, названною Городовым положением.
Подтверждаем и жалуем всем записавшимся в купечество и мещанство свободу избирать и переменять жительство во всех городах по своему желанию. Равным образом да имеют они свободу выезжать за границу, давая надежное поручительство, если кто имеет каковые обязательства, так как и в исправном платеже следуемых с них податей.
Буде случится, что за какой-либо иск, или как бы то ни было, имение поселянина подлежать будет описи, конфискованию или отъятию, то все земледелательные орудия и все, к ремеслу его принадлежащее, как то: соха или плуг, борона, коса, телега и тому подобное, лошади, волы, житницы с семенным хлебом, овин или рига и другие земледельческие строения, к званию земледельца относящиеся, не долженствуют у него быть отъяты ни под каким видом и ни в какое время.
Сия собственность, основывая существенно состояние земледельца, не имеет быть ни под каким видом и предлогом нарушаема, ни за казенный каковой долг, взыскание, недоимку или подать, ниже за какое-либо требование владельца, и да пребудет она свята и ненарушима навсегда. Земледелец, лишаяся ее, лишается совсем своего звания.
Обвиняемый в какой-либо преступлении, или под судом находящийся, да не почитается преступником, и да не лишается тем доброго в обществе о нем мнения, и да пользуется всеми личными преимуществами (буде какие имеет), доколе действительно не будет доказано, что он преступление учинил и доколе не будет оно объявлено решительным приговором законных судей.
Обещаем Императорским нашим словом обратить все внимание наше к усовершенствованию права, отчасти в российской юриспруденции уже существуемого, дабы всякой подданный российской судим был судиями равного с ним состояния. Ничего сердцу нашему не будет приятнее, как основать на твердых и единых для всех званий правилах правосудие в империи нашей.
Обвиняемому в преступлении, или под судом находящемуся, да будет дозволено во всех случаях, не токмо если того пожелает, но да будет ему предложено избрать себе для суда защитника; сие предложение о избрании защитника долженствует быть существенно к обряду судопроизводства принадлежащим.
Обвиняемый в преступлении, или под судом находящийся, да имеет непременное право отвергнуть судей, постановленных для суждения о его преступлении, объявляя законную причину, для чего он их отвергает.
Отвержение судей равным образом распространиться должно и на дела тяжебные, или гражданские.
Да никто, не имеющий на то власти, законами данной, не дерзает российского подданного (к какому бы чино со стоянию он ни принадлежал) оскорблять в личной его безопасности, лишая его свободы, заточая, сажая в темницу, налагая оковы или просто имая под стражу
Если кто взят будет под стражу или посажен в тюрьму, или задержан где насильственным образом, и если в течение трех дней не будет ему объявлено о причине, для которой он взят под стражу, посажен в тюрьму или задержан, и если в сей тридневный срок он не будет представлен пред законный суд для учинения ему допросов и для произведения над ним суда, то по единственному его требованию свободы от ближайшего начальства да освободится непременно в тот час, ибо преступление его неизвестно, а потому в законе еще не существует.
Освобожденный таким образом может произвести иск на взявшего его под стражу, или посадившего его в тюрьму, или задержавшего, или давшего на то повеление, в оскорблении личной безопасности и убытках, и сей повинен ответствовать в суде в произведенном на него иске.
Если кто, будучи взят под стражу и представлен суду, пожелает, узнав причину для коей взят, быть освобожден, предъявляя законами определенное поручительство в том, что являться будет на суд каждый раз, когда то востребуется, пусть да имеет на то право и да получит личное освобождение, исключая нижеописанных случаев: когда обвиняем кто в умышленном оскорблении Величества, в измене, в умышленном смертоубийстве, в разбое, в делании фальшивой монеты, ассигнации или векселей, в заговоре, клонящемся к нарушению общего покоя или личной безопасности, и когда ясно в суде будет постановлено, что содержимый под стражею точно таковое преступление сделал умышленно; в сих только случаях поручительство не приемлется и личное освобождение возбраняется.
Но и тут, желая оградить личную безопасность законом непременным, и постановляем и учреждаем навсегда:
1-е. Когда обвиняемый в умышленном оскорблении Величества, в измене, в умышленном смертоубийстве, в разбое, в делании фальшивой монеты, ассигнации или векселей, в заговоре, клонящемся к нарушению общего покоя или личной безопасности, будет требовать освобождения за поручительством, то долг суда да будет постановить предварительно и ясно: 1) что преступление есть точно умышленно и таково, как показывает обвинение; 2) что взятый под стражу, или обвиняемый, точно и умышленно сие преступление сделал. Утвердив все сии статьи приговором, суд может отвергнуть поручительство, а не иначе: ибо просто подозрение не есть доказательство.
2-е. Дабы именование преступления в оскорблении Величества не было подвергнуто неопределенному толкованию и дабы оградить всех от злоупотребления самопроизвольные власти, установляем на точном смысле Наказа о сочинении нового уложения блаженные памяти Императрицы Екатерины Второй, глава XX, чтобы слова и сочинения не почитать никогда преступлением, ибо они суть предлоги только градского чиноправления, а преступлением оскорбления Величества почитать следующие деяния: если кто сделает и производить будет самым действием заговор на испровержение высшей власти в государстве (заговор есть условие нескольких людей), или кто произведет явный и умышленной бунт и возмущение в народе, от чего нарушится спокойствие государства, или кто предатель будет самым действием своего отечества, умышляя с врагом его ему вред, если кто сделает заговор и произведет оный, или производить будет самым действием против жизни и безопасности особы Императорской, тот только да судим будет, яко преступник в оскорблении Величества.
Если взятому под стражу, обвиненному в преступлении или под судом находящемся, дана будет свобода или по неизвестности преступления, или по учиненному о невинности его в суде решению, то да не будет он паки требован к суду, взят под стражу или обеспокоен другой раз по тому же делу; но дело сие да почитается яко решительно оконченное, и да не приемлется о нем вторично нигде никакого прошения, да не дается никакое повеление о его возобновлении или продолжении, и апелляция какая бы ни была да не имеет тут места.
В случае какого-то тяжебного или законного разбирательства между казною или частным лицом, казна не иначе в законе должна быть почитаема, как обыкновенный истец или ответчик. Поверенный, обязанный защищать право казенное, не должен иметь никакого преимущества или пред почитания против своего соперника, и в отношении его надлежит наблюдать те самые в судопроизводстве формы, обряды и порядок постановленные, которые положены для частных лиц, ибо достоинства или преимущества истца или ответчика не долженствуют иметь ни малейшего влияния на существо дела, ни на обряд в собрании справок, ни на судопроизводство, а всего паче на решение и приговор. Все лица равно законам суть подвластны.
Да не существует отныне впредь никакая подать, налог, сбор денежный или другого какого-либо рода, ниже требование какое без именного на то указа, в коем подать, налог, сбор или требование изображены будут ясно, и который всенародно объявлен будет по воле нашей от Правительствующего Сената, и в сем обнародовании ясно, внятно и недвусмысленно изобразится, что от кого требуется и сколько.
Сим предохранительным средством уничтожатся всякие частные требования или налоги, постановляемые какие-либо начальствами, как то: городовыми правлениями, магистратами, ратушами, цеховыми управами, собранием дворянских предводителей или кем иным; власть же и право объявлять налоги по воле Императорского Величества предоставляется единому Правительствующему Сенату. Под сим исключением не разумеются, однако ж, добровольные складки или сборы, кои дворянами, купечеством, мещанами, цеховыми управами или казенными поселянами, каждыми для надобностей собственно того состояния, к которому они принадлежат, чинимы будут. Всякая такая добровольная складка, или добровольный сбор, не долженствует иначе принять своего начала, как по предварительном советовании всех участвующих.
Поелику наказание, законом определяемое, может иметь две только цели: или исправление преступающих, или воздержание примером казной от всякого к преступлениям покушения, то не свойственно правительству находить тут какую-либо корысть, ибо пеня или штраф в разных случаях гражданского производства, законами полагаемые, должны всегда иметь целью исправление преступающих, лишая их предлога к преступлению; в делах же уголовных, смерть гражданскую за собою влекущих, пеня или отъятие имения существовать не долженствуют, ибо следствия наказания сего падут на наследников; а потому и постановляем, чтобы конфискация имения в пользу казенную по делам уголовным отныне впредь не существовала; того ради, буде по уголовному преступлению виновный по закону должен наказан быть смертью гражданскою, то имение его да отдастся обыкновенным порядком наследства законным наследникам, и да обращается потомственно по обыкновенному законоположенному порядку Исключаются из правила сего те из преступников, осужденных на смерть гражданскую (которая разрушает все права без изъятия), кои сделали какое-либо похищение казенного или частного имущества, кои, имев в управлении доходы или расходы государственные, состоят в начете, кои имеют долговые казенные или частные обязательства. Имение таковых да не прежде утвердится за наследниками их, как по удовлетворении законном по всем выше писаным пунктам.
Во всяком законном разбирательстве или судопроизводстве да чинится различие и разделение между лицом и вещью, или между имением и особою. В делах тяжебных и исковых, какого бы роду ни было лицо либо особа, тогда только подлежать может ответу, взысканию или требованию, когда вещь или имение недостаточны на удовлетворение произведенного иска.
Вследствие правила сего закон полагает, что всякого рода сделка, как то: продажа, наем, условие, подряд, заем, расчет, контракт и обязательство, какого бы рода ни было, как между частными людьми, так и между казной и лицом частным, суть постановления, не на обязующееся лицо относимые, но на вещь, на кою делается обязательство, не до особы касающееся, но до имения; следовательно, имение или вещь долженствуют прежде ответствовать об устойке и об исполнении обязательств, но в случаях недостатка имения на удовлетворение сделанных обязательств закон тогда обращает требование к особе или лицу, дабы недостающее в имении на удовлетворение иску пополнено было.
Желая утвердить право частной собственности во всех его видах и отношениях, мы отступаем от права, казне присвоенного, на имения последних в роде, постановляя, да отныне впредь все таковые пользуются имениями их на общем праве владельцев, да будут они властны заложить их и продать или иным образом законно распорядить, предоставляя обращать в казну и почитать выморочными те только имения, о коих владельцы их, быв без наследников, при жизни их никакого не сделали распоряжения и умерли без законного завещания. А посему в письме всяких крепостей самое название последних в роде отныне впредь да уничтожится.
Обеспечив колико возможно безопасность наших верных подданных, мы почитаем, что блаженство их много от того зависеть может, если всякое судопроизводство, в каких делах бы то ни было, которое столь существенную с законом всегда связь имеет, было постановлено законоположением ясным и непременным; того ради, доколе с помощию Божиею достигнем мы цели нашей в утверждении блаженства России совершением и изданием общего уложения, мы обещаем нашим Императорским словом, что мы все узаконенные доселе судопроизводства, обряды или постановления наблюдать будем ненарушимо, не делая ничего в отмену оных ни общими, ни частными положениями; но если бы случиться могло, что прежние постановления, обряд или судопроизводство требовали какие-либо отмены, то каждый раз в таком новом деле Правительствующий Сенат обязан взойти в подробное рассмотрение нужных в существующем положении отмен, и для того да устроит о сем общее советование, приглашая к тому коллегии и равные им присутственные места, и рассмотрев да учинит положение и внесет нам на утверждение; тогда только таковое новое постановление да имеет силу закона, а все иначе учреждаемое законом да не почитается.
Дана в престольном нашем граде Москве сентября 2 1802 года
Приложение 2 Текст проекта «Государственной уставной грамоты» (1821)
Государственная уставная грамота Российской империи
(проект Н. Н. Новосильцева) 1820 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ
Российское государство, со всеми владениями, присоединенными к нему под каким бы наименованием то ни было, разделяется, сообразно с расписанием у сего приложенным, на большие области, называемые наместничества.
Каждое наместничество заключает в себе определенное число губерний, по мере народонаселения, расстояния, обширности и смотря на нравы, обычаи и особенные или местные законы, жителей между собою сближающие.
Наместничества называются по имени одной из составляющих оные губерний или по месту; для присутствия наместнического начальства определенному.
Губернии сохраняют настоящее разделение свое на уезды, исключая те случаи, в которых местные обстоятельства востребовали бы новых разграничений.
Уезды разделяются на округи: округам состоять из городов третьей степени и из определенного числа волостей, сел и деревень, по мере народонаселения и расстояния от места, для присутствия окружному начальству определенного.
Городами первой степени именуются города губернские; второй степени города уездные; а городами третьей степени все прочие; из сих последних исключаются те, которым по выгодному положению своему и по торговым сношениям следовать будет поступить на одну из высших степеней.
Каждый город первой и второй степени имеет свой округ. Он заимствует от него свое имя и есть местопребывание начальства оного. Прочим округам наказываться по месту, к какому будут приписаны.
Из сего разграничения исключаются столицы, Санкт-Петербург и Москва, равно как и их губернии.
О ПРАВЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Отделение I
О ГОСУДАРЕ, ИЛИ ДЕРЖАВНОЙ ВЛАСТИ
Корона российско-императорского престола есть наследственная, она переходит по порядку, установленному в Бозе почивающим родителем нашим императором Павлом.
Основания державной власти и образ действия оной определяются сею Государственною уставною грамотою, жалуемою нами любезным нашим верноподданным на вечные времена.
Державная власть неразделима: она сосредоточивается в лице монарха.
Государь есть единственный источник всех в империи властей гражданских, политических, законодательных и военных.
Он управляет исполнительной частью во всем ее пространстве. Каждое начальство исполнительное, управительное и судебное им одним постановляется.
Но законодательной власти Государя содействует Государственный Сейм, о котором ниже упомянуто будет, на основании Уставной грамоты и особенных учреждений.
Особа Государя священна и неприкосновенна.
Государь есть верховная глава общего управления империи. Он печется о внутренней и внешней безопасности государства. Он бдит о своих правах во владениях.
Право объявлять войну и заключать договоры и условия всякого рода принадлежит одному Государю.
Предводительство военной силой, сухопутной и морской, как в мирное, так и в военное время, равно как и назначение главнокомандующих и производство генералов и офицеров принадлежит монарху без исключения.
Государь назначает послов, посланников и других уполномоченных чиновников для переговоров политических и торговых.
Государь на все места гражданские, управительные и судебные назначает непосредственно или через тех, коим вверит он таковую власть.
Как верховная глава Православной Греко-Российской Церкви, Государь возводит во все достоинства духовной иерархии.
Право помилования принадлежит исключительно Государю. Он может преступника простить или облегчить его наказание.
Дела по всем судебным и всяким другим присутственным местам производятся и приговоры оных, равно как и всякого рода публичные акты, объявляются именем его Императорского Величества.
Учреждение орденов, постановления оным статутов и награждения военными и гражданскими орденами принадлежит Государю, равно как и право возведения на степень дворянства и высших оного достоинств, принятие в подданство и пожалование в чины и классы.
Государь располагает доходами государства сообразно с утвержденными им частными расписаниями доходов и расходов (бюджетами) на-местничеств и с общим расписанием доходов и расходов всего государства.
Первое же общее расписание доходов и расходов, имеющее быть составлено в силу настоящей грамоты, на основании ли частных расписаний доходов и расходов наместничеств, или по соображениям министерств, предоставляется в особенности единственному распоряжению Государя Императора.
Для определения законодательных действий Государя общие основания права в империи делятся на три разряда:
В первом заключаются законы;
Во втором уставы и учреждения;
В третьем указы, повеления, рескрипты и постановления.
Под именем законов разумеются все законодательные распоряжения, кои основаны на началах, по существу своему непременных, и кои не могут быть иначе ни отменены, ни преобразованы, как с соблюдением ненарушимости оных начал и тогда только, когда впоследствии времени оных покажет необходимость изменений, или когда будут вынуждены причинами важными и решительными.
Под словом уставы и учреждения должно разуметь все распоряжения, требуемые обстоятельствами или для защиты государства и охранения целости его границ, или для устройства разных предметов по части внутреннего управления, или, наконец, по делам, до порядка службы и до усовершенствования общего и частного благосостояния касающимся.
Наконец, под именем указов, повелений, рескриптов и постановлений должно разуметь все, что предписывается к исполнению по частным и случайным обстоятельствам, в различных отделениях государственного управления встречающимся, или что относится до какого-либо начальства, чиновника военного, гражданского или частного лица и по свойству своему, смотря по надобности, может подвергаться разным изменениям.
Законы разделяются на общие государственные законы и на особенные, или местные. Общие законы составляют общее право, применяются во всех случаях, в коих местные законы недостаточны.
Общие законы постановляются Государем при содействии общего Государственного Сейма, о коем ниже будет упомянуто.
Особенные, или местные, законы постановляются Государем при содействии Сеймов наместнических.
Право издавать уставы, учреждения, указы, рескрипты и постановления принадлежит исключительно Государю. Он может вверить оное в совокупности или в частностях месту или лицу по своему благоусмотрению.
Общие и особенные, или местные, законы скрепляются министром, начальником управления юстиции. Уставы, учреждения, указы, повеления и постановления должны быть за скрепою того из министров, до которого они, по содержанию своему, будут принадлежать. Он отвечает за все, что в сих уставах, учреждениях, указах, повелениях, рескриптах и постановлениях могло бы заключаться противного правилам уставной грамоты и законам.
Отделение II
О ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ
Государственный Совет, под председательством Государя, состоит из министров, членов Государственного Совета, государственных докладчиков, или статс-секретарей, и из особ, коих угодно будет Его Императорскому Величеству в него призвать.
Государственный Совет разделяется на Общее собрание Совета и на Правительный совет, или Комитет министров.
А. Правительный совет
Правительный совет, под председательством Государя, состоит из министров, начальников управлений и других особ, призванных в него по воле Государя.
Члены Правительного совета имеют голоса совещательные. Один Государь решит. Его Величество может сие право вверить в совокупности или в частях Наместнику в Правительном совете, или кому заблагорассудит. Сей обязан решить в Совете согласно с уставными правилами государства и законами.
Правительный государственный совет, или Комитет министров, имеет право уничтожать постановления, изданные наместниками в Наместническом совете, когда они противны законам, учреждениям, указам, повелениям и рескриптам, на имя их писанным или им данным. В подобных сему случаях он уничтожает также постановления определения нижних присутственных мест, когда упущением последних начальств того не учинено.
Если сии постановления и определения нарушают общественную безопасность или общественное спокойствие, то за исключением одних наместников Комитет министров вправе удалять по управительной части всякого рода чиновников, с обязанностью неотлагательно доносить о том Государю и входить с представлением в общее собрание Государственного Совета, буде удаление от должности относиться до чиновников, коих предание суду подлежит его ведомству.
Если по случаю, упомянутому в предыдущей статье, следовало бы удалить Наместника, то Комитет министров доносит о том Государю и входит с представлением в Сенат, до коего принадлежит предание суду наместников, как о том ниже в ст. 145 сказано будет.
Б. Общее собрание Государственного Совета
Общее собрание Государственного Совета, под председательством Государя, Наместника его, или другого уполномоченного Его Величеством, или под председательством старшего из членов составляется, как означено в ст. 35.
Дела, ведению Государственного Совета подлежащие, за исключением тех, которые возложены на него по образованию, учрежденному в 1809 году, суть следующие:
1. Рассматривать и составлять проекты законов или уставов и учреждений, относящихся до общего управления империи.
2. Разрешать споры, произойти могущие от присвоения какой-либо властью не принадлежащего себе ведомства или соткновения ведомств.
3. Определять предание суду, по предложению Правительного совета, или Комитета министров, чиновников управления, по назначению Его Императорского Величества определенных, за злоупотребления в отправлении их должностей и в случаях, подвергающих их ответственности, за исключением тех чиновников, коих предание суду предоставлено Сенату или Наместническим советам (ст. 60).
4. Ежегодно рассматривать и поверять отчеты, поданные каждым главным начальством управления.
5. Делать замечания на все существующие или вкрадывающиеся злоупотребления в управлении, равно как и на все нарушения Государственной уставной грамоты и законов, и составлять из них общий доклад для поднесения Его Императорскому Величеству. Принятие мер вследствие доклада и распределение предметов, смотря по существу их, для препровождения в Сейм, в Сенат или к другим властям, будет зависеть от благоусмотрения Его Величества.
Общее собрание Государственного Совета занимается также рассуждениями о предметах вообще, поступающих в оное по воле Государя Императора или по предложению одного из министров, на основании существующих общих и частных учреждений министерств.
Определения Государственного Совета подносятся на утверждение Государя или особы, им уполномоченной. Из сего исключаются определения, относящиеся до предания суду (ст. 42, пункт 3) чиновников и соткновения ведомств (ст. 42, пункт 2), по коим исполняются непосредственно.
Отделение III
О МИНИСТЕРСТВАХ ИЛИ ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЯХ
Исполнение законов возложено, согласно общему учреждению министерств, изданному 25-го июня 1811 года, на нижеследующие министерства или главные управления:
1. На Главное управление духовных дел и народного просвещения.
2. На Главное управление военное.
3. На Главное управление морское.
4. На Главное управление юстиции.
5. На Главное управление финансов и государственного казначейства.
6. На Главное управление ревизии государственных счетов.
7. На Главное управление внутренних дел.
8. На Главное управление полиции.
9. На Главное управление путей сообщения.
10. На Министерство иностранных дел.
Каждое из сих главных управлений с составляющими оное департаментами состоит под начальством и председательством министра или главноуправляющего.
Министры, начальники управлений, директоры департаментов и правители дел подлежат ответственности за всякое нарушение Уставной грамоты, законов, равно как указов и повелений, от Государя Императора последовавших, и буде бы оказались в том виновными, то предаются верховному государственному суду.
Отделение IV
О НАМЕСТНИКАХ И СОВЕТАХ НАМЕСТНИЧЕСТВ
В каждой области, устроенной по образу наместничеств, имеет быть постановлен Наместник и учрежден Совет наместничества, присутствующие в назначенном местопребывании.
Наместник купно с Советом, на основании предписанного порядка, печется о благосостоянии вверенных ему губерний и людей за точным исполнением законов и повелений высшего начальства по всем частям управления.
Совет состоит под председательством Наместника и разделяется на Правительный совет и Общее собрание:
А. Правительный совет
Правительный совет составляется из Наместника, определенного числа членов и всех других лиц, по высочайшей воле в него призванных. Сверх того находится при нем еще член правитель дел.
Члены Правительного совета, в качестве начальников отделений по Совету наместничеств и в виде отряженных чиновников от каждого министерства или главного государственного управления, заведовают по губерниям, составляющим область наместничества, на основании особенных учреждений, всеми делами, до вверенной им части касающимися.
Члены Совета имеют голоса совещательные; решит один Наместник. Он обязан решить в Совете сообразно с уставными правилами государства, законами и в мере данного ему полномочия.
Каждый член Совета, заведовающий какой-либо частью, должен скреплять все решения и постановления Наместника по своей части. Буде бы не согласен был с его решением, то в таком случае имеет право записать свое мнение в протокол, и тогда отстраняется от всякой ответственности.
Наместник в Совете имеет право, по управительной части, уничтожать все решения и определения губернских начальств, когда они окажутся противными законам, учреждениям, указам и предписаниям высшей власти. Буде бы сии решения угрожали общественной безопасности, общественному спокойствию или заключали в себе явные злоупотребления, то Наместник в Совете имеет право сам отрешать и предавать суду виновных чиновников по всем присутственным местам, за исключением губернаторов, вице-губернаторов, членов губернского правления и казенных палат и других лиц, особенному ведомству подлежащих, о коих представляет Комитету министров.
Определения и постановления наместников тогда только становятся обязательными, когда последуют из Совета за скрепою того из членов, до коего тот предмет относится, или другого, на место его призванного.
Буде бы не последовало Высочайшего повеления о продолжении власти Наместника, то в присутствии Государя Императора власть его пресекается. В сем случае Государь Император занимается делами по своему благоусмотрению с каждым начальником отделения особенно или в Правительном совете.
В случае смерти Наместника Государь Император, до назначения другого, замещает его временным председателем.
Б. Общее собрание Совета наместничества
Общее собрание Совета наместничества состоит из членов, означенных выше в ст. 50, и из членов, выбранных в разных губерниях, лежащих в области наместничества, и, по представлениям Комитета министров, Государем Императором утвержденных.
Общее собрание Совета наместничества имеет свои непременные заседания токмо при выборах и созвании Сеймов. В прочее время оно собирается по повелению Государя и востребованию Наместника. Общее собрание рассуждает вообще обо всех предметах, до управления наместничества касающихся и по высочайшей воле Государя Императора или по предложениям Комитета министров и Наместника в него вносимых, в особенности же о раскладке и взимании податей, установлении земских повинностей, сбережении государственных расходов по области наместничества, умножении с оной доходов, распространении земледелия, промышленности и торговли и тому подобном.
Сверх сего к непременной обязанности оного принадлежит:
1. Рассматривать и обрабатывать все проекты частных законов и учреждений, относящихся к области каждого наместничества.
2. В особенности же: определять по представлениям Правительного совета предание суду чиновников управления за злоупотребление по их должности и в других случаях, подвергающих их ответственности. Из сего исключаются те чиновники, коих предание суду зависит от Сената и Государственного Совета.
3. Рассматривать и поверять ежегодные отчеты, представляемые в конце года каждым управляющим членом по своей части, и составлять из частных ведомостей одну общую по всем вверенным Совету наместничества губерниям, для доставления оной чрез Наместника в Комитет министров.
4. Делать замечания на подаваемые отчеты и на все существующие или вкрадывающиеся в управления злоупотребления, равно как и на все испытываемые нарушения Государственной уставной грамоты и законов, составляя из всего оного общий всеподданнейший доклад, для представления его Государю Императору через посредство Наместника и Государственного Совета.
Все решения общего собрания Совета наместничества представляются на утверждение Наместника за исключением одних решений о предании суду, которые исполняются непосредственно.
От каждого Наместнического совета будет находиться в столице при правительстве докладчик или статс-секретарь того наместничества; должность и образ сношений его определены будут особенным постановлением.
Отделение V
О ГУБЕРНСКОМ НАЧАЛЬСТВЕ
Закон постановляет за неизменное и непоколебимое правило, чтобы управительная и судебная части были разделены, и действия оных, яко несовместные, в каком случае не сливались. Вследствие чего частные уставы, в отмену 97 статьи главы V учреждения о губерниях, с точностью определят, в какие судебные места должны поступать те
спорные дела, кои на основании вышесказанной статьи подлежали до сего времени ведению губернского правления.
Из сего общего правила изъемлется: 1) Судебная полиция, возложенная на городские полицейские управы и уездные правительства (нижние земские суды), в обязанность коих входит исследование преступлений, соделанных на местах, ведомству их подлежащих, и представление виновных куда следует к суду 2) Обыкновенная городская и сельская полиция.
Губернское начальство под председательством гражданского губернатора составляется из вице-губернатора и известного числа членов, управляющих особенными экспедициями.
Для скорейшего движения дел и успешного исполнения губернское начальство разделяется на два главных отделения: на управительное и казенное. Первое, под председательством гражданского губернатора, заключается в губернском правлении, а второе, под председательством вице-губернатора, в казенной палате.
Каждое из сих отделений разделяется на известное число экспедиций, коих начальники составляют членов каждого отделения.
Особенные учреждения определят в подробности, каким делам оканчиваться по экспедициям и отделениям, и каким, по важности своей, поступать в общее собрание всего губернского начальства. Общее собрание составляется через соединение обоих отделений и находится под председательством гражданского губернатора, а в отсутствии его заступающего его место вице-губернатора.
Общее собрание имеет право уничтожать все решения и определения нижних мест по части управительной, буде усмотрит, что они противны законам, учреждениям, уставам, указам и предписаниям, на имя их данным. Ежели бы сими определениями нарушалось спокойствие и общая безопасность, то в таком случае правитель губернии доносит о том Наместнику в Правительном совете и предлагает об удалении от должности чиновников, оказавшихся в том виновными.
Члены губернского начальства, как по отделениям, так и в общем оного собрания, имеют голоса совещательные; один председатель решит. Решения его должны быть основаны на правилах Государственной уставной грамоты и законах и ничего противного оным в себе не заключать.
Каждый член, управляющий экспедицией, обязан скреплять последовавшие как по отделению, так и по общему собранию по части его решения. Ежели бы который из них был не согласен с сим решением, то должен записать мнение свое в протокол, чем и устраняется от всякой ответственности.
Отделение VI
ОБ УЕЗДНЫХ, ОКРУЖНЫХ И ГОРОДСКИХ НАЧАЛЬСТВАХ
Всякий уезд имеет свое уездное начальство. Оно состоит в земском уездном правлении (нижний земский суд) и составляется, под председательством земского уездного исправника, из известного числа заседателей, которое, смотря по обширности уезда, может быть увеличиваемо.
Земское уездное правление, равно как и председательствующий в оном земский уездный исправник поступают по данному им наказу. Они подчинены правителю губернии и губернскому начальству и исполняют в точности все получаемые от них предписания.
Каждый уезд, смотря по своей обширности и народонаселению, разделяется на несколько округов, которые подведомственны окружному начальству. Оно состоит в окружном исправнике или ключ-войте и его помощник имеет при себе несколько сотников и десятских, отряжаемых на определенное время от селений, к составу каждого округа принадлежащих.
Окружное начальство есть среднее место между уездным начальством и каждым селением своего округа. Оно доставляет, посредством сотников и десятских, в каждое селение прикащикам, старостам, сельским начальникам, выборным и всякого другого наименования составляющим последнее звено управительной власти, все повеления и предписания, имеющие последовать от уездного начальства, и смотрит за строгим оных исполнением. Сверх сего неослабно наблюдает, чтобы везде в округе, под ведением его состоящем, наблюдаем был установленный порядок, обеспечивающий общую безопасность и тишину.
Каждый город первой и второй степени, кроме ратуш или магистратов, имеет еще свою городскую и полицейскую управу. Она состоит под начальством городничего или полицмейстера, и в ней заседают (на основании городового положения 34, статьи об обывателях) два ратмана городовые.
Образ действия сих нижних начальств, равно как пределы и степень власти и ответственности, частью определенные уже в существующих узаконениях, будут предметом особого учреждения, соответствующего изложенным в Государственной уставной грамоте правилам.
РУЧАТЕЛЬСТВА ДЕРЖАВНОЙ ВЛАСТИ
Православная греко-российская вера пребудет навсегда господствующей верой империи, Императора и всего Императорского дома. Она непрестанно будет обращать на себя особенную попечительность правительства, без утеснения однако ж свободы всех прочих исповеданий. Различие христианских вероисповеданий не производит никаких различий в правах гражданских и политических.
Священнослужители всех исповеданий вообще состоят, без исключения, под покровительством и надзором законов и правительства.
Закон, без всякого различия, покровительствует равно всем гражданам.
Коренный российский закон: «без суда никто да не накажется» и освященное учреждением о губерниях правило (401): «чтобы никто без объявления ему вины и снятия с него допроса в течение 3-х дней по задержании не лишался свободы и не содержался в тюрьме», распространяется на всех жителей вообще в следующей силе.
Никто не может быть взят под стражу, обвинен и лишен свободы, как только в случаях, законом определенных, и с соблюдением законом предписанных на сей конец правил.
Всякое самопроизвольное задержание вменяется в преступление, подвергающееся наказанию, означенному в уголовном праве.
Взятому под стражу должно немедленно объявить причину его задержания.
Каждый задержанный должен быть представлен в течение 3-х (в редких же токмо случаях, в которых разыскание потребовало бы отсрочки, не позднее 6) суток в то присутственное место, до которого он принадлежит, для снятия с него допроса или суждения узаконенным порядком. Всякое отступление от сего вменяется в злоупотребление власти. Ежели обвиняемый оправдается при первом следствии, то немедленно освобождается.
Во всех случаях, законом не изъятых, обвиняемый отпускается на поруки.
Никто не должен быть наказан, как в силу закона, постановленного и обнародованного до соделанного преступления, и по приговору того суда, которому он принадлежит.
Право просить о помиловании (Vis gratiandi) предоставляется лицам, осужденным на смертную казнь, на вечную и свыше 15-ти лет продолжиться имеющуюся ссылку, заточение и каторжную работу.
Свобода тиснения обеспечивается. Закон излагает правила к обузданию злоупотреблений.
Каждому российскому подданному вольно переселиться в другое государство и вывезти свое имение, лишь бы соблюл законом предписанные на таковые случаи правила.
Да будет российский народ отныне навсегда иметь народное представительство. Оно должно состоять в Государственном Сейме (Государственной Думе), составленном из Государя и двух палат. Первую, под именем Высшей палаты, образует Сенат, а вторую, под именем Посольской палаты, земские послы и депутаты окружных городских обществ.
Государственные должности, как гражданские, так и военные, иначе возлагаемы быть не могут, как на российских подданных.
Каждый иностранец, предъявивший законные виды, будет пользоваться, наравне с другими жителями государства, покровительством законов и выгодами, законами обеспеченными. Ему вольно будет, на основании учрежденных правил, жить в государстве, выезжать из оного, возвращаться и приобретать в нем недвижимые имения.
Каждый иностранец, укорененный, при беспорочном поведении и после пятилетнего пребывания, научась российскому языку, может допущен быть к отправлению государственных должностей.
Один Государь по собственному выбору, или по представлению Государственного Совета, может, в отмену сего правила, допустить к отправлению государственных должностей иностранцев, превосходными дарованиями отличающихся.
Все государственные чиновники по части правительственной отрешаются от должностей тою же властью, которая их определяет, с соблюдением законов, предписанных на такой конец правил. Все без исключения подвержены ответственности в отправлении своих должностей.
Всякая собственность, на поверхности ли земли находящаяся или в недрах оной сокровенная, какого бы рода ни была, в чем бы ни принадлежала, признается священной и неприкосновенной. Никакая власть и ни под каким предлогом посягнуть на нее не может. Посягающий на чуждую собственность осуждается и наказывается как нарушитель общественного спокойствия.
Правительство имеет, однако же, право, по справедливом и предварительном вознаграждении требовать от частного лица пожертвования его собственностью для употребления оной на пользу общественную. Закон определит особенные случаи употребления сего права и правила, имеющие оным руководствовать.
О НАРОДНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ
Отделение I
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ, ИЛИ СЕЙМЕ
Представительство народное образуется, как выше сказано (ст. 91).
Статья 100
Государственный Сейм (Государственная Дума) разделяется на частные сеймы (Думы) наместнических областей, созываемые каждые три года, и на общую Государственную Думу, или Сейм, созываемый каждые пять лет.
Статья 101
Законодательная власть заключается в особе Государя при содействии двух палат Государственного Сейма (как сказано в ст. 13).
О частных думах, или сеймах наместнических областей
Статья 102
Сеймы наместнических областей составляются из Государя и двух палат. Первая, под именем Высшей платы, образуется из одного департамента Сената, присутствующего в главном местопребывании наместнического начальства. Вторая, под именем Земской посольской палаты, составляется из двух третей избранного в области наместничества числа послов и депутатов, Государем утвержденных.
Статья 103
Сеймы наместнических областей рассматривают проекты общих законов во всех случаях, в которых Государь заблагорассудит повелеть им оные сообщить через Государственный Совет. Они рассматривают в особенности все проекты частных законов, до каждой наместнической области касающихся, по повелению Государя через Правительный совет наместничества к ним препровождаемых. Сверх сего они рассуждают, по сообщению же от имени Государя подобно иному, об увеличении или уменьшении всякого рода сборов, податей и земских повинностей, о средствах к уравнению раскладок, о составлении частных расписаний доходов и расходов наместнических областей (бюджет), одним словом, обо всем, что Государю благоугодно будет высочайше указать внести к ним на рассуждение.
Статья 104
Сеймы наместничеств рассуждают еще, когда последует на то Высочайшая воля, по предметам, содержащимся во всеподданнейших докладах общего собрания Наместнических советов, составленных на основании ст. 60 из годовых отчетов по каждой отрасли управления. Наконец, каждый Наместнический сейм, изложив свое мнение по всем сим предметам, приступает к рассмотрению наказов земским послам и депутатам, от их избирателей данных и заключающих в себе их замечания, представления и прошения касательно всего того, что относится до их пользы. Из сих наказов делается самое верное извлечение, которое препровождается в общее собрание Наместнического совета, а из оного в Государственный Совет для поднесения Государю Императору на высочайшее разрешение и принятия тех мер, к коим таковые представления могут подать повод.
Статья 105
Проекты частных законов, относящихся до каждой области наместничества, составляются в Наместническом совете и вносятся на Сейм по повелению Государя членами означенного совета.
Статья 106
Для рассмотрения и уважения сих проектов в Сеймах наместничеств каждая палата назначает по баллам три комиссии. Они состоят в высшей палате из 5-ти членов и суть следующие:
1. Комиссия законодательства.
2. Комиссия управления.
3. Комиссия финансов.
Каждая палата уведомляет Правительный совет об учиненном ею выборе. Комиссии находятся в беспрестанных сношениях с Советом наместничества.
Статья 107
Проекты, предложенные именем Государя, по всем отменам, какие последовать могли бы вследствие замечаний, комиссиями учиненных, исправляются только на Совете наместничества.
Статья 108
Право читать приготовленные речи в обеих палатах предоставляется одним членам Наместнического совета и членам комиссии каждой палаты. Все прочие члены объясняются изустно.
Статья 109
Члены Совета во время рассуждений о проектах имеют право присутствовать и говорить в обеих палатах; но те из них, которые не несут звания сенаторов земских послов или депутатов, числа голосов не составляют.
Статья 110
Общий отчет о положении всякой области наместничества, составленной в каждом Наместническом совете, за внесением оного предварительно в департамент Сената, выслушивается в совокупленных палатах.
Статья 111
Каждая палата поручает своим комиссиям рассмотреть сей отчет. По учиненном рассмотрении, комиссии в общем донесении за подписанием всех членов ее представляют палатам свои на оный замечания. Каждая палата, по выслушании и уважении сих замечаний, излагает мнение свое касательно данного отчета и подносит оное Государю.
Статья 112
При закрытии Сейма Палата земских послов и депутатов каждого наместничества приступает к выбору земских послов и депутатов, имеющих составить вторую палату Общего государственного Сейма. Сей выбор производят они из своей среды. Число избранных должно соответствовать четвертой части состоящих из лиц послов и депутатов.
Статья 113
На сей конец заготовляется особый протокол, в который вносятся поименно, алфавитным порядком, все избранные члены. Сей акт, законным образом составленный, отсылается к Наместнику для поднесения оного Государю через Комитет министров.
Об Общем государственном Сейме
Статья 114
Общий государственный Сейм составляется из Государя и двух палат. Первую, под именем Высшей палаты, образует Сенатский департамент, присутствующий в одной из двух столиц, с присовокуплением к нему единственно на время Сейма и по назначению Государя из других департаментов известного числа сенаторов, образовательным учреждением определенного. Вторая, под названием Палаты земских послов, составляется, по назначению Государя, из половинного числа послов и депутатов, в каждой наместнической области посольскою палатою из среды своей избранных.
Статья 115
Общий государственный Сейм, по сообщении от имени Государя через Государственный Совет, рассматривает все проекты законов гражданских, уголовных и по части управительной, коих действие распространяется на всю империю.
Он рассуждает по предложениям, вносимым по Высочайшему же повелению, о прибавлении и уменьшении налогов, податей, сборов и всякого рода общественных повинностей, об удобнейших и справедливейших раскладках, об уравнении налогов и податей по всему государству по мере силы и возможности каждой наместнической области, о составлении главного расписания доходов и расходов (бюджет), на основании представленных ему на рассмотрение частных расписаний доходов и расходов, составленных в каждой области наместничества, равно как и обо всех других предметах, на рассуждение по воле Государя ему отсылаемых.
Статья 116
Общий Сейм рассуждает еще по сообщениям, которые Государю благоугодно было бы повелеть сделать по предметам, заключающимся в общем государственном отчете, коего составление возложено на общее собрание Государственного Совета в силу ст. 42. Наконец, Общий государственный Сейм, изложив свое мнение по всем сим предметам, приступает к рассмотрению наказов земским послам и депутатам, от их избирателей данных и заключающих в себе их замечания, представления и прошения касательно всего того, что относится до их пользы. Из сих наказов делается самое верное извлечение, которое препровождается в Государственный Совет, а от оного представляется Государю Императору, на высочайшее разрешение и для принятия тех мер, к коим бы таковые представления могли подать повод.
Проекты законов, составленные в Государственном Совете, выносятся на Общий государственный Сейм по повелению Государя членами означенного Совета.
Статья 118
Для рассмотрения и уважения сих проектов на Общем государственном Сейме каждая палата назначает по баллам три комиссии. Они состоят в Высшей палате из трех, а в Посольской палате из пяти членов и суть следующие:
1. Комиссия законодательства.
2. Комиссия управления.
3. Комиссия финансов.
Каждая палата уведомляет Государственный Совет об учиненном ею выборе. Комиссии находятся в беспрестанном сношении с Государственным Советом.
Статья 119
Проекты, предложенные именем Государя, по всем отменам, какие последовать могли бы вследствие замечаний, комиссиями учиненных, исправляются только в Государственном Совете.
Статья 120
Право читать приготовленные речи в обеих палатах предоставляется одним членам Государственного Совета, все прочие объясняются изустно.
Статья 121
Члены Государственного Совета во время рассуждений о проектах законов имеют право присутствовать и говорить в обеих палатах, но те из них, которые не суть сенаторами, земскими послами или депутатами, числа голосов не составляют.
Статья 122
Общий отчет о состоянии государства, составленный в Государственном Совете, выслушивается в совокупленных палатах.
Статья 123
Каждая палата поручает своим комиссиям рассмотреть сей отчет, который дозволяется и напечатать. Донесения комиссий относительно содержания отчетов не иначе должны быть представляемы в палаты, как по единогласию и за общим подписанием всех членов, составляющих комиссии. Каждая палата, по выслушании и уважении сих замечаний, излагает мнение свое касательно поданного отчета и подносит оное Государю.
Статья 124
В обеих столицах, в Санкт-Петербурге и Москве, кои не входят в состав наместничества, созываются чрез каждые три года столичные сеймы, действующие на том же основании, как наместнические сеймы. Сии сеймы составляются из двух палат, под председательством Государя Императора или особы, Высочайшею доверенностью для сего назначенной.
Первую палату, под названием Верхней, составляет Сенатский департамент, заседающий в столице.
Вторая палата, под названием Посольской палаты, составляется из двух третей земских послов и депутатов, избранных Государем Императором из числа выбранных столицей и в уездах ее губернии послов и депутатов.
Статья 125
Посольские палаты столичных сеймов избирают из своей среды одну четвертую часть послов и депутатов для Общего государственного Сейма. Государь Император назначает из оных половину.
Постановления общие, касающиеся как до государственных общих, так и до частных сеймов
Статья 126
Право созвать, распустить, отсрочить и продлить сеймы, как обыкновенные, так и чрезвычайные, принадлежит одному Государю. Заседание сеймов продолжается тридцать дней.
Статья 127
Сеймы должны заниматься токмо теми предметами, кои заведованию их предоставлены или находятся означенными в созывной грамоте.
Статья 128
Никто из членов сеймов, во время продолжения оных, не может быть ни задержан, ни судим уголовным судом без ведома той палаты, которой он принадлежит.
Статья 129
От воли Государя зависит взносить проекты первоначально в Сенат или в Посольскую палату. Из сего исключаются проекты законов финансовых, которые имеют быть предварительно взносимы в Палату земских послов.
Статья 130
Проекты, по высочайшей воле взносимые на Сейм, не почитаются ни одобренными ею, ни утвержденными, почему и предоставляется сеймам полная свобода насчет оных излагать свое мнение.
Статья 131
Обе палаты сеймов рассуждают в заседаниях своих при открытых дверях, т. е. в присутствии посторонних, коим вход не возбраняется. По предложению, однако же, десятой части наличных членов они могут составить из себя особенный комитет.
Статья 132
Проекты во всех сеймах принимаются или отвергаются большинством голосов, принятые в одной палате, которая, последуя тем же правилам, рассуждает и решит. В случае равенства голосов проект почитается принятым.
Статья 133
Проект, принятый одною палатою, не может быть преобразован другою. Он должен быть просто принят ею или отвергнут.
Статья 134
Проект, принятый обеими палатами, подносится на утверждение Государю.
Статья 135
Ежели Государь утверждает его, то он обращается в закон и обнародуется по учрежденному порядку. Если же Государь не соблаговолит его утвердить, то проект уничтожается.
Отделение II
Статья 136
Сенат составляется из великих князей Императорского дома и всех особ, кои, удовлетворив требуемым условиям, возведены на сенаторское достоинство Государем. Оно не должно превосходить четвертой доли числа земских послов и депутатов всего государства.
Статья 137
Число сенаторов определяется Государем и не должно превосходить четвертой доли земских послов и депутатов всего государства.
Статья 138
Сенат разделяется на несколько департаментов, из коих один присутствует в Санкт-Петербурге, а другой в Москве. Сверх сего назначается для каждого наместничества по одному департаменту, присутствующему в главном местопребывании наместнического начальства.
Статья 139
На достоинство сенатора может быть возведен только тот, который имеет не менее 35 лет от роду, выдержал в нижних чинах предписанные испытания, отправлял с похвалой должности по части военной и гражданской и получает ежегодного дохода с недвижимого имения, собственно ему принадлежащего, не менее 1000 рублей серебряною монетою. Из сего правила, по необходимости, исключаются первоначальные назначения, имеющие последовать в силу сей Грамоты.
Великие князья Императорского дома, по совершении 18-ти лет, заседают в Сенате и имеют в нем голос.
Статья 141
Сенат во время Сейма образует Высшую палату и содействует купно с Посольскою палатою законодательной власти Государя.
Статья 142
Каждый департамент Сената состоит под председательством того из своих членов, которого Государь на то изберет, в отсутствии же оного под председательством старшего члена.
Статья 143
Независимо от законодательных действий Сенат имеет еще и другие обязанности, особенно определенные.
Статья 144
К законодательным действиям Сенат не иначе приступить может, как по созыву от лица Государя и во время Сейма. Для совершения же всех прочих обязанностей каждый департамент Сената созывается своим президентом с ведома государева Наместника.
Статья 145
Сенатский департамент, присутствующий в Санкт-Петербурге, к нему, смотря по нужде, присоединяются и другие сенаторы, Государем призванные, определяет по предложению Государя или по жалобам сеймов, Государем допущенных, о предании суду сенаторов, министров, начальников управлений, наместников, членов общего собрания Государственного Совета; и членов Правительного совета, или Комитета министров, директоров департамента, государственных докладчиков, или статс-секретарей, за злоупотребления в отправлении их должностей и всякие действия, подвергающие ответственности.
Статья 147
Сенаторы, избранные Государем, исправляют сверх сего по очереди должность судей в верховных судах.
Отделение III
О ПАЛАТАХ НАМЕСТНИЧЕСКИХ СЕЙМОВ
О Посольских палатах Наместнических сеймов
Статья 148
Палата Наместнического сейма составляется по назначению Государя из двух третей послов и депутатов, избранных уездными дворянскими собраниями и гражданскими обществами, как сказано выше в ст. 102.
Статья 149
Половинное число членов Посольской палаты Наместнического сейма возобновляется при каждом новом Сейме. Вследствие чего и единственно на первый раз члены выходят по жребию. Таким образом, одна половина остается в звании своем три года, а другая шесть лет. Члены, вышедшие по жребию, могут быть вновь избраны.
Статья 150
На последующих сеймах наместничеств члены выходят уже не по жребию, но по старшинству. Члены вышедшие могут быть вторично избраны.
Статья 151
То же самое, что изображено в предыдущих двух статьях, наблюдается и в палатах столичных сеймов.
О Посольской палате Общего государственного Сейма
Статья 152
Посольская палата Общего государственного Сейма составляется, как выше сказано в ст. 14, по назначению Государя из числа избранных на сеймах наместнических послов и депутатов.
Статья 153
Половинное число членов Общего государственного Сейма возобновляется при каждом новом сейме. Вследствие чего и единственно на первый раз члены выходят по жребию. Таким образом, одна половина послов и депутатов остается в звании своем пять, а другая десять лет. Вышедшие члены могут быть вновь избираемы.
На последующих общих сеймах члены палаты выходят уже не по жребию, но по старшинству
Распоряжения общие всем Посольским палатам
Статья 155
В члены Посольской палаты может быть избран токмо тот, которому исполнилось уже 30 лет, пользуется правами гражданина и платит поземельные и всякие другие подати не менее той суммы, которая во всякой наместнической области будет для сего определена, смотря по местным обстоятельствам и народонаселению.
Статья 156
Никакой чиновник, ни военный, ни гражданский, не может быть избираем в члены Посольской палаты, не получив предварительно на то согласия от своего начальства.
Статья 157
Если кто из послов и депутатов до избрания своего не находился при должности на казенном жаловании и примет оную уже по избрании, то таковой должен быть замещен новым членом.
Статья 158
Государь, или вследствие Высочайшего повеления его Наместник, имеет право распустить Посольские палаты. В таком случае палаты расходятся, и по последовавшим созывам приступают к новым выборам.
Отделение IV
О ДВОРЯНСКИХ СОБРАНИЯХ, ИЛИ СЕЙМИКАХ
Статья 159
Дворяне каждого уезда, владеющие собственными недвижимыми имениями, составляют Дворянские собрания, на которых избирают трех земских послов. После чего приступают к другим выборам, особенными учреждениями им предоставленным.
Статья 160
Дворянские собрания не иначе съезжаться могут, как в силу созыва, по Высочайшей воле последовавшего. В сем созыве означается день съезда, время продолжения собрания и предмет его занятий.
Никто из дворян не может иметь голоса в Дворянском собрании, буде не записан в дворянскую книгу своего уезда, не пользуется правами гражданина, не достиг 25 лет и не владеет недвижимым имением.
Статья 162
Книга уездных дворян составляется по учрежденному и впредь учредиться имеющему порядку и взносится на рассмотрение и утверждение сенатского департамента, присутствующего в местопребывании наместнического начальства.
Статья 163
Дворянские собрания, или Сеймики, состоят под председательством предводителя, назначенного Государем или государевым Наместником, буде он на то уполномочен.
Статья 164
Дворянские собрания, или Сеймики, составляют из среды своей особенный комитет для сочинения наказа, заключающего в себе жалобы, ежели бы встретиться могло, на злоупотребления власти, с присовокуплением ясных оному доводов и представлений обо всем, что к увеличению благосостояния всех жителей того уезда служить может. Сей наказ подписывается членами собрания, вкладывается в пакет за разными печатями, написывается на имя Сейма наместничества и вручается избранным земским послам. Они, в полном присутствии, отдают его предводителю Сейма, который в получении расписывается и за целость оного отвечает. Подлинники тех наказов сохраняются при делах дворянского собрания.
Отделение V
О СОБРАНИЯХ ОКРУЖНЫХ ГОРОДСКИХ ОБЩЕСТВ Статья 165
Градские общества, которые в силу городового положения собираются каждые три года для учинения выборов и представления губернатору о своих нуждах и пользах, имеют составить окружное градское общество, на основании как нижеследующих статей, так и образовательного учреждения, для выбора от окружного общества трех депутатов на Сейме.
К выбору депутатов от окружного градского общества допускаются:
1) Настоящие обыватели города, имеющие в нем дома или иные строения, места или земли, равно как и обыватели не из дворян, жительствующие вне города, но в том же уезде, к которому город принадлежит, и имеющие в сем уезде дом или другую недвижимую собственность.
2) Все состояния, известные под именем именитых граждан, как то: ученые, имеющие академические или университетские аттестаты, художники трех главных художеств, архитектуры, скульптуры и живописи, банкиры, капиталисты и кораблехозяева.
3) Купцы первых двух гильдий и
4) Цеховые мастера.
Статья 167
Все евреи, не исключая и тех, кои записаны в гильдии или имеют недвижимую собственность, участия в собраниях окружных градских обществ не имеют.
Статья 168
В городах, в которых числится более 8000 жителей, исключая столиц, оставляются для выбора депутатов на Сейм собрания градского общества в каждой части города, к которым допускаются обыватели всех означенных в ст. 166 состояний, жительствующие в той части города. В сих частных собраниях выбираются три гласные, назначаемые в общее градское собрание. Общее собрание, составленное из всех гласных, выбранных в собраниях, по городским частям производившихся, приступит к выбору трех депутатов на Сейм. За сим совершаются от оного все прочие делопроизводства в силу особенных постановлений, ему предоставленных.
Статья 169
В городах, в которых числится не более 8000 жителей и менее сего, градское общество приступает без посредства гласных к выбору трех депутатов на Сейм, на основании ст. 166.
Статья 170
В столицах же, в Санкт-Петербурге и Москве, составляется собрание градского окружного общества по частям, и от каждой городской части назначается по одному депутату на Сейм.
В собрании градского общества имеет голос только тот, кто записан в градскую обывательскую книгу, пользуется гражданскими правами и имеет не менее 25-ти лет от роду
Статья 172
Книга обывательская, содержащая имена лиц, имеющих право подавать голос в собраниях городского окружного общества, составляется учрежденным порядком в городских Думах или магистратах и представляется в сенатский департамент на утверждение.
Статья 173
В окружных городских собраниях председательствует городской окружной голова, назначенный от Государя Императора или от того начальства, которому сие назначение Высочайшею волею поручено будет.
Статья 174
Окружные городские общества составят из своей среды особенные комитеты для сочинения наказов, заключающих в себе, ежели бы встретиться могло, жалобы на отягощение и злоупотребление власти, основанные на ясных доказательствах, и представления о пользах и нуждах всех состояний окружного градского общества. Сии наказы вручаются депутатам запечатанные, а от них представляются, как сказано выше в ст. 164 °Cеймиках, или Дворянских собраниях.
Отделение I
О СУДАХ ВООБЩЕ
Статья 175
Суды и лица, носящие звание судей, в отправлении обязанности, на них возложенной, действуют по законам и независимо ни от какой власти.
Статья 176
Но поелику действие судов должно быть основано на точной силе законов, то всякое отступление от слов закона и самопроизвольное толкование оных, равно как и каждое злоупотребление судейской власти и выступление из предел, ей предписанных, подвергают ответственности и взысканиям.
Статья 111
Суды составляются из судей, определенных Государем, согласно с предписанными правилами испытаний, и из судей, выбранных согласно с существующими по сему предмету особенными постановлениями.
Статья 178
Судья не иначе от должности отрешается, как за противозаконный поступок и вследствие производившегося над ним, законным порядком, суда. Случаи удаления от должности будут определены в учреждении о судах.
Статья 179
Наблюдение за точным исполнением должности, равно как и отвращение всех злоупотреблений по судебным местам, подлежит ведомству верховных судов и министерства юстиции.
Отделение II
О ВЕРХОВНЫХ СУДАХ
О Верховном государственном суде
Статья 180
Учреждается Верховный государственный суд, составленный из председателя, сенаторов и других особ, заседающих в оном по назначению Государя Императора.
Статья 181
При сем Верховном государственном суде определяется генерал-прокурор в качестве государственного преследователя за преступления.
Статья 182
Ведомству Верховного государственного суда подлежит исследование и наказание за все преступления в оскорблении Величества, за преступления против государства все противозаконные поступки высших чиновников, коих предание суду зависит от Сената, в силу ст. 145, и от общего собрания Государственного Совета в силу ст. 42.
Статья 183
Верховный государственный суд имеет присутствовать в столичном городе Санкт-Петербурге, буде не последует высочайшего повеления созвать его в другом месте.
Приговоры Верховного государственного суда суть окончательные, но исполнение по ним не чинится без высочайшего утверждения.
О Верховном суде наместнической области
Статья 185
В каждом наместничестве в месте пребывания Наместнического совета учреждается Верховный суд наместнической области. Оный составляется из известного числа сенаторов, назначенных Государем для заседания в оном по очереди, и из непременных судей, поступающих в оный из председателей апелляционных судов.
Статья 186
Ведомству Верховного суда подлежат все судные дела гражданские, уголовные и следственные, переносимые в оный из гражданских и уголовных палат и других низших судебных мест наместнической области, за исключением тех дел, кои подлежат разбирательству Верховного государственного суда.
Статья 187
Решения и приговоры Верховного суда наместнической области окончательны, исключая в делах, касающихся преступлений против Императорского Величества и государства, которые отсылаются на рассмотрение в Верховный государственный суд.
Отделение III
ОБ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ И НИЗШИХ СУДАХ
Статья 188
Апелляционные суды по делам уголовным и гражданским (Палата уголовных дел и Палата гражданских дел и надворные суды в столицах); суды первой инстанции по делам уголовным и гражданским (уездные суды и городовые магистраты); коммерческие, совестные и мировые суды, равно как и другие суды, в коих окажется надобность, будут устроены особенными постановлениями сообразно с Государственною уставною грамотою.
ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Статья 189
Дополнительные объяснения к Государственной уставной грамоте и к законным основаниям, в ней содержащимся, изложены будут в образовательных учреждениях и в частных установлениях.
Статья 190
Последующие указы назначат от губернии и области, которые имеют быть соединены в наместничества и пользоваться политическими правами, в народном представительстве заключающимися.
Статья 191
Все прежние законы и уставы, противные сей Грамоте, отменяются. Убедившись в совести, что вышеизложенные коренные постановления соответствуют отеческим нашим желаниям утвердить благосостояние и спокойствие любезных наших верноподданных, основать неприкосновенность их лиц и собственности и охранить ненарушимость их прав гражданских и политических, мы жалуем им сию Грамоту, которую признаем за себя и преемников наших коренным и уставным законом нашего государства, предоставляя себе оную дополнить. Повелеваем всем государственным властям содействовать ее исполнению.
Приложение 3 Усилия М.М. Сперанского по организации юридического образования в россии
М.М. Сперанский мечтал видеть будущую Россию просвещенным европейским государством с народом, которому доступно образование. Служа при Николае I во Втором (кодификационном) отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии, возникшем по следам следствия над декабристами, Сперанский стал не только составителем 45 томов Полного собрания законов и 15 томов Свода законов Российской Империи, но нашел время заниматься и чисто административными мерами по улучшению юридического образования в России. Подробное описание этих усилий дает интересную картину отношений на верхах чиновничества николаевской эпохи.
Выписка из высочайше утвержденных правил для испытания на степень доктора прав обучающихся в Берлинском университете студентов законоведения 2-го Отделения Собственной Его Величества канцелярии (Центральный исторический архив Москвы. Ф. 418. Оп. 4. Д. 261. Л. 44):
Предметы испытания
A) Общее систематическое обозрение законоведения…
B) Законы, определяющие права и обязанности.
C) Законы, охраняющие права как государственные, так и гражданские…
D) Историческое изложение Римского законодательства и
E) Историческое изложение общего Немецкого законодательства.
Порядок испытания
1. Испытание производится через профессоров юридического факультета под председательством декана, вместе с депутатами от других факультетов и в присутствии управляющего 2-м Отделением С.Е.И.В. канцелярии и двух старших оного чиновников.
2. Испытание производится в российском законодательстве по-русски и в римском по-латыни.
3. Вопросы могут быть исторические или догматические, или те и другие совокупно, по смотрению испытующих.
4. Испытуемым предлагается такое число словесных вопросов, какое благоугодно будет испытующим и, сверх того, предлагается по одному вопросу по жребию, из числа приготовленных заблаговременно двадцати вопросов. На сии письменные вопросы испытуемый в данный срок должен отвечать письменно.
5. По удовлетворительному разрешению испытуемыми сих вопросов предоставляется им по всем предметам испытания извлечь положения, или тезы, объемлющие весь состав юридических наук… Испытуемый должен защищать их на публичном акте; после чего, если признан будет достойным, получает степень доктора.
6. Наконец, вменяется им в обязанность подготовить впоследствии диссертации и представить их куда следует на рассмотрение.
Еще в 1809 г. в правление императора Александра I по инициативе Сперанского был принят закон об обязательном экзамене на чин: «Полное собрание законов Российской империи» (ПСЗ. 1 т. XXX. № 23771).
Закон требовал от чиновников знаний «права естественного, римского и права частного гражданского с приложением сего последнего к российскому законодательству, экономии государственной и уголовных законов».
В 1834 г., накануне принятия нового Университетского устава 1835 г., министр народного просвещения Семен Сергеевич Уваров настаивал на использовании выпускников Берлинского университета в русских университетах: «в отношении своем к г. действительному тайному советнику Сперанскому… изъясняя существующий в нравственно-политическом отделении Императорского Московского университета недостаток в достойных преподавателях, так что три важнейшие кафедры <.. > нуждаются в профессорах».
Кому принадлежит почин в деле отправления молодых студентов за границу для изучения законоведения? Обыкновенно отвечают на это: Сперанскому, и притом одному ему [1]. Между тем дела свидетельствуют и об участии в этом деле непосредственного и помогавшего ему Балугьянского [2].
[1] Сведения о заботах Сперанского относительно распространения в нашем отечестве просвещения и юридических познаний сохранились в некоторых делах бывшего Второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, переданных за упразднением сего отделения в Архив Государственного Совета, где таковые и хранятся.
[2] Балугьянский Михаил Андреевич родился 26 сентября 1769 г. в Венгрии, получил превосходное образование в венгерской академии в Кашау и затем был профессором в академии в Гросс-Вардейне. В 1803 г. он был приглашен с Лодием Кукольником и др. в Петербург в учительскую гимназию, преобразованную в Педагогический институт, и скоро обратил на себя внимание как выдающийся профессор политической экономии. Он был приглашен для занятий в Комиссию составления законов. Здесь его скоро оценили по достоинству Новосильцев и Сперанский. При преобразовании в 1819 г. главного Педагогического института в С.-Петербургский университет Балугьянский стал читать в университете лекции энциклопедии юридических наук и положил основание хорошему преподаванию политических наук в университете. Затем он был ректором университета при неблагоприятных условиях, так как директор университета Кавелин держался системы Магницкого и не одобрял стремления Балугьянского вводить простоту и творческий подход в отношения со студентами. По проискам Рунича он был уволен от звания ректора и в 1821 г. оставил кафедру университета. В 1813–1817 гг. он преподавал юридические науки великим князьям Николаю и Михаилу Павловичам. Задумав вверить кодификацию законов Сперанскому, Николай I начальником Второго (кодификационного) Отделения Собственной Е.И.В. канцелярии назначил Балугьянского, который стал главным помощником Сперанского. Он был статс-секретарем и сенатором и умер 3 апреля 1847 г.
Из дела видно, что все самые существенные доклады по отправке студентов за границу подписаны Балугьянским и представлены им Сперанскому, одобрившему их. Есть много вероятия предполагать, что мысль об отправлении студентов в заграничные университеты подсказана Балугьянским, как бывшим студентом и профессором одного заграничного университета. Сперанский сам ни в каком университете не был и не мог знать близко порядков и преимуществ заграничных университетов, а потому и не имеется основания предполагать, чтобы собственно Сперанскому пришла мысль послать молодых людей обучаться за границу.
22 января 1828 г. Сперанский представил государю следующий доклад:
Для установления на твердых основаниях правосудия в государстве нужны: 1) ясные и твердые законы и 2) знающие судьи и законоведы.
Меры, с 1826 г. принятые, представляют основательную надежду в совершении первого из сих двух предположений: нужно помыслить о втором.
Обучение российского законоведения в университетах наших доселе не могло иметь успеха по двум причинам: 1) по недостатку учебных книг;
2) по недостатку учителей.
Две учебные книги: одну для учителей, другую – для учащихся, необходимо должно составить. Труд сей немаловажен, но составлением сводов и уложений он будет облегчен, и есть надежда, что во 2-м Отделении он может быть совершен.
Приуготовление учителей представляет более трудности. Здесь должно сперва снабдить каждый университет двумя или хотя одним русским профессором прав, приуготовленным исключительно для сей части.
К сему приуготовлению университеты наши мало представляют способов. В них есть кафедры римского права; но в Петербургском, Московском, Харьковском и Казанском университетах это пустой образ; ибо как учиться римскому праву без латинского языка? В других университетах может быть более успехов: в Дерпте – в правах римском и немецком, в Вильне – в римском и польском; но, к сожалению, нигде в российском.
Отсюда необходимость прибегнуть на первый раз к другим средствам. Они состоят в следующем:
1) Из духовных академий: С.-Петербургской и Московской заимствовать по три студента, по дарованиям и поведению лучших и вполне окончивших курс.
2) Поместить их в здешние университеты на казенный счет по платежам по 600 р. за каждого, что ставит на шесть – 3600 р. в год.
3) Из наук, преподаваемых в университете, они должны слушать только два курса: 1) римское право у профессора Шнейдера (Василия Васильевича) и 2) латинскую словесность с особенным приспособлением ее к юридическим познаниям у профессора Грефе (Федора Богдановича). Сверх общих лекций они должны иметь у них приватные и почти ежедневные.
4) Каждый день они должны являться в условные часы во 2-е Отделение и там заниматься: а) уроками публичного российского права у г. Плисова (Моисея Гордеевича) и в) уроками гражданского российского права у г. Куницына.
Примечание: обоим сим чиновникам дано будет обстоятельное начертание сих уроков.
с) Под руководством статс-секретаря Балугьянского они будут занимаемы чтением лучших юридических книг с письменными отчетами, по каталогу, который на каждую часть особенно будет составлен.
д) Под его же надзором для практического упражнения в российских законах они будут занимаемы чтением составленных уже сводов.
е) Под надзором г. Куницына (Александра Петровича) они будут употребляемы к составлению систематических алфавитов, по мере издания книг полного собрания. Сим поставлены они будут в возможность обозреть все законы наши от начала до настоящего времени.
f) Под надзором барона Корфа (Модеста Андреевича) они будут занимаемы составлением подробных записок из старых обширных дел, в Сенате решенных.
Всеми сими упражнениями, соединяя ежедневную практику с теорией, есть надежда, что в два года они пройдут довольно далеко, чтобы, употребив еще третий год на окончательное обозрение всех предметов и выдержав строгий экзамен, быть в состоянии давать уроки, как публичные, так и частные, права, по крайней мере, в двух первых университетах – Московском и Петербургском.
Из казенных студентов университетских избрать лучших семь профессоров и образовать их особенно, дабы приуготовить достойных себе помощников и преемников. Таким образом, положено будет верное начало юридическому в России образованию, и, судя по охоте к сему роду учения, в молодых людях приметной, можно надеяться, что оно скоро распространится и перестанет быть редким.
По изъявленному предварительно на это предположение Высочайшему соизволению сделано было сношение с обоими митрополитами: Серафимом Петербургским и Филаретом Московским. Они выразили готовность содействовать этому намерению и обещали доставить по первому требованию лучших из старших студентов духовных академий.
Вместе с тем Муравьев (Николай Назарьевич) – управляющий 1-м Отделением С.Е.И.В. канцелярии) сообщил министру народного просвещения Шишкину последовавшее по вышеизложенному докладу Сперанского Высочайшее повеление, в следующей форме:
Государь Император, желая утвердить и распространить преподавание в университетах российского законоведения, соизволил признать полезным образовать при здешнем университете кандидатов правоведения, кои бы могли со временем заступить места профессоров. Для сего Его Императорскому Величеству благоугодно было дать надлежащие повеления об избрании из духовных академий С.-Петербургской и Московской шести лучших студентов. Они имеют быть помещены в здешнем университете на казенное содержание, и если суммы потребной для сего в университете не достанет, то оная назначена будет откуда следует особенным Высочайшим повелением.
Как намерение Его Величества есть дабы студенты сии с теоретическим образованием соединили и практическое в законах упражнение, то в сем отношении Государю Императору благоугодно поручить их особенному надзору и руководству начальника 2-го Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии статс-секретаря Балугьянского, и действительному тайному советнику Сперанскому поручено по сношению с Вашим Высокопревосходительством учредить все подробности, к сему относящиеся, как то: назначение наук, коими студенты сии должны в университете заниматься, и соображение их времени с теми упражнениями, кои назначены им будут во 2-м Отделении.
Получив это отношение Муравьева, Шишков писал тогда же, 26 января 1828 г., Сперанскому, прося его сообщить свое мнение, «до учреждения вышесказанных подробностей относящееся, дабы по соображению оного можно было приступить к исполнению Высочайшего Его Императорского Величества повеления».
Тем временем были избраны и явились во 2-е Отделение назначенные из духовных академий лучшие студенты, именно: из С.-Петербургской – Сергей Орнатский, Александр Пешехонов и Савва Богородский, а из Московской – Василий Знаменский, Константин Неволин и Алексей Благовещенский. Из выданных им аттестатов видно, что они обучались и оказали отличные успехи в следующих предметах: философии, всеобщей словесности, всеобщей истории, в богословских науках, церковной словесности, а также в языках: греческом, французском и английском. Студенты Московской духовной академии, кроме того, обучались еще языкам еврейскому и немецкому.
Все означенные студенты помещены были 26 января 1828 г. в С.-Петербургский университет в число пансионеров, причем ими непосредственно заведовал инспектор Щеглов (Николай Прокофьевич).
Ректором университета в то время был Антон Антонович Дегуров. На содержание каждого студента ассигновано ежегодно по пятьсот рублей; кроме того, отпущено единовременно на первое обзаведение по двести рублей и на снабжение учебными пособиями по сто рублей на каждого. Все означенные деньги по докладу Сперанского Высочайше по-велено было 1 марта 1828 г. отпустить из Государственного казначейства, о чем дан был министру финансов Канкрину соответствующий указ.
Относительно занятий студентов академий при университете можно составить себе понятие из нижеследующего доклада Балугьянского Сперанскому, в котором первый сообщал, что:
Студенты кандидаты правоведения по вступлении их в университет занимались доселе слушанием римского права, греческого и латинского языков вместе с прочими студентами университета.
Ныне, по соображению всех обстоятельств, постановлен окончательный план для обучения их на следующих основаниях:
Курс наук полагается на три года.
По первому году преподаваемы будут общие юридические и политические науки, ведущие к точнейшему познанию российского законодательства, именно:
I. Пропедевтика (введение), т. е. обозрение всех частей законоведения, и история российских законов от св. Владимира до настоящего времени.
II. Изложение российских государственных законов, или так называемое публичное российское законоведение.
III. Римское право как теория гражданского права.
IV. Политическая экономия.
V. Всеобщая история.
VI. Языки древние: греческий, латинский; из новейших: немецкий, французский и английский.
Во втором году:
I. Российское гражданское право.
II. Законы полицейские (т. е. законы благоустройства и благочиния в обширном смысле).
III. Законы, относящиеся до управления финансов в Империи.
IV. Продолжение римского права.
V. История российская.
VI. Продолжение языков, как выше означено.
В третьем году:
I. Российское гражданское судопроизводство.
II. Российское уголовное законоведение.
III. Право народное.
IV. История римского права.
V. Статистика.
VI. Языки.
Пропедевтика будет изложена кратко г. Куницыным; история российского законодательства по самым законным книгам. Государственные законы об учреждении правительственных мест изъяснены будут г. Клоковым на основании уставов, учреждений и последующих узаконений.
Политическая экономия – г. Плисовым по теории Адама Смита, переведенная на русский язык г. Политковским.
Римское право преподаваемо будет в университете г. Шнейдером на латинском языке особо для сих студентов, по руководству Гейнеция и других лучших писателей, и сверх того на российском языке вместе с другими университетскими студентами. Истории будет обучать г. Арсеньев (Константин Иванович) по книге, написанной на немецком языке г. Ротека, признанной ныне лучшей в своем роде.
Г. Грефе, член Академии наук, известный своей ученостью в греческом и латинском языках, будет излагать древних классических авторов и обучать студентов сочинять на латинском языке.
Учителя в университете языков немецкого – Полкер, английского – Поллок и французского – Тилло будут им преподавать языки на лекциях для всех прочих студентов. Кроме лекций предполагается занимать студентов чтением лучших авторов и практическими упражнениями в российском законодательстве. Для обучения студентов вышеназванным предметам они снабжены были нужными книгами, говорится в другом докладе. План учений составлен был таким образом, что они ежедневно от шести часов до восьми утра находились во Втором отделении, а остальное время от 8 до двух занимались в университете.
Для утверждения их в российском законоучении открыты и сообщены им были все своды, составленные во Втором отделении, где при содействии начальства делали из помянутых сводов для себя выписки.
В университете занимались они под руководством профессоров и учителей сочинениями на латинском и европейских языках.
По определению г. Петерсона, пользовались они с 8 марта сего года ежедневно по три часа наставлением его в немецком языке и всегдашними с ним разговорами на оном.
Наконец, по окончании всех курсов сделано им испытание в прошедшем мае и июне месяцах. Сии испытания происходили под председательством г. действительно тайного советника Сперанского, в присутствии начальника Второго отделения Балугьянского, гг. Куницына, Плисова, Клокова и университетских профессоров Грефе и Шнейдера. Каждое испытание продолжалось от 7 часов вечера до половины 11 часа и даже до 11 часов. Первые три испытания производимы были из российского гражданского законоведения и политической экономии 16, 22 и 30 мая. Испытывающие с удовольствием видели, что студенты знали не только преподанные им лекции, но и совершенно обняли свод российских законов.
Г. председатель и каждый из присутствующих задавали им вопросы, и могу сказать, что они на все сии вопросы отвечали удовлетворительно.
Четвертое и пятое испытание назначены были из римского права, которое произведено было 6 и 13 июня на латинском языке. На сих испытаниях, из коих каждое продолжалось по 4 часа, не слышно было никакого другого языка, кроме латинского. На вопросы, задаваемые председательствующим и присутствующими, на сем языке студенты отвечали легко, удовлетворительно и хорошим слогом.
Шестое испытание происходило июня 20 дня в латинском, греческом и других языках.
Как испытание в римском праве произведено было на латинском языке и достаточно удостоверило в знании студентов сего языка, то и экзаменовать их в оном сочтено уже было не нужным. Итак, испытание производилось в греческом языке. Славный историк Фукидит и трагический поэт Софокл были предметами разбора и изложения. За сим студенты, к большому удовольствию, показали очень хорошие знания в немецком языке, на которых трое из них хорошо говорить и писать умеют и все вообще совершенно его понимают. Хотя меньше они успели во французском и английском языках, но предложенные им книги на оных очень порядочно понимали и переводили на русский язык.
По окончании, таким образом, курсов и по назначении их для дальнейшего усовершенствования в Берлинский университет позволено им до 15 августа отлучиться к своим родителям; на путевые же издержки и на содержание в пути выдано им 1600 р. – к.
Прежде сего употреблено было на покупку для них книг….. 569 р.90 к.
На прибавок к содержанию их на разные мелочные издержки….565 р. -2734 р. 90 к.
Как на сии издержки заимствовано из сумм Второго отделения, в котором нет никаких остатков, так что в прошедшем году на бумагу и другие канцелярские припасы издержано сверх штата 2000 руб., то я, – пишет Балугьянский, – осмеливаюсь испрашивать Высочайшего повеления о возврате Отделению сих сумм из Государственного казначейства. При сем случае долгом поставляю представить во Всемилостивейшее внимание обучавших чиновников, профессоров и учителей, испрашивая им Всемилостивейшего награждения.
Все это по докладу Сперанского удостоилось Высочайшего утверждения 10 октября 1829 г. Чиновники Второго отделения, а также профессора и учителя университета получили подарки из Кабинета Его Величества, а профессор Шнейдер, более прочих трудившийся в особом преподавании римского права, был произведен в коллежские советники.
Вскоре доставлены были из духовных академий другие студенты, именно: из Петербургской – Александр Федотов Чеховский, Никита Крылов и Алексей Куницын, а из Московской – Иван Платонов и братья Яков и Сергей Баршевы. Все они, подобно своим предшественникам, были причислены ко Второму отделению Собственной Его Императорского Величества канцелярии и жили при университете, где и занимались по бывшему уже примеру Одновременно Сперанский заботился об отправлении студентов первого выпуска за границу В чем состояли эти заботы – всего лучше видно из всеподданнейшего доклада Сперанского, на котором 4 сентября 1829 г. Высочайше начертано карандашом: «Согласен!».
По Высочайшему предназначению об отправлении 7 студентов правоведения в Берлинский университет сделаны с министром финансов и с другими лицами нужные сношения, и по оным оказалось:
1) Что отправление их на пароходе было бы весьма дорого; мест же казенных на сем пароходе было только два, но и те взяты были только на первый год.
2) Удобнее и дешевле будет отправить их посредством дилижансов. Почт-директор Булгаков принял на себя охотно все нужные к сему распоряжения, как до границы, так и за границею до самого Берлина. Издержки для сего потребные составлять будут для всех семерых не более 1800 рублей. Прибавив же к сему на столь по 100 рублей на каждого, все сие составит на всех 2500 рублей.
3) Содержание их в Берлине исчислено в 700 прусских талеров на каждого. Сие исчисление соображено с тем окладом, какой ныне получают обучающиеся там четыре лесных чиновника, с прибавкою 200 талеров по тому уважению, что лесные чиновники обучаются одному предмету и у одного профессора лесоводства, студенты должны обучаться у разных профессоров, а каждому из них, по существующему там положению, платят так называемый гонорариум, и сверх того должны покупать некоторые необходимые им учебные книги.
Когда предположения сии удостоены будут Высочайшего утверждения, то для приведения их в действие учинены от меня будут следующие распоряжения. Вследствие предварительного словесного с министром финансов сношения объявлено ему будет Высочайшее повеление:
1) о ежегодном отпуске 4900 прусских талеров на счет Второго отделения Собственной канцелярии в два срока, начиная с 1 октября сего года, т. е. со времени, с коего в Берлине начинается курс и к какому студенты туда прибудут; в счет сей суммы половина ныне же вперед иметь быть отпущена;
2) о единовременном отпуске на путевые издержки 2500 рублей ассигнациями; 3) сверх того, отпустить во Второе отделение 2700 рублей в возврат издержанных на счет сих студентов во время содержания их здесь в университете на учебные книги и на путевые их издержки во время отпуска к их родителям во время вакации. Таким образом, ежегодный отпуск на семерых составлять будет 4900 прусских талеров и единовременный 5200 рублей ассигнациями. Сим все счеты по сему делу кончатся.
3) По предварительному моему с вице-канцлером (граф Нессельроде) сношению, учинено от него будет к министру нашему в Берлине надлежащее отношение, коему студенты препоручены будут в его покровительство и признание.
4) Приняв основанием личный отзыв г. Гумбольдта сделано будет от меня отношение к г. Савиньи, дабы принял он сих студентов в особенное свое руководство.
В заключение имею счастье донести, что о присылке других студентов на место ныне отправляемых сделаны уже, вследствие состоявшегося о сем Высочайшего повеления, к митрополитам здешнему и Московскому отношения.
На основании этого доклада Сперанский связался с управляющим Министерства иностранных дел 6 сентября 1829 г., с министром народного просвещения князем Львовым (Карлом Андреевичем) 8 сентября и также с нашим посланником в Берлине Алопеусом (граф Давид Максимович). Вице-канцлеру Нессельроде писал следующее:
Для усиления в университетах наших юридических наук Государю Императору благоугодно было повелеть избрать из духовных наших академий несколько студентов и, причислив их ко Второму отделению Собственной Его Императорского Величества канцелярии, дать им: 1) особенный курс римского права, 2) курс высшей греческой и латинской словесности в здешнем университете и в то же время, 3) курс российского законоведения по материалам, составленным во Втором отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии. По окончании сих трех курсов и по удостоверении в успехах посредством строгого испытания, Государь Император повелеть соизволил для окончательного образования отправить сих студентов в Берлинский университет. Во время пребывания их там, вследствие личного здесь отзыва г. Гумбольдта, во всем том, что относится к ученому их образованию, они препоручены будут в руководство г. государственному советнику Савиньи и ректору университета Кленцу; высший же над ними надзор и покровительство принадлежать будет посланнику нашему в Берлине г. действительному тайному советнику графу Алопеусу, и на сей конец Государю Императору благоугодно, чтобы Ваше Сиятельство сделало ему надлежащее препоручение.
Сообщая Вашему Сиятельству о сей Высочайшей воле, считаю нужным при том уведомить: 1) что студенты сии отправлены отсюда 11 сего месяца посредством дилижансов по сделанному уже со здешним и прусским почтовым начальником сношению; по расчету времени они будут в Берлине около 1 октября, а посему и желательно было бы, чтобы граф Алопеус получил к тому времени о них сведение; 2) подробности об окладах их в Берлине и переводе денег на их содержание я сообщу графу Алопеусу вследствие сношений моих с министром финансов в особом письме, которое вслед за сим буду иметь честь к Вашему Сиятельству доставить для отправления с Вашим; 3) подробности относительно к плану их я сообщу, вследствие изъяснений моих с г. Гумбольдтом, господину Савиньи в особом письме, которое также буду иметь честь доставить к Вашему Сиятельству.
В письме своем к князю Ливену, повторив почти буквально все изложенное в письме к Нессельроде, Сперанский добавлял:
К сему считаю долгом присоединить следующее обстоятельство: окончивший курс наук в Дерптском университете кандидат прав Петерсон по изъявленному им желанию был причислен ко Второму отделению Собственной канцелярии, проходил в оном курс практического российского законоведения, и в то же время был помещен в здешний университет вместе со студентами, продолжал в оном заниматься предметами наук юридических. Опыт показал, что из сего произошла двоякая польза: для г. Петерсона – усовершение его в российском законоведении и языке, а для студентов – усовершение их в языке немецком. Ныне он также вместе с ними отправлен в Берлинский университет, оставаясь в ведомстве Второго отделения Собственной канцелярии.
Государю Императору благоугодно и в последующее время следовать тому же правилу. Посему не благоугодно ли будет Вашей Светлости предложить Дерптскому университету избрать одного из окончивших курс юридических наук студентов для подобного сему назначения, по желанию. Он будет причислен к составу Второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии с жалованьем 1500 руб., жительство будет иметь в университете; в Отделении будет проходить курс российского практического законоведения, а в университете заниматься высшей греческой и латинской словесностью и юридическими науками, а потом отправлен будет вместе со студентами в Берлинский университет для окончательного образования.
Письмо к Алопеусу (посланнику в Берлине) на французском языке было следующего содержания:
Из письма г. канцлера Ваше Сиятельство, вероятно, уже составили себе точное понятие о намерении, здесь возникшем, отправить в Берлинский университет несколько молодых людей, предназначенных со временем быть профессорами законоведения.
Вашему сиятельству слишком хорошо известно состояние наших университетов, чтобы усмотреть побудительные причины подобной меры и оценить ее необходимость. Время основания наших учебных учреждений, по преимуществу весьма недавнее, дает достаточное объяснение всех их недостатков. Но ничто не могло бы объяснить равнодушия к их усовершенствованию, и в особенности к снабжению их русскими (национальными) профессорами. Поэтому Его Величество не жалеет ни забот, ни денежных средств для достижения этой цели. Устройство наших университетов служит предметом подробного и глубокого пересмотра и не замедлит подвергнуться существенным преобразованиям. Гимназии уже устраиваются по более обширному и правильному плану. День св. Александра Невского ознаменовался учреждением Педагогического института, в котором воспитанники, вызванные из наших духовных академий и уже соответственным образом подготовленные, будут усовершенствоваться еще более для занятия со временем кафедр учителей в гимназиях, наиболее же достойные из них будут посланы за границу для завершения курса их наук. Некоторое число воспитанников из вновь учрежденных университетов помещено с той же целью в Дерптский университет. Таким образом, все движется вперед, но предстоящий к следованию путь еще довольно долог, и мы не скрываем от себя, что предназначенная к достижению цель еще в значительном от нас отдалении. Но, впрочем, если начинаем двигаться по пути, то можно быть уверенным, что достигнем цели.
К тому движению должен быть причислен и составленный недавно новый план. Молодые люди, предназначенные к отправлению в Берлинский университет, были избраны с особенной тщательностью. Государю Императору благоугодно было причислить их ко Второму отделению Собственной Его Императорского Величества канцелярии, чтобы подготовить их, на основании собираемых материалов, к специальному изучению наших законов; по этой причине я принимаю более непосредственное участие в дальнейшем их преуспевании.
План был уже вполне выработан, и оставалось только решить один вопрос, именно – кому будет поручено исключительное наблюдение, необходимость которого доказана уже нам опытом прошедшего. Г. Гумбольдт принял на себя труд разрешить это затруднение. Он указал нам на Савиньи, как человека всего более подготовленного к выполнению этой задачи. Я доложил об этом Государю Императору и получил на это Высочайшее одобрение, обратился к г. Савиньи в прилагаемом при сем письме с просьбой принять на себя этот труд, по совету г. Гумбольдта.
Обращаюсь к Вашему Сиятельству с просьбой передать это письмо по назначению, я считаю необходимым предварить Ваше Сиятельство, что, не входя в подробное изложение современного стояния наших университетов, я в письме моем к г. Савиньи ограничился только указанием причин, побудивших нас отправить молодых людей в Берлинский университет и присоединил краткую записку, при сем прилагаемую в копии о степени и размерах их познаний.
Предполагая, что г. Савиньи не отклонит от себя принятие этого поручения и вполне уверенный в его горячих заботах о наших молодых людях и благотворном его влиянии на их будущее предназначение, я, тем не менее, убежден, что высокое покровительство Вашего Сиятельства будет им всегда необходимо, а потому и приемлю смелость просить Вас об особенном благосклонном распоряжении Вашем к этим молодым людям. Они все проникнуты усердием, неутомимым прилежанием и отличаются безупречной нравственностью. Один из них, в особенности г. Петерсон, сын одного их наших чиновников в Риге, – прекрасный молодой человек и заслуживает особенного внимания.
Все они отправляются из Петербурга в дилижансе 11-го числа сего месяца.
Упоминаемые письмо Сперанского к Савиньи и записка о студентах законоведения изложены также на французском языке (Сперанский сносился по поводу отправки русских студентов в Берлинский университет с Вильгельмом Гумбольдтом (1767–1835) – основателем Берлинского университета в 1809 г., известным философом, другом Гете и Шиллера. Его младший брат Александр Гумбольдт (1769–1859) – крупный ученый-естествоиспытатель, основатель эволюционной теории, почетный член Петербургской Академии наук).
Письмо Сперанского к Савиньи
(Фридрих Карл Савиньи (1779–1861) – глава исторической школы права, юрист, утверждал: «право – продукт народного духа», сторонник феодального права)
Пользуясь благосклонным указанием г. барона Гумбольдта, имею честь писать Вам, милостивый государь, эти строки, чтобы просить Вашего доброжелательного покровительства молодым людям, которые по особому назначению отправляются в Берлин для окончания своего образования и преимущественно для усовершенствования себя в науке права.
Признанное всеми превосходство Берлинского университета вместе с другими основаниями к предпочтению этого учреждения всем остальным не допускало ни на одну минуту сомнения относительно выбора места, куда отправить молодых людей; для отстранения всякого сомнения в этом отношении было бы уже вполне достаточно того, что Вы, милостивый государь, состоите в числе членов университета.
Но при этом оставалось осуществить еще одно существенное желание: необходимо было нашим молодым людям обеспечить особое покровительство как для начертания плана учения сообразно с местными условиями, так и для точного выполнения оного. Опасение обеспокоить Вас среди Ваших многочисленных занятий заставило меня колебаться в намерении моем обратиться к Вам, милостивый государь, но барон Гумбольдт рассеял мои сомнения и укрепил еще более мое намерение. Я доложил об этом Его
Императорскому Величеству и с Высочайшего одобрения имею честь обратиться к Вам, милостивый государь, с просьбою соблаговолить принять на себя эту заботу.
Прилагаемая при сем записка даст Вам, милостивый государь, возможность судить о размерах познаний наших молодых людей и о цели дальнейшего их предназначения. Приняв во внимание то и другое, Вы будете столь благосклонны, что составите план дальнейших их занятий и примете на себя руководить их Вашими советами; они почтут себя счастливыми следовать им. Если опыт прошедшего не вводит Вас в заблуждение, Вы встретите в молодых людях много прилежания, большой навык к труду и занятиям и полное повиновение.
Позвольте мне выразить при этом от себя лично, насколько я тронут тем, что имею удовольствие вступить в непосредственную с Вами переписку. Благодаря этому общению умственных благ, распространяющемуся все более и более в Европе, мы получаем свою долю в просвещенных воззрениях, распространяемых Вами в Ваших сочинениях; я также преимущественно их изучаю.
Дай Бог, чтобы Вы, милостивый государь, таким образом, могли еще долгое время стоять во главе основательного просвещения как лиц, вступающих на это поприще, так и завершающих оное.
10 сентября 1829 года
(По документам Архива Государственного Совета)
Ввиду приближающегося срока возвращения в отечество первой партии студентов, отправленных за границу, Балугьянский, озабочиваясь о дальнейшей их судьбе и о необходимости им приобрести ученую степень для будущей их деятельности, в июне 1832 г. входил с представлением о том, где и каким путем может быть приобретена ими ученая степень доктора наук:
По Высочайшему утвержденному Положению о производстве в ученую степень (1819 г. января 20 параграфов 15 и 18 (276.46), докторское звание,
– писал Балугьянский, – не иначе можно получить, как, во-первых, приобретя степень кандидата, потом магистра и, наконец, доктора. Желающий получить степень кандидата допускается к оной не прежде, чем через один год по получении аттестата студенческого, кандидата – к степени магистра
– через два года, магистра – к степени доктора – через три года; итак, докторская степень не прежде может быть приобретена, как по истечении 6 лет от окончания курса в университете. Если же на основании параграфа 19, в случае первого отказа, ищущему докторского звания должно будет повторить испытание, то для получения оного потребно будет 12 лет.
Сверх сего правила испытания, изложенные в означенном Положении, в параграфах 13, 30–40, не представляют достаточного доказательства об учености производимого в ученую степень.
Что касается известных ученых иностранцев, желающих получить ученую степень в российских университетах, то по силе параграфа 17 от усмотрения университета зависит удостоить их и прямо высшей степени, без всякого испытания, с утверждения министра народного просвещения.
В бытность мою при Педагогическом институте некоторые российские подданные, приобретшие докторское достоинство в чужих краях, подверглись испытанию в оном институте и потом получали уже соответствующий сему званию чин от правительствующего Сената.
Если бы студентам по возвращении их поставить в обязанность приобресть в отечестве соразмерную степень, то в Санкт-Петербурге нет для сего средств, ибо можно сказать, что юридического факультета при здешнем университете не существует. То же можно утверждать и о других российских университетах. Если отправить студентов для приобретения докторского достоинства в Дерпт, то на основании вышеприведенных параграфов 15 и 18 Высочайшего Положения они должны бы предпринимать путь сей три раза: для получения степени кандидата через один год, на степень магистра – через два года и, наконец, на степень доктора – через три года.
При сем надлежит заметить, что ныне Дерптский юридический факультет, по случаю смерти или выбытия некоторых профессоров, не существует в полном своем составе.
По сим уважением всеподданнейше испрашиваю Высочайшего дозволения, чтобы означенные студенты могли в Берлинском университете подвергнуться строгому испытанию в юридических науках и получить там дипломы на докторские или другие соразмерные их успехам ученые звания, и для сего оставить их в Берлине еще на год.
Действительный тайный советник Сперанский в бытность свою в Берлине сделал бы по сему предмету все нужные распоряжения.
По возвращении сих студентов они занимались бы еще один год изучением издаваемых от Второго отделения сводов узаконений.
По выдержании строгого в оных испытаниях, пригласить и членов юридического факультета, утвердить их в ученом звании, какого признаны будут достойными.
При сем Балугьянский представлял, что вышеупомянутые г. Савиньи и профессор университета Рудольф занимались с особенным рачением обучением сих студентов и что желательно было бы Всемилостивейше пожаловать г. Савиньи орден св. Станислава 2-й степени, а г. Рудольфу – св. Владимира 4-й степени.
Сперанский докладывал об этом Государю Императору, и 16 июня 1832 г. (на Елагином острове) было Высочайше повелено: 1) экзамены студентов держать в Берлине, 2) для сего оставить их там на столько времени, сколько найдется по личному обозрению их успехов нужным, 3) о наградах доложить в свое время.
Однако экзамены студентов в Берлине не состоялись; они, как видно будет, держали экзамен в Петербурге. Из дел не усматривается, какие причины вызвали такую перемену. Очень может быть, что Сперанский, будучи за границею, по личному обозрению усмотрел неудобства этого порядка; быть может, профессора берлинские не нашли возможным экзаменовать иностранцев. В любом случае в Берлине русские студенты на степень доктора экзаменов не держали, а экзаменовались в Санкт-Петербурге.
Возвращением студентов интересовался император Николай Павлович и спрашивал о них у Сперанского, как можно заключить из начальных слов следующей докладной записки Сперанского 4 октября 1832 г.:
Студенты наши, о коих я имел счастье словесно докладывать, вчерашний день из Берлина прибыли. Дав им небольшой отдых, предполагается употребить их на первый случай во Втором отделении для перевода на русский язык свода остзейских губерний и примечаний, поступающих от местных губернских комитетов. Работа сия нужна и доселе шла медленно затем, что не могли приискать довольно знающих и надежных переводчиков. Студенты же к сему делу и по знанию предмета, и по сведению в немецком языке будут весьма способны. О предыдущем их занятии по университету для преподавания наук я войду в сношения с министром народного просвещения и о последствии буду иметь счастье донести».
Означенные пять студентов (шестой, Пешеходов, умер) были, по словам следующего доклада Сперанского, от 13 апреля 1833 г., «причислены по Высочайшему повелению, впредь до усмотрения, ко Второму отделению Собственной Его Императорского Величества канцелярии, где они и состоят в прежнем звании студентов».
Они занимаются:
1. Чтением и изучением составленных в Отделении Сводов российских законов для вящего приготовления себя к будущему своему предназначению.
2. Чтением Сводов привилегий и законов остзейских губерний и соображением их с замечаниями местных комитетов для рассмотрения их учрежденных.
Из числа студентов, окончивших в 1807 г., – говорится в том же докладе, – курс учения в бывшем С.-Петербургском педагогическом институте, отличнейшие по поведению, прилежанию и успехах в науках: Куницын, Плисов, Соловьев, Чижов и другие, быв по Высочайшему повелению отправлены в разные иностранные университеты с предназначением к профессорской должности, по возвращении в отечество в 1811 г. подвергнуты были в Педагогическом институте испытанию на звание адъюнкт-профессоров, с коим сопряжен чин 8-го класса, которого они по одобрению успехов и получении звания адъюнкт-профессоров действительно и удостоены.
Поелику студенты, экзаменованные в 1811 г., определились на известные места в Педагогический институт и в Царскосельский лицей, и испытание производилось им из тех только наук, для преподавания коих они назначались, сверх всего в новом проекте устава университета места адъюнктов предполагается упразднить, то и не предвидится удобности произвести сим студентам испытание по примеру 1811 г. на адъюнкт-профессорские звания.
Воспитанникам профессорского института (в 1828 г. при Дерптском университете был открыт институт для подготовки профессоров, которые в дальнейшем должны были проходить стажировку в европейских университетах), обучавшимся в Дерпте положением Комитета министров, Высочайше утвержденным 11 ноября 1830 г., разрешено было дать испытание прямо на те ученые степени, коих они удостоятся по своим познаниям, не держа предварительно и в порядке времени, определенном положением о производстве в ученые степени 1819 г. января 20 экзамены на низшие ученые степени.
На основании сих примеров осмеливаюсь всеподданнейше испрашивать Высочайшего соизволения позволить студентам, ныне из Берлина возвратившимся, сделать испытание при здешнем университете на звание доктора прав.
Предметы и порядок сего ряда испытаний определены в университетских положениях различно и доселе еще не установлены окончательно.
Сообразив все сии положения (см. Положение 1811 г., Положение 1819 г. и проект нового устава 1830 г.) с особенным способом обучения, какой принят был в образовании студентов, признается нужным составить особенное начертание того порядка, коему в испытаниях их следовать должно.
По сему докладу Высочайше было повелено 13 апреля 1833 г. назначить особые правила для экзамена студентов, а срок им назначить по усмотрению.
В исполнение сего Сперанский составил подробную программу, подобно программам, составляемым в Институте корпуса инженеров путей сообщения и в других учебных заведениях. Программы сии были рассмотрены в конференции юридического факультета здешнего университета в присутствии двух чиновников Второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии и самого Балугьянского.
Вместе с тем были составлены правила испытания, по которым:
1. Студентам законоведения, возвратившимся из Берлина и находящимся при Втором отделении Его Императорского Величества канцелярии, дозволяется держать испытание на звание доктора прав при здешнем университете.
2. Испытание производится профессорами философско-юридического университета под председательством декана оного с приглашением в заседание старших чиновников Второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии действительных статских советников Куницына и Плисова, которые преподавали им лекции по предметам российского законоведения и политической экономии. И профессоров статистики, истории, российской и греческой словесности.
3. Испытание производить в науках, означенных в параграфе 6 Положения о производстве в ученые степени 1819 года января 20, на основании правил, в параграфах 39–42 изложенных, с дополнением, чтобы диссертации по предметам российского законоведения, политической экономии, истории и статистики дозволить им написать и защитить на русском языке.
По этим правилам студенты первого отправления стали держать экзамен, и некоторые из них, как, например, Неволин и Знаменский, окончив оные уже к конце 1834 г., представили свои диссертации для напечатания в типографию.
Однако этот порядок экзаменов просуществовал недолго и скоро подвергся изменению.
Тем временем оставшиеся еще за границей студенты второго отправления писали Балугьянскому из Берлина 5 января 1834 г. поздравление с Новым годом, и при этом был положен перечень слушаемых ими всеми лекций, причем они добавляли:
Из сих предметов каждый из нас избрал то, что находил для себя еще необходимым или полезным; некоторые избраны потому, что многим не оставалось уже слушать ничего лучшего и с целию сообразнейшего; впрочем, никто не обременил себя излишним. Сбереженные часы посвящаем теперь большею частью на чтение Свода Российских Законов. В предстоящий летний семестр по юридическому факультету нам не остается ничего более слушать.
Немного позднее, 16 февраля, те же студенты писали, что желали бы по примеру своих предшественников ознакомиться с устройством других наиболее известных университетов и просили выслать на это деньги через контору Мендельсона, а не банкира Филиппи, всегда неаккуратно платящего. Кроме того, они выражали желание до приезда в Петербург проехать к своим родным, каждому из тех мест, где кому будет ближе. При этом приложили указание, какое расстояние каждому из них предстояло проехать до родины.
Балугьянский им отвечал:
1) Курс учения вашего в Берлине заключить окончанием настоящего зимнего семестра в марте месяце. 2) Дозволить вам посвятить остальное время пребывания вашего в чужих краях на обозрение знатнейших германских университетов, как то, например: Геттингентского, Лейбцигского, Боннского; причем особенно имеете обращать внимание на изучение метода и образа преподавания. 3) В сентябре месяце предпринять путь в С.-Петербург, сухим путем или водой, по собственному вашему произволению и взаимному согласию, но только вместе, а не порознь. 4) Что касается до изъявляемого вами желания возвратиться порознь каждому через место его родины, то по соображению исчисленных вами в приложенном списке расстояний оказывается, что потребная для проезда сумма в десять раз и более превышала бы ту, какая назначена была на возвратный путь до С.-Петербурга вашим предшественникам, а потому желание побывать на родине может исполнено быть по возвращении вашем в С.-Петербург, когда представится в зимнее время более удобности удовлетворить оное с меньшими издержками. 5) Суммы на содержание каждому из вас с апреля месяца по конец сентября, так же как и суммы, следующие на возвратный путь, выданы будут за полгода вперед, и о доставлении оных вам, согласно желанию вашему, банкиром Мендельсоном сделано от меня будет в свое время отношение к министру нашего двора в Берлине.
Но в рассуждении сумм, назначенных вам как на содержание, так и возвратный путь, рекомендую вам вообще бережливость. Потому что суммы сии назначены с Высочайшего утверждения и в оной никакой прибавки предполагать не можно. Если для сокращения времени на обратный путь вы все решитесь предпринять оный водою, то имеете благовременно дать мне знать, дабы я мог отнестись к нашему консулу об оказании вам при том зависящих с его стороны пособий; во всяком случае назначенные вам на обратный путь деньги будут выданы сполна.
Несмотря на это г. Калмыков просил по домашним обстоятельствам разрешить ему проехать в Москву и Саратов, и по докладу этой просьбы Высочайше разрешено было 22 марта 1834 г. Калмыкову возвратиться избранным им путем.
Сообщая это Калмыкову Балугьянский поручал ему объявить другим студентам, чтобы они ускорили по возможности дозволенное им путешествие, и что чем скорее они вернутся, тем будет для них самих полезнее.
Вскоре после этого и другой студент, Никита Крылов, обратился к Балугьянскому со следующей просьбой:
Двукратная покража вещей, которую я испытал в Берлине, издержки, сопряженные с лечением, путешествием по университетам и в бани, закупка нужных книг – все это истощило мои финансы, так что я не в состоянии теперь проживать здесь и отправиться в С.-Петербург.
Ваше Высокопревосходительство! Я вполне уверен, что Вы желаете мне счастья; а какое счастье возможно без здоровья? Следовательно, позвольте мне остаться в Трауминде на три недели и окажите мне нужное, как для употребления морских вод, так и для прибытия в С.-Петербург, денежное пособие.
Эта просьба Крылова была также удовлетворена, и ему было отпущено триста пятьдесят рублей.
Тем временем Сперанский представлял Государю Императору свои предположения о том, как поступить со вновь прибывающими студентами, и Танеев (преемник Муравьева) 29 июня 1834 г. писал Сперанскому:
Государь Император, рассмотрев всеподданнейший доклад Вашего Высокопревосходительства от 26 сего июня и представление статс-секретаря Балугьянского от 20 июня № 247 о девяти студентах правоведения, возвращающихся из Берлина, Высочайше повелеть изволил:
1) По примеру прежних причислить возвращающихся ныне из-за границы 9 студентов ко Второму отделению Собственной Его императорского Величества канцелярии впредь до определения их к местам, продолжая им здесь до того времени то же содержание, которое они за границею получали, то есть каждому по 700 прусских талеров в год, по курсу на ассигнации.
2) Подвергнуть их под руководством статс-секретаря Балугьянского испытанию на докторское звание на том же основании, как оному подвергнуты были прежние пять студентов.
3) По возвращении их или по окончании экзаменов дозволить им, по усмотрению начальника Второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, на короткое время отлучиться в дома свои и на путевые издержки выдать им, по примеру прежних и по мере существенной необходимости, более 500 р. на человека, предварительно из экономических сумм Второго отделения.
4) По окончании ими путешествия сумму сию возвратить во Второе отделение из Государственного казначейства, как сие учинено было и в отношении прежних студентов. Означенные студенты скоро прибыли. Но уже не держали экзаменов, установленных для студентов первого отправления по причинам, изложенным в следующем всеподданнейшем докладе Сперанского, который приводим дословно:
В течение 1834 года возвратились из Берлина и остальные 9 студентов. Все они готовы предстать на испытание словесное и письменное, которые сами по себе могут быть окончены к маю месяцу сего года. Но сочинение диссертаций, рассмотрение и печатание оных потребует год времени и более, как опыт доказал с первыми 5 студентами.
Между тем, г. министр народного просвещения в отношении своем к г. действительному тайному советнику Сперанскому от 24 текущего месяца, изъясняя существующий в нравственно-политическом отделении Императорского Московского университета недостаток в достойных преподавателях, так что теперь три важнейшие кафедры. А именно: 1) права естественного, политического и народного, 2) права гражданского и уголовного судопроизводства Российской империи и 3) права знатнейших как древних, так и нынешних народов, остаются вакантными, – просит содействия Второго отделения к скорейшему по возможности замещению сих кафедр означенными вновь возвратившимися из Берлина студентами с назначением отличнейших из них на каждую из сих кафедр.
С другой стороны, нужно бы выслать и остальных 3 студентов из окончивших прежде испытание и назначенных в Киев, что по причине рассмотрения и печатании их диссертаций и публичного акта не может последовать прежде истечения нескольких месяцев, а может быть, полугода и более.
По сим уважениям я осмеливаюсь всеподданнейше испрашивать высочайшего соизволения на некоторые изменения в порядке испытания студентов, предписанном вышеозначенными правилами: при предложении как словесных, так и письменных вопросов, в коих состоит главная сущность испытания, поступать на том точно основании, как означенными правилами в отношении прежних студентов было постановлено.
1) По удовлетворительном разрешении испытуемыми сих вопросов предоставить им из всех предметов испытания извлечь положения или тезы, объемлющие весь состав юридических наук, и представить их к одобрению юридического факультета. По одобрении факультетом сих тез испытуемый должен защитить их на публичном акте. После чего, если признан будет достойным, получает степень доктора.
2) За сим сочинение диссертаций, которое вместе с рассмотрением и печатанием оных потребовало бы, как выше сказано, год или более времени, ныне отменить, вменив студентам в обязанность или предоставляя на их волю, изготовить их впоследствии и представить куда следует на рассмотрение.
Таким образом, испытание всех студентов может быть кончено, по крайней мере, к концу мая, и они отправлены быть могут к своим местам по распоряжению министра народного просвещения.
Строгое испытание словесное и письменное и защищение от 30 до 40 и более тез, извлеченных из состава всех юридических наук, заменят с пользою и сбережением времени предлинные диссертации, требующие всегда много времени, если им быть хорошими.
По сему докладу последовало 7 марта 1835 г. Высочайшее повеление: «Экзамены студентам, как прежним, так и новым произвести на означенных в докладе основаниях».
Вследствие этого студенты стали держать экзамены, и уже 19 июля 1835 г. стали представлять положения или тезисы для защиты их на публичном собрании в университетском зале, которые, как писал ректор университета, препровождались для напечатания в типографию.
При этом необходимо упомянуть о двух печальных событиях, постигших немного ранее сих студентов. 30 января 1835 г. умер от чахотки студент Знаменский. И Сперанский приказал прилично похоронить его на счет экономических сумм Второго отделения, несмотря на то, что у Знаменского оставалось имущество и деньги (около 2100 руб.), которые были отданы его родственникам.
В том же году умер 13 сентября Алексей Благовещенский; он страдал ревматизмом, пользовался минеральными водами и, живя в доме Второго отделения, впал в жестокую болезнь, как говорится в деле, и все средства для его исцеления остались безуспешными. По недостаточности состояния его он был помещен в Мариинскую больницу в особую комнату по ходатайству Балугьянского, где и умер 13 сентября 1835 г.
Остальные же студенты прекрасно выдержали экзамены, успешно защищали тезисы и были назначены, как видно из доклада Балугьянского 10 января 1836 г., ординарными профессорами:
Калмыков, Кранихфельд, Яков Баршев – в Петербургский университет;
Редкин, Крылов, Сергей Баршев – в Московский университет;
Федотов, Куницын (Алексей), Платонов – в Харьковский университет;
Неволин, Орнатский, Богородский – в Киевский университет.
Таким образом, благодаря стараниям Сперанского и Балугьянского четыре наших университета в короткое время получили двенадцать профессоров, и таким образом могли значительно повысить уровень преподавания юридических наук и способствовать юридическому образованию нашего общества.
Публикуемые документы взяты из:
Центрального исторического архива Москвы (Ф. 418. Оп. 1. Д. 106; Оп. 4, Д. 261) и Полного собрания законов Российской империи. 1 (ПСЗ-1) (Т. XXX. № 23771); Журнала Министерства народного просвещения. 1835. № 10; Университетского устава. 1804.
Речь декана философско-юридического факультета Санкт-Петербургского университета Бутырского по случаю публичной защиты студентом законоведения Неволимым сочиненного им рассуждения на степень доктора, приводится по «Журналу Министерства народного просвещения» (1835. № 2).
Обстоятельный анализ деятельности Сперанского по совершенствованию системы университетского образования дан в статье П. Майкова «Сперанский и студенты законоведения» (По документам Архива Государственного Совета) (1) «Русский вестник». 1899. Авг. С. 610–625; 1899. Окт. 674–681).
Представляет интерес статья новейшего исследователя С.А. Яблокова «Образовательный процесс М.М. Сперанского: подготовка русских профессоров-юристов в конце 20-х – первой половине 30-х гг. XIX в. (Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. 2005. № 2).
Приложение 4 В.В. Минаев. Краткий очерк по истории развития народного образования в России в период советской власти сравнительно с развитием народного образования в дореволюционный период
Следующий документ принадлежит совсем другой эпохе, но по своему гуманитарному значению перекликается с просветительскими и образовательными идеями М.М. Сперанского. Он принадлежит Василию Васильевичу Минаеву, опытному педагогу, получившему высшее математическое образование еще в дореволюционной России.
Волею судьбы он в 1920 г. стал директором первой советской школы в Архангельске. С 1930 по июнь 1941 г. был преподавателем, позже доцентом в высших учебных заведениях Москвы. Начиная с 30-х годов, он писал и публиковал отдельные методические пособия и рекомендации по улучшению системы народного образования, в особенности по усовершенствованию системы высшей школы.
Сохранилось «Методическое письмо», составленное В.В. Минаевым еще в 1932 г. во Всесоюзном заочном институте технического образования (хранится в Российской государственной библиотеке. Шифр: М 191-1388).
Участник Великой Отечественной войны, он не оставил своего увлечения и в тяжелых военных условиях. Добровольно уйдя с народным ополчением в июле 1941 г. на фронт, он попал в Вязьминский котел окружения в октябре 1941 г. вместе с пятой дивизией народного ополчения. Пройдя трагическую одиссею общих лагерей для военнопленных, он попал в учебный лагерь Вустрау под Берлином, где, работая библиотекарем, нашел возможность написать настоящий «Очерк», вероятно, намереваясь также создать перспективу развития просвещения в будущей свободной России, которую он мечтал увидеть справедливой демократической и культурной державой, равноправно вошедшей в Европейское политическое пространство.
Развитие народного просвещения в России в период советской власти неразрывно связано с дореволюционным периодом истории русской школы.
Чтобы понять, в чем же заключались отрицательные стороны [образовательного] дела в СССР и почему до последнего периода истинное состояние образования в СССР не достигло нормального уровня в области усвоения учащимися определенного объема знаний общенаучных дисциплин, необходимо, прежде всего, проследить историю экспериментов, которые большевики систематически проводили в школах всех ступеней, начиная с 1917 года.
Система народного просвещения может быть охарактеризована следующими статистическими данными по Министерству народного просвещения за период 1880, 1900, 1915 гг.
Данные автора по высшим учебным заведениям исправлены.
Таким образом, за 25 лет, с 1880 по 1915 г., количество начальных учебных заведений возросло в 5,5 раз, число учащихся – в 7 раз, число мужских средних учебных заведений (гимназий и реальных училищ) возросло в 4 раза, а число учащихся в них – почти в 5 раз.
Следует учесть, что в число средних учебных заведений за 1915 год не вошли среднетехнические и средние специальные заведения. К 1915 году в России было 3700 средних учебных заведений различных ведомств с числом учащихся в 810 000 человек.
В то же время число высших учебных заведений в 1914 году в России было 117 с общим количеством учащихся – 124 000, из них около 24 000 женщин. Причем развитие высших технических учебных заведений и всего высшего женского образования отличалось главным – демократизацией к концу XIX – началу XX в.
Это подтверждается следующими данными одного из учебных округов:
Отсюда вытекает ложность утверждения большевиков о том, что в средние школы России (в гимназии и реальные училища) был закрыт доступ детям рабочих и крестьян. Они якобы являлись привилегированными учебными заведениями.
Как темп развития сети учебных заведений всех типов, так и степень доступности их всем слоям населения были в достаточной мере высокими.
Неизменно высокий уровень качества обучения последних, как общеизвестно, гарантировался:
а) надлежащим оборудованием всех типов учебных заведений учебно-воспитательными учреждениями и учебно-хозяйственным оборудованием;
б) высококвалифицированными педагогическими кадрами, главным образом из числа окончивших университеты;
в) конкурсными вступительными экзаменами, естественно, подтверждающими наивысшую подготовку вновь поступающих в средние и высшие учебные заведения.
1917–1923 годы*
Захват власти в России большевиками незамедлительно сказался на резком падении всей системы народного просвещения, характеризовался репрессиями и террором по отношению ко всей интеллигенции, в том числе и к административно-учебному и педагогическому составу, главным образом, в средней и высшей школе. В 1917–1920 гг. многие из них были расстреляны, погибли в тюрьмах, лагерях, в огне Гражданской войны, часть из них эмигрировала за границу, часть научилась работать в новой школе.
В новой организации народного образования большевики отказались от всего предыдущего опыта. Они ликвидировали все типы общих и специальных средних учебных заведений, слив в новую «трудовую школу» – высшие начальные училища, женские учебные заведения (гимназии, епархиальные училища, женские институты) – с мужскими учебными заведениями (гимназиями и реальными училищами); специальные средние учебные заведения (учительские семинарии, средние сельскохозяйственные, коммунальные, среднетехнические училища) были заменены так называемыми техникумами.
Были открыты так называемые рабфаки (рабочие факультеты) для быстрой подготовки рабочих и крестьян за курс низшей школы (3–4 года), главным образом низшего типа, без отрыва от производства на первых 2–3 курсах.
Таким образом, схема народного образования представлялась в следующем виде:
1. Школа I ступени – 5 лет обучения.
2. Школа II ступени – 4 года обучения.
3. Техникум – 4 года на базе школы I ступени.
Причем в школу II ступени были слиты все типы средних учебных заведений и высшие начальные училища.
Таким образом, создано было нечто, ни в какой степени не основанное на преемственности систематического образования в России.
Прежде всего, общий уровень подготовки преподавателей II ступени резко изменился и не шел ни в какое сравнение с уровнем подготовки преподавателей средних учебных заведений прежней России за счет новых их кадров, пришедших из высших училищ и нередко из начальной школы взамен погибших в период террора и Гражданской войны и частичной эмиграции за границу.
Директора и инспекторы средних учебных заведений повсюду были отстранены и в большинстве случаев расстреляны.
Их места, как правило, заняли лица с ничтожным образованием и недостаточным опытом.
Учащиеся получили широкие полномочия от большевиков, было организовано школьное самоуправление: учащиеся, родители и представители общественных и партийных организаций вошли в школьные советы. Все это вызвало в школе резкое падение дисциплины, которую большевикам не удалось наладить и до сих пор.
Многие преподаватели средних учебных заведений, не выдержав такой ломки любимого ими дела, покинули школу, к тому же побуждаемые к этому резким снижением заработной платы, не дававшей обеспечить даже прожиточный минимум учителя.
Падение дисциплины в школах, проникновение на преподавательские должности малоподготовленных лиц, разнузданная травля учителей со стороны учащихся, поддерживаемая правительством, отсутствие минимальных материальных средств, недопустимое смешение различных типов учебных заведений в единое – все это неизбежно должно было повлечь глубокий и непозволительный развал учебного дела.
До какой степени большевики разрушили систему народного образования, можно усмотреть из следующих данных:
Комиссар просвещения Луначарский на съезде Советов в 1922 г. характеризует положение школьного дела как катастрофическое, признавая, что «наша школа на ладан дышит» и т. д.: нет материальной базы, количество школ сокращается на 45–60 % и выше.
В среде учительства ужасающие факты: нищенство, преждевременные смерти, колоссальная заболеваемость. Учитель получает 12 % того минимума, который сам по себе не может считаться нормальным для рабочего человека. Это выражается в переводе на золото – 2 р. 90 коп. в месяц.
Таким образом, за 6 первых лет существования советской власти был произведен такой провал всего школьного дела в России, что в 1920 г. на 1000 лиц школьного возраста приходилось в городах – 347 учащихся, в сельских местностях – 171, вместо 918 учащихся в городах и 710 в сельских местностях в 1914 г.
В 1923 г. положение еще более ухудшилось.
Отсюда вытекает, что большевики к 1923 г., т. е. за 6 лет своего владычества в России, отбросили дело народного просвещения к периоду 1880–1885 гг.
В высшей школе положение к тому же 1923 г. характеризуется еще худшим состоянием, так как, с одной стороны, состав преподавателей значительно поредел за счет террора, с другой стороны, на местах <…> без всякой базы стали расти высшие учебные заведения, лишенные и нормально подготовленных профессоров и нормально подготовленных учащихся.
Открывались университеты, открывались педагогические институты, но не было в них ни учебного оборудования, ни материальных средств, ни профессоров, ни подготовленных студентов.
Прежние университеты, лишенные своих лучших профессоров, по сути, не имея средств, занялись студентами либо плохо подготовленными в школах II ступени и особенно на рабфаках, либо совсем неподготовленными, так как большевики отменили при приеме в высшее учебное заведение образовательный ценз и приемные испытания.
Только в крупных центрах (Москва, Петроград, Киев, Казань, Харьков, Томск) теплилась академическая жизнь. Университеты и институты еще работали, но не могли уже давать нормальную продукцию.
Приток свежих сил, нормальная подготовка научных кадров для высших, средних и низших учебных заведений быстро прекратились, и начался приток или совсем неподготовленных, или слабо подготовленных сил.
К моменту роста сети учебных заведений в 1923–1929 гг. школы всех типов уже были лишены возможности пополниться педагогическим персоналом, нормально подготовленным к своей педагогической деятельности, а это, естественно, должно было повлечь за собой, при росте сети учебных заведений, ухудшение преподавания на всех ступенях. Старые кадры исчезали, новые были слабо подготовленными.
1923–1929 годы**
Этот период характеризуется значительным ростом сети учебных заведений. К 1929 г. мы имеем следующую картину:
За 12 лет существования советской власти сеть школ была доведена до сети школ 1915 г. с увеличением числа учащихся против 1915 г. на 4 миллиона человек, что влекло за собой укрупненность школ в 1,5 раза.
В тот же период, начиная с 1923 г., вводятся так называемые комплексные программы, временно отменяющие постижение систематического учебного материала.
За тот же период вводятся в школах лабораторно-бригадные методы преподавания, экзамены всех видов отменяются, доступ в высшие заведения открыт для всех; наконец, за тот же период школы всех типов получили слабо подготовленные новые кадры, а старые кадры подверглись так называемой чистке, т. е. массовому увольнению.
Качество преподавания катастрофически падает, дисциплина отсутствует, влияние коммунистической партии в школах возрастает, молодежь лишается возможности получать основательные знания, занята исключительно обличительными собраниями, заседаниями, подготовкой к различным революционным праздникам, учителя бессильны дать знания, так как часто сами ими не обладают, к тому же лабораторный метод преподавания прямо противоположен нормальной подготовке учебного дела.
Наконец, за тот же период проводится переподготовка старших классов II ступени (с 1923 г.), заключающаяся в профессионализации 8-10 классов.
Лица, окончившие программу 7-х классов начального образования, последние 2 года готовились не только по общеобразовательным предметам, но еще и по ряду специальных дисциплин; в результате чего они не могли получить ни общего, ни специального достойного образования, да к тому же им преподавали неквалифицированные кадры.
Итак, к 1929 г. школ в России стало столько же, сколько было их в России к 1915 г.; но эти школы не могли давать систематических знаний, так как основные предметы в комплексных планах отсутствовали. Преподавательский состав был слаб.
По одной РСФСР к 1935 г. 300 000 преподавателей химии школ II ступени были признаны не имеющими права преподавать в средней школе, и им к 1 сентября 1937 года предлагалось окончить одно из высших педагогических учебных заведений.
1930–1935 годы***
Период 1930–1935 гг. – время сплошной коллективизации, раскулачивания 6 000 000 крестьянских дворов, является в России периодом огромнейших жертв красного террора.
Тем не менее, сеть школ получает свое дальнейшее развитие, что характеризуется следующей таблицей:
С 1915 по 1935 г. число школ возросло на 30 %, число учащихся по школам I ступени – на 225 %, по школам II ступени – на 1200 %.
Если сравнить рост числа школ и учащихся в России за период в 20 лет, то мы будем иметь следующую картину.
Было всего около 30 000 школ при 2000 000 учащихся.
К 1915 г. – 125 823 при 8 556 637 учащихся.
Количество школ возросло на 416 % и число учащихся на 400 %.
За такой же период времени смогли увеличить количество школ на 30 %, а число учащихся в них – на 300 %.
Такое уродливое явление объясняется тем, что классы и школы переполнялись невероятно.
При остальных благоприятных условиях это могло бы повлечь за собой нормальную постановку учебного процесса. А так как происходила явная перегруппировка школ, недостаточность преподавательского состава, в своей массе слабо подготовленного, нельзя было рассчитывать на нормальную подготовку учащихся.
Надо иметь в виду, что программы, учебные планы, пособия, метод преподавания по-прежнему оставались неудовлетворительными, что и было признано советским правительством в 1935 г. в особом постановлении Совнаркома СССР о режиме начальной и средней школы
Период 1930–1935 гг. не только не принес улучшения школьного дела, но, наоборот, еще больше его ухудшил, обнаружил подлинную перегруженность школ, которые вынуждены были заниматься в две и три смены, при неполном составе преподавателей, без учебных пособий, старыми методами и при отсутствии дисциплины.
Учащиеся по-прежнему слабо усваивали элементы знаний, домашние задания были развиты слабо, не проверялись, в результате ученики совсем не привыкали работать над книгой, над собственными пороками в грамотности и общим развитием.
Некоторые дисциплины, например, история не преподавалась совсем и в 1923 г. была заменена так называемым обществоведением.
Сеть рабфаков и ускоренных курсов подготовки в высшие учебные заведения неимоверно росла, но знания учащихся катастрофически снижались.
Так, в период сталинских пятилеток в инженерно-технических учебных заведениях в начале 1930–1931 гг. планировалась подготовка сотен инженеров и техников отраслевыми народными комиссариатами. К этому времени было организовано Главное управление учебными заведениями – ГУУЗ. ГУУЗы укомплектовывались руководящим составом из числа неквалифицированных чиновников. Сеть институтов и техникумов сразу получила широкий размах, но ни знаний, ни образования, ни подготовленных преподавательских кадров для этой сети из числа подготовленных лиц не было и не могло быть.
В то же время общеобразовательная школа влачила жалкое существование.
Все, что в ней еще оставалось из преподавательских кадров гимназий и реальных училищ с университетским образованием, незамедлительно ринулось в открываемые многочисленные институты и техникумы, привлекаемые туда более высокой оплатой труда.
Период 1930–1935 гг. характеризуется для общеобразовательной школы полным отсутствием квалифицированных преподавателей.
Институты и техникумы получили пополнение значительного преподавательского состава.
Но методы преподавания в среде студентов оставались лабораторно-бригадными. Отсутствие оборудования, недостаточность материальной базы во вновь открытых многочисленных учебных заведениях, руководимых к тому же неквалифицированными лицами из многочисленных и разобщенных между собой ГУУЗов, предрешали совершенно неудовлетворительную постановку обучения и в этих учебных заведениях.
В 1933–1935 гг. молодые специалисты, совершенно неудовлетворительно подготовленные, стали появляться на предприятиях бурно растущей промышленности и, естественно, вызвали полное разочарование советского правительства в так называемой своей пролетарской интеллигенции.
Наконец, и советскому правительству стало ясно, что положение с образованием всех видов грозит катастрофой, поэтому появился ряд постановлений правительства СССР.
Этими постановлениями было признано, что:
1) средняя школа поставлена совершенно неудовлетворительно;
2) преподавательский состав ее в количестве свыше 300 000 человек не имеет права преподавания в школах в силу своей неподготовленности; далее были перечислены все те высшие учебные заведения досоветского периода, окончание которых давало право преподавать в начальных и средних учебных заведениях.
3) В школах II ступени и техникумах приводился перечень таких, например, учебных заведений, как духовная академия, духовные и учительские семинарии, высшие епархиальные училища, женские дворянские институты.
Правительство хотело привлечь в школу те кадры, которые ранее им же признавались непригодными для преподавания в советской школе.
Официально осуждались и изгонялись из школьной практики и комплексные программы и лабораторно-бригадные методы преподавания.
В школах вводилось систематическое образование по предметам. Вводилось преподавание гражданской истории.
Администрация школ должна была быть заменена лицами с соответствующим образованием. (Это осталось практически невыполненным.)
Родились крепкие (устойчивые) наименования должностей: директор, классный руководитель, педагогический совет, начальная школа, средняя школа.
Термин «единая трудовая школа» исчез.
Расширились права учебно-административного персонала, в техникумах и институтах права администрации были расширены, вплоть до права приказа увольнять учащихся за нарушение дисциплины. Вводились в школах переходные и выпускные испытания, а также приемные испытания во всех техникумах и во всех высших учебных заведениях.
Условий для нормального существования учебных заведений не было, поэтому ожидать какого-либо решительного улучшения дела народного просвещения было нельзя.
В Совете народных комиссаров учреждается Всесоюзный комитет по делам высшей школы, которому подчиняются все наркоматы и наркоматы просвещения союзных республик.
В ведении ГУУЗов и наркоматов просвещения остаются только средние учебные заведения.
Уже в 1941 г. и техникумы ГУУЗов подчиняются Комитету по делам высшей школы.
Вводится штатно-окладная система, как в средней школе, так и особенно в высших учебных заведениях.
Такими актами советское правительство вынуждено было стать на путь широких реформ, направленных в сторону дореволюционных порядков.
Одновременно вводится обязательное преподавание истории, вновь открываются исторические и юридические факультеты при университетах и педагогических институтах, учреждаются учительские институты.
Очень важным мероприятием является организация заочного обучения и институтов повышения квалификации инженерно-технических кадров. Последние явились ответом на низкий уровень знаний выпущенных советской властью инженеров и техников.
Эти институты организовали весьма широкую сеть вечерних курсов буквально на всех предприятиях. Эти курсы должны были повысить уровень знаний инженеров и техников в течение ряда лет.
Таким образом, начался новый период в жизни советской школы с 1935 г.
1935–1941 годы****
Период 1935–1941 гг. был в области культуры периодом резкого поворота советской власти в сторону дореволюционных порядков. Причем все эти мероприятия все более и более окрашивались в национальные цвета: русская классика, русские полководцы, русские войны, Петр I и его преобразования и т. д. – все это хлынуло в школу и настраивало на иной лад.
В область науки и искусства тоже стали проникать национальные нотки.
Но положение с кадрами интеллигенции оставалось по-прежнему тяжелым и неустроенным.
Однако за этот период школа в целом вставала на путь оздоровления, хотя этого оздоровления в скором времени ожидать было невозможно, так как надлежаще подготовленных учительских кадров еще не было.
Например, при введении в 1935 г. преподавания истории в средней школе по городу Москве насчитывалось 400 преподавателей истории, из коих только 70 имели высшее образование, да далеко не все – историческое; свыше 100 человек – со средним образованием и остальные имели низшее. И это в Москве?! Что же надо ждать от провинциальных учебных заведений?
Последний год перед войной в области народного образования характеризуется ярко выраженным стремлением к дореволюционным формам.
Намечалось укрупнение высших учебных заведений с немедленным сокращением сети провинциальных высших учебных заведений.
Обсуждались учебные планы по подготовке специалистов гуманитарного профиля.
Предполагалась реорганизация ученых степеней (магистр и доктор наук) и условий их подготовки: более строгие требования намечалось предъявлять к магистерскому экзамену и к защите магистерских и докторских диссертаций.
Срок исполнения дипломной работы будущего выпускника предполагалось удлинить с 6 месяцев до 2-х лет по темам, данным по заданиям предприятий.
Удлинялись сроки и устанавливалась программа производственных и академических практик студентов всех курсов.
Намечалась организация мужских и отдельно таких же женских гимназий (классических и реальных). Сначала в крупных городах (Москва, Ленинград, Киев, Харьков, Казань, Саратов, Ростов-на-Дону, Томск).
Имелось в виду эти гимназии поставить в исключительно благоприятные условия с привлечением крупных педагогических сил и с особыми правами. Эти гимназии должны были быть подчинены непосредственно Комитету по делам высшей школы помимо Наркомпросов союзных республик.
Само собой разумеется, что намечающийся процесс оздоровления школы мог развиваться медленно, но, несомненно, развитие его должно было расти прогрессивно с каждым годом, и лет через 5-10 положение могло приобрести устойчивый характер во всей системе народного образования.
Заключение
В заключение следует отметить, что те силы дореволюционной интеллигенции, которые сохранились от разгрома их большевиками, хотя и в ограниченном размере, но все же создавали из молодежи некоторый процент новой интеллигенции, которая стояла на современном уровне европейской интеллигенции, что, в конце концов, и способствовало появлению в правительственных кругах тенденций, оздоровляющих школьное дело.
Тому способствовало и то важное обстоятельство, что выпущенные при советской власти специалисты оказывались в их практической деятельности неподготовленными, что грозило катастрофой развитию индустрии.
Так постепенно большевики со своих интернациональных позиций в области культурного строительства стали переходить на национальные.
Надо помнить, что, если бы большевикам в течение 1941–1950 гг. энергично удалось провести в жизнь хотя бы те мероприятия, которые уже были декретизи-рованы до 1941 г. и которые намечалось декретизировать в 1941 г., то это означало бы следующее:
1. Выпущенные ранее специалисты путем повторного обучения их в центрах повышения квалификации и заочной системы за 3–5 лет могли в своей массе подняться до нормального уровня своих специальных знаний.
2. Вновь выпускаемые специалисты в течение 1941 г. из укрупненных высших учебных заведений с каждым годом по качеству были бы все лучше и лучше.
3. Вновь организованные гимназии при их развитии в период 5-10 лет дали бы нормально подготовленных студентов для высших учебных заведений.
4. Начальная школа за 5-10 лет получила бы грамотного учителя.
5. Ремесленные училища за 5-10 лет дали бы промышленности 8-10 миллионов квалифицированных рабочих, сельское хозяйство имело бы квалифицированных сельскохозяйственных рабочих.
Ясно, что при таких условиях за период в 5-10 лет в Советской России значительно залечились бы те раны, которые большевики нанесли ей в период 1917 г.
Примечания Н.В. Минаевой
* В период Гражданской войны, развернувшейся сразу же после октября 1917 г., и последовавшей затем интервенции, Архангельск видел англичан, американцев и репрессии красных комиссаров. Но в городе еще сохранялась старая русская интеллигенция. К числу ее принадлежал мой дед Петр Андреевич Таратин. Он преподавал географию в архангельских гимназиях и занимал пост секретаря Общества изучения Крайнего Севера – филиала Русского географического общества, председателем которого долгие годы был известный ученый и общественный деятель Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский.
Мой дед принадлежал к славной плеяде русских просветителей и оставил свой след в истории русского Севера. Однако с приходом советской власти в Архангельск положение интеллигенции резко изменилось. Большинство их попало в разряд «лишенцев» и было лишено права трудиться на государственной службе. Это не могло не сказаться на всей системе народного образования.
** Во второй период, 1925–1930 гг., мой отец, Василий Васильевич Минаев, был директором первой советской школы в Архангельске (Ломоносовской гимназии, как ее продолжали называть архангелогородцы). Здесь он повстречался с моей матерью – Антониной Петровной Таратиной – преподавательницей истории, только что вернувшейся в родной город после окончания петербургских Бестужевских высших женских курсов. Молодые люди поженились, и дальнейшая их жизнь было неразрывно связана общими педагогическими интересами.
*** Третий период, 1930–1935 гг. – время Большого террора и ломки всей системы просвещения в советской России. В то время было запрещено преподавание гражданской истории, многих юридических наук. Были закрыты исторические факультеты в ведущих университетах страны. Но после прихода Гитлера к власти в 1933 г. отношение советской власти и непосредственно Сталина изменилось.
Постановлением ЦК большевистской партии от июля 1934 г., подписанного Ждановым, Кировым и Сталиным, гражданская история вновь возвращалась в систему народного образования, и вновь были открыты исторические факультеты в ведущих университетах страны.
**** Четвертый период, 1935–1941 гг., выделен В.В. Минаевым наиболее объемно.
Поражает проницательность автора, уловившего знаменательную закономерность отхода Сталина и его окружения от интернациональных ценностей советского правительства к повороту признания национального принципа в культуре, науке и просвещении.
В январе 1941 г. в СССР на страницах органа ЦК партии журнала «Историк-марксист» была проведена дискуссия о славянофилах, которая должна была подвести вопрос о русской нации к пониманию ее исключительности и избранничества.
К дискуссии были привлечены крупные историки, философы и филологи. Среди них: академики Н.С. Державин, М.В. Нечкина, профессора Н.М. Дружинин, Б.Б. Кафенгаус. Обсуждался доклад ученика маститого ученого С.В. Бахрушина – Сергея Сергеевича Дмитриева «Экономические воззрения славянофилов». Все участники дискуссии, вероятно, понимали, ради чего в партийном органе печати поставлен этот вопрос. Но они строго держались академического тона и не дали выйти дискуссии на просторы современной им политики советского государства.
Приложение 5 Статьи Н.В. Минаевой на смежные темы
Все перечисленные далее статьи связаны с вопросом модернизации России. Эта идея занимает не только отечественных историков, но и историков разных стран.
Первая статья «Всемилостивейшая жалованная грамота, российскому народу жалуемая 1801 года» открывала русско-итальянскую конференцию 2001 г., которая проходила в Институте российской истории Российской академии наук. Она привлекла внимание международной общественности и позже была опубликована в ученых трудах Неаполитанского университета в составе большого сборника, вышедшего под редакцией профессора Неаполитанского и Римского университетов Серджио Берталлучи.
Вторая статья «Правительственный конституционализм после Отечественной войны 1812 года», опубликованная в «Вопросах истории» № 7 за 1981 г. посвящена попытке изменения политического курса Александра I после войны 1812 г. и реализации статей Венского акта, принятого на Венском конгрессе 1814–1815 гг., а также работы «Священного Союза».
Третья статья «Отражение опыта европейских революций 20-х гг. XIX в. в теории и практике декабристов» рассматривает целый ряд конституционных политических документов и их связь с западноевропейской политической мыслью (Ученые записки МГПИ им. В.И. Ленина. М., 1967. № 286).
Четвертая статья «Американский историк о Грановском» (Вопросы истории. 1988. № 11) свидетельство интереса американской историографии к русской оппозиционной мысли. Т.Н. Грановский – знаменитый московский профессор – собирал огромные аудитории, читая лекции по средневековой Европе, и проводил аналогии с историей России, которая также подлежит модернизации.
Коротко об авторе
Минаева Нина Васильевна, 1929 года рождения, окончила исторический факультет МГУ в 1952 году. Ее учителями были С.В. Бахрушин, К.В. Базилевич, П.А. Зайончковский, С.С.Дмитриев, Н.М. Дружинин. Узкая специальность: российская история рубежа XVIII–XIX веков.
Ею написаны более 500 научных статей, монографии «Правительственный конституционализм и передовое общественное мнение России рубежа XVIII – первой половины XIX века» (1982), «Век Пушкина» (2008), «М.М. Сперанский в воспоминаниях современников» (2009).
Минаева – участница ряда крупных научных конференций как отечественных, так и международных. Читала курсы лекций по своей специальности в Колумбийском университете в США, а также в ряде русских университетских городов: Ярославле, Петербурге, Выборге, Архангельске, Саратове, Рязани. 50 лет она находилась на штатной должности профессора истории России в МПГУ на историческом факультете.
Настоящая книга подводит итог тем новациям и историческим наблюдениям, которые сложились за всю плодотворную деятельность Н.В. Минаевой.
Нина Васильевна скончалась 6 декабря 2009 г.

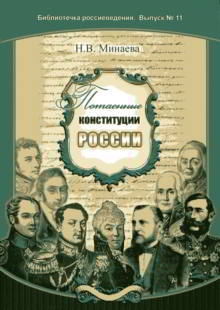

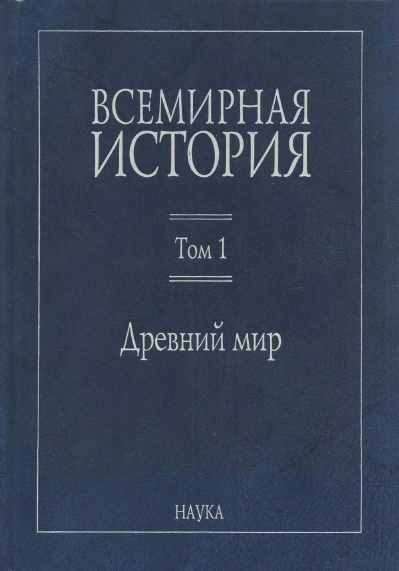
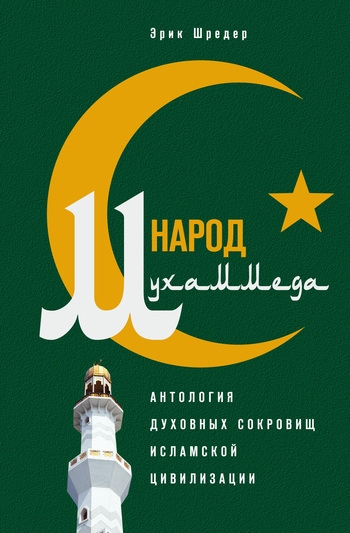
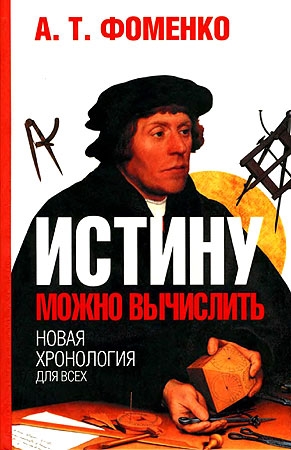
Комментарии к книге «Потаенные конституции России», Нина Васильевна Минаева
Всего 0 комментариев