Инесса Владимировна Магилина Посольство монахов-кармелитов в России Смутное время глазами иностранцев 1604-1612 гг.
© Магилина И.В., 2018
© «Центрполиграф», 2018
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2018
* * *
Посвящается памяти Анны Леонидовны Хорошкевич
Введение
Одной из главных международных проблем рубежа XVI–XVII вв. являлось создание антиосманской коалиции, или лиги[1]. Основной целью коалиции была разработка проекта совместных действий европейских государств по отражению османской агрессии на европейские территории. Вначале планировалось заключить военно-политический союз между Испанией, Венецией, Римской курией и Священной Римской империей. Однако установление торговых и политических контактов с Персией в конце XV в. позволило европейским правительствам осознать, что Османская империя может быть блокирована как с запада, так и с востока. В этом случае османы, несмотря на свое военно-политическое могущество, не смогли бы вести войну на два фронта: против европейцев-христиан и персов-шиитов.
Переговорный процесс по созданию антиосманской коалиции можно условно разделить на три этапа. На первом этапе – 1453–1524 гг. – европейские государства, главным образом Венеция, пытались привлечь к союзу правителя туркманской племенной конфедерации Ак-Коюнлу Узун Хасана, а затем, после создания в 1502 г. единого Персидского государства, шаха Исмаила I Сефеви. На втором этапе – вторая четверть – начало 80-х гг. XVI в. – определились основные государства-участники и сочувствующие антиосманской коалиции. Несмотря на постоянно расширяющуюся османскую агрессию на европейские территории, включая астраханский поход Мехмед-паши Соколлу в 1569 г., коалиция не была оформлена международными соглашениями. Отличительной особенностью третьего периода – конец 80-х гг. XVI в. и до 1618 г., начала Тридцатилетней войны, – стала возможность вступления в антиосманскую коалицию Русского государства, Польши, Дунайских княжеств и балканских народов, находившихся под османским игом. Таким образом, из-за противоречий между европейскими государствами реализация идеи создания широкой антиосманской коалиции стала возможна лишь в 80-х гг. XVI в. Создание коалиции было первой попыткой формирования международных политических альянсов, состоявших из нескольких держав.
В конце 80-х гг. XVI в. Русское государство выступило активным участником антиосманского соглашения и главным посредником между Персией и Западной Европой в процессе заключения военно-политического союза. Участие в коалиции предоставляло Русскому государству шанс интегрироваться в европейское сообщество, возможность стать его полноправным членом, укрепить и, возможно, расширить свои южные рубежи. Международное положение Русского государства, его роль в международной политике конца XVI – начала XVII в. были обусловлены несколькими факторами. Во-первых – уровнем политической, экономической и социальной самостоятельности государства. Во-вторых – стремлением к признанию его суверенных возможностей другими европейскими и азиатскими державами. Третий фактор – геостратегическое положение (географическое расположение между Западной Европой и Азией и политико-стратегическое значение) Русского государства – влиял на политические и экономические взаимоотношения между европейскими и восточными державами. Четвертый фактор – независимость от ордынского владычества и сознание себя частью «поствизантийского мира»[2] – оказывал наибольшее влияние и определял главным образом восточную политику Русского государства до начала Тридцатилетней войны.
Международная обстановка последнего десятилетия XVI в. была достаточно сложной, особенно для государств, имевших с Османской империей морские или сухопутные границы. Тринадцатилетняя война – «Долгая турецкая война» между Османской империей и Священной Римской империей – и активная внешняя политика шаха Аббаса I Сефеви способствовали созданию антиосманской коалиции. Русское государство выступало активным участником этого процесса и главным посредником в переговорах между Западной Европой и Персией. Однако с 1598 г., когда Борис Годунов из всесильного «царского конюшего» превратился в «Государя Всея Руси», он сконцентрировал все усилия на сохранении и закреплении царского достоинства за собой и своей династией, что отрицательно отразилось на переговорах по заключению антиосманского соглашения. В результате процесс по созданию антиосманской коалиции начал тормозиться.
В сложившейся ситуации, учитывая трудное положение Священной Римской империи, которая с 1593 г. воевала с османами, Римская курия решила взять инициативу в свои руки и отправить в 1604 г. в Персию на переговоры с шахом собственное посольство, члены которого одновременно являлись монахами-миссионерами и официальными послами папы Климента VIII. Римская курия нередко использовала монахов различных католических орденов в качестве послов в различные страны мира, в том числе и на Ближний и Средний Восток. В неспокойное время конца XVI – начала XVII в. подобного рода миссии были особенно актуальны. В данном случае выбор пал на «Орден Босоногих братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель». Официальной целью монахов-кармелитов было распространение католичества в Персии и сопредельных странах. Сан и миссионерская деятельность монахов считались хорошим прикрытием для выполнения дипломатических поручений.
Маршрут посольства, начавшийся в Риме летом 1604 г., проходил через территории Речи Посполитой и Русского государства, отношения между которыми были сдержанно-враждебными. Папские дипломаты оказались участниками событий, связанных с неожиданной смертью царя Бориса и «восшествием» на российский престол Лжедмитрия I. Монахи-кармелиты были единственными европейцами в статусе дипломатов[3], оказавшимися в самом эпицентре русской Смуты. Вопреки всем тяготам и испытаниям, выпавшим на их долю, монахи подробно фиксировали, как в официальных отчетах, так и в дневниковых записях, все события, участниками которых им пришлось быть. «Записки» кармелитов далеко не беспристрастны и носят прокатолическую оценку событий, связанных с личностью и действиями Лжедмитрия и лояльных к нему представителей Русского государства. Несмотря на это, «записки» кармелитов являются ценным источником по истории как русской Смуты, так и внутренней и внешней политики шаха Аббаса I.
«Хроника кармелитов» как источник по истории международных отношений. В истории международных отношений раннего Нового времени дипломатическая деятельность босоногих кармелитов занимает особое место. Орден кармелитов был основан в 1196 г. крестоносцем Бертольдом Калабрийским[4], создавшим скит отшельников на горе Кармель в Палестине, где, по преданию, жил пророк Илия. Полное название – «Орден братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель»[5]. Патриарх Иерусалимский Альберт, по просьбе Бертольда Калабрийского, составил в 1214 г. устав для новообразованного ордена. Устав кармелитов отличался особенной строгостью: бедность, аскетическое подвижничество, посты, молитвы, молчание, физический труд. Таким образом, изначально устав ордена соответствовал самым строгим канонам восточного монашества, особенно в части аскетического подвижничества – обета молчания, что предполагало полную изоляцию от внешнего мира. Монахи основное свое предназначение видели в молитве за все грехи мира и в этом своем служении отказывались даже ухаживать за больными, что считалось первейшей обязанностью членов других католических орденов.
В 1247 г. папа Иннокентий IV смягчил устав кармелитов и включил орден в состав «нищенствующих орденов», к которым относились францисканцы, августинцы и доминиканцы[6]. После разгрома крестоносцев кармелиты, как и члены других орденов, перебрались и рассеялись по Юго-Западной Европе. Расцвет ордена пришелся на XIII – начало XIV в. В дальнейшем орден ждали проблемы, связанные с эпидемией чумы 1348 г. и Столетней войной. Началось обмирщение ордена, и сразу же возникли дискуссии относительно возвращения к первоначальным строгим правилам монашеской жизни. Попытки реформ оказались безуспешными, и к началу XVI в. орден почти полностью утратил свое прежнее влияние.
Во второй половине XVI в. кармелитский орден переживал второе рождение, связанное с реформами Терезы де Иисус (Авильской) и Хуана де ля Крус (святой Иоанн Креста)[7]. Тереза и Хуан призывали кармелитов вернуться к изначальной духовности, утраченной за годы обмирщения. Будущими святыми были основаны мужской и женский реформированные кармелитские монастыри, монахи которых придерживались правил строжайшего аскетизма. Не все члены ордена приняли новую доктрину, и в 1593 г. от основного «Ордена братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель» отпочковался «Орден Босых братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель»[8].
Еще при жизни Терезы Авильской у кармелитов появилась новая идея для служения – распространение слова Божия среди язычников и иноверцев. Эту идею пропагандировал испанский король Филипп II, ставший с 1581 г. еще и королем Португалии. Тереза заявила, что это является «проявлением Божественного желания», и новое послушание кармелитов стало приобретать реальное воплощение, учитывая, что, кроме испанских колоний в Америке, Филипп II приобрел португальские владения в Индии. В 1597 г. представительство босоногих кармелитов обосновалось в Италии, под непосредственной юрисдикцией папы римского Климента VIII[9]. В том же году на западном берегу Тибра в районе Трастевере была построена знаменитая церковь Санта-Мария делла Скала[10], ставшая центром конгрегации босоногих кармелитов.
Несмотря на то что первая миссионерская экспедиция кармелитов в Конго оказалась неудачной, ни руководство реформированного ордена, ни простые монахи-кармелиты не расстались с идеей обращения язычников и иноверцев в христианство. Но в конце XVI – начале XVII в. Римской курии помимо миссионерской деятельности необходимы были услуги кармелитов в качестве официальных представителей римских понтификов в восточных странах. Официальной целью монахов продолжала оставаться деятельность по распространению католичества теперь уже на Ближнем и Среднем Востоке. Сан и миссионерское служение считались хорошим прикрытием для выполнения дипломатических поручений. Особый интерес представляет миссия, направленная в Персию в середине 1604 г. Из-за Смуты в Русском государстве кармелиты смогли добраться до Исфахана только осенью 1607 г. Посольство кармелитов, в составе преподобных о. Павла-Симона, о. Иоанна-Фаддея, о. Викентия, монаха-послушника Иоанна Успения и мирянина Риодолида Пералты, должно было доставить шаху предложения Римской курии о совместных действиях против османов. Кармелиты имели широкие полномочия в отношении переговоров по созданию антиосманской коалиции. Дипломатическая деятельность кармелитов и результаты их миссии были отражены в отчетах и депешах, которые они отправляли в Рим, иногда с риском для собственной жизни. Благодаря тому что орденская канцелярия старательно регистрировала и собирала все сведения, поступавшие от миссионеров, в настоящее время можно составить представления о восточной политике европейских правителей и намерениях шаха в отношении антиосманской коалиции. С другой стороны, доклады миссионеров в течение миссии обнаруживают уникальную сторону дипломатии Нового времени. Поражает скрупулезность и точность в деталях, с какой посланники-миссионеры пытались выполнять возложенные на них поручения и, что не менее важно, предоставлять эту информацию в расположение Римской курии.
Специальная историография, посвященная папской миссии в Персию в 1604–1612 гг., крайне скудна. И это несмотря на то, что в последнее время европейские исследователи по истории Сефевидского Ирана Виллем Флур, Эдмунд Херциг, Рудольф Метти часто ссылаются на кармелитов как на главных участников многочисленных европейских путешествий в Персию XVI–XVII вв.[11] Особенно хотелось отметить Руди (Рудольфа) Метти, являющегося в настоящее время крупнейшим специалистом по Сефевидскому Ирану[12]. В 2013 г. Руди Метти написал подробное предисловие-эссе к переизданию фундаментального сборника (компиляции) документов, относящихся к миссионерской (и дипломатической) деятельности босоногих кармелитов в Персии – «A Chronicle of the Carmelites in Persia Papal Mission of the XVII-th and XVIII-th Centuries», впервые предпринятое издательством «I.B. Tauris» после первого издания 1939 г.[13] Руди Метти отметил, что «Хроника кармелитов», представляющая документы Ордена Босоногих Кармелитов и его миссий на Восток, является настолько редким источником, что даже не все крупные библиотеки Европы и США имели экземпляры этого ценнейшего источника.
«Хроника кармелитов» начинает свое повествование с 1585 г. Материалы, собранные в «Хронике», позволяют заполнить настоящие лакуны не только в международных отношениях, но иногда являются настоящим кладезем информации о некоторых переговорах, которые велись между выдающимися европейскими и восточными правителями своего времени. Самое ценное, что в «Хронике» отложились документы (или их копии), которые долгое время считались не столько несохранившимися, сколько вообще не имевшими места. Сразу стоит подчеркнуть, что миссия кармелитов в Персию в 1604–1612 гг. через Русское государство являлась отдельным эпизодом огромного тысячестраничного двухтомника «Хроники кармелитов» и подробно в публикации не была рассмотрена. Компилятор, публикатор и переводчик «Хроники кармелитов» на английский язык Герберт Чик дал ссылки на отдельные полные издания «Миссии в Персию в 1604–1612 гг.», опубликованные членами Ордена Кармелитов в 80-х гг. XIX в. и в первой трети XX в.
Впервые материалы миссии кармелитов в Персию через Русское государство были опубликованы отдельным изданием на французском языке только в 1886 г. – «Histoire de L’Etablissement de la Misson de Perse par les Pères Carmes-Dechausses (de l’année 1604 à 1612)»[14]. Автором компиляции выступил преподобный о. Бертольд-Игнасио де Сент-Анн, принадлежавший конгрегации Ордена Босоногих Кармелитов. Это редкое издание в настоящее время малодоступно даже европейским исследователям и практически неизвестно в России. Между тем особую ценность представляет содержащаяся в публикации информация о последних месяцах царствования Бориса Годунова, приходе к власти Лжедмитрия I и начале Смуты в Московском государстве. Кроме того, источник чрезвычайно богат информацией об отдаленных областях России и Персии, о внешнем виде людей, не только высших сословий, но и сельских жителей, женщин, схизматиков и мусульман.
В 2000 г. профессором И.О. Тюменцевым, специалистом по истории Смуты, была выполнена работа по публикации трех глав из записок кармелитов по изданию Бертольда Игнасио де Сент-Анна. Главы касались путешествия кармелитов по Волге и подробно описывали их пребывание в Царицыне в течение 13 месяцев. Первая публикация и подробные комментарии даже отдельных глав представляли особый огромный интерес, так как содержали описание жизни, быта и состояния волжских «пограничных городков», к которым относился и основанный в 1589 г. Царицын[15].
В 30-х гг. XX в. публикацию материалов о миссии в Персию в 1604–1612 гг. на испанском языке предпринял преподобный о. Флоренсио дель Ниньо, кармелит монастыря Св. Терезы, – «A Persia (1604–1609): peripecias de una embajada pontificia que fué a Persia a principios del siglo XVII»[16]. Публикация преподобного о. Флоренсио дель Ниньо была в большей степени направлена на ознакомление широкой аудитории, прежде всего верующих, с «подвигами веры» братьев-кармелитов. Кроме того, миссии в Персию посвящены II и III томам пятитомной работы. Первый том был посвящен неудачной миссии в Конго, четвертый и пятый – основанию кармелитской миссии в Индии. Поэтому публикация о. Флоренсио дель Ниньо менее подробна, чем публикация о. Бертольда Игнасио, хотя не менее интересна. Судьба самого о. Флоренсио дель Ниньо соответство вала тому идеалу кармелитского служения, который он так ярко отразил в публикации. Флоренсио дель Ниньо был расстрелян франкистами в 1936 г. Таким образом, история посольства кармелитов в Персию в 1604–1612 гг. через Русское государство является отдельным произведением и специально, в полном объеме никогда не рассматривалось на русском языке.
Особенность рассматриваемых документов состоит в том, что источники, относящиеся к истории религиозных орденов, ранее не рассматривались как материалы по истории дипломатии и международных отношений. Руди Метти отмечал, что с 60-х вплоть до 90-х гг. XX в. обширные материалы, относящиеся к миссионерской деятельности католических орденов на Среднем Востоке и в Индии, не вызывали серьезного интереса у исследователей в силу своей религиозной направленности, не соответствующей духу времени. С конца 90-х гг. произошел перелом и началось возрождение интереса к религиозным организациям и их миссионерской деятельности. Руди Метти считает, что это произошло в результате распада Советского Союза, а после 11 сентября 2001 г. этот интерес приобрел совершенно новое, еще более актуальное звучание. Исследователи стали понимать, что многочисленные и подробные письма и реляции миссионеров, не оцененные должным образом, чрезвычайно богаты информацией об отдаленных географических областях, о быте, нравах, социальных и религиозных взаимоотношениях жителей Ближнего и Среднего Востока конца XVI – первой трети XVII в. Важно, что подобного рода информация за этот период времени практически отсутствует в других источниках. Для широкого круга российских исследователей и простых читателей, интересующихся историей и культурой, «записки» кармелитов представляют особый интерес, так как рассматриваемый источник является уникальным документом, дополняющим, а в некоторых местах раскрывающим обстоятельства, связанные с событиями Смуты в Русском государстве 1605–1613 гг.
Глава 1. «Восточный вопрос» в международных отношениях и Русское государство на рубеже XVI–XVII вв.
1453 г. стал переломным в истории Европы. Завоевание султаном Мехмедом II Фатихом Византийской империи открыло в международной обстановке Европы новую эпоху – эпоху экспансии турок-османов на европейские территории. Захватив в течение следующего столетия территории Ближнего Востока и Северной Африки, османы создали огромную империю. Новая столица османов – Константинополь – сделалась Стамбулом, и Османская империя из азиатской превратилась в южноевропейскую державу[17], вплотную приблизившись к границам Священной Римской империи. К началу 20-х гг. XVI в. могущество Османской империи достигло своего апогея. Султаны Селим и Сулейман покорили Египет, Северную Африку и большую часть Персии. Теперь геостратегической целью османов стала Европа.
Идея расширения османского влияния на европейские территории возникла еще при Мехмеде II Фатихе. Идеологическое обоснование эти планы нашли в религиозно-историософской концепции «кызыл эльма» – распространении ислама на пограничные европейские территории.
«Кызыл эльма», или «золотое яблоко»[18], – знак и гарантия мирового господства. Эта идея была заимствована османами у византийцев и преобразована согласно исламской традиции. По преданию, после захвата Константинополя турками конная статуя императора Юстиниана была свергнута с пьедестала, находившегося у входа в собор Святой Софии. В руках у поверженного императора находилась украшенная крестом держава («золотое/имперское яблоко») – символ мирового господства, которое покатилось в сторону Европы. Это было воспринято султаном Мехмедом II Фатихом как знак распространения зеленого знамени ислама на европейские территории – идея османского экспансионизма. Идея «кызыл эльма», теснейшим образом связанная с джихадом – священной войной за веру, составляла стержень идеологии янычар, которые играли исключительную роль в развитии идеологии агрессии, ее сохранении и дальнейшем развитии[19].
Следовательно, «восточный вопрос» осознавался европейским сообществом как борьба христианской Европы с Османской империей. Несомненным был и тот факт, что борьба с «крупнейшей военной державой Средневековья»[20] была возможна только при условии совместных действий. Отсюда возникала потребность в создании антиосманской коалиции, или лиги. Первые проекты антиосманской коалиции стали появляться и обсуждаться еще в конце XV в. В течение XVI в. Лев Х, Климент VII, Григорий XIII, Сикст V, Климент VIII неоднократно пытались организовать новый «крестовый поход» против османов. В XVI в. средневековое понятие крестового похода – как «освобождения Гроба Господня от неверных» претерпело серьезные изменения. Для папства религиозный фактор продолжал играть роль идеологического обоснования политического авторитета, так как только папа имел возможность призвать христианский мир к «священной войне» за освобождение Святой Земли. Но сама религиозно-философская идея «освобождения Гроба Господня» приобрела в XVI в. конкретное содержание[21]. Новый крестовый поход – это борьба против османов, против чуждого культурного и религиозного мира ислама, который угрожал уничтожением христианскому миру.
Римская курия разрабатывала различные варианты антиосманской лиги, или коалиции. Сложность заключалась в том, чтобы окончательный вариант удовлетворял все заинтересованные стороны. Сделать это, учитывая противоречия между европейскими государствами, было достаточно сложно. Не способствовала этому и социально-политическая обстановка в Европе в первых двух третях XVI в.[22] Положение начинает меняться после успешного морского сражения около острова Лепанто в 1571 г., когда объединенным морским силам Венеции, Испании и Римской курии[23] удалось разбить турецкий флот. Успешная совместная операция дала новый стимул для разработки антиосманских планов.
По замыслу Римской курии в антиосманской коалиции прежде всего должны были присутствовать Испания, Священная Римская империя и Венеция. Римской курии отводилась роль идеологического лидера. Перечисленные государства имели с Османской империей сухопутные или морские границы и поэтому находились с османами в состоянии перманентной войны. Главным участником антиосманской коалиции должна была быть Испания. С открытием Америки Испания превратилась в самую могущественную европейскую страну, располагавшую мощным флотом и армией. Король Филипп II, так же как и его отец, император Священной Римской империи Карл V, считал своим христианским долгом участие в антитурецкой коалиции. Однако, несмотря на свое политическое и финансово-экономическое могущество, Испания почти всю вторую половину XVI в. вела беспрерывные войны с Англией, Францией и Нидерландами. Поэтому позиция Филиппа II по вопросу антитурецкой коалиции отличалась крайней осторожностью. Испания прежде всего заботилась о безопасности и благополучии стран, составлявших ее собственное государство. Поэтому создание лиги было одним из основных желаний Филиппа II, но король не собирался брать на себя роль лидера[24].
Особенно желательным в антиосманской лиге было участие Венецианской республики. Венеция имела самую протяженную морскую и сухопутную границу с Османской империей и являлась во второй половине XVI в. сильнейшей морской державой на Средиземном море. Собственно, вся мощь Венеции заключалась в ее флоте. Однако Венеция после знаменитого морского сражения при Лепанто в 1571 г. откровенно не желала участвовать в лиге. В результате победы христианского флота над османами при Лепанто Венеции не удалось вернуть себе о. Кипр, собственно из-за возврата которого и было инициировано сражение. Венеция понесла серьезные материальные убытки в связи с организацией совместного выступления, общая граница с Османской империей требовала постоянных финансовых затрат. В случае даже незначительного конфликта с османами страдали экономические интересы Венеции. Кроме того, с последней трети XVI в. Республика вступала в полосу стагнации, и Сенат всеми доступными средствами, включая подкуп высших османских чиновников, пытался избегать открытой войны[25]. Несмотря на это, Венеция оставалась христианским государством и не могла полностью игнорировать идею лиги. Позицию Венеции на переговорах в Риме по созданию лиги озвучил Паоло Парута: «Венецианское государство является пристанью Италии и всего христианского мира и, как общеизвестно, имеет самую протяженную границу с турками, поэтому Венеция легко может подвергнуться их нападениям. Поэтому очевидно, что в настоящее время мы не в состоянии решать этот вопрос, так как несомненно, что мы можем быть атакованными турками первыми. Если, однако, усердием и авторитетом Его Святейшества, другие христианские князья соберутся в этот союз… мы без промедления сделаем ответ республики более четким и устраивающим всех»[26]. Следовательно, обязательным условием вступления в антиосманскую лигу Венеции должно было быть «юридически оформленное соглашение» между всеми предполагаемыми участниками.
Более всех в создании лиги была заинтересована Священная Римская империя, которая также граничила с Османской империей и постепенно уступала последней территории на Балканах, в Венгрии и Трансильвании. Главной причиной возрождения Священной Римской империи во второй половине XV в. было противостояние османской агрессии[27], а с 1526 г. она являлась в глазах Европы «щитом христианского мира перед турецкой угрозой»[28]. Священная Римская империя состояла из конгломерата германских, славянских и итальянских княжеств. Огромная Империя была достаточно рыхлым политическим образованием. Только сплотившись вокруг сильной центральной власти императора, небольшие княжества и земли могли противостоять нашествию турок-османов на европейские территории. Однако, объединившись в политический союз, княжества пытались урезать свое финансовое участие в борьбе с османами, ссылаясь на недостаточные размеры территории, торгово-экономические трудности, а после подписания в 1555 г. Аугсбургского мира протестантские княжества пытались отдать пальму первенства в борьбе с мусульманской угрозой католическим землям[29]. Империя остро нуждалась в союзниках, которые могли бы поддержать ее в борьбе с османами. Поэтому проблема создания антиосманской лиги во внешнеполитическом курсе страны была первоочередной.
Теоретически к антиосманской коалиции могли присоединиться и другие европейские государства, в частности Франция, Англия, Польша. Но эти страны имели на создание антитурецкой лиги собственную точку зрения, которая отвечала не общехристианским, а собственным интересам. С первой четверти XVI в. между Францией и Османской империей установились дружественные отношения[30]. Поддерживая османов, Франция наносила серьезный ущерб как испанским, так и австрийским Габсбургам. Поэтому Франция, единственная из всех католических стран Европы, не рассматривалась Римской курией как потенциальный участник антиосманской лиги. Политика Англии в течение всего XVI столетия не отличалась постоянством. Но с приходом к власти Елизаветы Тюдор главным врагом и соперником Англии стала Испания. Имевшиеся между двумя странами противоречия не позволяли участвовать в каких-либо совместных проектах. Поэтому Англия, так же как Франция, склонялась к союзу с османами, получая от султанов «торговые привилегии»[31].
Противоречивую позицию по вопросу создания антиосманской лиги занимала Речь Посполитая. Располагаясь в центре Восточной Европы и занимая стратегически важное положение между Священной Римской империей и Русским государством, Польша предпочитала поочередно шантажировать государей этих стран тем, что заключала мирные договоры с османскими султанами[32]. Имело место и прямое вмешательство Османской империи в процесс выборов польского короля. В 1573, 1575 и 1587 гг. польский престол занимали соответственно Генрих Валуа, Стефан Баторий и Сигизмунд III Ваза – креатуры турецких султанов[33]. Почти вся вторая половина XVI в. была потрачена на безуспешные попытки Римской курии привлечь Польшу в ряды антиосманской лиги. Польский король Стефан Баторий, как трансильванский князь, был вассалом турецкого султана и лично приносил ему присягу[34].
Стефан Баторий не афишировал свою зависимость от османов и старался по возможности ничем не отличаться от других европейских государей. Скорее наоборот, при малейшей возможности пытался подчеркнуть свою преданность христианскому долгу. На предложения папы Сикста V вступить в антиосманскую лигу Баторий сразу же ответил согласием и представил собственный план действий. План заключался в походе на Москву, после покорения которой Баторий, соединившись с остальными участниками лиги, атаковал бы турок с северо-востока[35]. «Грандиозные» замыслы С. Батория были прямо противоположны самой идее лиги – объединения всех христианских государей против общего врага. Император Рудольф II открыто высказывал несогласие с позицией Батория[36]. Филипп II выражал обеспокоенность замыслами Батория и заботился о том, чтобы об этом не узнали в Москве[37]. Планам С. Батория не суждено было сбыться, в 1586 г. король умер. Стоит отметить, что С. Баторий был единственным польским королем, которого волновали планы антиосманской лиги, правда, осуществить их он собирался «весьма оригинальным способом». Не стоит думать, что подобная позиция Речи Посполитой объяснялась только взглядами «избираемых королей». Великий канцлер Ян Замойский, единолично управлявший страной в годы двух последних «бескоролевий», всю свою энергию незаурядного государственного деятеля направлял на подрыв усилий Римской курии создать антиосманскую лигу с участием Польши. В этом отношении Я. Замойский следовал традиционной польской политике мирных отношений с османами. В разгар «Долгой турецкой войны» 1593-1606 гг., зная о бедственном положении имперской армии в Венгрии, Замойский не только избегал любого альянса с императором, но и предпочел обновить в очередной раз договор с османами[38].
Таким образом, несмотря на то, что Римская курия вела активную агитационную работу среди европейских монархов, из-за противоречий между Испанией, Францией и Англией, Священной Римской империей и Венецией, Империей и Речью Посполитой подобного рода разработки оставались лишь гипотетическими проектами. Для того чтобы изменить положение, необходимо было внести серьезные коррективы в состав участников лиги. Римская курия начала рассматривать варианты политического союза с нехристианскими государствами. Вопрос подобного альянса для Римской курии был сложным. Считалось недопустимым и «противным вере» расширение лиги за счет нехристианских государств. Кардинал Антуан Перрено де Гранвелла, занимавшийся в Риме от имени Филиппа II переговорами по созданию лиги, подчеркивал, что новый «крестовый поход» должен быть направлен против всех мусульман – турок-османов, египетских мамлюков, мавров, персов-шиитов[39]. Позицию Гранвеллы поддерживала значительная часть римских кардиналов. Пий V оказался в большей степени прагматичным политиком, чем ортодоксальным первосвященником. Ему удалось убедить конклав кардиналов в необходимости создания лиги именно против турок «в союзе с заинтересованными государствами, включая и нехристиан»[40]. На рассмотрение Пию V поступали самые разнообразные проекты антиосманских выступлений. Один из них опубликован Барбарой фон Паломбине под заголовком «Discorso», в нем предлагалось «объединенными армиями христиан атаковать сначала Святую землю, а союзник – шах «Софи» – нападет на Турцию со стороны Анатолийского нагорья, с востока; также нужно будет принять в союз «Пресвитера Иоанна» и египтян и с их помощью сбросить турецкое господство в Египте»[41]. Таким образом, самым желанным союзником для европейской коалиции была шиитская Персия.
Дипломатические контакты между Персией и европейскими странами были установлены еще в последней трети XV в. Сразу же после захвата Константинополя стали возникать проекты совместных действий европейцев с малоазиатскими правителями – естественными врагами турок-османов. Сначала имелся в виду Иоанн IV Комнин – правитель «Трапезундской империи» – последнего оплота греков в Малой Азии. После захвата османами в 1463 г. Трабзона эстафету антиосманской борьбы принял Узун Хасан, правитель государства Ак-Коюнлу[42]. К середине 70-х гг. XV в. Узун Хасану удалось создать обширное государство, которое соперничало по размерам с еще только формировавшимся государством османов. Государство Узун Хасана в европейских источниках XV в. именовалось Персией и включало в себя территории Азербайджана, Хорасана, Ирана, Ирака и части Анатолийского нагорья[43]. Узун Хасан проявлял живейший интерес к сотрудничеству с западноевропейскими государями и неоднократно посылал посольства в Венецию, Рим, Неаполь, Бургундию. В Венеции и Риме побывало уже два посольства от Узун Хасана, сохранилось даже имя одного из послов – Хаджи Мухаммед. Европейцы объясняли такое поведение Узун Хасана влиянием на него его жены, дочери трабзонского императора Иоанна IV Феодоры, которая вошла в историю под именем Деспины-хатун[44].
В свою очередь, в связях с Узун Хасаном была заинтересована Венецианская республика, помимо идеи «священной войны» с османами, пыталась сохранить свои колониальные позиции на Черном море. Все венецианские посольства – К. Дзено, И. Барбаро, А. Контарини и т. д. – этого времени имели своей целью побудить Узун Хасана, который обладал 60-тысячной конницей, к активным действиям против османов. Венецианские посланники оставили подробное описание государства Ак-Коюнлу, его политического устройства, религии, обычаев, нравов. Но эти описания не содержат существа переговоров между Узун Хасаном и Венецией. Цели и задачи посольств можно восстановить по посольским инструкциям, которые опубликовал в XIX в. Гульельмо Берше. Стратегическая цель заключалась в совместном выступлении против османов: Узун Хасана – по суше с востока, а венецианский флот нападет на османов в Галлиполи. В случае победы Венеции доставались все европейские владения османов, Узун Хасану – вся Малая Азия[45]. В конце 70-х гг. XV в. османам удалось разгромить Узун Хасана и его союзника, караманского бея, и захватить всю территорию Малой Азии. Вскоре Узун Хасан умер, и его государство погрузилось в феодальные войны, которые закончились только в 1502 г. победой Исмаила I из рода Сефи и образованием шиитского государства Сефевидов. Основатель рода шейх Сафи (Сефи) ад-Дин создал в начале XIV в. в Ардебиле (Иранский Азербайджан) суфийский орден Сафавия. Отсюда прозвище, которым называли европейцы всех шахов Персии – «Софи»[46].
Создать в конце XV в. антиосманский союз не удалось, но европейские политики из опыта взаимоотношений с Узун Хасаном сделали важный вывод. Между турками-османами, исповедовавшими ислам суннитского толка, и персами – мусульманами-шиитами существуют непреодолимые религиозные и политические противоречия. В результате логического заключения «враг моего врага мой друг» европейцы видели в персах естественного союзника в борьбе с османами. Самое важное заключалось в том, что в результате такого союза османы могут быть блокированы с двух сторон – с запада и востока. В этом случае они не смогут вести войну одновременно против христиан и персов. Поэтому усилия европейских государств в течение всего XVI в. в возрастающей мере были направлены на то, чтобы в обмен на обещанный союз побуждать персов к борьбе с османами.
Для Русского государства «восточный вопрос», так же как и для европейцев, возник с момента падения Византии и образования на ее развалинах Османской империи. С. Жигарев, историк права, обобщив многочисленные споры и дискуссии, происходившие в России в конце XIX в. по проблеме «восточного вопроса», дал следующее определение: «Восточный вопрос в том смысле, в каком он употребляется в отношении к Турции… заключается в самом факте падения Царьграда и тех отношениях, которые созданы были новым порядком вещей в юго-восточном углу Европы, и том положении, в каком очутилась в это время православная Русь по отношению к Балканскому полуострову и Западной Европе»[47].
Так же как и для Римской курии, «восточный вопрос» для Русского государства, помимо политической составляющей, обладал историческим и религиозно-философским обоснованием. Связано это было с ролью Москвы как духовной преемницы Византийской империи и защитницы прав славянских народов Балканского полуострова[48]. Обоснование преемственности выражалось представлением translation imperii – «перехода» или «переноса» культурного, исторического и военно-политического наследия Римской империи сначала к Византии, а затем, после падения Константинополя, к Московскому царству. Православный вариант translation есть результат конкретных военно-политических акций – османского завоевания православных государств Балканского полуострова. Русское государство становится единственным политически независимым государством, которое соединяет свою историческую судьбу с порабощенными народами Балкан. Причем важно подчеркнуть, что речь шла не о мессианстве в буквальном смысле, а об исторической ответственности[49]. Уже в первой четверти XVI в. политическая элита Русского государства осознавала, что основной смысл «восточного вопроса» заключался в политическом лидерстве на православном Востоке. Эту мысль впервые высказал профессор Ф.И. Успенский в специальной работе, посвященной «восточному вопросу». Историк подчеркивал, что совсем «не одно и то же сознавать политическую идею и принимать меры к ее осуществлению»[50]. Поэтому «восточный вопрос» стал не столько предметом религиозно-философских дискуссий, сколько дипломатическим инструментом, с помощью которого Русское государство, постепенно, но настойчиво, начинает встраиваться в систему европейских международных отношений.
Русские государи прежде всего стремились подчеркнуть свой суверенитет и статус на европейской международной арене. Переговорный процесс по вхождению Русского государства в антиосманский союз начался еще в первой трети XVI в. Предложения о присоединении к антиосманской коалиции впервые стали поступать от императора Священной Римской империи Максимилиана I. За первые десять лет правления Василия III в Москве побывало не менее тринадцати имперских посольств[51]. Затем в переговорный процесс включилась Римская курия. Папа Лев X в течение своего понтификата активно занимался созданием антиосманской коалиции, пытаясь привлечь в ее ряды Русское государство. В 1518 г. в Москву послание папы Льва Х[52] с предложением «союза против турок» доставил Д. Шонберг, в 1519 г. послание о «союзе против турок и церковной унии» доставили епископ Сардикский Захарий и И. де Тедальдис, в 1521 и 1524 гг. Паоло Чентурионе доставил письмо с предложением «союза против турок и унии»[53]. Стоит подчеркнуть, что ряд фактов свидетельствует о том, что Василий III, так же как Иван III, считал целесообразным и выгодным для Русского государства сближение с Римом[54]. Однако серьезной ошибкой Римской курии, которая будет ее преследовать почти до конца XVI в., была надежда понтификов на религиозную унию между католиками и православными. Расчет Римской курии был прост – только объединившись в единую конфессию, можно успешно осуществлять политический союз с целью уничтожения турок-османов.
Несмотря на достаточно активные переговоры по созданию антиосманской коалиции, никаких конкретных действий ни с одной, ни с другой стороны предпринято не было. Некоторые исследователи считают, что этот факт свидетельствует о том, что переговоры по созданию антитурецкой коалиции выходили за рамки тогдашних внешнеполитических возможностей Московского государства. Василий III не собирался выступать против Османской империи, главным образом из-за нерешенности многих внутриполитических проблем[55]. Подобная точка зрения не может быть исчерпывающим ответом на постановку проблемы. С помощью гипотетического участия в еще не созданной антиосманской коалиции русский государь демонстрировал потенциальные возможности своей страны. Итальянский публицист и дипломат Альберто Кампензе уверял Климента VII, что в антитурецкой борьбе следует ориентироваться на Василия III, а не на Сигизмунда I, союзника Порты и Крыма. Если же Рим не обратит на это внимания, Москву могут привлечь на свою сторону турки. Кампензе писал: «Союз с таким могущественным и богатым Государем, каков Государь Московский, сам по себе уже необходим для нас в деле противу Турок; ибо Василию, по смежности владений, удобнее и легче, чем кому-либо, напасть на земли неверных»[56]. Кампензе возмущали непримиримые распри европейских государей, и «один только еретик (то есть Василий III) радеет о спасении нашем…»[57].
Это один, достаточно важный, аргумент, так как именно по вопросу участия в антиосманской лиге европейские монархи проявляли интерес к Русскому государству. Проблема создания антиосманской лиги в это время являлась предметом геополитики – первым международным проектом Нового времени. Немаловажно, что Русское государство вовремя сумело оценить масштабы и значение своего участия в подобном проекте.
С другой стороны, проблема османской экспансии переставала быть для Русского государства гипотетической, касающейся только европейских государств. Московское государство некоторое время пыталось поддерживать с Османской империей формально-мирные отношения с целью предотвращения татарских набегов. Собственно, такой же позиции придерживалась в отношении Русского государства и Османская империя, так как была занята захватами ближневосточных и европейских территорий. Представители крымского хана также участвовали в формировании мнения султана о политике Москвы. Посол Мухаммед Гирея приватно сообщал Сулейману об оказании помощи Василием III персидскому шаху Исмаилу, с которым султан вел войну[58]. Османское правительство сделало вывод и из постоянно увеличивавшихся контактов Москвы с западноевропейскими государствами, воевавшими с Османской империей. Султан Сулейман считал, что далекая Москва потенциально принадлежала к антиосманскому лагерю[59]. Это неизбежно привело к перемене в отношениях между Стамбулом и Москвой. Военная операция 1521 г. крымско-казанского войска вглубь территории Русского государства и последовавшее разорение за этим было сравнимо с нашествиями времен Золотой Орды. Цель – нанесение максимально сокрушительного удара, вплоть до захвата Москвы. Ущерб, нанесенный экономике Русского государства крымско-казанским нашествием, был колоссальным. Для восстановления внутренних ресурсов требовалось время. Организовать столь масштабный поход на Русь, в котором кроме крымцев, казанцев и нагаев участвовали еще и литовцы, было под силу только султану Сулейману Великолепному[60]. Если учесть, что в это время османские войска во главе с султаном провели успешную операцию по осаде и захвату Белграда, можно с уверенностью говорить о том, что султан Сулейман очень грамотно обезопасил свои тылы с севера.
Правительство Василия III предложило Османской империи – сюзерену Крымского ханства – заключить мирный договор. В ходе переговоров выяснилось, что никакого письменного соглашения османы подписывать не собираются, а переговорами лишь пытаются замаскировать свое неформальное участие в крымско-казанском походе[61]. Союз между Русским государством и Османской империей был невозможен, так как гипотетически он мог быть направлен против Крымского ханства. Собственно, именно этого добивался Василий III[62]. Крымское ханство с середины 20-х гг. и вплоть до начала XVII в. оставалось форпостом Османской империи в Восточной Европе. Османские султаны определяли внешнюю и внутреннюю политику крымских ханов, а татарская конница являлась передовой ударной силой османов, как на востоке, так и на западе[63].
Внешнеполитический курс Османской империи был направлен на территориальные захваты, как в Центральной и Южной Европе, так и на Ближнем и Среднем Востоке. В Восточной Европе Османская империя не стремилась к немедленным захватам территорий, особенно в первой половине XVI в. Основной задачей здесь было ослабление тех стран, которые потенциально могли помешать экспансионистским планам османов[64]. В перспективе султаны, конечно, считали необходимым распространение своего сюзеренитета на мусульманские государства Восточной Европы и далее на Кавказ, Персию и Среднюю Азию. Но в Стамбуле понимали, что до тех пор, пока Русское государство существует, экспансионистские планы султанов в Восточной Европе останутся нереализованными. Однако для уничтожения Русского государства у Османской империи не имелось достаточно средств, так как османы в это время активно воевали с Персией на востоке и со Священной Римской империей на западе. С Русским государством османы предпочитали бороться силами татарских ханств[65]. Отсюда первая попытка османов создать единый антирусский фронт в составе Крымского, Казанского, Астраханского ханств и Ногайской Орды[66]. В полной мере осуществить эти планы не удалось, хотя Казанское ханство, так же как и Крымское, стало вассалом османского султана[67].
Взаимоотношения между Русским государством и Османской империей из формально мирных превратились в сдержанно враждебные. Эта перемена напрямую связана с активизацией восточноевропейской политики Османской империи, которая провозглашением своего сюзеренитета над Крымом и Казанью показала стремление выступать в роли лидера в системе татарских ханств Восточной Европы[68]. Такая перспектива неизбежно вела к столкновению с Русским государством, одним из важнейших направлений внешней политики которого являлось подчинение или уничтожение осколков Золотой Орды, постоянно угрожавших его восточным и южным границам. Внешнеполитический курс Османской империи и Московского государства находился в неразрешимом противоречии, так как оба государства претендовали на гегемонию в Восточной Европе, и прямое столкновение было вопросом времени[69].
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что Василий III окончательно определил свое отношение к «восточному вопросу» в целом и взаимодействию по этому направлению с западноевропейскими государствами. В переписке и обмене посольствами с папой Климентом VII и императором Карлом V Василий III, подчеркивая свое стремление участвовать в антиосманском союзе, пытался выяснить конкретные детали будущего соглашения, обещая, со своей стороны, помощь против османов «войсками и деньгами»[70]. Как отмечал Х. Юберсбергер, император, желая обеспечить себя союзниками на востоке и считая необходимым участие Москвы в антиосманской лиге, оказывал русским послам очень любезный прием. Именно в это время Карл V также пытался связаться с персидским шахом Тахмаспом, приглашая и его принять участие в антиосманском союзе[71].
Однако сложившаяся международная обстановка и смерть Василия III не привели к каким-либо конкретным договоренностям, и переговорный процесс по созданию антитурецкой коалиции прервался почти на 50 лет. Но, несмотря на это, интенсификация связей с европейскими странами в первой половине XVI в. укрепила авторитет молодого централизованного государства. Русское государство теоретически становится потенциальным участником общеевропейского проекта – антиосманской лиги. Как справедливо отметила А.Л. Хорошкевич, роль международных отношений для развития Русского государства в этот период времени была столь велика, что внешнеполитические связи и отношения оказывали серьезное воздействие на внутреннюю политику[72]. По нашему мнению, это воздействие напрямую отразилось в формировании и развитии восточной политики Русского государства. Пока еще восточный вопрос ограничивался внутренним окружением Русского государства – Крымом и ханствами Поволжья и опосредованно был связан с Османской империей. Можно согласиться с утверждением А.Б. Кузнецова, что «восточный вопрос» в первой половине XVI в. – есть борьба за сохранение национальной независимости[73]. Поэтому он был как никогда актуален для положения Русского государства, которое уже стало объектом и субъектом международных отношений, поэтому для выведения «восточного вопроса» на внешний уровень оставалось совсем немного времени.
Одним из первых актов семнадцатилетнего Ивана IV, взошедшего на престол, было венчание на царство. Подобным действием Иван IV подчеркивал суверенное право и претензии своего государства на равноправные позиции с другими европейскими странами[74]. Акт венчания на царство имел не только символический, но и в большей степени политический смысл. Царь с идеологической точки зрения не может подчиняться другому царю, он должен быть полностью суверенным правителем. Процесс идеологического и правового обоснования царского достоинства московского князя начался еще в конце XV в., когда в художественной литературе настойчиво повторялась мысль, что обладателем царства можно стать не только по наследству, но и в результате завоевания[75].
Идея о царском достоинстве московского царя неизбежно должна была прийти в противоречие с продолжавшими существовать остатками Золотой Орды – Крымским, Казанским и Астраханским ханствами, правители которых считали себя царями. Для того чтобы окончательно избавиться от ментальной, территориальной и юридической зависимости от Золотой Орды, следовало присоединить отдельные ханства распавшейся Орды к Русскому государству[76]. Завоевав Казанское и Астраханское ханства (царства), московский государь приобрел титул «Белого царя». Кроме того, казанская и астраханская кампании воспринимались в Москве как своеобразный момент самоутверждения, возвращение статуса великого государства, полностью утраченного в результате монголо-татарского нашествия. Следовательно, завоевание Казани и Астрахани, а позднее и Сибирского ханства можно считать этапами складывания и утверждения собственной империи – территориальной наследницы Золотой Орды и духовно-культурной восприемницы византийской традиции[77].
Западноевропейские государи долгое время не признавали титула московского царя, лишь потому, что в христианском мире мог быть только один император, и это император Священной Римской империи[78]. Но политическая реальность была такова, что на востоке Европы образовалось мощное государство, которое могло быть потенциальным союзником в борьбе с Османской империей. В XIII в. европейцы не задумывались над законностью титула ханов Золотой Орды, когда монголы могли стать союзниками крестоносцев на Святой земле. В 1263 г. в союзнические отношения с Ордой вступили византийский император и патриарх, тем самым титул золотоордынских царей был легитимирован. Однако легитимация Золотой Орды в Европе произошла не из-за ее союза с Византией и дипломатических связей с Венецией и Францией. Как справедливо отметил А.И. Филюшкин, «боевая мощь татарских туменов» была самым убедительным аргументом[79]. Русское государство добивалось признания и включения в «ранг равных» европейским сообществом, используя и демонстрируя свои реальные и потенциальные возможности. Поэтому борьба Московского государства с остатками «постордынского мира»[80] вывела восточную политику Русского государства на новый внешнеполитический уровень.
Продвижение Русского государства на восток можно называть по-разному: и как «расширение» собственных территорий[81], и как реванш-«реконкисту» за столетия ордынского владычества[82], и как «агрессию» и «аннексию»[83] со стороны Русского государства по отношению к суверенным государствам. В любом случае в этом процессе Русское государство сталкивалось с интересами Османской империи. Постепенное закрепление Русского государства в Восточной Европе препятствовало притязаниям Османской империи на расширение своего фактического господства в этом регионе. Султан Сулейман вновь предпринял попытку создания антирусского союза в составе Крымского ханства и мусульманских государств Поволжья[84]. Правительство Избранной Рады предприняло ответно-упредительные меры, каковыми явились соответственно завоевание Казанского, в 1552 г., и Астраханского ханства, в 1556 г. Незамедлительно укрепился политический и торгово-экономический авторитет Русского государства, но что наиболее важно – Астрахань стала опорным пунктом для продвижения на Кавказ, где в это время пытались закрепиться османы.
Эффективность внешней политики Османской империи во второй половине XVI в. базировалась на том, что, ведя вооруженную борьбу на каком-то одном направлении[85], Стамбул готовил выгодную расстановку сил и на остальных, то есть делался упор на скоординированное взаимодействие на всех направлениях, включая восточноевропейский регион. Присоединение поволжских ханств к Русскому государству имело для Османской империи драматические последствия. В планах султана Сулеймана было постепенное проникновение через Кавказ и Астрахань в Персию и Среднюю Азию, а затем расширение границ Османской империи до Индии[86]. Вхождение в состав Русского государства поволжских ханств означало предел расширения Османской империи в юго-восточном направлении[87]. Не случайно, что сразу же после присоединения Казани в Москву, в 1553 г., прибыло посольство из Персии[88]. Сын шаха Исмаила Тахмасп I, учитывая новые политико-экономические возможности Русского государства, желал установления постоянных дипломатических отношений[89]. Именно к этому времени относятся установление дружественных контактов между Русским государством и Персией, которые пока еще не носили регулярного характера, но являлись раздражающим фактором для Османской империи.
В конце 60-х гг. XVI в. Османская империя активизировала агрессивные действия против Русского государства, направив их на захват Астрахани. Существует мнение, что Астраханским походом османские султаны продемонстрировали свое вступление в борьбу за наследие Золотой Орды, как территориальное, так и политическое[90]. Теоретически возможна и такая трактовка кампании 1569 г. В действительности в Стамбуле вынашивались планы захвата Северного Кавказа и превращения его в плацдарм для успешного наступления на Персию – стратегического противника Османской империи[91]. Персия остро нуждалась в политических и экономических союзниках. Торгово-политические связи с Русским государством были настоящим спасением для разоренной османами и феодальными усобицами Персии. Поэтому османы очень болезненно реагировали на любые контакты между Русским государством и Персией. Османские султаны справедливо опасались установления стратегических отношений между двумя естественными союзниками, в результате чего османы могли утратить в этом регионе свое лидерское положение[92]. Кроме того, обосновавшись на Кавказе, османы смогли бы постоянно оказывать давление на мусульман Поволжья. Поэтому основной задачей Астраханской кампании было активное противодействие османов закреплению Русского государства на Каспии.
С середины XVI в. «восточный вопрос» превращается в «восточное направление российской внешней политики»[93]. Присоединение поволжских ханств и присяга Ивану IV ногайского бия Исмаила вывели восточную политику Русского государства на внешний уровень – отношения с независимыми соседними государствами: Османской империей, Персией, Средней Азией. Эти связи могли носить как торгово-экономический, так и военно-стратегический характер. Кроме того, когда речь идет о торгово-экономической составляющей восточной внешней политики Русского государства, рассматривается только один ее уровень. Статус экономически сильного и независимого государства, с монополизированной внешней торговлей, был необходим московскому государю для того, чтобы подтвердить свои политические амбиции и претензии. Иван IV был хорошо осведомлен о планах Римской курии и Священной Римской империи в отношении Русского государства в связи с экспансией османов в Средиземноморье и на Балканах[94]. Политическая обстановка в Европе была такова, что если в первой половине XVI в. участие Русского государства в общеевропейской антиосманской лиге было теоретически возможным, то с присоединением Поволжских ханств наступил новый этап в развитии международных отношений в Центральной и Восточной Европе. Соотношение сил в системе восточноевропейских государств изменилось в пользу Русского государства[95]. В этой связи можно также рассматривать продвижение Ивана IV на Балтику. Задача казалась легко осуществимой собственными силами, без союзников. С удачной реализацией этого плана Московское государство расширяло свою территорию, решало основную экономическую задачу, связанную с балтийско-каспийским транзитом товаров, и, что наиболее важно, приобретало статус сильного и надежного союзника для европейских держав. Неудача Ливонской войны практически не нарушила планов Ивана IV относительно интеграции в европейское сообщество. Скорее наоборот, именно неудача Ливонской кампании подтолкнула московское правительство на официальное сближение с европейскими государствами, и в частности с Римской курией и Священной Римской империей. Я.С. Лурье отмечал, что в конце Ливонской войны борьба за выход к Балтике на дипломатическом уровне должна была вестись против Османской империи[96].
В 1581 г. Иван IV отправил в Европу посланника Истому Шевригина, который должен был предложить императору Рудольфу II, папе Григорию XIII и Венецианской Республике союз против «неверных»[97]. Венецианский посол в Вене А. Бадоэр сообщал сенату Республики, что Иван IV, кроме Шевригина, отправил из Нарвы еще одного посланника в Испанию, к Фердинанду II, с предложением «составить хорошую лигу против турок»[98]. Григорий XIII должен был для осуществления столь заветной для европейцев цели выступить посредником в заключении перемирия с Речью Посполитой[99]. Стоит подчеркнуть, что Иван IV, а впоследствии и его преемник Федор Иоаннович и Борис Годунов воспринимали святейший престол не как религиозный центр, а как авторитетнейшего европейского лидера с помощью, или при поддержке, которого можно было стать равноправным членом «европейской лиги».
Поражение в Ливонской войне не должно было отразиться на международном авторитете Русского государства и его потенциальных возможностях. Поэтому Иван IV смог убедить папского посланника Антонио Поссевино в том, что «мы хотим соединения» с римским понтификом, императором и со всеми другими христианскими государями в антиосманский союз[100]. Возвратившись в Рим, А. Поссевино обосновал новую для европейцев точку зрения на «восточный вопрос», который мог бы быть разрешен силами юго-восточных славян, а Русское государство могло выступить в качестве духовно-политического лидера[101]. В результате рассуждений Поссевино в Римской курии стали склоняться к мысли об отделении в «восточном вопросе» прозелитических от политических мотивов[102]. Было очевидно, что наибольшую выгоду от желания Русского государства вступить в антиосманскую лигу мог получить император, сдерживавший практически в одиночку натиск османов[103]. Иван IV понял основные тенденции европейских интересов в «восточном вопросе» и максимально использовал их для решения своих собственных внешнеполитических задач. Проект участия в антиосманской лиге стал инструментом, с помощью которого Русское государство пыталось интегрироваться в европейское сообщество. В этой точке пересекаются внешнеполитические цели и внутренние побудительные мотивы Русского государства относительно «восточного вопроса». В этом отношении очень точным является вывод о том, что внешнеполитическая программа Русского государства, складывавшаяся в конце XV – первой четверти XVI в., выполнялась в течение двух последующих столетий[104].
Глава 2. Русское государство и Сефевидская Персия
К концу XVI в. Османская империя вступила в полосу стагнации. Процесс этот начался после смерти последнего великого султана Сулеймана Кануни в 1566 г. Процесс застоя, а затем и упадка был замедлен огромными экономическими и политическими ресурсами, которыми Османская империя обладала к этому времени. Главное средство, которое позволяло османам сохранять статус «великой державы», были захватнические войны. Османская империя имела военно-феодальную структуру, поэтому огромные контрибуции с захваченных территорий, дань предметами производства, включая рабов, новые налоги и, наконец, откровенный грабеж составляли основу государственной экономики[105]. Эффективность такой внешнеполитической доктрины основывалась на непременном условии – никогда не воевать одновременно с несколькими противниками. Начиная войну на западе с Габсбургами или Венецией, османы заключали перемирие на востоке с Сефевидской Персией. В последней четверти XVI в. османские захватнические походы достигли своего апогея. Особенно это касалось европейских территорий, где постоянные войны с Габсбургами и Венецианской республикой, проходившие с переменным успехом, уже не приносили османам ожидаемой прибыли.
Оставалось только одно направление, которое могло обеспечить Османской империи приобретение новых территорий и финансовых ресурсов, – это Кавказский регион. Небольшие, политически раздробленные многонациональные кавказские государства, принадлежавшие к различным конфессиям, представляли собой достаточно развитый экономический регион. Продвижение османов на Кавказ со второй половины XVI в. приобретает системный характер. Но здесь османским султанам пришлось столкнуться с интересами первого русского царя. Через брак Ивана IV с кабардинской княжной установились родственно-вассальные связи с Кабардой. Началось строительством русских военных крепостей на Тереке. Первая крепость Терки была построена в 1568 г., затем появились русские форпосты на реке Сунже, крепости неоднократно разрушались и возводились вновь, были камнем преткновения в отношениях между султанами Селимом II и Мурадом III[106] с одной стороны и царями Иваном IV и Федором Иоанновичем с другой. Возрастающая мощь Русского государства вызывала живейший интерес со стороны раздробленных грузинских царств[107], которые были единоверцами православного царя. Это означало для османских султанов не только предел экспансии в северо-восточном направлении[108], но и «порабощение» единоверцев-мусульман «неправоверным» русским государем.
Существовали два основных пути продвижения на Кавказ: первый – северный, через Крым, Азов, Тамань, к устью Волги на Каспий; второй – южный, через Курдистан, Грузию, Армению, Шемаху, опять же на Каспий. Стратегической целью османов было создание сплошной линии своих владений через Азов – Северный Кавказ – Астрахань[109]. Для успешного достижения этой цели османы должны были решить конкретные задачи. Во-первых – приобрести новые территории и влияние на местное мусульманское население; во-вторых – пресечь контакты Русского государства с Сефевидской Персией и единоверцами на Кавказе, в-третьих – соединиться с традиционным союзником – узбекским государством Шейбанидов[110]. При успешном выполнении перечисленных задач был бы установлен контроль за «шелковым транзитом» из Персии и Средней Азии, который мог обеспечить новый экономический подъем Османской империи[111].
Первая попытка осуществить подобного рода планы состоялась в 1569 г. Султан Селим II, по совету верховного визиря Мехмеда Соколлу, санкционировал военный поход, направленный на захват Астрахани. С идеологической точки зрения Астраханским походом султан демонстрировал поддержку единоверцев поволжских ханств. Османский султан, имевший после захвата мамлюкского Египта статус правоверного халифа всех мусульман[112], пытался выступить как правопреемник Золотой Орды, «приобретя» ее наследство, как территориальное, так и политическое»[113]. Действительно, главенствующее положение халифа в мусульманском мире «определялось исключительно степенью его могущества и характером его правления»[114]. Завладев Астраханью, османы смогли бы иметь постоянный контакт с мусульманами Поволжья и Средней Азии. Политической задачей Астраханской кампании было активное противодействие османов закреплению Русского государства на Каспии. В дальнейшем Астрахань, через сооруженный османами Волго-Донской канал, должна была стать плацдармом для наступления на Северный Кавказ и Персию[115].
Астраханская кампания для османов была крайне неудачной. Ни одной из поставленных задач решить османам не удалось[116], но сам факт нападения на русские «украйны» привел к сближению Русского государства с Сефевидской Персией, которая остро нуждалась в северном союзнике. Османы очень болезненно реагировали на любые контакты между Русским государством и Персией. Султанское правительство справедливо опасалось развития стратегических отношений между двумя естественными союзниками, в результате чего Османская империя могла утратить в этом регионе свое лидирующее положение.
Сефевидская Персия, как независимое государство и правопреемник империи Сасанидов и государства ильханов[117], образовалась в 1502 г. Персия была военно-теократическим государством и представляла собой конфедерацию тюркских (туркманских) кочевых племен: шамлу, румлу, устаджлу, афшар, теккелю, зулькадар, байят, каджар и др. Общим для всех племен этнонимом было «кызылбаши» (красноголовыми их называли по головному убору – чалме (таджу) с 12 красными полосками, по числу шиитских имамов)[118]. Кызылбаши были родственными племенами туркманам Западной Анатолии и османам, даже говорили на одном и том же тюркском наречии. Кызылбашские племена, представлявшие собой военизированные подразделения, признавали сюзеренитет рода Сефевидов. Родоначальник фамилии шейх Сефи (Сафи) ад-Дин Исхак Ардебили, курд по происхождению[119], основал в начале XIV в. в Ардебиле[120] орден Сафавийя. Орден Сефевийя (Сафавийя) имел суфийскую природу и изначально не был радикальным[121]. Поэтому изначально ордену Сефевийя была присуща некоторая толерантность в отношении многочисленных и очень пестрых групп верующих на занимаемых Сефевидами территориях – часть современного Азербайджана, Северо-Западный Иран. Именно эта черта помогла сефевидским шейхам сплотить вокруг себя независимые кызылбашские племена. Постепенно мирные суфии превратились в беспрекословных мюридов своих шейхов. Отряды профессиональных воинов сефевидских шейхов становятся военными союзниками Узун Хасана, последнего туркманского правителя государства Ак-Коюнлу.
Ардебильский шейх Сефи ад-Дин был правоверным суннитом, так же как и его последователи. Но шейхи Джунейд и его сын Хайдар (дед и отец шаха Исмаила) в 60-х гг. XV в. стали шиитами имамитского толка[122]. Прежде всего это было сделано, чтобы подчеркнуть свое отличие от османов. Четырнадцатилетний Исмаил, захвативший в 1502 г. древнюю столицу Тебриз и ставший шахом Персии, сознательно сделал шиизм умеренного толка[123] государственной религией для того, чтобы составить конкуренцию Османской империи. Также этому способствовал и тот факт, что в Персии находились важнейшие шиитские святыни – Кербела, Неджеф, Мешхед и местное население, коренные иранцы, в большинстве своем были шиитами. Продолжая исповедовать суннизм, молодое государство Сефевидов не смогло бы противостоять такой мощной суннитской державе, как Османская империя[124]. Шахи Сефевидской династии одновременно являлись носителями светской власти и духовного авторитета, военная служба представителю рода Сефи ад-Дина считалась богоугодным делом, так как теперь считалось, что шейх происходил от седьмого имама Мусы Казима. Вожди кызылбашских племен (эмиры) составляли при шахе правительственный совет (диван), без их одобрения шах не мог принимать судьбоносные для страны решения. Административное управление в Персии находилось в руках старой персидской знати, которая этнически, по языку (фарсийе дари) и статусу отличалась от кочевых кызылбашей, считавшихся высшей аристократией. Например, даже вакиль (везирь) шаха, если он не принадлежал к кызылбашам, не имел права носить чалму с двенадцатью складками.
С момента своего образования государство Сефевидов стало играть роль преграды для распространения османской агрессии на восток – в Закавказье и Среднюю Азию[125]. Войны между османами и сефевидами сопровождали отношения двух государств в течение всего XVI столетия. Персия, как молодое государство, значительно уступала Османской империи как в военно-техническом, так и социально-политическом отношении. Однако войны и пограничные конфликты, помимо политической составляющей, с принятием шиизма стали носить характер «священной войны» (джихада) между суннитами и шиитами. Победы носили переменный характер, и, несмотря на все свое могущество, Османская империя никогда не могла полностью подчинить Персию. Двадцатилетняя война, длившаяся с перерывами с 1533 по 1555 г., закончилась подписанием мира в Амасийе. В связи с началом войны на Средиземном море с Испанией османы были вынуждены согласиться на условия мира, в результате которых Персия значительно расширила свои территории за счет стратегически важных районов Закавказья – Грузии и Армении.
В 1576 г. умер шах Тахмасп, вступивший на престол в 1524 г. десятилетним ребенком и сумевший к началу 30-х гг. консолидировать неуправляемую кызылбашскую знать[126]. После более чем сорокалетнего стабильного правления в Персии началась гражданская война. Центробежные силы кызылбашских эмиров добивались перераспределения привилегий между отдельными племенами. Включение в эту борьбу коренных иранских элементов, вместе с добившимися высокого положения при дворе гулямами[127], не имевшими официального социального статуса, свидетельствовало о глубоком внутреннем кризисе молодого государства. Слабость центральной власти привела к тому, что даже такой воинственный правитель, как сын Тахмаспа Исмаил II, правил только пятнадцать месяцев и в 1577 г. был убит вместе с малолетними детьми в результате кызылбашского заговора[128].
В феврале 1578 г. на шахский трон был возведен старший сын Тахмаспа Мухаммед Солтан, прозванный Худа бендэ (Раб Божий). Согласно устойчивой мусульманской традиции Мухаммед Солтан, несмотря на то что был старшим сыном шаха Тахмаспа, не имел права на престол, так как с раннего детства страдал сильнейшей близорукостью. Кызылбашские эмиры решили, что при слабом, полуслепом шахе бразды правления государством будут принадлежать только им. Однако вместе с шахом на трон взошла его старшая жена – Хайр аль-Ниса Бегум, знатная персиянка, дочь правителя Мазендерана. Род Хайр аль-Нисы Моссуми происходил от четвертого имама Зейн аль-Абдина, мать которого, в свою очередь, была дочерью последнего шаха из династии Сасанидов Йяздигерда III. Хайр аль-Ниса Бегум обладала сильной волей и полностью руководила поступками шаха Худабендэ. Страной, при опеке матери, стал править старший из пятерых сыновей шаха четырнадцатилетний Хамзе-мирза[129]. При шахском дворе было много османских осведомителей, поэтому очень скоро о смуте в Персии стало известно в Константинополе. Более удобного времени для денонсации Амасийского договора нельзя было ожидать.
Османская империя активно начала готовиться к войне с Персией, обезопасив свои границы с запада. Османы, верные своей традиционной политике, в 1577 г. продлили семилетнее перемирие со Священной Римской империей, в 1578 г. было заключено трехлетнее перемирие с Испанией, которое в 1581 г. было продлено. В это же время Мурад III обновил мирный договор с Польшей[130]. В 1578 г. османы начали двенадцатилетнюю войну с Персией. За короткий срок была полностью перестроена и переоборудована пограничная крепость Карс, которая была воротами Персии и по Амасийскому договору входила в состав шахских владений. Эти действия османов и послужили casus belli для новой османо-персидской войны. В отличие от прежних военных кампаний в этом регионе на этот раз османы пытались закрепиться здесь на постоянной основе. Продвижение османов на Кавказ сопровождалось почти массовым переходом на их сторону части ширванской и дагестанской знати. Это не было спонтанным актом, большую подготовительную работу среди ширванцев и дагестанцев провел Абу-Бекр-мирза, который был сыном Бурхан-мирзы – последнего представителя ширваншахов[131]. В 1548 г., в разгар османо-персидской войны, отец Абу-Бекр-мирзы – Бахрам-мирза – поднял восстание против шаха Тахмаспа, с целью полного отделения Ширвана и сопредельных территорий от государства Сефевидов[132]. Восстание было подавлено, а области Закавказья были разделены Сефевидами на беглербегства, во главе с кызылбашскими эмирами. Северным Азербайджаном управляли три беглербега: во главе Ширвана с центром в Шемахе – один, Гянджийский беглербег управлял еще и Карабахом и частью Восточной Грузии; Эриваньское беглербегство с центром в Нахичевани включало часть Юго-Западной Армении.
Абу-Бекр-мирза и его сторонники накануне османского вторжения провели переговоры с Мурадом III и согласовали свои действия с планами султана. Потерявшие политическую власть ширванские ханы были недовольны превосходством кызылбашских эмиров и поэтому решили стать вассалами османского султана[133]. Мурад III за поддержку ширванцев обещал восстановить независимость Ширвана, а трон ширваншахов отдать Абу-Бекр-мирзе. Но, захватив Ширван, султан поделил его на несколько пашалыков, которые, в свою очередь, были разделены на санджаки, естественно, что управление всеми этими территориальными единицами находилась в руках не ширванской знати, а османов[134].
К 1582 г. Грузия, большая часть Армении и самая богатая и стратегически важная провинция Закавказья – Ширван были заняты османами; захватив Дербент – ворота Кавказа, они вышли к Каспию[135]. Хайр аль-Ниса Бегум вместе с Хамзе-мирзой пыталась организовать контрнаступление, но кызылбашские эмиры отказались подчиняться женщине и потребовали ее удаления от управления государственными делами. В результате очередного заговора Хайр аль-Ниса Бегум была задушена в присутствии шаха Худабендэ, который умолял заговорщиков пощадить жену.
Нельзя сказать, что в этот критический период шахское правительство совсем не оказывало сопротивления захватчикам. Предпринимались попытки остановить продвижение османов. Один из беглербегов Северного Азербайджана Амир-хан Мовсалу вместе с карабахским беглербегом Имам Кули-султаном Каджаром нанесли серьезный урон османам, но затем сами потерпели поражение[136]. В начале весны 1583 г. Гянджийский беглербег Имам Кули-хан Устаджлу выступил с 50-тысячной армией в Дагестан против войск Осман-паши Оздемир-оглы. Персы потерпели сокрушительное поражение, 3 тысячи было взято в плен, и в довершение своего триумфа османы захватили Баку. За свои победы Осман-паша был произведен Мурадом III в верховные визири и главнокомандующие войсками в Персии.
Успешному сопротивлению персов мешала продолжавшаяся гражданская война. Слабый и безвольный шах Худабендэ не мог сплотить вокруг себя силы, способные противостоять османской угрозе. Правительство пыталось консолидировать вокруг шахской гвардии силы кызылбашских племен. Но кызылбашские эмиры отказывались присылать шаху свои подразделения. Это было полным нарушением сложившейся системы взаимоотношений центральной власти и кызылбашских вождей-вассалов. Территории, которые были предоставлены каждому племени в административное управление[137] Исмаилом I и которые эмиры пытались превратить в свои личные феодальные уделы, подразумевали обязательную военную службу в войске шаха.
Шах Мухаммед Солтан Худабендэ обратился за помощью к европейским монархам, нерегулярные связи с которыми поддерживались через Ормуз. Точнее сказать, что от имени шаха к европейским правителям обращался его семнадцатилетний сын Хамзе-мирза, который после 1583 г. взял бразды правления в свои руки, хотя формально правящим шахом считался Худабендэ.
В Европу был отправлен персидский посол Ходжа Мухаммед. В связи с началом османо-персидской войны шах предлагал всем заинтересованным европейским правителям совместно выступить против Мурада III. Король Португалии Жоан III велел отослать шаху на ведение войны 20 тысяч цехинов, но начать военные действия против османов отказался[138]. Испанский король Филипп II пообещал шаху военную и финансовую помощь в случае продолжения войны с османами. Ежегодно шах должен был получать 100-150 тысяч золотых дукатов, кроме этого огнестрельное оружие и 15–20 пушек[139]. Венеция – традиционный союзник и торговый партнер Персии – не стала рисковать перемирием с османами, заключенным в 1574 г. На отпускной аудиенции Ходжа Мухаммед получил драгоценные подарки и 300 цехинов. Сенат Республики желал своему союзнику «самых больших успехов», но конкретной помощи обещано не было[140].
С аналогичной просьбой шах обращался и к Ивану IV. Еще в 1578 г., в самом начале османо-персидского конфликта, несмотря на тяжелое внешнеполитическое положение, связанное с затянувшейся Ливонской войной, Иван IV приказал восстановить крепость на Тереке и заложить новую на Сунже. В Терский городок был отправлен воевода Л. Новосильцев «со многими людьми и с вогненным боем», которые самым серьезным образом препятствовали свободному проходу османских и крымских войск в Закавказье[141]. Об этих успешных действиях русского правительства на Кавказе было известно от плененного кызылбашами в начале 1580-х гг. крымского царевича Казы Гирея[142]. В 1588 г. Ферхад-хан Караманлу, один из самых приближенных к шаху Аббасу людей, передавал первому русскому посланнику Г. Васильчикову содержание бесед с Казы Гиреем: «и Казы Гирей царевич мне то рассказывал, что ему лучилось приходити на государя вашего землю войною, и он государя вашего рать видел, и рать государя вашего, сказывал, збирается больши турские рати»[143].
Неизвестно, чем окончились переговоры персидских посланников с Иваном IV, посольские документы, отражающие русско-персидские отношения, сохранились далеко не полностью из-за Смутного времени и многочисленных пожаров. Посольские книги по русско-персидским связям сохранились только с 1588 г., но, если помощь шаху и была оказана, она явно была недостаточной. Венецианский посол в Праге А. Бадоэр сообщал сенату, что в Праге ходят упорные слухи о том, что московский князь пообещал персам 150–200 лошадей, для того чтобы те могли конкурировать с османами и продолжать войну[144]. В одном из пропагандистских «летучих листков», распространявшихся по Европе в это время, прямо говорилось, что «московиты уважаемы из-за их военной мощи против турок и связи Москвы с шахом Персии, и это представляет большую опасность для Порты»[145].
Однако затянувшаяся Ливонская война не давала возможности московскому правительству быть полноценным участником международных отношений на востоке. Русское государство смогло вести активную восточную политику только после 1582 г., когда было заключено Ям-Запольское перемирие с Речью Посполитой. О том, что османо-персидская война может напрямую коснуться Русского государства, стало известно в 1584 г. К этому времени скончался царь Иван IV, на трон взошел царь Федор Иоаннович. В Константинополь через Азов был отправлен посланник Б. Благово с извещением Мурада III о событиях в Москве. Во время своего посольства Благово имел встречу с великим визирем Осман-пашой, который в откровенной форме выразил османские претензии к московскому правительству. Русские гарнизоны самым серьезным образом препятствовали свободному проходу османских и крымских войск в Персию. Осман-паша в ярости угрожал русскому посланнику Б. Благово, что, если терские и донские казаки с русскими гарнизонами не будут давать османской армии свободного прохода в Персию, «султан пошлет воевать русскую землю и пошлет не только Крымских и Ногайских людей, но и Турских, и притом к Астрахани»[146]. В Константинополе положение еще более осложнилось. Русский посланник был принят очень холодно, Мурад в категорической форме потребовал убрать с Терека гарнизон, чтобы «проход был в Кызылбаши», при этом султан также потребовал убрать казаков уже и с Дона и Азова[147].
Русское правительство понимало серьезность угроз. Благово доносил, что в Азове откровенно говорят о предстоящем походе крымского хана Ислам Гирея и османских войск под Астрахань. Положение осложнялось позицией вассальных русскому правительству ногайских орд. Пришедший к власти в Ногайской Орде бий Урус считал себя владыкой всех пространств в Дешт-и-Кипчаке[148]. Грозный царь Иван, захвативший Казань и Астрахань, был теперь не страшен ногайцам. В 1585 г. Урус послал гонцов к крымскому хану Ислам Гирею, чтобы тот передал просьбу ногайцев султану. Урус просил у Мурада жалованья, милости и предлагал отправить в Астрахань османское войско, которое поддержат ногаи Большой Орды[149].
Идея Уруса о повторной кампании против Астрахани понравилась султану. С подобным предложением к Мураду обращался и узбекский хан Абдулла Шейбани, злейший враг Сефевидов. Абдулла-хан был недоволен, что Астрахань, центр азиатской торговли, в которой находились целые кварталы индийских, персидских и среднеазиатских купцов, оказалась в руках неверных[150]. Обстоятельства складывались таким образом, что к антиперсидской коалиции могла присоединиться и Большая Ногайская Орда, ханы которой несколько последних десятилетий шертовали русскому царю[151]. Султан Мурад направил к Урусу гонца с предложением напасть на Астрахань позднее, весной 1588 г., когда султан сможет выделить для поддержки ногаев корпус янычар, так как сейчас все османские силы заняты на персидском фронте[152].
Наступление османов на Персию продолжалось. Теперь к армии Осман-паши, наступавшей с запада, присоединились отряды багдадского губернатора Сигала-заде Синан-паши[153]. Сигала захватил часть Юго-Западной Персии и создал там две новые османские провинции для наступления на Тебриз – древнюю столицу Персии. Шахское правительство запросило мира. Это был акт отчаяния, так как в этот момент при дворе шаха находился посланник Римской курии Джованни Батиста Веккьетти, который клятвенно заверял шахское правительство, что в случае продолжения войны с османами персы регулярно будут получать из Европы 100 тысяч золотых и огнестрельное оружие ежегодно через Ормуз[154]. Папа объявил в своей энциклике в 1585 г., что «турецко-персидская война – это дар Божий для христианского мира»[155]. Видимо, в Европе плохо представляли внутреннее положение в Персии. Д.Б. Веккьетти от имени Сикс та V просил недееспособного шаха Худабендэ дать письменное «королевское обещание» («la sua fede regia»), что он не будет заключать мир с османами. Шах ответил, что никогда бы не хотел заключать мир с османами: во-первых, это вопрос веры, а во-вторых, из-за того, что османы нарушили территориальную целостность его государства. Однако, учитывая тяготы войны, папа и другие европейские государи должны гарантировать Персии свою помощь, тогда «священная война будет продолжаться столько, сколько будет угодно Всевышнему»[156]. Во время переговоров с Веккьетти шах сетовал на то, что испанский король, обещавший постоянную поддержку пушками и оружием, забыл о своем обещании[157]. Европа была далеко, справиться одновременно с внутренней анархией и наступлением османов шахское правительство не имело возможностей, поэтому мирные переговоры были единственным выходом из создавшейся ситуации.
Международное положение Османской империи ко второй половине 80-х гг. XVI в., несмотря на экономический кризис, было более чем благополучно. Османской дипломатии удалось окончательно расколоть европейский лагерь и к своей давней европейской союзнице – Франции[158] приобщить Англию. Королева Елизавета, в обмен на торговые privilege, предложила Мураду III военный союз против Испании[159]. Мурад III не принял предложений персидского шаха о мире и приказал продолжить наступление.
Принц Хамзе-мирза предпринял отчаянную попытку спасти столицу Сефевидов. Он обратился к эмирам, с призывом сплотиться вокруг него как «преданных моджахедов дома Сефи»[160]. Эмиры Шамлу и Устаджлу были среди тех, кто поддерживал Хамзе-мирзу, но по той самой причине их конкуренты вожди теккелю отказались присоединиться к армии принца. Теккелю и находившийся с ними в союзе клан Зулькадар в отсутствие Хамзе-мирзы попытались провозгласить шахом его десятилетнего брата Абу-Талиба, в обход шестнадцатилетнего Аббаса-мирзы, находившегося в Хорасане[161]. Попытка очередного переворота не удалась, но, из-за неповиновения и отсутствия единства между главами кызылбашских племен, Тебриз в июле 1585 г. был взят османами[162].
Неоценимую помощь в этой кампании османам оказали их вассалы-союзники крымские татары под руководством ставленника Мурада III Ислам Гирея[163]. Армия османов в этот период времени превосходила персидскую не только своей численностью, но и, в большей степени, техническим оснащением – пушками, мушкетами – и дисцип линой. Но у османов не было кавалерии, способной противостоять стремительной коннице кызылбашей. Поэтому османы, предпринимая серьезные военные операции, не могли обойтись без крымской кавалерии. Ликование османов было прервано неожиданной смертью главного визиря и главнокомандующего Осман-паши, который скончался во время празднеств, посвященных захвату Тебриза. Об этой утрате скорбела армия и лично Мурад III. Новый главнокомандующий османов Ферхад-паша через сорок дней вывел большую часть войска из Тебриза, оставив в цитадели гарнизон. И хотя Хамзе-мирза, подавив мятеж в Казвине, попробовал организовать контрнаступление в нескольких направлениях, весьма успешное, так как ему удалось в конце 1585 г. вытеснить османов из Южного Азербайджана[164], но вернуть Тебриз ему так и не удалось.
С потерей Тебриза начинается следующая стадия османо-персидской войны. Именно в этот момент Хамзе-мирза обращается с посланием к русскому государю. Успехи османов тревожили русское правительство, поэтому был принят ряд мер по активизации деятельности казаков в Азове и на Дону. В 1585 г. на Дон были отправлены отряды стрельцов под руководством воевод В. Биркина, Ф. Бутурлина, Ю. Булгакова. Главной задачей отрядов стрельцов было создание заслона на русских границах, в случае если османы предпримут попытку повторить астраханский поход. Однако русское правительство не было против и «некоторых» актов, которые могли бы нанести урон османам и их союзникам крымцам. Действия русских «ратных людей» и казаков, совместно с кабардинскими князьями, против османов в Закавказье не заставили себя ждать. Казаки разгромили отряд черкесских князей[165], шедших на соединение с армией Осман-паши. В 1586 г. османскому правительству не удалось из-за действий казаков доставить «казну» в Дербент, находившемуся там практически в осаде Ефер-паше. Янычары, не получавшие почти год довольствия, грозились оставить Дербент и вернуться в Константинополь[166]. О положении османов в Закавказье свидетельствует перехваченное казаками письмо Ефер-паши, отправленное в Константинополь: «…города, которые вы отобрали у Персии… не смогут сами себя защитить; а московиты объединятся персидским шахом и грузинским царем, а потом они пойдут отсюда на Стамбул, а император и испанский король с другой стороны, и сами вы не переживете этого в Стамбуле, а будете захвачены в плен, и мусульмане станут христианами, а наша вера на этом закончится, если не вступитесь»[167].
Слухи об этих действиях дошли до Казвина, куда после потери Тебриза перебрался шахский двор. В Москву был срочно отправлен посланник Анди-бек. Шах или, точнее, Хамзе-мирза просил московского государя оказать ему помощь в борьбе с османами. Помощь должна была заключаться не в огнестрельном оружии, а в конкретном военном выступлении. Царь со своими подразделениями должен был выступить из Астрахани и освободить от османов Баку и Дербент. За оказание такой помощи шах обещал отдать эти древние персидские города Московскому государству в вечное владение. Если же Москва согласится помогать Персии и в дальнейшем, то шах уступит города даже и в том случае, если захватит их сам[168].
Русский историк-архивист С.А. Белокуров, на основе летописных и посольских материалов по связям Московского государства с народами Кавказа, сделал вывод, что Анди-бек был послан в Москву осенью 1586 г., когда османы в очередной раз отклонили предложение о мире. Хамзе-мирза даже предлагал новому главнокомандующему османов Ферхад-паше отослать в Константинополь своего сына Хайдара. Однако персидский посланник добрался до Астрахани только в начале лета 1587 г., хотя дорога из Персии до Астрахани занимала от трех недель до двух месяцев. Для русской стороны предложения шаха имели стратегический интерес, так как расширение территорий за счет крупнейших центров шелководства и торговли на Каспии могло принести не только экономическую выгоду, но и укрепить международный авторитет[169].
Помимо этого, в 1585–1586 гг. кахетинский царь просил русского государя «учинить его под своею царскою рукою» и «держать под своею рукою во обереганье от турского и от других недругов»[170]. В результате переговоров между Александром II и Федором Иоанновичем были установлены вассально-союзнические отношения, подкрепленные крестоцеловальной записью[171]. Этот факт весьма примечателен, так как Александр II уже был вассалом сефевидских шахов, согласно Амасийскому договору 1555 г. Кроме этого, после того, как в 1578 г. османский главнокомандующий Лала-паша подошел к границе Кахетии, Александр II во избежание кровопролития предложил стать вассалом еще и османского султана. Таким образом, к 1585 г. кахетинский царь уже был вассалом двух государей. В Москве не могли не знать об этих фактах. Тем не менее согласились принять под «высокую государеву руку», что однозначно должно было осложнить отношения как с шахом, так и с султаном.
Кроме того, антирусские действия бия Уруса не остались без внимания правительства[172]. В «луговую черемису» было срочно отправлено три полка для предотвращения проникновения ногаев в Казань, а в 1586 г. построена крепость Самара, как раз в месте переправы ногаев на левый берег Волги. С этой же целью были построены еще две крепости, в 1589-м – Царицын, в 1590-м – Саратов. Проосманские настроения Уруса разделяли не все ногайские беи, поэтому положение Уруса становилось день ото дня все более напряженным. Не получив помощи от султана и боясь окончательно утратить свое влияние в Большой Орде, Урус вновь был вынужден шертовать русскому царю[173].
С посольства Анди-бека начинаются регулярные отношения между русским и персидским дворами. После переговоров с Анди-беком в Персию было отправлено первое русское официальное посольство во главе с князем Г.Б. Васильчиковым. Посольство отправилось в Персию весной 1586 г., а в декабре 1586 г. при невыясненных обстоятельствах собственным парикмахером был убит Хамзе-мирза[174]. Весьма вероятно, что за спиной наемного убийцы стояли Муршид Кули-хан Устаджлу и Али Кули-хан Шамлу[175]. Оба кызылбашских эмира являлись опекунами среднего сына шаха Худабендэ восемнадцатилетнего Аббас-мирзы[176].
Весной 1587 г. Муршид Кули-хан Устаджлу провозгласил шахом Аббас-мирзу. Стоит отметить, что провозглашение носило лишь формальный характер. В Казвине эмиры теккелю, туркманов и зулькадар заставили шаха Худабендэ, против его воли, передать власть одиннадцатилетнему Абу-Талибу. После этого войска мятежных эмиров вместе с Худабендэ и Абу-Талибом покинули Казвин в направлении османской армии. В отсутствие шаха и правительства, Аббас с 600 всадниками, лично подчинявшимися Муршид Кули-хану, захватил Казвин. Несмотря на это, положение оставалось критическим, даже после того, как Муршид Кули-хан склонил на свою сторону остальных кызылбашских эмиров. Дело в том, что шах возглавлял не только государство, но являлся духовным лидером (шейхом/пиром) ордена Сефевийя. Согласно весьма жесткому регламенту, орден не мог иметь двух лидеров, а шах Худабендэ был жив и здоров. Сложившаяся ситуация вылилась в протестное движение «нюктави» – милленитаристских[177] сект[178]. Легитимность нового правителя ставилась под сомнение религиозными авторитетами, которые имели огромное влияние на простое население. В условиях политической анархии, в которых Персия пребывала более десяти лет, это могло грозить полным развалом государства. Аббас, так же как в свое время его дед шах Тахмасп, беспощадно уничтожил лидеров протестовавших, не обращая внимания на их религиозную неприкосновенность[179].
Аббас прибыл в Казвин в сентябре 1587 г., но только 1 октября 1588 г. слепой Худабендэ, подавленный обрушившимися на него событиями, отрекся от престола[180] и шахом стал единственный оставшийся в живых из его пятерых сыновей – Аббас. Проблема столь длительной задержки передачи власти заключалась не только во внутренних распрях между кызылбашскими группировками, но и в очередном внешнем ударе, постигшем Персию. В декабре 1587 г. Абдулла II Шейбани, объединивший конфликтовавшие кланы узбеков, напал на Хорасан. Неразрешимые противоречия между узбеками-суннитами и кызылбашами-шиитами имели долгую историю. К концу 1587 г. Абдулла-хан договорился о совместных действиях с находившимся в Баку Ефер-пашой и осадил Герат, богатейший торгово-промышленный центр на юго-востоке Персии. Весной узбеки захватили Мешхед – один из трех священных для шиитов городов[181]. Османы, воспользовавшись ситуацией, вернули себе все территории, отвоеванные у них Хамзе-мирзой в 1585–1586 гг. Внутри страны положение Аббаса было еще более тяжелым. Восстал Шах-Верди-хан, владетель Луристана, родственник Аббаса царевич Рустам-мирза овладел Систаном, в Фарсе восстало племя зулькадар, в Кермане – афшар. В Исфахане восстал Юли-хан, с которым пришлось вести переговоры[182]. Аббас потерял богатейшие торгово-промышленные провинции, являвшиеся основными поставщиками налогов в казну[183]. Сложившееся положение вынудило Аббаса вновь заняться переговорами по заключению мира с османами. К концу 1580-х гг. султан Мурад III также стремился к миру, приобретение богатейших персидских провинций давало ему возможность начать войну со Священной Римской империей, перемирие с которой закончилось в 1585 г.
В это время в Персию возвратился Анди-бек с русским посланником. Во время пребывания Г.Б. Васильчикова в Персии с сентября 1588 г. до 30 июня 1589 г. султан присылал к шаху троих посланников, как потом выяснилось, с уточнением условий мира[184]. Васильчиков не знал, что персидские посланники уже находились в Константинополе. Великое персидское посольство, в составе 1500 человек, возглавлял которое Муршид Кули-хан Устаджлу[185], прибыло в Константинополь в 1588 г.[186] Переговоры длились почти два года, в качестве аманата шах Аббас прислал султану десятилетнего Хайдар-мирзу, сына Хамзе-мирзы. Перемирие, подписанное 21 марта 1590 г., сроком на семь лет, было заключено на очень выгодных для Османской империи условиях. Персия теряла значительные территории Закавказья – Грузию, Ширван, Луристан, большую часть Азербайджана с Баку и Гянджей, Иранское нагорье с Тебризом – древней столицей государства[187]. Но перемирие давало шаху Аббасу возможность сконцентрировать силы на борьбе с узбеками и взять под контроль ситуацию внутри страны.
Русское посольство с ноября 1588 г. по апрель 1589 г. путешествовало за Аббасом по всей стране, пытаясь добиться аудиенции. По слухам, Аббас, воевавший с узбеками, не отказывался от предложений, сделанных его отцом русскому государю, но все переговоры вел Ферхад-хан Караманлу, эмир Азербайджана и губернатор Шираза, Гиляна, Ардебиля, Фарса. Во время последнего переворота Ферхад-хан поддержал Аббаса, который сделал его своим доверенным лицом. В тот период времени Ферхад-хан, так же как Б. Годунов, имел право переписки с иностранными государями[188]. Ферхад-хан, умный и расчетливый политик, сыграл не последнюю роль в процессе становления и налаживания отношений между Русским государством и Персией. Именно Ферхад-хан посоветовал Аббасу, после прихода к власти, не отказываться полностью от обязательств прежнего правительства и, по возможности, извлечь из этого максимальную выгоду для своей власти[189].
Используя приемы восточной дипломатии, Ферхад-хан отдавал должное политическому статусу русского государя, уважительно отзываясь о его связях с европейскими государями[190]. Ферхад-хан заверил Г. Васильчикова, что новый шах возлагал на Русское государство определенные надежды по поводу совместной борьбы с османами. Аббас встретился с Васильчиковым тогда, когда от персидских лазутчиков стало известно о появлении недалеко от Дербента русской рати. На вопрос Аббаса «Велика ли рать государева?» Васильчиков бодро ответил, что количество присланных стрельцов с «тысечь шестьдесят» и они поставили на реке Койсу Терский городок, преградив тем самым дорогу турецким отрядам во внутренние районы Персии. На самом деле в 1588 г. с воеводой А.И. Хворостининым в Дагестан было отправлено 15 тысяч человек[191], но и такое количество было значительной силой для оказания сопротивления османам. Васильчиков от имени царя подчеркнул, что, если шах согласится передать ему Баку и Дербент, они станут опорными пунктами для расквартировки русских гарнизонов в Закавказье и в любой момент смогут оказывать Аббасу помощь оружием и «ратными людьми»[192]. Аббаса устраивал такой поворот событий, и он заявил Васильчикову, что согласен передать эти города Москве, даже если освободит их от османов сам[193]. Сразу же после переговоров с Васильчиковым шах Аббас отправил в Москву своих послов Бутак-бека и Анди-бека, для продолжения переговоров, которые затянутся в ближайшие пятнадцать лет.
Так закончилась очередная фаза османо-персидских и русско-персидских отношений. Кавказ оказался в сфере стратегических интересов Османской империи, Персии и Русского государства. Между Османской империей и Персией был заключен мир, положивший конец двенадцатилетней войне. Шах Аббас мог заняться стабилизацией и укреплением положения внутри страны и войной с узбеками. Мурад III готовился к схватке за Венгрию с императором Рудольфом II, война с которым, несмотря на возобновляемые в 1574 и 1583 гг. мирные договоры, носила, особенно на Балканах, перманентный характер. Между Русским государством и Персией были установлены не только дипломатические регулярные отношения, но и сразу были заложены основы для взаимовыгодного военно-политического союза. Русское государство было заинтересовано в приобретении Дербента и Баку. Дербент издревле считался воротами на Кавказ, что, в свою очередь, обеспечивало прямой путь в Грузию, а Баку с древнейших времен был крупнейшим портом на каспийском побережье. Разоренная длительной войной Персия, окруженная врагами, была заинтересована в том, чтобы Баку и Дербент стали русскими погранично-заградительными форпостами, которые преграждали бы османам путь во внутренние области Персии.
За период 1588–1597 гг. в Русском государстве побывало шесть персидских посольств и миссий[194]. С московской стороны их было только три[195]. Факт этот нельзя считать случайным явлением, так как с самого начала регулярных дипломатических отношений Русское государство заняло по отношению к Персии покровительственную позицию. Действительно, во время первой миссии Анди-бека в Москву, в 1588 г., Персия, находившаяся в тяжелейшем экономическом и политическом кризисе, выступала просительницей и добровольно отдавала роль «старшего брата» русскому царю. Стоит подчеркнуть, что московские дипломаты сразу отметили преимущества, которые можно было извлечь из сложившейся ситуации. Поэтому Годунов добивался заключения договора в письменной форме. Изучая посольскую документацию первых нескольких лет взаимоотношений между персидским и московским дворами, можно сделать вывод о том, что шах Аббас намеренно избегал письменного оформления какого-либо соглашения, так как в силу сложившихся обстоятельств это было ему невыгодно. Поэтому русская сторона с каждым новым персидским посольством «наводила» Аббаса на этот шаг.
Летом 1597 г. в Персию было отправлено великое посольство во главе с князем В.В. Тюфякиным и его «товарищем» дьяком С. Емельяновым. Целью посольства было заключение антиосманского союза между русским государем и персидским шахом. Договор можно было заключить двумя способами – в форме «докончанья» и «соединенья». «Докончанье» – мирный договор, «докончати мир» означало заключить договор о мире[196]. Подобного рода договоры – «докончанья» – подписывались обеими сторонами, а затем обменивались таким образом, что у каждой из сторон находился экземпляр союзника. Подписанный договор должен был быть затем ратифицирован сеймами, думами или рейхстагами. Только после этого договор вступал в законную силу. Следовательно, подписание подобного договора было сопряжено с большой мерой ответственности, так как нарушение даже отдельных статей такого соглашения могло повлечь непредсказуемые последствия. Заключение такого рода договоров в период позднего Средневековья и раннего Нового времени весьма редкое явление. Слишком ко многому такой договор обязывал. Предпочитали заключать перемирия на определенный срок, отдельно заключались торговые соглашения, но даже и они были достаточно редким явлением, так как чаще обходились лишь определенными торговыми привилегиями или отдельным лицам и корпорациям, или даже целой стране, но опять же на определенный период времени. «Докончанье» – договор, свидетельствовавший о дружбе и сотрудничестве между двумя странами – участницами соглашения и потенциально предполагавший совместные действия против возможного противника. В большинстве случаев подобного рода соглашения носили оборонительный характер и чаще всего были направлены на устрашение совместной мощью предполагаемого противника.
Второе понятие – «соединенье» – означало военно-политический союз, направленный против третьей стороны или нескольких сторон – «недругов заодин». «Соединенье» могло носить характер соглашения о совместных военных действиях на определенный период времени, в дипломатической практике оно соответствует l’union fait la force. В такого рода соглашениях не могло фигурировать нечто абстрактное – «все недруги», враг был предельно конкретизирован, в данном случае это были турки-османы. Однако посольство князя В.В. Тюфякина ехало в Персию именно с «докончаньем», и сейчас будет ясно, для чего Годунов хотел заключить договор именно в такой форме.
Процедура подписания «докончанья» состояла в том, что одна заинтересованная сторона предлагала другой стороне некий текст, подписанный и заверенный государственной печатью и клятвой (крестоцелованием). Противоположная сторона, в свою очередь, составляла идентичное по всем пунктам и статьям свое «докончанье»[197] и, заверяя его печатью и клятвой, передавала послам, оставляя у себя, в качестве свидетельства, привезенный договор. Послы в этой процедуре исполняли роль посредников, так как все клятвы и печати на документе ставили сами государи. Только по возвращении домой с договором противной стороны можно было считать, что «докончанье» заключено. Таким способом «укреплялось» «докончанье» с государствами, исповедовавшими одну веру, то есть христианство. Прецедентом заключения подобного рода соглашений между мусульманской страной и христианской вообще не существовало. Это не говорит о том, что между мусульманскими и христианскими странами вообще не существовало никаких договоров. Уникальным свидетельством договорных отношений между христианским и мусульманским государями служит письменный договор между императором Священной Римской империи Фридрихом II Гогенштауфеном и султаном Алькамилем в 1229 г.[198] Однако это скорее исключение, чем правило[199], и естественно, что об этом не могли знать ни в Москве, ни в Исфахане.
Между Персией и Русским государством в дипломатических методах и приемах было нечто общее, так как оба государства достаточно длительное время являлись «улусниками» монгольских великих ханов. Однако в то же время оба государства имели богатую историю с твердо укоренившимися древними традициями, поэтому, хотя монгольское влияние на дипломатический протокол было достаточно значительным, следовало учитывать и местные культурно-исторические особенности[200]. Русское государство с конца XV в. подчеркивало свое единство с европейскими государствами[201], а Персия культивировала традиции державы шахиншахов. Так или иначе, договор, который должно было доставить в Персию посольство В.В. Тюфякина – С. Емельянова, являлось первым подобного рода союзническим соглашением между христианским и мусульманским государством в эпоху раннего Нового времени.
Русские послы имели при себе договор сразу в двух экземплярах, тогда как обычная практика предусматривала один, написанный «руським письмом», скрепленный царской печатью и клятвой («правдой»). Суть договора кратко и лаконично передал Б. Годунов в своей грамоте к шаху Аббасу. Особенно стоит обратить внимание на то, что Б. Годунов подчеркивал, что на заключение договора государь идет вследствие неоднократных просьб со стороны шаха. «И твое великого государя Аббас Шахова величества хотенье и желанье то, чтоб с великим государем ц. и в. кн. Федором Ивановичем в. Р. С. быти тебе великому государю Аббас Шахову в. в братстве и в любви на веки, и та б вековая дружба и братство укрепить верою с обе стороны, а укрепяся б вам великим государем меж собою в братстве и в любви, стояти на турского и на бухарского и на всех своих недругов заодин. Хто будет великому государю нашему ц. и в. кн. Федору Ивановичу в. Р. С. друг, тот бы и тебе великому государю шах Аббасу в. был друг, а хто великому государю нашему его ц. в. недруг, тот бы и тебе великому государю Аббас Шахову в. был недруг»[202]. Таким образом, по прошению шаха Аббаса русская сторона соглашалась заключить равноправное двухстороннее «докончанье».
Однако проекты «докончальных» грамот не были одинаковыми, что в принципе, учитывая форму соглашения, было неправомерным. По правилам составления подобного рода соглашений обязательства со стороны царя должны дублироваться обязательствами со стороны шаха. Однако даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что, кроме неодинаковой орфографии, которая соответствует одним и тем же абзацам, обязательства со стороны царя являются не бескорыстными. За помощь и поддержку со стороны царя персидский шах обязан будет отдать свои «отчины», но которых по договору уже три, а не две. К Дербенту и Баку, которые еще в 1587 г. обещал царю за военную помощь шах Худабендэ, прибавилась еще и Шемаха, столица Шамхальского ханства, крупнейший центр торговли и шелководства в Закавказье, формально находящегося в вассальной зависимости от Персии.
Для того чтобы обосновать причину своих претензий, в договоре четко аргументировался статус и положение русского государя. Статус русского государя после присоединения Астрахани стал соответствовать статусу «Белого царя», именно так к русскому государю обращался шах Аббас. Поэтому постоянно повторяющиеся в договоре термины о братстве между двумя государями действительно имели место, только не в западноевропейском смысле, согласно которому все монархи между собой братья. Здесь понятие «братство» употребляется не в смысле равноправных взаимоотношений, а скорее отношений старшего брата – русского государя с младшим – персидским шахом. Постоянно повторяющееся полное пышное именование русского царя, а не персидского шаха, должно было подчеркнуть большую значимость статуса царя по отношению к статусу шаха. Исходя из выше сказанного, ничем не обоснованная уступка шахом своих «отчин», в принципе и при желании, могла бы быть расценена и как некая зависимость шаха от царя.
В Москве опасались, что шах может не согласиться подписывать подобного рода договор, поэтому в наказах послам строго было приказано сначала провести с шахом устную подготовку и определенными аргументами убедить шаха его подписать. Если шах хочет союза с русским государем военно-наступательного против османов, то он должен подписать неравноправный договор. Существовала и еще одна веская причина, по которой Аббас мог не согласиться подписывать договор, несмотря на осознание всех «выгод и преимуществ», которые такое соглашение могло обещать. В наказе послам четко предписывалось, каким образом следует осуществить процедуру подписания. После того как Аббас согласится подписывать договор, с привезенного послами списка, следует написать слово в слово текст «по фарсовски» и на той «грамоте правду учинить[203], шерть дать, и их (послов) ко государю отпустить»[204]. В самом общем значении «шерть» – это клятва, договорные отношения, «шертъныи» – утвержденные клятвой[205]. Однако «шерть» у мусульманских народов никогда не являлась просто клятвой. В словаре В.И. Даля объяснение «шерти» соответствовало ее истинному назначению и случаям ее употребления. «Шерть» – присяга мусульман на подданство. Дать «шерть», «шертовать» – означало присяг нуть[206]. В.В. Трепавлов считает, что в XV–XVII вв. «шерть» не являлась межгосударственным соглашением, а была персональным договором между правителями. С восшествием на престол нового правителя ее необходимо было продлевать. Нарушение условий «шерти» могло рассматриваться как личная измена одной стороны[207]. Но, с другой стороны, исследователь утверждает, что начиная с 1557 г., когда ногайский бий Исмаил шертовал русскому царю, в Русском государстве стали рассматривать шертование как присягу на верность[208]. Исследователь также считает, что зависимый характер шертных соглашений проявлялся не только и не столько в признании холопства одной из сторон. Подобного рода соглашения делались иногда очень деликатно. Например, перечислялись обязательства только одной стороны, вторая не брала на себя никаких обязательств, в результате разработчики Посольского приказа добивались весьма обтекаемых формулировок[209].
В каком смысле его хотела употребить русская сторона, сказать достаточно трудно. Однако следует высказать некоторые соображения по этому поводу. Если предположить, что предложенная выше фраза означала простую формальность в виде того, что шах своей клятвой (шертью) подтверждает или удостоверяет взятые на себя обязательства, тогда в Москве ту же процедуру проделает царь, дав «правду» (то есть твердое обещание, клятву) на своем варианте «докончанья». Следовательно, получалось, что шах должен был и «правду учинить», то есть дать клятву, и одновременно «дать шерть», то есть еще раз поклясться. Возможно ли, что московское правительство таким образом собиралось «учинить (шаха) под своей великою рукой»?! Сейчас сложно что-либо утверждать, только одно очевидно, если шах все-таки не согласится шертовать русскому царю: «А не укрепить ныне государь ваш того дела, и вперед то дело продлитца, и недругом то будет на руку»[210]. Здесь конечно же имелись в виду османы.
Сейчас трудно предположить, какова была бы реакция шаха Аббаса на предложения Московского государства. Учитывая его крутой нрав и беспощадный характер, послы в полном смысле рисковали своими жизнями. Но судьба распорядилась иначе, посольству В.В. Тюфякина – С. Емельянова не удалось реализовать поставленные задачи. Еще при выезде из Астрахани среди членов посольства началась эпидемия. Глава посольства князь В.В. Тюфякин умер в море, еще до прибытия в Гилян. Второй посол, дьяк С. Емельянов, сошел на берег уже больным и скончался по дороге в Кашан. Оставшиеся в живых не имели полномочий обсуждать или заключать какое-либо соглашение. Аббас, с нетерпением ожидавший приезда русских послов, так и не смог добиться от них вразумительных объяснений по поводу содержания договора. И давно наметившееся соглашение между Русским государством и Персией опять оставалось протоколом о намерениях. Как раз в это время, в 1598 г., ко двору шаха прибыли новые переговорщики – братья Энтони и Роберт Ширли.
Глава 3. История организации посольства кармелитов
Политика папства в отношении Персии
Международная обстановка конца XVI в. выявила серьезную необходимость привлечения в ряды антиосманской коалиции Аббаса I, прозванного Великим. Со второй половины 90-х гг. XVI в. в Европу регулярно поступали сообщения о лояльном отношении шаха Аббаса к христианам и их религии. Истинные намерения шаха Аббаса должно было продемонстрировать европейским государям посольство, во главе с Хусейн Али-беком и Энтони Ширли, отправленное в Европу в 1600 г.
Время для посольства в Европу было выбрано не случайно. В 1598 г. 100-тысячная армия правителя Хорасана Абдуллы-хана была окончательно повержена. Устранив узбекскую опасность в тылу, Аббас стал готовиться к реваншу над османами. В этот момент ко двору Аббаса прибыли братья Энтони и Роберт Ширли[211]. В разных источниках называются различные причины приезда братьев к шаху, вплоть до того, что они были послами английской королевы[212]. Роль братьев, поступивших на службу к шаху и ставших впоследствии выразителями его европейской политики, требует подробного рассмотрения.
Братья Ширли не были авантюристами, волею судьбы, случайно заброшенными в Персию. Таким определением статуса братьев Ширли часто злоупотребляла советская историография. Братья происходили из знатной, но обедневшей дворянской семьи графства Суссекс. Отец и средний брат Томас оставались в Англии на службе при дворе. Старший Энтони и младший Роберт предпочли продать свои способности и шпаги за границей. Участвуя с герцогом Эссексом и Генрихом IV в походе против испанских католиков, Энтони Ширли получил из рук французского короля орден Св. Михаила[213]. После окончания военной кампании братья решили послужить герцогу Феррары – Фердинанду, но прибыли слишком поздно – война между герцогом и Климентом VIII уже закончилась.
Оставшись в Италии, братья познакомились с венецианским коммерсантом Анджело (Микеланджело) Кораи, который вел торговые дела в Персии. А. Кораи был лично знаком с Аббасом и неплохо разбирался в хитросплетениях европейской политики[214]. Помимо торгово-коммерческой деятельности, А. Кораи неоднократно выполнял «специальные» поручения итальянских правителей к шаху Аббасу. Об этом свидетельствуют его донесения сенату Венеции[215]. Именно А. Кораи, а не граф Эссекс, как утверждал Д. Малькольм, посоветовал Э. Ширли предложить свои услуги «царю царей» – персидскому шаху[216]. Учитывая содержание тем, которые в дальнейшем будут обсуждаться между Аббасом и Э. Ширли, можно предположить, что А. Кораи лишь познакомил братьев Ширли с персидскими обычаями, а истинным «заказчиком-организатором» поездки братьев в Персию являлся Климент VIII.
Братья прибыли в Персию через Османскую империю в одеждах торговцев, так как Энтони Ширли знал турецкий язык[217]. Факт сам по себе примечательный. Вместе с ними приехало 26 человек, среди которых были ценные специалисты по изготовлению огнестрельного оружия. Братья прибыли в тот момент, когда у шаха, праздновавшего победу над узбеками, находился турецкий посол Мехмед Ага Чауш Баши. Султан Мехмед III[218], убийца 19 братьев, опьяненный победами в Венгрии, решил вновь потребовать у Аббаса, взамен умершего четыре года назад, аманата из дома Сефевидов. В ответ на это требование Аббас приказал сбрить у османского посла бороду и отправить в качестве ответа султану. Это был прямой вызов. Кроме того, принимая отряд братьев Ширли с невероятной помпой, шах демонстрировал османскому послу свои связи и взаимоотношения с европейскими государствами[219].
Аббас уже решил отправить посольство в Европу и занимался подбором кандидатур для столь важной миссии. «Хроника кармелитов» датирует прибытие братьев Ширли в Персию мартом 1599 г., Д. Малькольм утверждал, что они прибыли в 1598 г., с этой точкой зрения был солидарен В.В. Бартольд[220]. Х. Байани указывал точную дату отплытия «Э. Ширли с младшим братом и 26 англичанами, среди которых были капитан Пауэл, Джон Ховард, Джон Паррот» из Венеции 24 мая 1598 г.[221] Если посольство действительно добиралось через Турцию, то дорога заняла 3–4 месяца. Поэтому 1598 г. более правдоподобная дата прибытия братьев Ширли в Персию. Косвенным подтверждением этой даты служат события, свидетелями которых стали англичане. Первое событие описано у Л. Беллана. Аббас победил Абдуллу-хана и праздновал победу над ним в 1598 г.[222] Второе событие описывает персидский хронист Искандер-бек Мунши, который упоминает о том, что братья Ширли участвовали в боевых действиях на территории Ирака, Роберт был даже ранен и за личную храбрость награжден Аббасом именным оружием[223]. Кроме того, В.В. Бартольд, основываясь на изучении персидских источников, утверждал, что братья заняли при дворе Аббаса влиятельное положение благодаря знанию военного дела, а произведенная ими реорганизация персидской армии содействовала последующим успехам персов в борьбе с османами[224].
Шах Аббас, по описанию многих очевидцев-европейцев, был хитрым и осторожным политиком. Он мог быть безжалостным и беспощадным, великодушным и открытым для всего нового, однако все сходились на том, что доверчивость не была качеством, присущим Аббасу. Прибывшие в Персию братья Ширли имели к шаху «специальное» поручение. В долгих беседах с Э. Ширли шах мог сопоставить свою информацию о политике европейских государей с мнением европейца. Кроме того, Э. Ширли был англичанин и не состоял на службе у испанского короля, отношения с которым стали осложняться в этот период времени, из-за вызывающе го поведения испанцев и португальцев в Ормузе[225]. Э. Ширли довел до сведения шаха, что кроме «Его Католического Величества короля Испании» в Европе есть много других христианских королей, которые охотно объединились бы с ним против османов. Именно Э. Ширли предложил составить письма на имя восьми правителей: римскому папе, императору Священной Римской империи, королю Испании, королю Франции, королю Польши, правителю Венеции, королю Англии и Шотландии[226].
Организуя такое масштабное посольство, Аббас не просто приглашал европейских монархов составить ему «кампанию» в борьбе с османами. К этому времени Аббас имел достаточно подробно разработанный план действий. Согласно плану Аббаса, христианские принцы объединенными силами должны будут напасть на османов с моря – со стороны Босфора и суши – через Балканы. Далее, европейский флот проникнет к берегам Сирии и Палестины[227]. С востока османов начнет теснить сам Аббас, постепенно «выдавливая» их в российские степи и Закавказье, где османам придется столкнуться с русскими подразделениями. Таким образом, османы будут вынуждены вернуться в свои «отеческие пределы» – Среднюю Азию[228].
Естественно, что для осуществления столь грандиозных планов Аббасу было необходимо заключение серьезного союзного договора с европейскими монархами. Поэтому посольство должно было предложить на рассмотрение европейских государей конкретный проект антиосманского соглашения, в который заинтересованные стороны могли внести свои поправки и изменения. Вероятнее всего, именно Э. Ширли предложил шаху некую «форму» такого проекта, которая могла бы быть принята европейцами. По всей видимости, предложения, внесенные Э. Ширли на рассмотрение Аббаса, составлялись в канцелярии Римской курии, так как в конце XVI в. только римский понтифик мог абстрагироваться от интересов собственно своей страны и предложить европейскому сообществу проект совместного договора против османов. Следовательно, цель миссии братьев Ширли в Персию, санкционированной Климентом VIII, заключалась в том, чтобы донести до шаха Аббаса возможные формы организации антиосманской лиги. Понятия «федерации» и «конфедератов», которые фигурируют в предложениях шаха, циркулировали в переписке между Рудольфом II и Филиппом II начиная с 1575 г.[229] По всей видимости, Аббас должен был внести поправки и коррективы в предложения, привезенные братьями Ширли, и, возможно, добавить свои, и уже затем предложить их на обсуждение европейским государям[230]. Приближенные шаха, его главные советники – Аллах Верди-хан[231] и Ферхад-хан – были недовольны назначением Э. Ширли в качестве одного из главных послов, так как он не был персом и мусульманином. Но Аббас был человеком без предрассудков и считал, что Э. Ширли сможет объяснить европейским государям, насколько своевременны и выгодны для них его предложения.
Первое европейское посольство шаха Аббаса было организовано с соблюдением всех необходимых формальностей. Организация посольства, его маршрут, происшествия, случившиеся с участниками, известны из записок участника персидской делегации – Орудж-бека из племени байят. Впервые записки были изданы в 1624 г., когда еще были живы многие главные действующие лица посольства. В мемуарах практически полностью отсутствует содержание переговоров, что, собственно, является отличительной чертой подобного рода документов, но зато приводятся в мельчайших подробностях события, которые сопутствовали обращению в христианство нескольких членов посольства. У текста был прямой заказчик – испанский король Филипп III. Король услышал то, что хотел услышать. Тем ценнее информация о посольстве, которая содержится в «Хронике кармелитов». Без преувеличения, материалы «Хроники кармелитов» помогают реконструировать не только отдельные события, но и само содержание переговорного процесса, который инициировал шах Аббас.
Итак, персидское посольство состояло из Хусейн Али-бека и четырех знатных персов, его секретарей, их обслуживали пятнадцать слуг. В Европу с посольством возвращались два монаха – францисканец Альфонсо Кордеро и августинец Николау да Мело, затем следует Э. Ширли с пятью переводчиками и пятнадцатью английскими дворянами, которые прибыли с ним в Персию в 1598 г. Имущество и подарки погрузили на 32 верблюда, к этому следует прибавить лошадей, на которых ехали члены посольства. Таким образом, посольство состояло из 43 человек[232]. К этому стоит прибавить экзотические «подарки» шаха Аббаса императору Рудольфу II – два белых леопарда-альбиноса и редкие птицы семейства соколиных[233]. Самое интересное, что вся эта компания – люди и животные – два с половиной месяца плыла по Каспийскому морю и не единожды попадала в шторм.
Задачи посольства поражают своей грандиозностью. Первая состояла в заключении наступательного союза против османов, вторая – в том, что в обмен на союз и военную помощь Аббас обещал европейцам свободную торговлю и отправление христианской религии на территории Персии. Великое посольство Аббаса было наделено широкими полномочиями, то есть послы предлагали европейским государям проект договора с шахом и, в случае обоюдной договоренности, имели право сразу же подписать его. Посольство состояло сразу из двух глав с равными полномочиями – Хусейн Али-бек из племени байят и Энтони Ширли. Кроме них, статусом посла был наделен преподобный Николау да Мело, монах-августинец, прибывший в Персию из португальской Индии и за короткий срок заслуживший доверие Аббаса. П. Пирлинг утверждал, что о. Николау да Мело был назначен Аббасом «комиссаром посольства на равных с ним (Э. Ширли) правах для представительства в Риме и Мадриде»[234]. Действительно ли Н. да Мело имел такие полномочия, сейчас выяснить трудно, но Орудж-бек, один из секретарей посольства, упоминал, что августинец получил от Аббаса письма на имя Климента VIII и Филиппа III[235].
Предложения шаха по созданию антиосманской лиги были формально обращены ко всем европейским государям. Однако для Русского государства было сделано исключение. Дело в том, что почти одновременно с посольством в Европу было организовано специальное великое посольство в Москву, во главе с Пер Кули-беком в составе 300 человек, которое покинуло Персию шестью месяцами ранее[236]. Пер Кули-бек прибыл в Москву «по важнейшим делам касательно союза против Порты»[237]. Посольство кн. В.В. Тюфякина не выполнило поставленных перед ним задач из-за эпидемии. Шах не стал дожидаться нового посольства от Годунова и послал собственных послов в Москву. Следовательно, и «европейское посольство», и посольство Пер Кули-бека, отправленные шахом Аббасом в Москву, имели одну и ту же цель – заключение антиосманского союза. Пер Кули-бек, так же как и Хусейн Али-бек, «был из персидской знати самого высокого ранга»[238]. Оба посольства были приняты царем Борисом почти сразу по прибытии в Москву, через 8 дней[239]. Причем аудиенция была совместной, свидетельство того, что Б. Годунов был в курсе целей и задач «европейского» посольства Хусейн Али-бека – Э. Ширли.
Неприятности, с которыми персидское посольство шаха столкнулось в Москве, являются хрестоматийным фактом, попавшим в историю благодаря запискам Орудж-бека. Согласно Орудж-беку, Ширли для каких-то коммерческих операций «продал» в Москве английским купцам «подарки шаха христианским принцам»[240]. Это случилось несмотря на то, что Годунов «запретил» Э. Ширли иметь какие-либо отношения с английскими купцами, проживавшими в Москве[241]. По всей видимости, чтобы как-то оправдаться перед царем, Э. Ширли составил донос на августинца Николау да Мело. Ширли «доверительно» сообщил Годунову, что преподобный о. Мело имеет при себе письма к польскому королю, поэтому может быть «предателем и шпионом». Б. Годунов приказал произвести у монаха обыск. Во время обыска были найдены грамоты Аббаса к Клименту VIII и Филиппу III, кроме того, была обнаружена большая сумма денег – 60 тысяч динаров. По мнению П. Пирлинга, именно эти «улики» укрепили Б. Годунова во мнении, что Н. да Мело может быть «предателем и шпионом»[242]. Не помогло даже заступничество «большого фаворита Бориса» принца Густава, лично знавшего Николау да Мело. Подробности московского инцидента вновь помогает прояснить «Хроника кармелитов».
Преподобный Иоанн-Фаддей в 1609 г.[243] получил сведения о происшествии лично от о. Мело, который, в отличие от утверждений Орудж-бека, был августинцем, а не доминиканцем. Николау да Мело очень подружился с Э. Ширли в Персии и занял ему крупную сумму денег, которую англичанин обязался вернуть после перепродажи персидских товаров в Москве[244]. Однако Годунов, продержав посольство Э. Ширли – Хусейн Али-бека в Москве четыре месяца, запретил ему следовать в Европу через Польшу. Этот странный шаг со стороны Б. Годунова трудно объяснить, так как «волнения в Литве», на которые он ссылался, оправдывая перед Аббасом свое поведение, вряд ли могли повредить посольству, одной из целей которого была встреча с польским королем Сигизмундом III. Николау да Мело не согласился изменять маршрут и собирался отправиться непосредственно в Польшу. В связи с этим он потребовал у Э. Ширли свои деньги обратно. Тогда-то Э. Ширли и сообщил Годунову, что о. да Мело может быть шпионом. По словам о. Павла-Симона, «москвичи ограбили монаха, изъяв у него 60 000 золотых»[245]. Августинца предали церковному суду и сослали в Соловецкий монастырь на десять лет. Таким образом посольство потеряло одного из своих членов.
Однако далее в «Хронике кармелитов» сообщается, что и сам Ширли, посол шаха Аббаса, попал в немилость: «он (Ширли) столкнулся с большими трудностями в Московии… Великий князь думал о его аресте и задержке…»[246] Этот речевой пассаж никоим образом не объясняет, что же действительно произошло с Ширли в Москве. Отношения Годунова и Аббаса на рубеже 1599–1600 гг. достигли апогея своего развития. Интенсивно обсуждалось подписание двухстороннего военно-политического союза, обмен посольствами был регулярный. Самое главное в этих взаимоотношениях заключалось в том, что Годунов имел более почетный статус в восточной иерархии, так как ранг «Белого царя» был выше ранга персидского шаха, правопреемника ильханов[247]. Почему царь Борис занял такую «странную» позицию по отношению к послу его «брата» – шаха Аббаса? Ответ на этот вопрос прост. Последние 12 лет Борис Годунов, лично и не безуспешно, занимался созданием антиосманской лиги, в которой Русское государство играло не только одну из главных ролей, но и, что более важно, являлось посредническим звеном между европейскими государями и персидским шахом. В этой тонкой дипломатической игре Годунов преуспел, его «незаменимую» роль признавала как одна, так и другая сторона. Но, добравшись до самой вершины своей дипломатической деятельности, Годунов совершил роковую ошибку, не сумев обуздать свои имперские аппетиты. Он стал увязывать в переговорах с шахом создание широкой антиосманской коалиции с признанием со стороны шаха «высокой руки» русского государя[248]. Шах Аббас, получивший в истории эпитет Великий, заслуживал его в полной мере. Не менее тонкий и расчетливый политик, Аббас разгадал дипломатическую интригу Годунова, но отказываться от союза с северным соседом не хотел. Поэтому шах попытался вести переговоры по созданию антиосманского союза с европейцами в обход русского царя, напрямую, пытаясь тонко завуалировать от Годунова свое понимание сложившейся ситуации. Поэтому в Европу отправилось посольство, состоявшее только из 43 человек, а в Москву из 300, причем вместо леопардов-альбиносов Годунову преподнесли золотой трон персидских шахиншахов эпохи Сасанидов.
Естественно, что Годунову не могла понравиться инициатива шаха Аббаса. Налаживание непосредственных связей между Европой и Персией могло привести к устранению Б. Годунова от занимаемых им выгодных позиций посредничества между ними. Персидские послы были задержаны в Русском государстве на шесть месяцев. Правда, надо иметь в виду, что посольство прибыло в Москву в ноябре, а с какими трудностями сталкивались путешественники по России зимой, будет хорошо видно из тех бедствий, которым подверглось папское посольство кармелитов через пять лет. Пребывание при дворе Бориса Годунова самым драматическим образом отразилось на дальнейшей истории посольства и карьере Ширли. Именно этого и добивался Годунов. Ширли, безродному иностранцу, не доверял второй посол Хусейн Алибек, представитель знатного племени байят, имевший в Персии личный гарнизон в 3000 кызылбашей[249]. По замыслу шаха Аббаса, Хусейн Али-бек должен был играть роль представительской фигуры, пока Ширли вел бы переговоры с европейскими государями на понятном им языке. Ширли, человек столь же честолюбивый, сколь тщеславный, с самого отъезда из Исфахана ревностно подчеркивал и охранял свой статус персидского посла, полученный от шаха. Годунов, наоборот, демонстративно нивелировал его статус, назначая ему самое последнее место – после Пер Кули-бека и Хусейн Али-бека. Кроме того, за Ширли постоянно следили и, по словам одного из сопровождавших его Уильяма Перри, царь «ежедневно присылал своих князей расспрашивать сэра Антони о различных пустых подробностях, стараясь таким образом отыскать какие-нибудь улики против него»[250].
Уильям Перри сообщает и другие подробности. Хусейн Али-бек интриговал против Ширли, «подстрекая» о. Николау да Мело измышлять против «сэра Антония всевозможные позорные вещи»[251]. Самым выгодным в этой «междоусобной склоке» для Годунова было обвинение Ширли в том, что он якобы «явился в эту страну как шпион с целями, клонящимися к его собственной выгоде, а не выгоде Персии и христианства, как он сам утверждал»[252]. Ширли был арестован, брошен в темницу как шпион, и с ним проводились «дознавательные» процедуры, на которых устраивались очные ставки с Николау да Мело. На одной такой встрече «сэр Антоний вскипел такой яростью, что со всей силы ударил монаха по толстому лицу так, что последний потерял сознание»[253]. После этого, по словам Перри, Годунов, который, получается, лично присутствовал на «дознании», якобы убедился в невиновности Ширли и приказал его отпустить и даже разрешил англичанам видеться с проживавшими в Москве английскими торговцами. А о. Николау да Мело, как уже отмечалось, был предан церковному суду.
Казалось бы, конфликт исчерпан. Но простодушный англичанин не заметил главного – для чего было организована, без сомнения лично Годуновым, вся эта странная интрига. А ведь он сам упомянул об этом в своем рассказе. «Вследствие этого (то есть ареста Ширли) у сэра Антония отобрали все письма шаха, вскрыли их, чтобы узнать их содержимое»[254]. Это и было то, к чему стремился Годунов. Ему было необходимо знать, не вел ли шах Аббас двойную игру и не замышлял ли он с «европейскими принцами» дел, которые нанесли бы ущерб интересам Русского государства. После того как он выяснил, что ничего подобного шах не замышлял, посольство было отпущено в Европу.
Только к середине лета 1600 г. посольство добралось до Праги. Дальнейшие подробности о перипетиях посольской миссии можно узнать из «Хроники кармелитов». Э. Ширли отправил в Рим депешу на имя Климента VIII, в которой говорилось, что «Хусейн Али-бек считает себя главой посольства и ведет себя так, как будто один может выполнить задачи посольства, да еще и настраивает Вашу Святость против меня, как англичанина»[255]. Однако вскоре послы были вынуждены прекратить споры между собой ввиду вскрывшихся обстоятельств. Посольство находилось в Праге уже два месяца, но не могло получить аудиенцию у императора. Дело в том, что к моменту прибытия посольства в Прагу, в начале августа 1600 г., у Рудольфа II началось обострение его хронического заболевания, которое омрачало последнее десятилетие его жизни[256]. Несколько месяцев император никого к себе не допускал, кроме личного парикмахера – Ф. Ланга. Затем попали в немилость и подверглись наказаниям виднейшие члены пражского правительства. Среди них главный гофмейстер двора Вольфганг Румпф, который пользовался неограниченным доверием Рудольфа II еще с его пребывания наследником в Испании, и высший маршал двора Пауль Сикстус Трауцон. Именно эти высокопоставленные чиновники курировали в австрийском правительстве вопросы, связанные с созданием антиосманской лиги[257]. После изгнания из Праги, в начале осени 1600 г., В. Румпфа и П.С. Трауцона имперское правительство пребывало в состоянии временного коллапса. Неожиданно послам стало известно, что императорский двор с интересом обсуждал «предложения короля Персии», которые они не могли довести до сведения императора.
Энтони Ширли и Хусейн Али-бек подали на имя императора ноту протеста, в которой выразили от имени шаха Аббаса крайнее неудовольствие тем фактом, что еще за шесть месяцев до их прибытия в Прагу при дворе императора распространились слухи о цели их миссии. «Преждевременное раскрытие условий соглашения предоставит возможность туркам захватить персидские товары и людей…[258] Тогда король Персии, преданный своим обязательствам перед христианами, однако, будет вынужден добиваться мира с турками в интересах своих подданных[259]. Ответив такой черной неблагодарностью на предложения дружбы и союза, христианские принцы получат взамен за нанесенное оскорбление беспощадную месть со стороны шаха. Это особенно опасно для короля Испании, так как Ормуз, Маскат и т. д. попадут под власть шаха. Кроме того, такое поведение противоречит императорскому достоинству и дипломатическому этикету, принятому на всех переговорах»[260]. В заключение послы задавали императору резонный вопрос: «почему, если задолго до их прибытия была известна цель миссии, они (христианские принцы) не подготовили свои решения ни частично, ни по всем пунктам сразу»[261].
Можно предположить, каким образом информация о предстоящих переговорах, не предназначенная для широких кругов, стала предметом обсуждения при дворе, который являлся пристанищем многочисленных османских шпионов. Если допустить, что сами условия создания «конфедерации» разрабатывались в канцелярии Римской курии, то вполне возможно, что некая информация могла циркулировать в виде слухов среди папской нунциатуры и в Праге, и в Мадриде. Неизвестно, каким образом Рудольф II отреагировал на ноту протеста, учитывая его состояние. 8 января 1601 г. папский нунций в Праге Ф. Спинелли отправил папскому племяннику кардиналу Сан-Джорджо (Синтиусу Альдобрандини), одному из будущих организаторов миссии кармелитов в 1604 г., срочную депешу. В депеше нунций сообщал: «Его Светлость кардинал Дитрихштайн[262] и эрцгерцог Максимилиан, братья императора, а также персидский посол все еще не могли представить правительству свои предложения. Предложения от персидского шаха, которые кардинал Дитрихштайн все-таки решился представить императору, были представлены мне персидским послом непосредственно[263]. Вместе с шахскими «привилегиями» христианским торговцам я отправляю их Вашей Светлости в копии»[264].
Достоверной информации об официальной стороне переговоров сохранилось крайне мало, если не считать текста торговых privilegel[265]. Многих исследователей сохранность именно текста торгового договора ввела в заблуждение по поводу целей и задач всего посольства. Тем больший интерес представляет сохранившийся в Ватиканских архивах проект союзного договора между Аббасом и «европейскими принцами», опубликованный в «Хронике кармелитов». Не сохранилось персидского подлинника, с которого делалась копия, а только перевод, сделанный на латинском языке в канцелярии Римской курии.
Проект антиосманского договора состоит из 18 параграфов, в которых излагаются предложения шаха христианским государям по совместной борьбе и форме их объединения. Особого внимания заслуживают параграфы № 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18. Именно в этих пунктах содержится суть предложений. Кратко резюмируя их содержание, надлежит отметить следующее: Аббас готов в любой момент начать войну с османами, будучи уверенным в том, «что все бремя войны не упадет только на его плечи»[266]. Поэтому он обращается ко всем «христианским принцам, владетелям и республикам Европы» с предложением:
Первое – денонсировать все договоры и соглашения, которые они имеют с турками[267].
Второе – заключить письменный договор с шахом Персии о совместной борьбе против османов. К договору могут присоединиться все желающие, но главным фигурантом, который необходим договору, должен быть император Священной Римской империи[268].
Третье – союз между христианскими принцами и шахом Персии должен представлять собой конфедерацию, в которой должны учитываться интересы каждой участвующей державы[269].
Четвертое – для заключения подобного рода союза шах направляет своих послов с широкими полномочиями. После обсуждения предложенных статей союзного договора и внесения своих дополнений и изменений заинтересованные стороны должны прислать к шаху своих послов с правом подписания договора. Учитывая дальность расстояния и длительность пути между Персией и Европой, Аббас предлагает аккредитовать у себя в столице постоянных послов всех заинтересованных государей, но особенно это касается представителей императора[270].
Пятое – если христианские государи вступят в конфедерацию с персидским шахом, то они обязаны будут участвовать в военных действиях против османов. Заключение с османами сепаратного мира без согласия остальных участников конфедерации будет считаться предательством. И вообще, заключение любого перемирия с турками должно приниматься только после совместного решения конфедератов[271].
Шестое – чтобы как-то воспрепятствовать постоянному расширению «тиранической империи турок», необходимо, по мнению шаха, начать войну с различных направлений, а не сосредотачивать все силы только на венгерском фронте. Для этих целей шах «без всяких задержек» поставит на театр военных действий 60 тысяч мушкетов (туфенгчиев) и столько же конницы, а при необходимости и большую силу[272].
Остальные пункты предложений шаха в сжатой форме передавали содержание торговых привилегий, обещали свободу вероисповедания торговцам и путешественникам, строительство христианских храмов и монастырей на территории Персии и самое невероятное – подчинение христиан различных конфессий, подданных шаха, Римской католической церкви[273].
Сравнивая стиль и язык торгово-религиозных предложений, изложенных в параграфах 4, 5, 15, 16, 17, и военно-политических статей, Герберт Чик, составитель и компилятор «Хроники кармелитов», сделал предположение, что включение в текст не относящихся к антиосманскому союзу статей принадлежало не шаху, а Э. Ширли. Вполне допустимо, что Э. Ширли мог быть редактором не только торгово-религиозных, но и военно-политических предложений. Главное, что Аббас согласился с такой трактовкой «союза-конфедерации» и от своего имени предложил их европейским правителям. Однако некоторые исследователи вообще подвергают сомнению, что великое посольство в Европу 1599–1600 гг. доставило какие-либо предложения, кроме торговых[274]. Подтверждением существования предложений военно-политического союза могут служить приведенные выше выдержки из письма нунция Спинелли, где, собственно, и был сделан первый перевод предложений шаха. Сомнительно, что Э. Ширли решился бы от собственного имени делать подобного рода предложения и скреплять их личной печатью шаха, которая, кстати, удостоверяла его полномочия как шахского посла, имеющего право подписывать договор. Абсурдным кажется и другое предположение, что якобы сочиненные Э. Ширли предложения выдавались европейским государям как исходящие непосредственно от Аббаса. Во-первых, Э. Ширли находился на службе шаха, причем на очень выгодных условиях. Шах наделил простого английского дворянина полномочиями великого посла – это высшая точка в карьере Ширли. Во-вторых, Э. Ширли оставил в Персии в качестве залога своей чести и преданности младшего брата, к которому шах обещал относиться «по-братски»[275].
Косвенным подтверждением намерений Аббаса в отношении возможных европейских союзников может служить свидетельство случайного очевидца, о. Эммануэля де Сантоса, монаха-августинца, который находился в Исфахане в 1599 г.[276] Отчет Э. де Сантоса датирован 27.01.1601, временем, когда Хусейн Али-бек и Э. Ширли находились еще в Праге и ждали реакции на предложения Аббаса со стороны императора. Однако медленно выздоравливающий Рудольф с трудом реагировал на окружающую обстановку. По мнению послов, император в этот момент «был всецело поглощен своей внутренней ситуацией»[277]. Тем не менее Рудольф дал ответ Аббасу, правда в весьма пространной форме, в которой вместо конкретного согласия на создание «конфедерации» с другими христианскими государями содержалась просьба к шаху Аббасу об открытии второго фронта против османов летом 1601 г. Текст этого письма сохранился в «Хронике кармелитов»[278]. Впоследствии критики политики императора Рудольфа ставили ему в упрек то, что, не давая Аббасу конкретных гарантий в отношении заключения союза, император мог бы в крайнем случае оказать ему помощь артиллерией и стрелками. В этом случае боеспособность персидской армии возросла бы в несколько раз[279]. На наш взгляд, Рудольф даже при желании сделать этого не мог, так как Империя семь лет находилась в состоянии войны с Турцией и в течение всего этого времени император постоянно боролся с нехваткой людских и финансовых средств для ведения войны[280].
Подобного ответа со стороны императора на предложения шаха Аббаса было явно недостаточно для заключения соглашения между Империей и Персией. В Праге Э. Ширли понял, что и у других европейских государей предложения Аббаса о военном сотрудничестве не встречают должного отклика. Весной 1601 г. он предпринял попытку разъяснить Клименту VIII истинное положение дел. Ширли писал понтифику: «Святой Отец. Переговоры от имени Короля Персии заключаются всего в двух вопросах. Первый затрагивает политическое устройство «конфедерации» против общего врага – Турка, с христианскими принцами, которое он (шах) надеется достичь через посредничество Вашей Святости. Другой – относительно вопросов религии. И хотя второй может быть более важным делом и большей целью для Вашей Святости и для меня как хрестьянина, тем не менее начинать необходимо с первого, потому что для короля Персии его разрешение будет являться сильнейшим поводом для удовлетворения второго»[281].
Столь решительные заявления Ширли имели определенный резонанс в Римской курии, тем более что она выступала идейным координатором действий против османов. Однако в отношениях с Персией, так же как и с Русским государством, Римская курия допустила тактическую ошибку. На первое место в отношениях с Аббасом I Климент VIII поставил обращение шаха в христианство и прозелитизм на территории Персии. Лояльное отношение к христианам, как потенциальным союзникам, шах демонстрировал повсеместно. Это ввело в заблуждение папского посланца о. Франсиско Дакосту, который в конце 1599 г. побывал при дворе Аббаса и сделал Клименту VIII отчет о том, что шах готов вместе со своей державой вступить в лоно католической церкви[282]. Это заблуждение в результате и привело к роковым последствиям.
Ответ Климента VIII на предложения Аббаса, данный Э. Ширли и Хусейн Али-беку, от 02.05.1601 заслуживает особого внимания. В нем в общих чертах изложены основные шаги, которые предприняла Римская курия в ответ на предложения Аббаса. «…Вы послали к Нам дворянина Антони Ширли и выдающегося Хусейн Али-бека, чье прибытие было для Нас очень приятным. ‹…› Поскольку с тех пор как они прибыли, Мы услышали со многими подроб ностями то, что подтверждается долгожданными письмами, которые Мы получили с исключительным восхищением от Вашего имени. Мы внимательнейшим образом выслушали те вопросы, которые они обсуждали с Нами от Вашего имени. ‹…›
…Мы, как и Верховные римские папы, наши предшественники, которые часто имели дело с Вашим отцом и предками, действительно хотим иметь дело с Вами. Вы не должны быть объяты тревогой и печалью по поводу того, что Вам одному придется выступать на самого жестокого врага величия персидских королей, который стремится сокрушить Вас и надеть ярмо рабства. <…>
Относительно Вашего желания в нашем присутствии заключить с христианскими королями и принцами лигу против Турка – Мы желаем того же самого, и Мы заверяем Вас, что приложим к воплощению этой идеи все усилия и употребим все знаки папской власти…»[283]
Однако предложения Климента VIII тактически отличались от предложений, сделанных Аббасом I. «Но великие дела требуют внимательного рассмотрения и немалого времени. Между тем некоторые из наших принцев сдерживают турок военными действиями. Особенно это касается Нашего дражайшего сына, Рудольфа Избираемого императора, который постоянно ведет войну с Турком. И даже теперь, этим летом, собираются средства для этого. Мы также помогаем ему, посылая наши вспомогательные силы против турок[284]. И всеми возможными способами давления Мы воздействуем на Католических принцев, наших сыновей, чтобы оказать помощь тому же самому Избираемому императору»[285].
Климент VIII предлагал Аббасу напасть на османов немедленно, без всяких задержек. «Мы надеемся на Ваше благоразумие и Ваш здравый смысл для того, чтобы использовать этот благоприятный случай, и, пока Турок держит весь цвет своей армии в Венгрии, Вы, поддержанный христианским оружием[286], нападете на него со своими стальными клинками с флангов. ‹…› Не должно быть никакой задержки, чтобы не упустить представившуюся возможность»[287].
Только после открытия второго фронта против турок, по заверениям Климента VIII, «Вы будете полезны Христианам и Христиане в свою очередь Вам…»[288]. Остальная часть письма была посвящена уговорам Аббаса вступить в лоно католической церкви. Папа считал, что, обратившись в католичество, Аббас накрепко будет привязан к другим христианским государям и будет более готовым к объединенным действиям против османов. Апостольское, духовное начало подавило в Клименте VIII трезвого и расчетливого политического деятеля, которым он на самом деле являлся.
Ответ Климента VIII разочаровал Аббаса. Шах был осведомлен о действиях Рудольфа II в Венгрии, однако считал их недостаточными для намеченной цели. О намерении объединить Испанию, Венецию, Тоскану и другие государства или выслать вооруженные силы на театр военных действий не было сказано ни единого слова. Даже полномочия его посланников, Э. Ширли и Хусейн Али-бека, были подвергнуты сомнению[289]. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что уникальные для Европы предложения Аббаса остались нереализованными.
Однако некоторый результат персидским посольством все-таки был достигнут, и не без участия Э. Ширли. В декабре 1600 г. персидское посольство прибыло в Рим, где ему был оказан торжественный прием[290]. После этого на глазах одного из кардиналов Римской курии произошла ссора между Хусейн Али-беком и Э. Ширли, якобы из-за полномочий главного посла. Впоследствии Орудж-бек утверждал, что это произошло не из-за полномочий, а из-за вскрывшейся кражи посольских подарков, которые Э. Ширли продал в Москве английскому купцу[291].
Правда, существует и другая версия. «Истинный повод для внезапного отъезда Ширли так и остался тайной. Ходили упорные слухи, что документы персидского посольства и письма шаха Аббаса к европейским принцам были похищены одним из людей Ширли и доставлены в Константинополь великому визирю. Чувствуя нависшую над собой опасность, Ширли решил спрятаться в Венеции»[292]. В «Хронике кармелитов» утверждается, что Э. Ширли долгое время оставался в Италии и не спешил уезжать в Испанию. Один из очевидцев в Римской канцелярии писал: «Он непрерывно обменивается письмами с королем Персии, и утверждает, что остается в Италии в качестве чиновника короля Персии, и продолжает давать ему (шаху) надежду на то, что он возвратится»[293]. Так или иначе, но в 1602 г. Э. Ширли находился уже при дворе императора. Ширли хорошо понимал, что больной Рудольф II не является человеком, способным объединить Европу против османов. Кроме того, все свои действия в этом направлении Рудольф всегда координировал со своим дядей Филиппом II, при дворе которого вырос. К рассматриваемому времени в Испании уже три года правил новый король – пятнадцатилетний Филипп III. Прежних, доверительных отношений между мадридским и пражским дворами уже не было, однако австрийским Габсбургам была крайне необходима помощь Испании в «долгой турецкой войне». Прибыв в Вену в марте 1602 г., Э. Ширли отправил несколько писем с предложениями Аббаса в Испанию Филиппу III[294].
Испания, как уже отмечалось, являлась главным финансовым донором армии Рудольфа II. В год на эти цели испанское правительство выделяло примерно 200–300 тысяч эскудо. Эта сумма была явно недостаточной, если учесть, что, получив в 1600 г. из Испании 300 тысяч эскудо, Рудольф II потратил их все на осаду только одной крепости – Каниша[295]. Поэтому внешнеполитические шаги императорского двора некоторым образом зависели от мнения испанского короля. Глава испанского правительства Франсиско Гомес де Сандоваль герцог де Лерма во внешней политике занимал скорее профранцузскую позицию. Это выражалось в более сдержанном отношении Испании к совместным действиям против османов. Однако было бы неверно утверждать, что во время «Долгой турецкой войны» герцог де Лерма занимал враждебную позицию к австрийским Габсбургам. Кроме того, по свидетельству австрийского посла в Мадриде И. Кювенхюллера, герцог де Лерма был большим почитателем Рудольфа II[296].
Таким образом, рассчитывать на непосредственное участие Испании в военных действиях против османов не приходилось. Единственно, на что Рудольф II мог надеяться в отношении Испании, так это на весьма нерегулярные денежные взносы и поддержку моральную. Поэтому Рудольфу II пришлось налаживать стратегические связи с Персией без содействия своих западных союзников. Помощь императору в этом процессе и оказывал Ширли, который до 1607 г. оставался в Праге и выполнял дипломатические поручения Рудольфа II, правда, в Персию он так и не вернулся, но считался при дворе специалистом по Востоку[297].
Хусейн Али-бек, после ссоры с Э. Ширли, продолжал переговоры. Предложения шаха были прохладно встречены и другими потенциальными союзниками. Венеция и Испания их не приняли, но и не отвергли в принципе. Пограничным с Османской империей державам очень выгодно было иметь в тылу у своего злейшего врага сильного и мощного союзника, который отвлекал бы силы турок от Европы. Однако от прямого участия в военных действиях средиземноморские державы уклонялись. Тем не менее Филипп III, к которому посольство прибыло осенью 1601 г., заверил Хусейн Алибека, что «очень тронут дружбой, которую предлагает ему король Персии, и что с большой радостью сделает все, что от него ждут…»[298]. Молодой король действительно предпринял некоторые шаги в направлении борьбы с османами, правда весьма своеобразные. Весь свой средиземноморский флот, около 70 галер, он направил в 1601 г. на захват пиратской крепости Алжир в Северной Африке. Формально эти территории находились под властью Османской империи. Воспользовавшись уходом из крепости янычарского корпуса, испанские галеры вступили в противоборство, даже не с османским флотом, а с алжирскими пиратами, для которых крепость была местом зимней стоянки. Таким образом, Испания, вместо того чтобы проводить согласованные с Римской курией и Венецией действия около берегов Турции, ввязалась в войну за Алжир и Северную Африку[299].
Переговоры Хусейн Али-бек проводил не с Филиппом III, а с всемогущим фаворитом короля, герцогом де Лерма, который как было показано выше, считал предложения Климента VIII по созданию антиосманской лиги невыгодными для Испании. Однако персидскому послу герцог де Лерма не решился дать столь категоричный ответ, так как финансово-экономические и политические интересы Испании в Ормузе и Западной Индии во многом зависели от лояльной позиции шаха Аббаса. Поэтому ответ испанского правительства был уклончивым, но подразумевал продолжение переговоров в этом направлении. Хусейн Али-бек выехал из Лиссабона в начале 1602 г. на испанском корабле, который ему предоставил Филипп III. Осенью посольство прибыло в Ормуз. Переговоры между шахом Аббасом I и королем Филиппом III продолжил прибывший в 1602 г. в Персию испанский посол Антонио да Гувеа[300].
Был и еще один результат пребывания персидского посольства в Испании, крайне неприятный для шаха Аббаса. В Испании Орудж-бек байят и еще два члена посольства приняли христианство и остались на службе у короля. В письме к шаху Аббасу Климент VIII оправдывался, что желание обратиться в христианство возникло у неофитов совершенно неожиданно и было скептически встречено со стороны Римской курии, однако «когда все сомнения в искреннем желании» трех персов принять христианство отпали, папа не стал препятствовать этому. Однако среди имен перечисленных Климентом VIII имя Орудж-бека отсутствует: «…они, Шах Хусейн, Реза и Али, желали быть христианами». Известно, что Орудж-бек являлся одним из четырех секретарей посольства. В папском Бреве трое отступников обозначены как парикмахер, повар и секретарь[301]. Однако из текста самого Орудж-бека выясняется, что ренегатов было не трое, а пятеро. Крестной матерью Орудж-бека стала сестра короля, инфанта Маргарита, после крещения он принял имя дон Хуан Персидский, секретарь и племянник посла Али Кули-бек крестился под именем Дон Филипп Персидский, и, наконец, третий секретарь Буньяд-бек, который крестился последним, получил имя Дон Диего Персидский. Четвертый секретарь Хасан Али-бек вернулся вместе с послом в Персию[302].
Подводя итог деятельности первого персидского посольства, можно сделать следующий вывод. Европейские государи оказались не готовыми к предложениям шаха Аббаса по организации широкой антиосманской коалиции. Император Рудольф II в силу объективных и субъективных причин упустил шанс освободить Балканы от османов. Проект «конфедерации» между христианскими государями и мусульманским правителем был предложен европейским правителям шахом Аббасом, исключительный случай в истории раннего Нового времени. Его предложения, облеченные в понятную для европейцев форму, практическим образом отличались от гипотетических предложений по поводу объединения против «общего врага», исходивших от Римской курии. Шах категорически отвергал оборонительную тактику ведения войны, так как она давала, по его мнению, возможность османам разбить конфедератов по отдельности. Девизом будущего союза должна стать наступательная тактика с совместно скоординированными действиями. Для этих целей необходима была аккредитация послов при дворах участников конфедерации.
Аббас не навязывал потенциальным союзникам точную дату и место начала войны. Он считал, что этот вопрос требует обсуждения всех заинтересованных сторон. Со своей стороны, шах считал, что самым подходящим местом для начала военных действий могла бы быть Сирия или Палестина. Анализируя предложения Аббаса европейским государствам, можно с уверенностью сказать, что, проигнорировав эти предложения, Европа упустила, пожалуй, единственную в истории развития международных отношений возможность добровольного и мирного включения в орбиту общеевропейских интересов крупнейшей мусульманской державы. Аббас добровольно предлагал Европе в обмен на союз против османов много больше того, что принесли ей Крестовые походы и никогда не смогли принести колониальные захваты.
Цели посольства и ожидаемые результаты
Римская курия на предложения шаха Аббаса ответила письмом от 2.05.1601, которое доставил возвратившийся из посольства Хусейн Али-бек[303]. Его текст цитировался в предыдущей главе. Общий смысл заключался в требовании открыть второй фронт против османов, только тогда «Вы будете полезны Христианам и Христиане в свою очередь Вам…»[304]. Уже к концу 1601 г. в Римской курии уже подготовили стратегические планы по антиосманским акциям. Новым девизом папской деятельности стала смена оборонительной тактики против османов на наступательную стратегию. Подобная стратегия могла принести успех только при условии одновременного наступления на Османскую империю сразу с нескольких направлений. В Римской курии была разработана новая программа действий европейских государств. План конкретных действий заключался в одновременном наступлении на османов с трех сторон: 1) из Венгрии армией Рудольфа II; 2) со стороны Боснии французскими подразделениями и отрядами эрцгерцога Фердинанда Штирийского; 3) удар с моря силами Испании, Венеции и Римской курии, вместе с остальными союзниками из Италии[305]. Если к этому плану присоединился бы шах Аббас с восточной стороны, а царь Борис с северо-восточной, успех коалиции был бы обеспечен.
Ответ и новые предложения Климента VIII шаху Аббасу должны были доставить Франсиско Дакоста и Диего да Миранда. Папские посланники были португальцами и принадлежали к августинскому ордену, но Д. да Миранда не был монахом, а являлся светским послушником ордена. В двух Бреве содержалась просьба Климента VIII к Аббасу верить всему, что от его имени будут говорить Ф. Дакоста и Д. да Миранда. В «Хронике кармелитов» достаточно много внимания уделено деятельности папских посланников, которые благодаря своему скандальному и недостойному поведению сорвали планы Римской курии. Ф. Дакоста и Д. да Миранда еще в Венеции серьезно поссорились из-за главенства полномочий. Узнав о недостойном поведении своих послов, Климент VIII тут же отозвал посольство. Однако депеша для папского нунция К. Рангони пришла в Польшу тогда, когда посланники уже пересекли границы Русского государства[306]. В РГАДА сохранилась грамота, свидетельствующая о пребывании папского посольства в Русском государстве летом 1601 г.[307] Папское посольство не только было пропущено Б. Годуновым, но ему был оказан почетный прием в Кремле[308]. Папские послы получили личную аудиенцию у Б. Годунова. Ловким португальцам удалось настолько расположить к себе царя, что он снабдил транзитное посольство «кормом»[309].
Посольство прибыло в Персию в середине лета 1602 г. Предложения Римской курии вполне могли бы устроить Аббаса I, особенно в той части, где речь шла о действиях на море. Однако Ф. Дакоста и Д. да Миранда своим скандальным и эпатажным поведением сорвали переговорный процесс[310]. Не исправил ситуацию и прибывший в Персию также летом 1602 г. посол испанского короля дон Антонио да Гувеа. Посольство А. да Гувеа было ответом Филиппа III на предложения шаха Аббаса, полученные от Хусейн Али-бека. Аббас считал испанского короля самым могущественным монархом Европы, поэтому очень надеялся на то, что А. да Гувеа доставил конкретные предложения Филиппа III по совместным действиям против турок. Однако письмо короля отличалось пространными рассуждениями «о пользе ан титурецкой лиги для Европы» и формальным согласием участвовать в ней. Правда, начать военные действия против турок Аббас должен был самостоятельно, и как можно скорее, так как оформление официального договора потребует много времени. Но как только Аббас начнет войну, остальные потенциальные противники османов сразу же присоединятся к нему[311].
Личное участие в антиосманской коалиции Филипп III связывал с «дружественным расположением шаха», которое должно заключаться в территориальных уступках испанцам, решении проблемы Ормуза и беспошлинной торговле для португальских и испанских купцов. Более того, А. да Гувеа от имени Филиппа III потребовал от Аббаса, чтобы тот не имел никаких сношений с «другими христианскими государями, кроме него самого»[312]. Аббас пришел в ярость оттого, что Филипп III увязывал участие Испании в антиосманской лиге с получением выгод за счет шаха. Договориться о конкретных действиях не удалось и на этот раз. Весной 1603 г. А. да Гувеа, вместе с Д. да Миранда, были спешно отправлены обратно в Испанию[313]. Если оба посольства не могли похвастаться личными достижениями, то новость, которую они привезли в Европу, обрадовала все европейские дворы. Поздней осенью 1602 – в начале 1603 г. Аббас начал военные действия против османов. Император Рудольф II срочно отреагировал на эту новость посольством Стефана Какаша фон Залонкемени и Георга Тектандера осенью 1602 г.[314] Целью миссии С. Какаша – Г. Тектандера, по Л. Беллану, было заключение соглашения о совместных военных действиях Империи и Персии против Османской империи[315]. Г. Тектандер, от имени Рудольфа, сообщил Аббасу о желании императора заключить «наступательный союз против османов»[316]. Шах «не упустил возможности принять это предложение» и для того, чтобы продемонстрировать пос лу императора свои возможности, в течение некоторого времени возил Г. Тектандера с собой на театр военных действий[317]. Тектандер мог лично доложить императору Рудольфу, что за короткий срок 120-тысячная армия шаха захватила несколько важных крепостей в Закавказье. После взятия Эривани Аббас вновь принял Г. Тектандера[318] и объявил, что ему «уже пора отвезти ответ Его Императорскому Величеству, что вместе с ним он посылает для сего пос лом Мехди Кули-бека»[319]. Л. Беллан более четко определяет цель и задачи персидского посла Мехди Кули-бека, которого он называет Шах Кули-ханом, – «чтобы скрепить заключенное соглашение»[320].
Долгое время считалось, что великое посольство Мехди Кули-бека было первой миссией к императору после посольства Э. Ширли – Хусейн Али-бека[321]. Однако в 80-х гг. XX в. К. Воселка выяснил, что в 1604–1605 гг. в Праге находились одновременно два персидских посольства[322]. Прибыв в Прагу в декабре, Мехди Кули-бек встретился с находившимся у императора «великим» послом Зайнуль Абдин-беком (Зайнуль-ханом Шамлу), или Зенил-Камбеем, как его называли европейцы. Зайнуль Абдин-бек прибыл в Прагу в июле 1604 г.[323] 26 июля 1604 г. Зайнуль Абдин-бек получил аудиенцию у Рудольфа II, на которой сообщил, что шах Аббас открыл второй фронт против турок[324].
Таким образом в Европе узнали об открытии шахом Аббасом второго фронта против османов и о его первых блестящих победах. Климент VIII решил повторить попытку и направить в Персию еще одно посольство с более надежными людьми, с более широкими целями и полномочиями. На этот раз он обратился к Ордену Босоногих Кармелитов. Из материалов «Хроники кармелитов» и записок о. Бертольда Игнасия Сент-Анна и Флоренсио дель Ниньо можно реконструировать цели и задачи нового папского посольства. «Оно состоялось из-за того, что Его Святейшество хотел иметь доклады из этих стран, настроение того Короля, о котором рассказывали много фактов, а именно: великая любовь, которую он имел в отношении христиан, и что вызывало большое уважение Его Святейшества папы, готовность этого короля принять крещение, жестокая война, которую он вел против Турка, и многих других вещей, часть которых сам король написал Его Святейшеству с послами, которых посылал ему три года назад и в последнее время, с другим он отправлял к императору римлян»[325]. Кроме этих причин, по мнению наших авторов-кармелитов, были и менее «публичные». Такие как «Его Святейшество также хотел узнать о латинских христианах, которые сбежали в Персию, потому что было сказано, что среди них были еретиками («там были еретиками»); а также об армянах, которые были подданными короля персов, чтобы узнать, какое настроение у них было в отношении Святого Престола, и были ли у них ошибки, и, если ошибки были, каковы они, и что надо будет сделать для них и персов»[326]. Преподобный Флоренсио дель Ниньо резюмирует: «Это были главные причины, по которым Климент VIII должен был послать в те далекие земли миссионеров в качестве своих послав»[327]. Такой вывод должен был сделать священник.
Один из главных участников посольства о. Павел-Симон говорит о главном «секрете» их миссии. «Наш Сеньор Клименте VIII приказал нам не говорить никому (особенно в Персии) главную цель нашей миссии, которая состояла в том, чтобы привести те царства к знанию святого Евангелия; но скорее должны сказать, что Его Святейшество послало нас поздравить оного Короля, по поводу многих его побед, которые он учинил над Турком, общим врагом, и призывать его упорствовать в этом крестовом походе; также нас послали, чтобы мы сообщили ему доброжелательность и любовь, которую имел по отношению к нему Его Святейшество, и также то, что ему было известно, что Король Персии любил и уважал Римского Понтифика и христианских Принцев; и, в конце концов, мы должны были посещать и утешать христиан, которые жили в его царстве»[328]. Таким образом, можно сделать вывод, что Климент VIII хотел решить сразу две масштабные цели. То, что эти цели были плохо совместимы между собой, видно было из истории взаимоотношений Европы и Османской империи на протяжении последних 150 лет. Вся Южная Европа, Венгрия была под османским игом, до Вены от занятого османами Белграда было 150 км. И тем не менее римский понтифик мало задумывался над страданиями христиан в Европе, а мыслил христианизировать Персию. Кстати, и в Персии, и Сирии в это время существовали христианские церкви более древние, чем церковь в Риме. Христиане на Ближнем Востоке многие столетия сосуществовали с мусульманами, зороастрийцами, иудеями. Однако у наших отчаянных отцов было непреодолимое желание «осчастливить» их истинной верой, естественно католической, и из-за этого желания они сами были готовы сложить головы, но что более показательно – принести в жертву тысячи «непросвещенных». Вот эти задачи стояли перед кармелитской миссией.
В этом отношении показательно письмо самого Климента VIII, которое мы находим в «Хронике кармелитов».
«Климент VIII к королю персов.
Могущественный и прославленный король, Приветствия и свет Божественной Благодати. Воинственная доблесть Вашего Высочества у всех на устах и является предметом всех разговоров, хотя нечестивый турок, Ваш враг не в меньшей степени, чем и Наш, возможно, перекрыл все пути вступить в переговоры. И Мы полагаем, что Вы своей доблестью в состоянии восстановить могущество вашего древнего царства. Мы действительно отдалены друг от друга огромными пространствами; но в соответствии с той честью, которая показывает Ваша выдающаяся доблесть, Мы имеем к Вам дружественное и благожелательное расположение и пожелание для Вас таких результатов войны, которые смогут должным образом передать людям Вашу славу уже известную и подтвержденную всеми.
Мы хотим предложить достойных Нашего доверия, как залог Нашего доброжелательного расположения по отношению к Вам. Мы выбрали из ордена кармелитов трех благочестивых и ученых священников, которых мы посылаем к вам вместе с их спутниками, а именно Павла-Симона, Иоанна-Фаддея и Викентия.
Они вручат Вашему Высочеству Наши письма и поздравят Вас от Нашего имени с Вашим королевским городом[329], который Вы, одной из многочисленных побед, возвратили себе, в прибавление к Вашей вящей славе, которая по целому миру разносит Ваше имя с всеобщим одобрением и восхищением. Если этот знак Нашей благожелательной расположенности к Вашему Высочеству будет, как мы надеемся, приятен для Вас, Вы узнаете от них также и другие вопросы, которые со временем будут еще более приятны для Вас, и мы просим, чтобы Вы были уверены в еще большем расположении, по всем вопросам, которые они представят Вам согласно Нашим предписаниям, и мы просим у Вас то, что будет полезно и благотворно для вас и для ваших подданных.
Дано в Риме, в Соборе Св. Петра, под кольцом Рыбака, 30 июня 1604, на 13-м году Нашего Понтификата»[330].
Таким образом, папа не говорит и не обещает ничего конкретного и подобного рода письмо мог «досмотреть» любой монарх. Все интересующие шаха «вопросы» кармелиты должны были донести до него в устной форме. И это, учитывая миссионерский пыл наших отцов, было достаточно трудно, так как эти вопросы касались непосредственно координации военных действий.
Участники посольства: биография и судьба
Миссия отцов-кармелитов, организованная Римской курией и лично Климентом VIII, была ответной на великое персидское посольство в Европу 1599–1602 гг. во главе с англичанином Энтони Ширли и Хусейн Али-беком. Направляя это посольство в Европу, шах Аббас I преследовал две цели: первая – создать с государствами Европы союз против османов; вторая – заключить торговые договоры с европейскими государствами о продаже шелка-сырца, находившегося в его личной монополии. Предложения Аббаса I, кроме основных целей, содержали весьма привлекательные условия для европейских купцов и миссионеров. Согласно этим предложениям и личной просьбе шаха Аббаса, папа Климент VIII направил в Персию группу монахов-кармелитов в составе о. Павла-Симона, о. Иоанна-Фаддея, о. Викентия Св. Франциска, послушника Иоанна Успения и мирянина Франсиско Риодолида Пералту[331]. Кармелиты должны были доставить шаху Аббасу личное послание папы Климента VIII, германского императора Рудольфа II, польского короля Сигизмунда III, римских кардиналов Синтуса и Марко де Вильно.
Посольство возглавил опытный и осторожный преподобный о. Павел. Он происходил из знатной арагонской фамилии Риварола, проживавшей в Генуе[332]. Павел, или, точнее Паоло, Риварола принял постриг в только что основанном в Генуе кармелитском монастыре Св. Анны в 1595 г. Затем приор монастыря отправил теперь уже о. Павла Иисус-Марии в Испанию для прослушивания курса философии и теологии. В Геную он возвратился доктором богословских и философских наук, что очень пригодилось ему в дальнейшем для деятельности профессионального дипломата. Затем генерал-комиссар Ордена Босоногих Кармелитов Петр Богоматери направил о. Павла в Неаполь на должность викария-приора местного монастыря. Очень скоро о. Павел приобрел репутацию умного, мужественного и фанатически преданного делу церкви проповедника. Мечтой о. Павла было путешествие в Палестину, к Гробу Господню, но не только с целью поклонения, а в большей степени со страстным желанием «вернуть заблудшие души» в лоно католической церкви. Таким образом, страстное желание обращения в христианство иноверцев и язычников было отличительной чертой этого монаха. Очень скоро о. Павел приобрел репутацию умного, мужественного и фанатически преданного делу церкви проповедника. Учитывая все эти качества и достоинства молодого приора, Климент VIII и возложит на него лидерство в миссии особого свойства. Забегая вперед, следует отметить, что по возвращении из Исфахана в 1608 г. папа Павел V отправил о. Павла в Мадрид ко двору Филиппа II. Там приор должен был представить королю истинное положение дел и доказать необходимость дальнейших миссий в Персию[333]. Впоследствии, учитывая заслуги о. Павла, его трижды избирали генералом Ордена Босоногих Кармелитов. Во время исполнения этой должности он и умер в Риме в 1643 г.
В Неаполе о. Павел встретил другого кармелита, который на долгие годы разделит с ним тяготы и радости миссионерского служения. Этим человеком был арагонец Хуан Рольдан Ибаньес из маленького городка Калаорра в регионе Риоха. Будущий первый епископ Исфахана родился в 1574 г. С раннего детства впечатлительный ребенок мечтал стать миссионером Калаорра среди арабов и освободить Святую землю от мусульман. В его родном Калаорре бурно проходило утверждение реформы Терезой Авильской кармелитского ордена. Наставником юного Хуана Рольдана был Д. Гаспар де Ортуньо, декан кафедрального собора Калаорра, который прибыл из Авилы, где был лично знаком с преподобной Терезой. В 22 года Хуан Рольдан Ибаньес попал к босоногим кармелитам и стал послушником в монастыре Св. Илии в Вальядолиде. Через год, 1 мая 1597 г. принял постриг под именем Хуан де Сан-Элисео (Иоанн Св. Елисея). Став монахом, он продолжил духовное обучение в монастырях Кастилии. Стоит отметить, что о. Иоанн получил хорошее образование, потому что впоследствии он стал талантливым писателем и настоящим полиглотом, так как во время своего путешествия, кроме персидского и армянского языков, выучил еще и русский. Все эти качества впоследствии позволили Иоанну Св. Елисея стать первым епископом Исфахана. Отозванный в Рим в 1630 г., он не переставал просить папу римского об отправлении его обратно в Исфахан. Он умер в том же году, по дороге в Лериду (Испания), куда получил новое назначение.
Когда кармелиты разделились на две конгрегации (1597-1600), по папскому Бреве In apostolicae dignitatis, выяснилось, что итальянская конгрегация нуждается в персонале. Тогда папа Климент VIII попросил у испанских руководителей ордена послать в Италию каких-либо священников, которые стали бы «свежей кровью» для новой конгрегации. Один из посланников был молодой Иоанн Св. Елисея. Он прибыл в Рим в 1600 г. и высказал руководителям ордена свое желание миссионерства, но руководство посчитало, что подходящий момент еще не наступил. В 1601 г. Иоанн Св. Елисея был послан в Неаполь, где познакомился с Павлом Иисуса-Марии. Оба монаха жаждали миссионерской деятельности среди неверных в Святой земле. Их страстное желание послужило поводом для дебатов руководства новой конгрегации о соответствии миссионерской деятельности строгому уставу монастыря, прежде всего положению о затворничестве. Глава Ордена Босоногих Кармелитов Петр Богоматери обратился к Клименту VIII как к третейскому судье по этому вопросу. Климент VIII как раз готовил ответную миссию на посольства шаха Аббаса. Поэтому он объявил, что ему не нужны миссионеры для Святой земли, так как там уже давно и небезуспешно обосновались францисканцы, но он «нуждался в миссионерах для Персии»[334].
Глава босоногих кармелитов Петр Богоматери сразу назначил для миссии Павла Иисуса-Марии и Иоанна Св. Елисея. Третьим участником посольства стал преподобный о. Викентий Св. Франциска, тоже испанец, из Валенсии, в миру Хуан де Гамбар. Он принял постриг в достаточно зрелом возрасте в Риме, в монастыре Санта-Мария делла Скала, в 1599 г.[335] Сразу после этого он начал обучение на богословском факультете, с чего и началась его религиозная карьера. Безукоризненно исполняя любые поручения, о. Викентий быстро стал делать успехи по службе. Отец Викентий совершил три длительных и опасных путешествия на Восток, последний раз – в качестве заместителя генерала ордена. Наконец, о. Викентий был назначен настоятелем монастыря в Палермо, где и скончался в 1623 г.
Остальные члены миссии, числившиеся «секретарями» при отцах-кармелитах, кроме всего прочего, выполняли особые поручения, возложенные на них орденом.
Иоанн Успения стал послушником в Риме в 1601 г. В миру Джан Батиста Анджели, происходил из дворянской семьи города Губбио, в Умбрии. Начальство характеризовало его как человека честного и порядочного. Чтобы попасть в состав миссионеров, он более строго, чем того требовал устав ордена, постился, не вкушал пищи и проводил ночи в молитвах. В результате брат Иоанн Успения был назначен в миссию в качестве сопровождения отцов-кармелитов. Во время поездки Иоанн Успения прекрасно выполнял свой долг, проявляя образец стойкости и мужества. Однако он закончил свой жизненный путь во время зимовки кармелитов в Царицыне в 1607 г.
Единственным мирянином маленькой миссии был Франсиско Риодолид Пералта. По происхождению он также был арагонцем, из бедной, но благородной семьи. Риодолид Пералта был профессиональным военным и долгое время служил наемником во Фландрии и командовал ротой артиллеристов. Будучи непосредственным участником сражений между испанскими войсками и гезами, Риодолид на себе испытал все ужасы войны, что, собственно, и привело его на путь служения Богу. Он обосновался в Неаполе, где близко сошелся с о. Иоанном Св. Елисея. Именно это знакомство оказало на Риодолида такое сильное впечатление, что он решил посвятить свою дальнейшую жизнь битвам на духовном фронте. Генерал-комиссар ордена так охарактеризовал его: «Это был испанец благородного рода, и занял с честью первые военные места; но он стал более известным все еще из-за даров Святого Духа и из-за усердной практики молитвы. Это постоянное упражнение привело его к горячему желанию сопровождать наших миссионеров в Персию, для того чтобы показывать свою пользу в области духовных сражений. Он был создан для больших путешествий, и, ввиду его большой осторожности, он мог бы служить хорошим подспорьем для наших отцов-миссионеров»[336]. Тем не менее Климента VIII уведомили, что мирянином, имеющим богатый военный опыт, Риодолид может быть более полезен делу миссии. Климент VIII направил Риодолида в Персию в качестве военного советника для формирующейся армии шаха. Руководитель миссии о. Павел так говорил о задачах Франсиско Риодолида: «Папа послал испанского дворянина, для того чтобы увидеть, каких именно королю Персии отправить военных инженеров и других людей для ведения войны, которых король просил у Его Святейшества, в помощь ему против турок, и что, если было бы благоприятно их отправить, Риодолид увидел бы, какого рода инженеров и профессиональных военных ему (шаху) нужно»[337]. Поэтому Риодолид Пералта поехал с миссионерами в одежде мирянина. К сожалению для миссионеров и для Аббаса I, Риодолид умер, как и брат Иоанн Успения, в Царицыне от цинги.
На последней аудиенции у Климента VIII о. Павел и о. Иоанн, кроме инструкций и благословения, получили имена личных патронов-заступников апостолов Св. Симона Кананита и Св. Фаддея, которые первыми пролили кровь на миссионерском поприще. Теперь преподобные отцы стали именоваться Павлом-Симоном и Иоанном-Фаддеем. Также папа Климент VIII потребовал от миссионеров, чтобы они приняли три дополнительных обета: 1) идти проповедовать Евангелие туда, куда их пошлет руководство, 2) принять смерть за веру, если потребуется, и 3) не брать (получать) ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней. Это последнее предписание папы сильно осложнило, как будет видно далее, и без того весьма трудную жизнь миссионеров[338]. Территории и страны, через которые они должны были добираться до пункта назначения, имели самые разные климатические условия, местности, которые были практически безлюдными и где нельзя было ничего купить, а лишь выменять. Но наши монахи вынуждены были в таких условиях неукоснительно следовать принесенным обетам.
Субсидировал посольство духовный сын о. Иоанна-Фаддея благородный калабриец дон Франсиско Чимино, барон Какурри, который хотел основать в Неаполе духовное училище для юношей-иноверцев, с целью их обращения в католичество. Преподобный о. Иоанн-Фаддей уговорил направить его помыслы в русло организации миссионерской деятельности. Римская канцелярия снабдила кармелитов рекомендательными письмами ко всем папским нунциям, которых они могли встретить на пути, монахам-августинцам, которые находились в это время при дворе шаха Аббаса. Были составлены рекомендательные письма и к европейским государям. И здесь можно наблюдать первую странность в организации столь сложного и опасного предприятия. Письма были адресованы шаху Аббасу, императору Священной Римской империи Рудольфу II, королю Польши Сигизмунду III, далее было письмо на имя «Федора, Принца самого могущественного из московитов»[339]. В таком порядке перечисляет дипломатическую корреспонденцию о. Флоренсио дель Ниньо. В «Хронике кармелитов» есть указание, что в письме к московскому государю вообще не было проставлено имя. Этот факт нельзя объяснить забывчивостью или невежеством папской канцелярии. Три года назад в Русское государство в Персию добирались Диего да Миранда и Франсиско Дакоста. Более того, они, как уже отмечалось, имели радушный прием при дворе Годунова и в своих отчетах неоднократно упоминали события в Москве. В Римской курии хорошо знали, кто такой Борис Годунов, с которым в 1595 г. вел переговоры папский посланник Алессандро Комулео, кстати по вопросу «составления лиги противу Турок»[340]. Могло ли быть это случайностью, или это было связано с тем, что посольство не определилось с маршрутом и верительная грамота для русского государя была не столь актуальна? Возможно, это просто случайность, но события, с которыми столкнутся кармелиты сразу же после отбытия из Рима, говорят об обратном.
Кроме этих документов, генерал ордена о. Петр Богоматери вручил миссионерам практические инструкции, которые в будущем должны были стать руководством для всех кармелитских миссионеров, отправлявшихся в страны иноверцев. Более того, преподобный о. Петр обязал кармелитов вести «дневники», в которых они должны были не столько отмечать происшествия, происходившие с ними, сколько описывать народы, привычки, языки и места, по которым они должны были следовать. Благодаря именно этим дневникам мы имеем бесценные свидетельства событий, происходивших в Русском государстве в начале XVII в.
Выбор маршрута
Вариантов маршрута для путешествия в Персию было несколько. Относительно безопасный, но не быстрый маршрут был связан с пересечением двух океанов на португальских судах, караван которых раз в год отправлялся в Индию (Гоа) с заходом в Ормуз. По времени самое благополучное путешествие занимало примерно 9 месяцев, не считая того, что судно могло затонуть. Однако португальцы, главным образом руководители ордена августинцев, усматривая в миссии кармелитов угрозу для своего влияния при дворе шаха Аббаса[341], отказались брать с собой кармелитов.
Второй маршрут пролегал через Средиземное море, был самым коротким, но и самым опасным. Если путешественники не тонули во время бури, что случалось раз из 10 поездок, и не попадали в плен к османским пиратам, то они высаживались в порту Александретты, в Леванте. Затем их маршрут пролегал до сирийского Алеппо, где, собственно, кончалась «османская цивилизация» и начиналось Дикое поле на ближневосточный лад. Если путешественникам удавалось не умереть в полупустынных местах без еды и воды, не замерзнуть или, наоборот, не погибнуть от 50-градусной жары, и, главное, не попасть в руки многочисленных разбойников, они могли добраться до Багдада, где в это время располагался османский гарнизон. Этим маршрутом, с вышеперечисленными приключениями, добиралась до Персии компания братьев Ширли – Энтони и Роберта – и еще 24 англичанина в 1598 г. Однако к 1604 г. между Персией и Османской империей шла очередная война, османы од новременно воевали и со Священной Римской империей на западе, поэтому и от этого маршрута пришлось отказаться.
Третий проходил через Священную Римскую империю, Польшу и Русское государство. При всей длительности этого пути, он казался наиболее безопасным. До Москвы посольство должно было добираться сухопутным путем, а далее по Волге с торговыми или посольскими караванами до Каспия. При благоприятных погодных условиях море можно было пересечь за 30–40 дней и высадиться на территории Персии. Именно таким путем в Персию за три года до этого добирались августинцы Франсиско Дакоста и Диего да Миранда. Наши кармелиты выбрали именно его еще и потому, что до самой русской границы они могли беспрепятственно пользоваться услугами и содействием многочисленных папских нунциев и католических монастырей. Для этих целей они запаслись письмами от кардиналов Альдобрандини и Сан-Джорджио[342].
Посольство, состоявшее всего из пяти человек, снабженное рекомендательными письмами, священными книгами и подарками для шаха, выехало из Рима 6 июля 1604 г. в праздник Св. Петра и Павла[343]. Курс был взят на Венецию, но по дороге заехали в Лорето, поклониться Богоматери Лорето (Лоритано), которая считается покровительницей всех миссионеров, кстати, почитается и в православии, образ Богоматери «Прибавление ума»[344]. С этого момента о. Павел-Симон начал вести свой дневник, обращая внимание на малейшие детали, которые встречались путешественникам по дороге.
Добравшись 13 июля 1604 г. до Венеции, кармелиты имели аудиенцию в сенате Республики. Для Венеции связи с Персией, так же, впрочем, как и с Османской империей, имели стратегическое значение. Венецианский сенат, со своей стороны, снабдил папских посланников собственными письмами на имя шаха. В Венеции миссионеры пробыли три дня и отправились дальше, в Тренто, куда прибыли 20 июля. 21 июля кармелиты въехали в пределы Священной Римской империи, уже помимо милых сердцу единоверцев-католиков очень часто встречались еретики, и не отдельными группами, а целыми городами, в которых к кармелитам относились враждебно[345]. Резиденция императора Рудольфа II в это время находилась не в Вене, а в Праге, куда посланники прибыли 1 августа 1604 г.[346] Так, можно сказать – благополучно, закончился первый этап пути папской миссии.
Знакомый нам уже по посольству Ширли – Хусейн Алибека папский нунций Феррери, являвшийся по совместительству епископом Верчелли, поселил их в собственном дворце. У кармелитов к Феррери было деликатное поручение лично от Климента VIII. Папа настоятельно рекомендовал для более легкого и успешного прохождения через территории Московии обзавестись письмами Рудольфа II на имя «Великого Герцога этого государства», для этой цели нунций должен был сопровождать кармелитов на аудиенцию к императору[347]. Император Рудольф II принял послов очень любезно и снабдил их своими личными письмами и к шаху Аббасу, и к Борису Годунову, и к «другим важным персонам тех царств»[348].
В это самое время произошло знакомство кармелитов с персидским послом, находившимся при дворе императора уже шесть месяцев. Этим послом был уже знакомый нам по предыдущей главе Зайнуль Абдин-бек Шамлу, отцы-кармелиты именовали его Зенил Камбей. Посол был не просто знатным кызылбашем, а родственником шаха, поэтому ему в течение всего его пребывания при дворе императора оказывался самый роскошный прием и демонстрировалось непременное почтение к его сюзерену. Как уже отмечалось, Аббас направил Зайнуль Абдин-бека к Рудольфу II для переговоров о совместной борьбе против османов. Зайнуль Абдин-бек сыграет достаточно драматичную роль в судьбе папского посольства. При дворе императора в этот момент находился еще один папский нунций – Клаудио Рангони, аккредитованный при дворе Сигизмунда III. Рангони, как и Феррери, очень покровительствовал кармелитам, поэтому он делал все, что могло бы способствовать папской миссии. Нунций Рангони устраивает встречу о. Павла-Симона с Зайнуль Абдин-беком. Нунций пригласил Зайнуль Абдин-бека на роскошный прием, где присутствовала вся дворянская элита Праги. Но в результате нунций достиг противоположного эффекта. Зайнуль Абдин-бек был хитрым и осторожным человеком, он не раз выполнял самые деликатные поручения шаха Аббаса. Увидев, какие почести и уважение расточали присутствующие скромным монахам-миссионерам, Зайнуль Абдин-бек задумался об истинных целях миссии кармелитов. Достаточно сказать, что на приеме в их честь, который устроил нунций Феррери, кармелитам прислуживал Д. Бальтасар де Маррадас, мальтийский рыцарь и капитан французской кавалерии. Нунций Рангони попытался отрекомендовать Зайнуль Абдин-беку «христианских монахов» (?!) в качестве послов для ведения переговоров по антиосманским действиям. Зайнуль Абдин-бек мог опасаться того, что шах сочтет результаты его миссии неудовлетворительными, так как ему не удалось добиться от императора конкретных действий в отношении создания общеевропейского союза против османов, кроме того, его почти год, несмотря на его протесты, удерживали в Праге. А кармелиты имели с собой письма от римского папы, императора, польского короля и некоторых итальянских правителей. Этот факт должен был повысить в глазах шаха статус папского посольства. Так или иначе, но именно тогда в Праге между кармелитами и персидским послом установились натянутые, если не сказать враждебные отношения.
Перед тем как покинуть Прагу, у кармелитов была «очень сердечная и личная аудиенция со старым Императором, разговор с ним шел о войне, которая должна была делаться против Турок; и, будучи искренне признательными Его Величеству за письма, внимание и милости, они простились с ним со всей простотой и сердечностью»[349].
18 августа 1604 г. кармелиты отбыли из Праги. С ними вместе возвращался в Персию Зайнуль Абдин-бек. «В среду, 25 августа, мы счастливо прибыли в Краков, столицу королевства Польши», писал о. Иоанн-Фаддей в дневнике[350]. Весьма примечательно замечание кармелитов о польском короле Сигизмунде III Ваза, который, по их словам, правил очень долго, с 1586 по 1632 г., но был обязан своей короной «вмешательству папы во внутренние дела королевства»[351]. Поэтому кармелиты могли рассчитывать со стороны короля на самое внимательное отношение к их нуждам и проблемам. Сигизмунд III, «католический, благочестивый и благоразумный Король», также любезно принял миссионеров и снабдил их письмами и к шаху Аббасу, с которым у него не было никаких ссылок, и к Борису Годунову. Кроме того, «Король Польши выказал нам много милосердия и благосклонности и дал нам письма для Монсеньора Бенедикта Войны, Епископа Вильно, и Льва Сапеги[352], Великого Канцлера Литвы, для того чтобы оба выказали нам свою благосклонность и необходимую помощь, для того чтобы переправиться в Московию. Его Величество также дал нам паспорт на латыни, а другой на русинском языке, для того чтобы мы были в безопасности в тех землях, и письма для Капитана Орши, где подразумевалось, что мы должны были вступить в Московию, так как до сих пор это были ворота, через которые прошли все, кого в последнее время посылал Его Святейшество в Персию»[353].
Все высшее духовенство Польши оказывало кармелитам выдающиеся знаки внимания. Монсеньор Бернард Мациевский, кардинал примас Польши, «дал нам пергаментную книгу формата in-folio с четырьмя картинками на каждом листе, всю окованную золотом и инкрустированную камнями, это была Библия, от Первой главы книги Бытия до Второй книги Царств, будучи редкой и старинной вещью, очень дорогой; ему казалось, что мы должны от его имени преподнести королю Персии»[354]. Речь действительно шла о редкой книге. Она вошла в историю под названием «Библия Мациевского». Рукописная Библия, созданная по заказу короля Людовика IX Святого, содержит 283 миниатюры, из них 21 большеформатные батальные сцены, выписанные в мельчайших деталях. Книга, несмотря на все перипетии, которые пришлось перенести в Русском государстве, была доставлена кармелитами шаху Аббасу. Шах заказал персидский перевод большинства латинских пояснительных надписей. Так в Библии появился персидский текст.
Однако кармелиты не могли не заметить странных настроений, царивших в высших кругах польской знати. Все только и говорили о московском «царевиче Дмитрии», находившемся у сандомирского воеводы Юрия Мнишка. Тем не менее кармелиты двинулись в Литву к русской границе. От Кракова до Вильно они добирались долго – 15 дней. Там они обнаружили отсутствие великого канцлера и епископа Б. Войны, к которым имели рекомендательные письма. Кармелитам пришлось ехать на встречу к Льву Сапеге в его имение. Сапега встретил кармелитов более чем радушно, но сразу сказал, что их предприятие в данный период времени «было более трудным, чем когда бы то ни было»[355]. Понимали ли монахи, что имел в виду канцлер, не очень ясно, хотя на страницах своих дневников они подробно описывают текущие дела, не замечая главную причину их задержки. Сапега говорил о волнении в Московии, о том, что там чуть ли не гражданская война, а ведь это ранняя осень 1604 г., еще впереди битва под Кромами, когда отряды Самозванца, любовно укомплектованные в Литве, потерпят поражение. Интрига польско-литовской правящей верхушкой готовилась давно, кармелиты приводят даже цифры – от 30 до 40 тысяч человек, с которыми Самозванец готов двинуться в отеческие пределы[356]. Однозначно, что в Риме были не в курсе «планов» восстановления на московском престоле «законного» царевича. Если бы Климент VIII предполагал, что его посланники окажутся в гуще столь драматических событий, то для посольства был бы выбран другой маршрут. Самое интересное, что «добропорядочный» канцлер посвятил кармелитов в суть дела и мы можем познакомиться на страницах их дневников с историей бедствий «законного» царя и «зверств» незаконного, то есть не природного, а выборного. Это очень странное обоснование правд Лжедмитрия звучит из уст представителей выборной и очень ограниченной монархии. Кармелиты целиком разделяли взгляды Сапеги на Самозванца, тем более что им было известно, что царевич принял истинную веру (католическую) и ставит своей целью осчастливить и своих подданным тем же самым. Преподобный Викентий сообщает, что слышал это лично от о. Павла-Симона[357].
Однако кармелитам необходимо было ехать в Персию, хотя приобщить схизматиков огромной Московии было очень заманчиво. Преподобный Викентий даже писал, что, если о. Павел-Симон посчитает нужным оставить его в Московии для этих целей, он без раздумий примет на себя этот тяжелый крест[358]. Кармелиты попытались пересечь границу в Невеле, но их задержали и даже арестовали. Воевода Невеля послал Годунову запрос на разрешение проезда папского посольства. Царь Борис был уже в курсе тревожной информации о «чудесно спасшемся царевиче Димитрии», поступавшей из Речи Посполитой. Обвинив Сигизмунда III в попустительстве Самозванцу, Годунов не разрешил кармелитам въезжать на территорию Русского государства со стороны Литвы. Под горячую руку попал и персидский посол Зайнуль Абдин-бек, который совсем не одобрял польских интриг. Правда, Годунов в послании к невельскому воеводе подчеркнул, что очень уважает Климента VIII и мог бы пропустить его посланцев в Персию, но только через Ивангород или Архангельск. Для кармелитов этот вариант маршрута был неприемлем, так как в этом случае они потеряли бы много времени, поэтому миссионеры были вынуждены 1 января 1605 г. возвратиться в Варшаву, где их застало известие о кончине Климента VIII. Кармелиты вынуждены были ждать выборов нового папы, которым стал Лев XI, умерший через несколько недель после своего избрания. Пришлось снова ждать выборов, в результате которых папой стал Павел V Боргезе. Новый папа должен был прислать от своего имени новые письма и рекомендации для кармелитов.
Папский нунций кардинал Клаудио Рангони вновь хлопотал за кармелитов перед Сигизмундом III. В Варшаве в это время проходил сейм, на котором решался вопрос о вступлении Речи Посполитой в антиосманскую коалицию. Сейм в очередной раз предпочел поддерживать с османами мирные отношения, но помочь кармелитам добраться до Персии не отказался. Сейм принял решение делегировать к шаху Аббасу собственного посла, который поедет в Персию вместе с кармелитами. Польский посол в это время находился в ставке «крымского государя в Перекопе». Сигизмунд обещал кармелитам дать необходимые рекомендации к крымскому хану. Таким образом наметился новый маршрут через Крым – Черное море – Грузию. Однако в мае 1605 г. скоропостижно от кровоизлияния скончался Борис Годунов, а в июне в Москву вступил «царевич Дмитрий». Кармелиты теперь беспрепятственно могли продолжить свой путь через территорию Русского государства.
Интересна в этом отношении одна деталь, в Кракове, ожидая возможности выезда в Русское государство, кармелиты повстречались с «московским послом», который прибыл ко двору короля Сигизмунда. И вот о чем шла речь между ними. «Посол московита, которого мы увидели здесь, фаворит Великого Герцога. Он сказал нам, что тот пропустит нас в Персию, из-за того что Великий Герцог был в вечном мире с персами, от которых недавно приходил посол, чтобы уведомить о победах, которые у шаха были в этом году над Турком: в своем письме к Московиту он говорил, что его победы проистекали из доброты того же Московита и из молитв Высшего Понтифика»[359]. Этим послом был не простой человек, а знаменитый Афанасий Иванович Власьев, возглавивший Посольский приказ в 1601 г. после опалы Андрея Щелкалова. А. Власьев принадлежал к когорте первых профессиональных дипломатов, и это не только потому, что он служил посольским дьяком почти четверть века. Власьев был опытным и искушенным в международных делах переговорщиком. Годунов еще в бытность свою конюшим поручал Власьеву сложные и деликатные дела. Власьев долгое время занимался переговорами с императором, бывал неоднократно в Праге и с послами шаха Аббаса. Поэтому как никто другой он был в курсе происходящего и справедливо считал, что папское посольство к шаху есть вопрос первостепенной важности для международных отношений. Только Власьев, вероятно, недооценивал масштаба событий, которые произошли в Русском государстве. Придерживаясь внешнеполитической линии, выбранной для Русского государства еще Иваном Грозным, Власьев упускал из виду, что прежнего государства, с его связями, влиянием, возможностью оказывать давление на партнеров, уже нет. Кармелиты имели беседу с Власьевым в то время, когда он приехал в Краков за невестой нового «государя» – Мариной Мнишек. Он представлял жениха, который заочно обручался с невестой. Это была иллюзия былого величия, и Власьев не мог не понимать существа происходящего, вероятнее всего, он, как истинно русский человек, надеялся на знаменитое русское авось. Что касается персидского посла, то здесь Власьев слукавил. Речь шла о Мехди Кули-беке, который действительно имел аудиенцию у Годунова, но направлен он был шахом не к царю, а к императору Рудольфу на смену Зайнуль Абдин-бека[360].
Глава 4. «Невероятные приключения» кармелитов в России
Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев) действительно был тайный католик, поэтому в его лице кармелиты встретили самое горячее содействие своим планам. Новый русский царь, венчанный на царство с соблюдением всех правил, обсуждал с кармелитами не только планы обращения православных схизматиков в истинную веру, но и собственные антиосманские планы, которые, учитывая его положение, были грандиозными. Они требуют отдельного рассмотрения, так как оказались напрямую связаны с посольством кармелитов.
Стоит отметить, что еще совсем недавно личность Лжедмитрия I не воспринималась всерьез и все его поступки сопровождались по меньшей мере ироничными комментариями. В настоящее время, изучая переписку самого Лжедмитрия и комментарии со стороны его окружения, можно прийти к выводу, что, не имея внутриполитической программы, новый «правитель» имел достаточно четкую внешнеполитическую концепцию. Самое поразительное, что по степени разработанности и глубине содержания антиосманскую программу Лжедмитрия можно сравнивать только с проектом «конфедерации» шаха Аббаса I, но никак не с расплывчатыми предложениями такого тонкого и хитрого политика, каким являлся Б. Годунов. Однако главное противоречие заключалось в том, что планы Лжедмитрия не воспринимались всерьез московской аристократией, по причине двусмысленного положения самого «царя».
Климент VIII не успел прореагировать на депеши Лжедмитрия. Возможно, он занял выжидательную позицию до того времени, пока «претендент» на русский трон окончательно определился бы со своим положением. В конце 1604 г. Климент VIII умер, новый папа Лев XI пробыл на престоле несколько месяцев. Активные связи Лжедмитрия с Римом начинались с восшествия на престол Павла V. Придя к власти, Лжедмитрий старался выполнять все обещания, данные его европейским покровителям, кроме одного – союза церквей. Лжедмитрий был тайный католик, поэтому он не противился идее слияния церквей в принципе, но, будучи по происхождению русским, он прекрасно понимал, что этот замысел невозможно будет претворить в жизнь. Поэтому Лжедмитрий со всей энергией переключился на создание антиосманской лиги, которая позволила бы ему сыграть заметную роль в глазах Римской курии и европейских монархов.
В самом первом своем обращении к Клименту VIII Лжедмитрий просил его предотвратить заключение мира между императором и султаном, так как решил немедленно связать себя наступательным договором с императором[361]. Почти сразу после коронации Лжедмитрий отослал к Сигизмунду III посланника с предложением присоединиться в общей для всех христиан борьбе. Казалось бы, что с восшествием на престол пропольского кандидата все противоречия, существовавшие между двумя странами, должны были быть решены, и Польша могла бы присоединиться к антитурецкой лиге. Однако Сигизмунд III и на этот раз отклонил это предложение, сославшись на противоречия между Польшей и Империей[362].
Император Рудольф II, наоборот, воспринял предложения Лжедмитрия как знак свыше[363]. Почти тринадцатилетняя война между Империей и Османской империей истощила ресурсы обеих стран. Однако предстоящий мир в большей степени был бы выгоден Турции, так как она с 1603 г. воевала на два фронта – с Империей и с Персией. Больной монарх категорически был против заключения мира. Лжедмитрий I со своими казаками мог серьезно изменить положение воюющих сторон, если бы ударил со стороны Азова и Кубани. Учитывая тяжелый политический и социальный кризис в Османской империи, успех мог бы быть достаточно предсказуемым[364].
Лжедмитрий I отправляет к Павлу V иезуита о. А. Лавиского, который должен был подробнейшим образом познакомить Римскую курию с предложениями антиосманского союза. Лжедмитрий заявлял о своем твердом намерении начать войну с турками и заключить по этому поводу союз с христианскими принцами. Для содействия этому намерению папа должен был убедить императора продолжать войну с турками совместно с царем[365]. Лжедмитрий предлагал немедленные практические действия и предпринял бы их даже в том случае, если бы к его идее никто больше не присоединился. Это могло бы укрепить или даже спасти его собственное внутриполитическое положение[366].
Лжедмитрий, как и четырьмя годами ранее шах Аббас, думал, что делает папе и европейским государям предложение, от которого нельзя отказаться. Но ответ, который он получил на свои предложения, необъяснимым образом совпадал с ответом шаху Аббасу. Павел V предлагал Лжедмитрию первым выступить в крестовый поход против турок и увлечь своим примером других европейских государей. Со своей стороны, понтифик обещал самое горячее содействие этому делу при дворах Империи и Польши[367].. Таким образом, Лжедмитрий вынужден был искать союзников самостоятельно. Учитывая критическое положение, в котором находился император Рудольф, Лжедмитрий обратил свое внимание в сторону Персии. Посольство для отправки в Персию, во главе с князем И.П. Ромодановским, было готово к весне 1606 г.
В РГАДА сохранился лишь отрывок из наказа князю И.П. Ромодановскому[368]. Сохранившийся отрывок из наказа представляет собой фрагмент из средней части документа, без начала и без окончания[369]. Н.М. Карамзин считал, что князь Ромодановский был отправлен в Персию для решения важных дел, связанных с Турцией и «христианскими землями Востока». Помимо этого, посольство должно было обсудить совместную политику Священной Римской империи и Персии против Османской империи[370]. По логике международных отношений – а по письмам Самозванца к римским понтификам понятно, что он хорошо разбирался в таких формальностях, – Лжедмитрий в первую очередь должен был сообщить Аббасу о своем восшествии на престол, при этом обязательно обосновать свои «законные» права. Учитывая силу и международный авторитет, который шах Аббас к этому времени завоевал в глазах европейцев, он, как суверенный государь, долгое время имевший тесные дипломатические связи с прежним правителем, мог и не признать «законного» государя. А это, в свою очередь, было чревато для русской стороны обострением обстановки на южных рубежах. Во-вторых, Лжедмитрий прекрасно понимал, чем мог заслужить мгновенное признание у шаха Аббаса, только решительными действиями в отношении османов, на которые так и не решился Б. Годунов. Поэтому посольство И.П. Ромодановского должно было посвятить шаха в антиосманские планы Лжедмитрия[371]. Таким образом, цели и задачи посольства князя И.П. Ромодановского совпадали с целями и задачами посольства кармелитов.
Кармелиты пробыли в Москве, при дворе Лжедмитрия, почти год. Лишь в марте 1606 г. из Рима пришла срочная депеша с предписаниями для отцов-кармелитов. Павел V настаивал на скорейшем отправлении в Персию. Международная обстановка ухудшалась, тяжелобольной император Рудольф не мог добиться от собственных сословий денег на продолжение «Долгой турецкой войны». Часть окружения императора во главе с его младшим братом эрцгерцогом Матиасом настаивала на заключении мира с османами. В этом случае шах Аббас оставался бы единственным противников османов. В своем письме в Рим о. Павел-Симон составил, пожалуй, первое в истории описание царя-самозванца: «Приблизительно 24 лет, превосходного телосложения, тонкого интеллекта, хорошей памяти, амбициозный, жаждущий славы, мужественный и храбрый, презирающий опасность, очень вспыльчивый, широких взглядов, склонный к переговорам, в то же время непостоянный, он не держит данное слово, врожденный недостаток в людях этого народа»[372].
Не укрылась от взгляда наблюдательного кармелита и окружавшая Лжедмитрия обстановка: «Он не имел около себя верного человека: все, кто его окружал, были молодые Поляки… Москвичи были очень не лояльны к Принцу. Во время нашего пребывания было много заговоров против него»[373]. Не меньшее подозрение вызывало у кармелитов близкое окружение Лжедмитрия, особенно «первый Секретарь, который сейчас пользуется безграничным расположением и вершит все дела. Он принадлежит к польской нации, благородной семье; его зовут Станислав Бониский; он кальвинист. ‹…› Эта личность, в присутствии Принца и знатных московитов, высказывает страшные богохульства против Римской святой Церкви и против Высшего Понтифика, этими богохульствами он вдохновляет дух московитов против латинян и подтверждает их в схизме. Он предлагает еретические и позорные книги Принцу, которые содержат изречения, написанные некими еретиками против отцов-иезуитов»[374].
Павел-Симон сообщает Павлу V и еще одну интересную подробность из короткого «царствования» Лжедмитрия. «Упомянутый Секретарь беседует и содействует всем еретикам, которых очень много в этом городе, особенно немецких и английских. Они добились у Принца новых привилегий для себя, и он подтвердил те, которые уже получили при Борисе, и они содействовали тому, чтобы Его Высочество назначил 300 гвардейцев с тремя капитанами из их числа (людей) для охраны и эскорта его персоны»[375]. Кроме этого, Павел-Симон обращает внимание понтифика на положение Лжедмитрия и причины ненависти к нему. «Московиты мало верны Принцу. Много заговоров было против него во времени, пока мы находились здесь. Два были открыты. Последний был 15 дней назад[376]. Заговорщиками были три сенатора. Один из них очень содействовавший Принцу, так как он всегда был рядом с ним. Они пытались отравить его. Они движимы чувством ненависти, которую они естественно питают по отношению к полякам; и отчасти потому, что они боятся, что их заставят изменить свою веру, или, вернее, оставить свои заблуждения; потому что они настолько упрямы, что даже в присутствии великого князя говорят, что скорее умрут, чем изменят своим религиозным взглядам»[377]. Позднее, другой участник кармелитского посольства, о. Иоанн-Фаддей напишет: «В атмосфере московского двора чувствовался запах предстоящей гибели государя»[378].
Кармелиты, по их собственным словам, были «одержимы идеей» поскорее добраться до пункта назначения, так как выехали из Рима в конце весны 1604 г. Польские послы Н. Олесницкий и А. Гонсевский, отправленные в Москву Сигизмундом III, знали о том, что кармелиты везли письма от папы, императора, польского короля, поэтому ходатайствовали за миссионеров перед «императором». Содействие и поддержку кармелитам оказывала и будущая «императрица» – Марина Мнишек. Согласно запискам о. Иоанна-Фаддея, с которым Марина Мнишек достаточно близко сошлась, кармелиты познакомились с ней еще в Польше[379]. Марина просила кармелитов присутствовать на ее свадьбе, этого желал и Лжедмитрий. Однако кармелиты отказались от предложенной «чести»[380].
На отпускной аудиенции Лжедмитрий объявил, что они поедут в Персию вместе с Зайнуль Абдин-беком, который в качестве представителя персидского шаха «поздравлял» его с восшествием на престол. Лжедмитрий снабдил кармелитов надежными помощниками – тремя «благородными московитами» и переводчиком по имени Софроний, который хорошо знал польский, итальянский и греческий языки[381]. Кроме того, в Москве к кармелитам присоединился волох, греческой веры, хваставшийся, что хорошо знает турецкий язык. Лжедмитрий просил послов дождаться сборов его собственного посольства, но, по словам самих отцов, «они больше не думали ожидать решения проблемы посольства, которое должно было отправиться от царя Димитрия в Персию, но искали взаимопонимания с послом персидского короля, чтобы поскорее оставить Москву, где заговоры и государственные перевороты происходили беспрерывно»[382]. Тем не менее Лжедмитрий пояснил, что даже если кармелиты отправятся в путь с Зайнуль Абдинбеком, то все равно в Казани они должны будут дождаться приезда московских послов. Это объяснялось тем, что лед на Волге, по которой предполагалось сплавляться до Астрахани, вскры вался только в мае месяце.
Кармелиты выехали из Москвы 22 марта 1606 г. вместе с персидским послом Зайнуль Абдин-беком, с которым ехал один дворянин, которого король Польши отправил ко двору персидского шаха изучать язык и привычки страны[383]. До Казани посольский караван двигался на санях, регулярно меняя в каждом населенном пункте лошадей. 2 апреля караван прибыл в Казань, где был принят со всеми положенными великому посольству почестями.
Казань на рубеже XVI–XVII вв. являлась главной военно-оборонительной крепостью на восточной окраине государства[384]. Преобладающим населением было военное сословие, дети боярские, стрельцы, пушкари и татары, принявшие православие. Казанский белокаменный кремль был одним из самых мощных в стране. В кремле было 10 ворот с башнями, на которых несли посты дети боярские и стрельцы от 4 до 10 человек. В Казани, как и в других городах, служили два воеводы – больший и меньший. В их обязанности входил ежедневный объезд стен города с фонарями. При наступлении ночи все сторожевые ворота объезжались воеводой с боярскими детьми своего полка. Даже днем дежурные головы и дети боярские досматривали караулы[385]. Казань, находившаяся от Москвы всего лишь в 700 км, напряженно следила за событиями в столице. Достаточно сказать, Разрядные книги даже путают данные о воеводах в Казани в это время. По Разрядной книге 1475–1605 гг., изданной в 1994 г. под редакцией В.И. Буганова, воеводами Казани на 29 июня 1605 г., то есть уже после смерти царя Бориса, числились «князь Иван Иванович Голицын да Василей Яковлев сын Кузмин, да дьяки Алексей Шапилов да Петр Микулин»[386]. И.И. Голицын и второй воевода В.Я. Кузьмин-Караваев были воеводами в Казани с 1602 г., то есть они были назначены Годуновым. Известно, что князь И.И. Голицын, по прозвищу Шпак, поддержал Лжедмитрия I, но после его гибели присягнул В. Шуйскому. Однако в момент приезда посольского каравана Казанью управляли совсем другие люди. «Губернатор того города, который называется воеводой, был в Риме при Григории XIII и Сиксте V, счастливой памяти, а затем, опасаясь турок, он бежал в Московию и был сделан сенатором»[387]. В Разрядной книге за Смутное время читаем: «7113 (1605). В Казани воевода Степан Александров сын Волоской, да князь Михайло Самсонович Туренин, да дъяки И. Зубов, А. Евдокимов»[388]. Стефан (Степан) Александрович Волошский – легендарная личность. Воевода Стефан был незаконнорожденным сыном избранного молдавского господаря Александра Лэпушеяну[389] и единокровным братом Аарона Тирана. Мать Стефана приходилась двоюродной сестрой Ивану IV. По всей видимости, родился в 60-х гг. XVI в. В 1589 г. переехал в Рим, где обратился к папе Сиксту V за помощью, в результате принял като личество. В 1590 г. папа порекомендовал его Сигизмунду III и Яну Замойскому[390]. В середине 90-х гг. перебрался в Русское государство, вновь приняв православие. В Москве Стефан – «брат валахского господаря» – был принят на самом высшем уровне. Женился на дочери князя И.Ю. Булгакова-Голицына. В 1598 г. в чине московского дворянина подписывал грамоту об избрании на царство Бориса Годунова, а в 1602 г. был пожалован в бояре[391]. Назначение в Казань, на место своего шурина И.И. Голицына, было почетно, поэтому воевода Стефан не хотел, чтобы его заподозрили в связях с католиками. С другой стороны, известно, что в Русском государстве он оказался из-за «притеснений турок», поэтому воевода по-человечески сочувствовал бедствиям папских послов, но, кроме как оказывать им полагающиеся по статусу привилегии, ничем не мог помочь[392].
Монахи сетовали, что в узком кругу «губернатор» выказывает им «большую любовь», но публично ведет себя очень сдержанно. Более того, и Павел-Симон, и Зайнуль Абдин-бек были «заперты» каждый у себя в горнице и им не разрешалось выходить на улицу и общаться между собой. В то время как другие кармелиты с племянником персидского посла изучали персидский язык[393]. Несмотря на свою изоляцию, о. Павел-Симон сделал описание города. «Казань – большой город, где все дома деревянные. Прежде это была столица царей татарских. В настоящее время здесь обитают московиты. Здесь имеется в большом количестве хлеб, мясо, рыба, молоко и яйца, и все это Buon Mercato дешево… Нет вина или фруктов. Взамен есть хорошие дубильщики тонкой кожи»[394].
В Казани кармелиты находились несколько месяцев в ожидании навигации на Волге. 7 мая они получили известие о гибели Лжедмитрия и вступлении на престол Василия Шуйского. В Казань пришли письма от нового царя, и в городе начались волнения, одни поддержали В. Шуйского, другие отказывались верить в смерть царя Дмитрия. Кармелиты были разочарованы, так как в лице Лжедмитрия они имели могущественного покровителя. Зайнуль Абдин-бека, наоборот, это известие обрадовало, и он открыто начал разоблачать «просамозванскую» позицию кармелитов. Жизнь монахов оказалась в опасности, считалось, что все католики – пособники лжецаря. Отцы-кармелиты опасались, что новый царь даст приказ об их убийстве. Через 15 дней из Москвы пришел приказ об отпуске в Персию посла шаха, но кармелитов было приказано задержать.
Отец Павел-Симон написал царю Василию гневное письмо, в котором обратил внимание на международные договоры о неприкосновенности послов, которые не может нарушать ни один цивилизованный государь. Кроме того, Павел-Симон горько упрекнул нового царя в том, что «он и его соратники, являясь нищенствующими монахами и готовы в любой момент принять смерть во имя Христа, но их послал в Персию понтифик в качестве официальных послов, и будет ли хорошо для нового царя испортить отношения с персидским шахом»[395]. Письмо кармелита возымело действие. Когда польские послы Н. Олесницкий и А. Гонсевский узнали, что кармелиты застряли в Казани, дожидаясь прибытия И.П. Ромодановского, они обратились непосредственно к новому царю. Поляки были в курсе того факта, что, хотя московское посольство получило «отпуск» на свадебной церемонии Лжедмитрия, выехать из Москвы из-за убийства Самозванца так и не успело. Зная, что миссию кармелитов будут держать в Казани до прибытия русских послов, Н. Олесницкий и А. Гонсевский ходатайствовали за них перед Василием Шуйским. Просили польские послы и о том, чтобы уже предназначенное к отъезду посольство князя И.П. Ромодановского все-таки было отправлено в Персию. Послы подчеркивали, что папа римский, цесарь, польский король и все христианство будут весьма признательны за это Великому князю[396]. Шуйский решил не портить отношения с европейскими государями, тем более что цели и задачи миссии И.П. Ромодановского отвечали и его интересам. Новому государю необходимо было известить шаха о своем восшествии на престол. Дьяки Посольского приказа наспех вычеркнули в грамотах и наказах имя Лжедмитрия и вписали имя Василия Шуйского[397]. Таким образом, посольство, возглавляемое князем И.П. Ромодановским, вторым послом, «товарищем», был выборный дворянин Д.П. Есипов[398], через месяц прибыло в Казань, где должно было соединиться с кармелитами и вместе отправиться в Персию.
Персидский посол пытался воспрепятствовать отъезду послов из Казани, возводя на миссионеров всевозможные клеветы. Однако воевода и Ромодановский были настроены решительно и выделили кармелитам лучшую лодку (каторгу) с 12 гребцами. 24 июля 1606 г. посольский караван отплыл в Астрахань. Обычно в Астрахань отправлялся очень большой караван. Он формировался из торговых людей, раз личных посольств и государственных чиновников. Иногда караван состоял из 500 судов. Он обязательно охранялся стрельцами, которые были одновременно и гребцами на государственных каторгах. Места вниз по Волге были дикими, изобиловавшими разного рода разбойниками, которые промышляли грабежом караванов, идущих по Волге. Именно такую ситуацию описал о. Павел-Симон: «Нас было около двух тысяч человек, потому что, кроме нас, московитов и персидского посольства было еще около 500 солдат сопровождения, и еще много торговцев; потому что говорили, что по реке Волге, близ Астрахани было много казаков, или бандитов, как их называют, которые грабят пассажиров….»[399]
Волга произвела сильное впечатление на отцов-миссионеров. Они хорошо знали, что она считалась самой большой рекой Европы, но их все равно поражала ее ширина и полноводность. Обычно такое путешествие занимало в летний период около трех месяцев. Зимой, с ледоставом на Волге, этот путь можно было проделать санным путем до Астрахани и там ожидать весны, но это было значительно сложнее, чем водой. В Царицыне, где караван должен был запастись провиантом, посольский караван узнал, что Астрахань в руках восставших против Василия Шуйского. Предводительствовал мятежниками Лжепетр, называвший себя сыном царя Федора Иоанновича, подмененного в корыстных целях Годуновым. Никоновская летопись именует очередного самозванца Илейкой Коровиным[400], отцы-кармелиты – братом великого князя[401]. Царь Василий пытался через своих посланников умиротворить астраханцев, но по словам кармелитов: «послы были сброшены с высокой башни, позволяя, чтобы их трупы были съедены хищными животными»[402]. Царь Василий собрал 20-тысячную армию, чтобы подавить мятеж в столь важном городе. Астрахань отчаянно сопротивлялась, именно тогда, когда послы подошли к Царицыну. Князь Ромодановский решил не рисковать и подождать развития событий в Царицыне, тогда никто не думал, что ожидание займет несколько месяцев и посольства будут вынуждены остаться зимовать в Царицыне.
К моменту описываемых событий Царицын, заложенный в 1589 г., представлял собой небольшую крепость, относящуюся к категории «заказных» городов. В «заказных» городах-крепостях все жилые и административные постройки находились внутри крепостных стен. Кармелиты описали Царицын как «поселение в 100 домов»[403]. Город имел статус погранзаставы и должен был сдерживать натиск ногайцев и «злых людей». Кроме того, Царицын служил перевалочным пунктом для торговых и дипломатических караванов. Население главным образом составляли стрельцы в количестве 300–400 человек. В результате того что город имел статус «заказного», горожанам запрещалось иметь землю под огороды за чертой крепостных стен[404]. Следствием этого был недостаток запасов продовольствия. Как только выяснилось, что в городе остается зимовать более 500 человек посольского каравана, возникла реальная угроза голода.
Кармелиты красочно описали в своих воспоминаниях и отчетах тяжелые условия зимовки. В результате голода и враждебного отношения горожан двое из кармелитов, послушник Иоанн Успения и Риодолид Пералта, скончались[405]. Особенно болезненно кармелиты переживали кончину Риодолида Пералты, испанского дворянина, ставшего послушником за два года до экспедиции. Риодолид Пералта был опытным военным инженером, занимавшимся фортификацией, то есть специалистом, в которых особенно остро нуждался шах[406].
Положение персидского посла было намного легче. Зайнуль Абдин-бек завел тесную дружбу с комендантом Царицына – воеводой Ф.П. Акинфовым[407], вошел в доверие к русскому послу и вместе с ним регулярно отсылал депеши Шуйскому. Стоит отметить, что персидские посольства были достаточно обычным явлением для жителей «заказных» городов. Поэтому Зайнуль Абдин-бек, несмотря на то что был мусульманином, не вызывал у жителей Царицына враждебных настроений, в отличие от кармелитов-католиков, которые на протяжении всей зимовки испытывали страх физического уничтожения. Опасения кармелитов были не беспочвенны. Стали распространяться слухи, «папа послал два миллиона (?) солдат, вооруженных холодным оружием, чтобы сбросить с трона Василия и возвратить Димитрия»[408].
Дальнейшее развитие событий проливает свет еще на одну страницу русско-персидских взаимоотношений – трагическую судьбу московского посольства в Персию под руководством князя И.П. Ромодановского. Следы посольства теряются в Саратове. «Новый летописец» повествует о гибели Ромодановского в Царицыне[409]. Помощник князя Ромодановского выборный дворянин Д.П. Есипов перешел на сторону самозванца Ивана Августа. Письма и наказы, данные от имени В. Шуйского, исчезли, а самого князя казнили казаки Ивана Августа на острове Икчибор, недалеко от Астрахани[410]. «Хроника кармелитов» рассказывает о последних днях русского посланника. Иван Август не прислушался к заступничеству за Ромодановского ни кармелитов, ни Зайнуль Абдин-бека[411].
В начале лета Царицын заняли казаки Ивана Августа, и посольствам было разрешено двигаться в Астрахань, куда они добрались 7 августа 1607 г. Астрахань в начале XVII в. являлась южными воротами Русского государства. Это был не только крупнейший международный торговый центр, но, и это не следует забывать, столица «Астраханского царства». Астраханские воеводы имели право личной переписки с кавказскими и среднеазиатскими владетелями, персидским шахом. Причем послания запечатывались печатью астраханского царства[412]. Из вышесказанного можно сделать вывод о стратегическом значении самой Астрахани и личном статусе ее воевод.
Воеводой в Астрахани был князь И.Д. Хворостинин, опытный и хитрый чиновник, который успешно служил как истинным, так и лжецарям[413]. Известно, что свое назначение в Астрахань И.Д. Хворостинин получил от Лжедмитрия, чем, собственно, и объяснялась лояльность воеводы к очередным самозванцам. Но свою карьеру Хворостинин начал задолго до Смуты. При царе Борисе он имел чин окольничего и был приближен ко двору, например, принимал участие в торжественном обеде в честь персидского посла Лачин-бека: «…ели за столом окольничий И.И. Годунов, И.М. Бутурлин да окольничий князь И.Д. Хворостинин»[414]. В своих записках кармелиты, не вдаваясь в подробности, сообщали о том, что верный «государю» (то есть Лжедмитрию) воевода Хворостинин «не стал их задерживать и сразу отпустил в Персию»[415]. Зайнуль Абдин-бек, наоборот, был задержан в Астрахани[416]. Причиной такого странного поведения воеводы являлась якобы нелояльность персидского посла к «государю». «Хроника кармелитов» дает более полное представление об истории пребывания посольства в Астрахани в августе 1607 г.
Прибыв в Астрахань, кармелиты встретились с августинцем Франсиско Дакостой. В отличие от Д. да Миранды Ф. Дакоста сумел завоевать расположение Аббаса своим умом и недюжинными дипломатическими способностями. Ф. Дакоста, в отличие от послушника Д. да Миранды, был священником, но, несмотря на это, обладал неукротимым нравом, который продемонстрировал еще в 1602 г. на зимовке в Астрахани. Некоторое время Аббас достаточно снисходительно относился к выходкам неистового августинца. Однако когда Ф. Дакоста оказал вооруженное сопротивление шахским гвардейцам, которые пытались призвать буйных португальцев к порядку, шах лишил его своей милости. Чтобы как-то замять скандал, так как Ф. Дакоста был папским дипломатом, Аббас отправил его в 1604 г. в Европу с собственной миссией во главе с Али Кули-беком. Согласно «Хронике кармелитов», посольство было задержано в Астрахани на 3 года «из-за беспорядков в Московии»[417].
Франсиско Дакоста устроил кармелитам встречу с Иваном Августом, которого кармелиты называли «принцем, братом Димитрия». Учитывая, что подобного рода свидетельство является редчайшим источником, повествующим о происшествии в лагере одного из самозванцев, считаем возможным привести рассказ о. Павла-Симона о встрече кармелитов с Иваном Августом полностью. «Принц Иван отправился с 7000 человек для соединения с Дмитрием (Лжедмитрий II). Когда лодки наших флотилий пересеклись, караваны остановились и выгрузились на берег. Люди принца стали ставить палатки. Принц принимал нас в компании с о. Ф. Дакостой, который был отправлен в Персию во времена Климента VIII. Вместе с ним на приеме присутствовал армянин, который был послом короля Польши к шаху Персии (Сефер Армянин), и два персидских посла. Один из них шел вместе с Дакоста как посол к Его Святейшеству (Али Кули-бек), другой к королю Польши вместе с вышеупомянутым армянином. Принц остановился и поставил лагерь, лишь для того чтобы встретиться с нами. Ф. Дакоста послал навестить нас сразу же по прибытии в Астрахань. Через короткое время Принц послал, чтобы вызвать нас на аудиенцию. Ф. Дакоста и другие послы на ней присутствовали. Принц пообещал дать распоряжение воеводе Астрахани, чтобы тот не задерживал нас и чтобы нам было позволено сразу же отправиться в Персию. Ф. Дакоста поразил нас вниманием и уважением, рекомендуя нас Принцу в многочисленных хвалебных выражениях. Увещал Принца не обращать внимания на нашу бедную одежду, в которой мы ему представились, и в его присутствии (Принца) преклонял колени перед каждым членом нашей миссии. При этом он уверял Принца в том, что христианские принцы подобным образом уважали нас. Потом Ф. Дакоста пригласил нас обедать вместе с ним, и мы оставались вместе два дня, в течение которых он сообщил нам много вещей относительно Персии»[418].
Хворостинин «не стал задерживать» кармелитов не по собственному почину, а по распоряжению самозванца Ивана-Августа. Есть и еще одна интересная деталь. На аудиенции у «принца» присутствовали персидские миссии, задержанные в Астрахани еще в 1604 г. тем же И. Хворостининым, но по приказу Годунова. Однако на прием не был приглашен персидский посол Зайнуль Абдин-бек. «Опала» Зайнуль Абдин-бека, по всей видимости, была связана с заступничеством за Ромодановского и лояльным отношением к царю Василию. Естественно, что о таких «предпочтениях» персидского посла в Астрахани могли узнать только непосредственно от кармелитов. В результате Зайнуль Абдин-бек был задержан в Астрахани, а кармелиты 26 августа 1607 г. отправились в Персию.
Глава 5. Персия – первые разочарования и блестящие достижения
27 сентября 1607 г. посольство прибыло в Баку, где в то время правил Зуфулькар-хан, наместник Ширвана, столицей которого была Шемаха. Таким образом, посольству кармелитов удалось прибыть в Персию на месяц раньше персидского посла. Но миссионеры рано радовались. За время их путешествия кардинальным образом изменилась международная ситуация. Причем события Смуты в Русском государстве имели для посольства кармелитов опосредованное значение, значительно более сложным являлось положение императора Рудольфа II и события, произошедшие в Империи после их отъезда в январе 1605 г.
Как уже отмечалось, с 1605 г. император Рудольф был вынужден вести войну на два фронта – против Османской империи и против восставших венгров во главе с земельным магнатом Иштваном Бочкаи. Император с трудом контролировал ситуацию. По сути, одна из крупнейших составляющих Священной Римской империи – королевство Венгрия, оказавшись в руках восставших, объявила императору войну. Основной опорой Рудольфа в сложившейся ситуации были чешские и моравские земли, которые, собственно, несли на себе 2/3 расходов по «долгой турецкой войне». Поэтому, когда отряды И. Бочкаи и примкнувшие к ним гайдуки стали совершать грабительские рейды по землям чешской короны, сословия обратились к императору с просьбой как можно скорее заключить мир[419].
Одним из основных требований восставших было немедленное прекращение войны и подписание мира с султаном. Рудольф был против этого пункта и надеялся привести к повиновению венгерские сословия. Однако к началу 1606 г. моравские, чешские и австрийские сословия потребовали от Рудольфа подписать соглашение. Главную роль в разрешении ситуации сыграл младший брат императора Рудольфа эрцгерцог Матиас. За спиной императора Матиас предлагал восставшим сословиям свои «услуги» в качестве нового правителя. Практически Матиас подстрекал сословия и других членов Габсбургского дома к отстранению Рудольфа от власти, ссылаясь при этом на его слабое здоровье. Именно Матиас в январе 1606 г. подготовил условия мира между императором и Бочкаи[420].
Венский мир был подписан в августе 1606 г. Выполняя основное условие соглашения, Рудольф начал переговоры о заключении мира с султаном. Однако император до последнего момента пытался оттянуть подписание мира с османами. Так же как и при заключении Венского мира, так и на переговорах с османами от лица императора выступал эрцгерцог Матиас, наделенный всеми необходимыми полномочиями. Проблема заключалась в том, что позиция Рудольфа в вопросе прекращения войны с османами существенным образом отличалась от позиции Матиаса. В своих инструкциях Матиасу император просил, чтобы тот отложил заключение мира. В свою очередь, Матиас считал, что османы «располагают большими силами и захотят взять под свою протекцию всю Венгрию»[421]. Поэтому 15 ноября 1606 г. у правого притока Дуная реки Житва (Ситва) между Османской империей и Священной Римской империей был заключен Ситваторокский мирный договор, который формально прекратил войну, длившуюся тринадцать лет. Объективно Империя по соглашению хоть и не являлась победительницей, но юридически становилась равной Османской империи. Император Священной Римской империи теперь являлся для османов не только «венским королем». Империя перестала выплачивать султану ежегодную дань, хотя подарки личного характера для султана и членов его правительства не отменялись[422].
Однако для того, чтобы договор обрел юридический статус, его было необходимо ратифицировать. Император не торопился ратифицировать Ситваторокский договор, надеясь найти повод для возобновления войны[423]. Рудольф даже составил план действий в этом направлении. В Стамбул отправятся его послы, якобы для ратификации мира. Через несколько дней в Стамбул отправится второе посольство, которое сообщит султану о том, что Рудольфу стало известно о поддержке османами восставших венгров и о желании османских политиков передать венгерскую корону одному из лояльных султану трансильванских князей[424]. Подобного рода действия османов противоречили бы статьям Ситваторокского договора, поэтому император выходит из него[425].
Сложившаяся ситуация обострила обстановку при дворе императора. За ратификацию мира выступали практически все сословия Империи во главе с эрцгерцогом Матиасом. Стоит подчеркнуть, что Матиас как истинный авантюрист в столь непростой ситуации решил взять всю ответственность на себя. Он написал Рудольфу письмо, в котором сообщил, что его приказ об отзыве ратификационных грамот пришел слишком поздно и он уже переслал документы в Стамбул. Матиас обращал внимание Рудольфа на начавшиеся пограничные столкновения с османами и напряженную ситуацию на венгерской границе, поэтому отказ от ратификации может привести к непредвиденным последствиям[426].
Таким образом, в результате противоречий между братьями, неспособности Рудольфа II быстро принимать необходимые решения и нежелания короля Филиппа III и Павла V вмешаться в ситуацию продолжение войны против Османской империи стало невозможным. Рудольф тем не менее не ратифицировал мир с Османской империей, но и не возобновил в силу объективных обстоятельств военных действий. События, произошедшие при дворе императора, были столь противоречивы и сложны для понимания даже европейских политиков, что стоит задуматься над тем, какое впечатление такая информация могла произвести на шаха Аббаса.
К 1605 г. Аббасу удалось взять османские территории в полукольцо, напав на турок со стороны Ширвана и Месопотамии. В депеше из Константинополя французский посланник барон Гонту де Салиньяк сообщал, что султанский двор пребывает в панике, так как к началу 1607 г. шаху удалось отвоевать у османов несколько стратегически важных пограничных областей, которые султан завоевывал у персов в течение 15–16 лет[427]. В другой депеше из Константинополя от 24 апреля 1607 г. говорится, что султан отправил к шаху своего чауша с письмами, в которых излагались условия мира. Посланник должен был возвратиться через 40 дней. До его возвращения ни один человек, включая путешественников-христиан, не должен был покидать пределы Порты, чтобы не сообщить шаху об истинном положении дел в империи. Самым интересным моментом депеши являются сетования султана на то, что шах «отправил послов к хрис тианским государям вопреки предписаниям их мусульманской религии…»[428]. Почти все ближневосточные территории Османской империи были охвачены мятежом, и «мятежники настолько сильны, что даже посадили в захваченных городах собственных губернаторов»[429]. Следствием этого временного коллапса османов были успешные, без посторонней помощи, военные действия шаха Аббаса, если бы не события на венгерском фронте. Заключение в ноябре 1606 г. мира между султаном и императором серьезно нарушило планы Аббаса.
Естественно, что кармелиты не могли знать обо всех этих событиях. Но о настроениях шаха кармелитов предупредил Роберт Ширли, оставленный Энтони Ширли при дворе шаха в качестве заложника. К моменту описываемых событий Роберт Ширли находился в Персии почти десять лет[430]. По словам Р. Ширли, «Шах в течение четырех минувших лет не получал писем от папы и новостей от своих собственных послов, отправленных к императору». В действительности дела обстояли несколько иначе. В 1603 г. Аббас отослал обратно в Испанию Д. да Миранду и А. да Гувеа. Вместе с ними в Рим был послан Бастам Кули-бек. Посольство благополучно добралось до Рима, где персидский посол скоропостижно скончался. В октябре 1604 г. прибыло великое посольство Филиппа III во главе с доном Луисом Перейрой де Ласердой. Главная задача посольства заключалась в подстрекательстве Аббаса продолжать вести войну с османами, однако на переговорах поднимались и вопросы, связанные с двухсторонними отношениями между Персией и Испанией. В частности, обсуждался вопрос о статусе Ормуза. Посольство добиралось в Персию морским путем. Выехав из Испании в 1602 г., в Персию оно прибыло в конце 1604 г., правда, сначала де Ласерда заезжал в Гоа. Европейские новости, которые он привез, устарели. В 1605 г. в Испанию и Рим с ответным посольством был отправлен Пакизе Кули-бек[431].
Роберт Ширли также рассказал, что Аббас был серьезно расстроен новостями о заключении мира между императором и султаном и воспринимает это известие как предательство со стороны императора[432]. Эта информация помогла кармелитам своевременно оценить сложившуюся ситуацию и выработать правильную линию поведения. В Казвин кармелиты прибыли 14 ноября, а 20 ноября 1607 г. они прибыли в столицу – Исфахан. На первой аудиенции, которая состоялась 3 января 1608 г., глава миссии кармелитов о. Павел-Симон вынужден был выслушать горькие упреки шаха в отношении подписания мира между турками и императором[433]. Аббас даже не хотел брать в руки письма от императора, привезенные кармелитами и датированные 1604 г.
Преподобный Павел-Симон так описал состояние Аббаса: «Он (то есть шах) жалуется на это… Римский папа, император и король Испании подстрекали его различными способами объявить войну против Султана, обещая ему помощь и сделав то же самое. По их просьбе он сделал так и по сей день находится в состоянии войны. Тем не менее даже через несколько лет христианские принцы так и не сделали шагов в этом направлении: наоборот, в присутствии его послов (то есть Мехди Кули-бека с товарищами)[434] при дворе императора добились того, что сделало возможным достижение мира в результате переговоров между собой и султаном, и, заключив его, не сообщили ему (Аббасу) никаких новостей относительно этого. ‹…› Шах говорит, что христианские принцы обманули его и посмеялись над ним…»[435]
По сообщению о. Павла-Симона, в момент их прибытия при дворе шаха находились послы императора. Император считал, что следует сообщить шаху Аббасу о том, что мир с османами вынужденный и непрочный и что император будет вновь просить у рейхстага денег на продолжение войны. По утверждению В. Ляйча, этих послов отправил в Персию не император Рудольф, а ближайший сподвижник и советник эрцгерцога Матиаса кардинал Мельхиор Клесль[436]. Причем В. Ляйч отмечал, что беспокойство кардинала Клесля по поводу реакции Аббаса на события в Империи было столь велико, что он снарядил в Персию сразу два посольства[437]. По всей видимости, первое посольство должно было «информировать» шаха о заключении между императором и султаном «вынужденного и непрочного мира», а второе – приложить максимум усилий для того, чтобы шах со своей стороны не заключал мира с османами[438]. Озабоченность М. Клесля легко объяснить. Ситваторокский договор с османами еще не был ратифицирован. Султан откровенно шантажировал имперское правительство тем, что в любой момент начнет новые военные действия на венгерской границе. Венгерские сословия еще до конца не успокоились. Рудольф уступил венгерскую корону Матиасу, но при этом продолжал оставаться императором, который не собирался ратифицировать османско-имперский договор. В Праге хорошо понимали, что, если Аббас заключит с султаном даже перемирие, это развяжет османам руки и они вновь могут напасть на территории Империи.
Трудно сказать, насколько о. Павел-Симон разубедил шаха в предательской политике европейцев. Так или иначе, с прибытием в Персию посольства кармелитов начинается новая страница отношений между Аббасом и европейскими государями. Преподобный о. Павел-Симон быстро сумел составить картину изменений, которые произошли при шахском дворе за последние 4–5 лет. В своем отчете он писал: «…Все, что я могу сообщить Вашей Святости, – так это то, что король Персии очень силен и больше не имеет потребности в помощи христианских государей, потому что он собрал столь большую армию, способную и единолично уничтожить турок»[439].
Анализируя значение побед шаха и учитывая поступающие в его адрес упреки от султана за то, что шах истребляет мусульман, а не неверных, о. Павел-Симон высказал некоторые предположения, которые, по его мнению, должны были навести очень многих в Европе на серьезные размышления. «Если король Персии достигнет Средиземноморья или Константинополя, он может стать следующим «Бичом Божьим» для Святой Церкви, потому что он имеет все качества воителя редкой способности и исключительной проницательности: плохо иметь около себя соседа столь мощного и, кроме того, столь раздражительного. Если он должен будет заключить мир с османами, поскольку последние делали такое предложение несколько раз и на удовлетворительных условиях (для шаха), это было бы крушением Восточной Индии…»[440]
Преподобный о. Павел-Симон указывает на два конкретных вопроса, которые могли бы принести шаху удовлетворение и обеспечить его дальнейшую лояльность к европейским государям. Первый вопрос заключался в том, чтобы наконец «началась война с османами, как уже не раз ему (шаху) обещали, и не будет упущена прекрасная возможность занять Святые Места, как Бог устами шаха предлагает Вашей Святости…»[441]. Другой вопрос, волновавший шаха и требовавший скорейшего рассмотрения, заключался «в прекращении ущерба, который наносится ему и его подданным должностными лицами короля Испании в Ормузе…»[442]. Этот вопрос, или, правильнее было бы назвать, «проблема Ормуза», в результате привела в дальнейшем к неразрешимым противоречиям между шахом и испанским королем, что в итоге превратило их из союзников в непримиримых врагов[443].
Дипломатические таланты кармелитов, в частности о. Павла-Симона и о. Иоанна-Фаддея, сумели растопить лед в отношениях между шахом Аббасом и вновь прибывшими миссионерами. Кармелитам удалось возродить у шаха надежду на союз с европейскими государями, но уже с поправками на изменившуюся ситуацию. На аудиенции, состоявшейся 3 января 1608 г., кармелиты сообщили шаху о дружественном расположении к нему императора Рудольфа II. Кармелиты рассказали Аббасу, как был «добр император к послам шаха… и как он (император) желал бы, чтобы один из послов остался у него при дворе постоянно[444], чтобы установить дружбу лучше, и что посол (Зайнуль Абдин-бек) сам не согласился остаться»[445]. На что Аббас резонно заметил кармелитам, что «Император потерял свое королевство… и больше не имеет никакой власти и поэтому заключил мир с османами, вопреки обещаниям, которые делал неоднократно, и это в то время, когда он (Аббас) упорно продолжал заниматься войной в течение десяти лет непрерывно»[446]. Павел-Симон опроверг эту информацию, сказав, что «император был столь же силен, как и прежде, и не потерял свой трон»[447]. В словах кармелита содержалась доля истины, так как разговор между Аббасом и кармелитами происходил в начале января 1608 г. Только через шесть месяцев, 25 июня 1608 г., Рудольф был вынужден уступить титул римского короля более «сговорчивому» брату Матиасу, при этом Рудольф сохранял за собой императорскую корону до конца жизни. Поэтому Матиас смог стать императором только после смерти Рудольфа в 1612 г.
Причина того, что христианские государи не стали подписывать антиосманское соглашение, по версии о. Павла-Симона, заключалась в смерти Климента VIII и Льва XI. Поэтому новый папа Павел V ничего так не желал, по словам ловкого кармелита, как «аккредитовать» в Исфахане «выдающегося человека» в качестве своего постоянного представителя[448].
По всей видимости, кармелитам удалось убедить Аббаса продолжать переговорный процесс с европейскими государями. И это несмотря на то, что Зайнуль Абдин-бек из Астрахани направил Аббасу отчет о своей поездке к императору. В нем, в частности, была дана очень негативная оценка императора и других христианских государей. Зайнуль Абдин-бек утверждал, что «все их (европейцев) заверения в дружбе были ложны, и все они хотели бы, чтобы турки и персы уничтожили друг друга»[449]. Реакция на этот отчет у Аббаса была достаточно бурная. По воспоминаниям о. Иоанна-Фаддея, Аббас с угрозой заявил кармелитам: «Вы еще увидите, какой пожар я устрою в христианском мире в течение ближайших двух лет»[450].
Несмотря на разочарование, Аббас, умиротворенный искусной дипломатией кармелитов[451], вновь снаряжает в Европу великое посольство, теперь во главе с Робертом Ширли. Преподобный Павел-Симон с письмами к Павлу V был отправлен Аббасом в Рим в марте 1608 г. Его маршрут пролегал через Сирию и Ирак в Алеппо, оттуда – торговыми европейскими судами до Рима[452].
После того как в 1599 г. в Европу был отправлен Э. Ширли, Аббас женил Роберта на своей родственнице – двоюродной сестре по матери, «черкесской княжне» Сампсонии, воспитанной при шахском дворе и, как это ни удивительно, не обращенной в ислам. Сампсония была православной и, таким образом, принадлежала не к черкесам, которые к этому времени являлись мусульманами, а к одному из знатных грузинских родов[453]. Кармелиты, однако, утверждали, что Сампсония была племянницей любимой жены Аббаса, матери его наследника Сефи-мурзы[454]. Что действительно соответствовало истине. Мать Аббаса, Хайр аль-Ниса Бегум, была не черкешенкой, а персиянкой, семья которой происходила от 4-го имама Зайн аль-Абидина. Павел-Симон обратил Сампсонию в католичество под именем Терезы, в честь патронессы Ордена Босоногих Кармелитов. Он же и обвенчал Сампсонию-Терезу с Робертом Ширли, хотя она считалась его женой уже много лет. Роберт Ширли выучил фарси и сумел внести существенный вклад в реорганизацию персидской армии. Шах доверял Р. Ширли, несмотря на то что Энтони Ширли не вернулся в Персию. Шах Аббас так характеризовал младшего Ширли: «… Роберт Ширли, англичанин, нам очень дорог, проведший многие годы на нашей службе и к которому мы питаем большое доверие. ‹…› Он понимает наше положение, наше королевство и то, что мы желаем»[455].
Однако, по словам о. Павла-Симона, к приезду кармелитов в Персию в конце 1607 г. «он (Ширли) не был в большом авторитете у короля» и сам просил кармелитов «оказать ему дружескую поддержку и выпросить для него, если это будет возможно, санкцию шаха на его возвращение на родину»[456]. Публично Аббас выказывал Роберту почет и уважение, но никогда не использовал его и держал как заложника. Тем не менее связь между братьями существовала, и Роберт был хорошо осведомлен о событиях, происходящих в Европе. Примечательно, что весной 1608 г. о. Павел-Симон встретил в Алеппо, в торговой фактории европейцев на Ближнем Востоке, некоего Доминика Фернандеса, направлявшегося в Персию. Д. Фернандес должен был доставить Аббасу письма от имени вице-короля Неаполя. Кроме этого, у Д. Фернандеса имелись письма и к Роберту Ширли, который находился в постоянной переписке с испанскими властями. Вице-король Неаполя, по словам о. Пав ла-Симона, писал Р. Ширли «относительно некоторого дела», о котором он (то есть Ширли) должен был вести переговоры с «королем Персии»[457]. Согласно персидской традиции, вместе с Робертом в качестве второго посла был назначен знатный перс Али Кули Мюхдар.
Аббас соглашался с «предложениями» Павла V о действиях против османов с двух сторон. Однако, по всей видимости, не особенно веря в такую возможность со стороны европейцев, Аббас делал встречные предложения. Новые предложения шаха Аббаса европейским государям отличались от тех, которые он сделал через посольство Э. Ширли – Хусейн Али-бека в 1600 г. Уверовав в потенциал своей реформированной армии, Аббас призывал, говоря современным языком, европейское сообщество к экономическим санкциям против Османской империи. Таким образом, шах пытался лишить османов финансовых источников в предстоящей войне, так как львиную долю своих доходов Османская империя получала от транзитной торговли между Европой и Востоком. Однако и военная помощь не была для шаха излишней. Интерес представляет письмо Аббаса, которое Р. Ширли должен был доставить английскому королю Иакову I: «…Отцы (кармелиты) обсудили с Нами интересы христианских принцев, которые считают, что османы должны быть атакованы двумя путями, до тех пор пока не будут полностью уничтожены. Мы со своей стороны, и они – с другой. Что касается Нас, то Мы не имеем недостатка в силах, чтобы немедленно с мощной армией приступить к этому. В настоящее время Мы благосклонно отнеслись к их разумным суждениям по выбору этого пути, который может быть желательным для нападения. Однако теперь Мы предложили им атаковать врага двумя путями: через Алеппо, где христиане будут иметь все преимущества, в то время как Мы будем наступать со стороны Диярбакыра и Натилии. Таким образом, с Божьей помощью, Мы надеемся уничтожить османов и стереть их имя, так чтобы между нами и христианами была общая граница и прочная дружба царила между соседями…»[458].
Примечательно, что письмо датировано «месяцем рамадан 1019 год хиджры», то есть концом ноября – началом декабря 1607 г. Следовательно, Аббас приказал его составить сразу же после первых встреч с кармелитами. Стоит отметить, что о. Павел-Симон уже из Алеппо отправил Аббасу депешу о событиях и мерах в этом направлении. В частности, он сообщал о морском походе объединенного испано-итальянского флота под руководством герцога Карло Дориа против османов. Здесь же было сообщение о том, что, как только Испания помирится с Францией (а такие перспективы в виде брака дофина с инфантой уже наметились)[459], Венеция в качестве поддержки объединенного христианского флота поставит против турок 100 галер[460].
Согласно отчету о. Павла-Симона, Аббас обсуждал с кармелитами возможность военных операций со стороны моря. По замыслу Аббаса, объединенная европейская эскадра должна была нанести Османской империи удар по ее форпостам на Средиземном море. В то же самое время Аббас со своей армией нанес бы удар со стороны Ирака и Сирии[461].
Перед Аббасом стояла сложная проблема, которая заключалась в маршруте отправки посольства в Европу. Преподобный о. Павел-Симон был отправлен в январе 1608 г. в Рим через Ирак и Сирию под видом бедного торговца. Несколько раз в течение путешествия его жизнь подвергалась опасности. Кармелит был ограблен и страдал от истощения. Единственное, что ему удалось сохранить в момент прибытия в Алеппо, – письма Аббаса на имя Павла V. Для «Великого посольства» такой маршрут был невозможен. Поэтому шах решился на достаточно рискованный шаг отправки посольства через Русское государство. К концу 1607 г. Аббас имел уже достаточно полную информацию о происходящих событиях в Русском государстве[462]. Однако другой возможности отправки посольства у Аббаса, по всей видимости, не было. Поэтому 2 февраля 1608 г. посольство Р. Ширли отправилось в Европу через страну, охваченную гражданской войной.
Кармелиты, оставшиеся в Персии, после отъезда о. Павла-Симона[463], о. Иоанн-Фаддей и о. Викентий, немало потрудились, чтобы организовать при покровительстве Аббаса первое католическое епископство в Персии. Преподобный Иоанн-Фаддей, ставший впоследствии первым епископом Исфахана, обладал незаурядными лингвистическими способностями, он составил для Римской курии первый персидско-итальянский разговорник, перевел псалмы Давида на фарси, кроме русского языка знал польский. Однако Аббаса больше привлекали дипломатические способности кармелитов. Кроме того, о. Иоанн-Фаддей хорошо говорил на русском языке, который выучил, находясь на зимовке в Царицыне в 1606-1607 гг. Последнее обстоятельство, по всей видимости, послужило для Аббаса весомым аргументом в пользу того, что именно о. Иоанн-Фаддей в качестве посла персидского шаха был отправлен в Русское государство. В конце 1610 – самом начале 1611 г. посольство двинулось в путь.
Из отчета самого о. Иоанна-Фаддея не ясно, к какому именно русскому государю в 1611 г. Аббас направлял посольство. Видимо, это не было случайным. Персидские грамоты за этот период времени адресованы к безымянному «Белому царю»[464]. Смысл предложений Аббаса[465] заключался в том, чтобы Польша и Россия[466] напали на «турецкие владения… и лишили турецкое правительство и торговое население денежных средств и орудий производства»[467]. Помимо этого Аббас хотел, чтобы «казаки русского царя восстановили на Северном Кавказе крепость Zarru (?)[468], он (Аббас) не так давно прогнал турок»[469].
Предложения шаха говорят сами за себя. Несмотря на события в Русском государстве, Аббас продолжал рассчитывать на северного соседа в качестве союзника против османов. Однако о. Иоанн-Фаддей не смог выполнить поручения шаха, а на его приключениях в охваченном Смутой Московском государстве стоит остановиться отдельно. В качестве компаньонов о. Иоанна-Фаддея шах отправил армянских купцов и священников-униатов[470]. В начале 1611 г. посольский караван выехал из Исфахана. Маршрут посольства пролегал через земли грузинского царя Теймураза, внука убитого Александра[471]. Преподобный Иоанн-Фаддей должен был передать Теймуразу соболезнования шаха по поводу кончины его жены. Кармелит сообщает интересные подробности приема шахских послов грузинским царем[472]. После свидания с Теймуразом посольство отправилось в Астрахань, куда благополучно прибыло в начале июня 1611 г. По словам о. Иоанна-Фаддея, «город находился в еще большем беспорядке, чем за все предыдущие годы смуты»[473]. Воевода И.Д. Хворостинин, по словам посланника, подстрекал «русских схизматиков» к расправе над кармелитами. Астраханские власти объявили о. Иоанну-Фаддею, что его миссия к «Великому Герцогу Московскому» – предлог для «махинаций» персидского шаха в союзе с королем Польши[474]. И. Хворостинин посадил кармелита со всей компанией под домашний арест. Однако армянину Лукасу из посольского каравана удалось сбежать и сообщить шаху об аресте его посла. Аббас написал воеводе Хворостинину гневное письмо, в котором говорилось, что, если о. Иоанн-Фаддей не будет возвращен ему целым и невредимым, он пошлет в Астрахань войска и силой освободит своего посланца[475]..
Неизвестно, каким бы образом сложилась судьба о. Иоанна-Фаддея, если бы Астрахань не заняли отряды атамана И.М. Заруцкого, с которым прибыла «царица» Марина Мнишек с сыном. Она была лично знакома с кармелитом еще с пребывания их в Кракове. По словам о. Иоанна-Фаддея, «прибыв в Астрахань, Великая Герцогиня была очень озабочена моей судьбой и написала личное послание шаху»[476]. Именно о. Иоанн-Фаддей и о. Николау да Мело[477] посоветовали Марине Мнишек сослаться с Аббасом. Преподобный о. Николау да Мело после освобождения из Белозерского монастыря находился при Марине в качестве священника[478]. Марина стала готовить посольство в Персию.
П.А. Юдин в своей небольшой статье о посольстве Марины к шаху утверждал, что астраханское посольство представляло интересы как самой Марины, так и атамана И.М. Заруцкого[479].. Действительно, осенью 1613 г. посольство, в составе Якова Глядкова, Ивана Хохлова, Богдана Наракчеева и других, всего около 20 человек, было готово к отправке в Персию[480]. Тем не менее при более детальном сопоставлении русских посольских документов и материалов «Хроники кармелитов» выясняются интересные подробности. Официальной целью посольства была просьба о помощи. Русские посольские документы утверждают, что «вор Ивашка» собирался в поход на Самару и Казань весной 1614 г. и для этих целей ему были необходимы деньги и «ратные люди». Если бы шах согласился оказать помощь И.М. Заруцкому, то тот, в свою очередь, обещал «уступить ему Астрахань и все ниже ея лежащие местности до города Терка»[481]. Эту просьбу И.М. Заруцкого шаху должен был передать И. Хохлов. Однако во главе посольства стоял Я. Глядков, который должен был лично передать Аббасу грамоту Марины. Из документов не ясно, о чем именно просила Марина, так как везде фигурирует просьба И. Заруцкого – «о денежной казне», «о ратных людях», «о хлебных запасах». Шах действительно оказал помощь Астрахани, но, согласно посольским документам, его отряд с людьми и продовольствием был остановлен в Дербенте[482].
С другой стороны, И. Хохлов, кроме послания И. Заруцкого, передал шаху Аббасу и личное послание воеводы И. Хворостинина[483], который в своем послании просил, чтобы шах Аббас «вору Заруцкому не верил и помощи казной и ратными людьми не давал»[484]. Эту же информацию подтвердил прибывший ко двору шаха из Астрахани, в начале 1614 г., персидский купчина Хозя (Хаджи) Муртаза[485]. Купчина привез Аббасу новое послание Марины, которая заставила Хозя Муртазу дать шерть «на коруне», что он выполнит ее поручение. Причем, находясь в Астрахани, Хозя Муртаза говорил «многим добрым людем»: «Посылаютде вор Ивашко Заруцкой и Маринка послов воровским обычаем, и шах-де Астрахань не возьмет и людей воинских в Астрохань не пришлет, тем-деи шах с Московским государством не ссорится, и казны-де им не даст же»[486]. Однако и здесь посольские документы не говорят, о чем просила Марина шаха.
В «Хронике кармелитов» утверждается, что шах неоднократно посылал денежные и продовольственные припасы в Астрахань. Узнав о намерении Марины отпустить в Персию о. Иоанна-Фаддея, «Аббас был настолько доволен, что отослал в Астрахань, ей в подарок, персидское судно с товарами. Приблизительная выручка от груза была достаточной для того, чтобы содержать в течение шести месяцев 600 солдат»[487]. Причем «подарок» прибыл в Астрахань в конце лета 1613 г. По всей видимости, «царица» просила у Аббаса политического убежища, что, собственно, ей и советовали монахи, находившиеся при ней, – о. Николау да Мело и о. Иоанн-Фаддей. Совершенно невероятно, чтобы Аббас собирался сделать из Марины наложницу, как это утверждали русские посольские документы[488]. Во-первых, Марина, несмотря на происшедшие события, имела статус московской царицы, полученный через коронацию. Во-вторых, она была полькой, а ссориться с Сигизмундом III шах не собирался. В-третьих, за Марину ходатайствовали кармелиты, которые являлись при дворе шаха официальными представителями Римской курии. Кроме того, шах Аббас официально заявлял русскому послу князю М.П. Барятинскому в 1618 г., что «в смутное время я Астрахань перекормил и пшено к ним посылал, а о том никоторые делы не помыслил, что мне Астрахань взятии и Астраханью владети»[489].
Неизвестно, по какой причине Марина с сыном не покинула Астрахань вместе с о. Иоанном-Фаддеем, который вернулся в Исфахан в конце 1614 г. Задачи посольства кармелита остались полностью нереализованными. Прежде всего, из-за того, что по приезде в Астрахань в 1611 г. воевода И. Хворостинин изъял и уничтожил все письма и верительные грамоты к «христианским принцам». Продолжать путешествие без документов не было никакого смысла. Кроме того, обстановка менялась не только в Московском государстве, но и в самой Персии. В 1612 г. шах, так и не дождавшись от европейских монархов открытия второго фронта против османов, «заключил с османами мир на очень выгодных для себя условиях»[490]. Новые международные условия требовали серьезной корректировки позиций, что, естественно, требовало времени.
Заключение
Период с 90-х гг. XVI в. до начала в 1618 г. Тридцатилетней войны знаменует в истории международных отношений эпоху перехода от внешнеполитических условий и целей позднего Средневековья к эпохе Нового времени. Идея борьбы христианского Запада с мусульманским Востоком своими корнями уходит в раннее Средневековье. На рубеже исторических эпох она приобретает новое звучание и становится первым международным проектом, направленным на ликвидацию гегемонистских позиций Османской империи.
Самыми активными участниками антиосманского союза в рассматриваемый период времени становятся три государства – Священная Римская империя, Русское государство и Сефевидская Персия. Эти государства могли составить ядро широкой антиосманской коалиции, к которой при желании могли присоединиться и другие европейские государства. Римская курия оказывала участникам предполагаемой коалиции идеологическую и материальную поддержку. Часто идеи, которые порождают политические решения, не соответствуют историческим условиям для своей реализации. В случае с идеей антитурецкой коалиции этот тезис неверен. В рассматриваемых государствах для успешной реализации идеи антитурецкой коалиции имелись социально-экономические и политические условия. Чтобы окончательно воплотить проект в жизнь, не хватило политической выдержки и настойчивости.
На протяжении почти тридцати лет своего существования антиосманский проект был неоднократно близок к своему окончательному воплощению, и период с 1600 по 1612 г. являлся самым насыщенным по драматизму и накалу страстей. Его условно можно разделить на два этапа: 1600-1606 и 1607–1612 гг. Первый этап характерен всплеском надежд на скорое заключение антиосманского соглашения. В этих целях бурную деятельность развил шах Аббас, достаточно укрепивший свое внутриполитическое положение, что, в свою очередь, давало ему возможность активно и успешно вмешиваться в процесс создания антиосманской коалиции. Не менее активными в этом направлении были действия Бориса Годунова в качестве русского царя. Римская курия развила бурную дипломатическую деятельность через основание своих религиозных миссий в Персии. Однако болезнь императора Рудольфа II свела все эти усилия к «холостому движению» в деле письменного оформления договора. Определенные успехи все же были достигнуты, и выражались они в открытии второго фронта против турок со стороны Персии в 1602–1603 гг. Однако эти шаги делались не на основе письменной договоренности о военно-наступательном союзе против османов, а по факту устной договоренности (Note verbale) между императором, шахом и царем. С восшествием на московский престол Лжедмитрия I и его планами похода на Азов и Крым в деле оформления антиосманской лиги открылись новые перспективы. Сообщение об убийстве Лжедмитрия I в конце мая 1606 г. окончательно исключило эту возможность. Русское государство погрузилось в Смуту, император Рудольф заключил с османами Ситваторокский мирный договор. Шах Аббас продолжал воевать с османами без реальной поддержки союзников. Именно в этот момент ко двору шаха прибыло посольство кармелитов. Цели и задачи, которые ставила перед кармелитами Римская курия, были практически полностью выполнены. Кармелиты сумели убедить шаха продолжать войну с османами и не прерывать дипломатических отношений с европейскими странами. Период с 1607 по 1612 г. характеризуется активной дипломатической деятельностью шахского двора, что в результате привело к его победе над османами, первой за предыдущее столетие. Османы были вынуждены подписать унизительные условия мира, которые продиктовал шах Аббас. Кармелиты успешно обосновались в Исфахане, образовав первое персидское епископство во главе с о. Иоанном-Фаддеем.
Несмотря на победоносное завершение турецко-персидской войны в 1612 г., шах Аббас не собирался останавливаться на достигнутом. Если результаты войны в какой-то мере удовлетворили его территориальные аппетиты, то основная экономическая задача, от которой зависела будущая финансовая независимость империи, оставалась нерешенной. Основной статьей персидского экспорта был шелк-сырец, который даже после успешного завершения войны с османами Персия продавала в Европу через Османскую империю, теряя при этом большую часть дохода. Поэтому следующая война с Персией была вопросом времени и союзников. Аббас вновь продолжал оставаться самым заинтересованным монархом в создании антиосманской коалиции, и, следовательно, монахи-кармелиты продолжали исполнять свои дипломатические обязанности при персидском дворе.
Приложение. Главы из компиляции преподобного отца Бертольда-Игнасио де Сент-Анн «История миссии отцов босоногих кармелитов в Персии (1604–1612)»[491]
Глава IV. Миссионеры в Кракове
25 августа 1604 года наши миссионеры прибыли в Краков и сразу же отправились выразить свое почтение папскому нунцию, Монсеньору Клаудио Рангони, епископу Реджио, и передали ему от имени Святого Отца послание, поручающее ему ходатайствовать о наших монахах перед Сигизмундом, королем Польши.
Сигизмунд III, о котором здесь идет речь, перешел с наследственного трона Швеции на трон Польши, на который он был избран в 1587 году голосами избирателей[492]. Он проживал в Кракове, своей столице. Нунций поторопился испросить у него аудиенции для бедных миссионеров. Он лично сопроводил их туда и передал Сигизмунду III папские письма, адресованные Его Высочеству.
Сигизмунд, который был принцем скорее набожным, чем великим и могущественным, получив послание Климента VIII со свидетельствами самого глубокого почтения, проявил себя полностью расположенным помогать намерениям Папы в деле, столь соответствующем его собственным стремлениям. Он обещал миссионерам отдать приказы и принять меры, чтобы обеспечить быстроту, спокойствие и успех их путешествия. Миссионеры же, все еще в сопровождении нунция, выразили свое почтение принцу Владиславу. Это был молодой человек, полный веры и благочестия. Он хотел получить Святой Скапуларий[493] из рук наших отцов и быть записанным в братство Богоматери горы Кармель. Его примеру последовали придворные дамы, толпа дворян, простых людей, которые охотно воспользовались этой возможностью, чтобы дать обет Марии и таким образом быть под специальной защитой этой могущественной Владычицы неба и земли.
Однако 24 июля Климент VIII, все так же озабоченный своей горячо желаемой миссией в Персию, отправил Монсеньору Бернарду Мациевскому, кардиналу Кракова и примасу Польши, письма в форме Бреве с рекомендациями наших миссионеров.
Знатный прелат щедро одарил наших миссионеров вниманием и заботой. Как только он узнал об их приезде в Краков, он отправил одного из чиновников своего двора, чтобы приветствовать их от своего имени; и когда, после королевского приема, отцы пришли выразить ему свою признательность, он искренне пытался убедить их остаться в своем дворце, но нунций уже расположил их в своем. Но кардинал хотел хотя бы увидеть их несколько раз за своим столом во время их пребывания в Кракове. Он также подарил им значительную сумму денег для расходов на путешествие; но они отказались с неизменным постоянством. Он также два раза отправлял к ним мальчугана с 300 экю от короля Сигизмунда и с увещаниями нунция, чтобы заставить их принять подарок. Миссионеры остались непоколебимы в своем решении жить в бедности, поскольку считали это необходимым для успеха их замыслов; но они взяли несколько подарков, переданных кардиналом для короля Персии.
Такая незаинтересованность, в сочетании с благочестивой жизнью, которую они вели, производила яркое впечатление при дворе и в городе. Польские дворяне даже писали своему начальству, прося разрешения в самое ближайшее время основать в Кракове монастырь Реформы Кармель. Главный капитул, состоявшийся в следующем году (1605), положительно решил этот вопрос.
Миссионеры пробыли в Кракове тринадцать дней. Они собирались уехать 8 сентября, снабженные документами, которые приготовил для них король. Для начала было два пропуска, один на латыни, адресованный всем персонам королевства, другой написан на русинском языке для жителей России; затем письмо для Господина Бенедикта Войны, епископа Вильно, и другое для Льва Сапеги, великого канцлера Литвы[494]: эти двое были ответственны за проход через Московию, с помощью их советов и властных полномочий. Третье письмо было адресовано командующему московитским городком Орша, с просьбой позволить путешественникам свободное передвижение по территориям, подчиненным царю. И в конце концов, король Польши дал два рекомендательных письма, первое для царя Москвы и второе для короля Персии.
Выехав из Кракова, миссионеры направились к Бенедиктинскому аббатству, расположенному приблизительно в пяти четвертях от города: кардинал пребывал там уже несколько дней, и это было место, предназначенное для последней встречи и прощания. Прелат превзошел себя по этому случаю, так что мы не знали, чем восхищаться больше – его добротой или смирением. После приема, полного благородства и отеческой благосклонности, он хотел, чтобы глава миссии возложил Святой Скапуларий Богоматери горы Кармель. По его приказу ужин был приготовлен в столовой ордена: он усадил путешественников на почетные места. Для отъезда он приказал запрячь две повозки, в одной из которых он устроился рядом с о. Павлом-Симоном. Таким образом он сопровождал миссионеров больше получаса; затем, когда настало время их покинуть, он нежно обнял их, дал им свое благословение и попросил их благословить его как дитя Кармель. Это не все: он пожелал, чтобы его домашний работник остался с ними до конца границ его владений, то есть в течение трех дней, и оплатил все расходы, связанные с путешествием.
По приезде в Янов, маленький городок в епархии Луцка, они нашли епископа, который проживал там в то время и которому их порекомендовал кардинал Кракова своим письмом. Епископ Луцка разместил их у себя в течение двух дней и предоставил наилучшие условия. Затем он поручил одному из своих мужчин сопроводить миссионеров до Вильно и оплачивать все затраты в пути. Путешествие продлилось десять дней, и они прибыли в Вильно 23 сентября. Небольшое разочарование ожидало наших миссионеров: Господин Бенедикт Война отсутствовал, так же как и великий канцлер Лев Сапега. Слуга епископа Луцка немедленно отвел путешественников к епископскому дворцу, где им оказали доброжелательный прием. Они узнали, что Господин Война скоро вернется в Вильно, но Господин Лев Сапега уехал надолго и находится в замке Икасни (?) Ikasni)[495], примерно в пятидесяти милях от Вильно. Это привело наших миссионеров в замешательство, поскольку они не могли продолжить свой путь без совета и поддержки великого канцлера. Чтобы больше не терять времени, было принято решение, что о. Иоанн-Фаддей и Викентий останутся в Вильно дожидаться епископа, а о. Павел-Симон в сопровождении послушника и Франциска Риодолида отправятся в Икасни к Сапеге.
Господин епископ Война вскоре вернулся в Вильно: он одобрил все, что было сделано для миссионеров, и был очень рад лично принять о. Иоанна-Фаддея и Викентия, проведя с ними несколько дней. Но важные дела требовали его присутствия в другом месте, и он хотел, чтобы во время его отсутствия отцы продолжили жить у него, и не соглашался с тем, чтобы они приняли гостеприимство, любезно предложенное иезуитами и францисканцами. Миссионеры оставались в епископском дворце почти месяц, ожидая, когда о. Павел-Симон даст им инструкции для дальнейших действий. Отец, прибывший в Икасни, был с большой сердечностью принят великим канцлером, который тут же обеспечил его и его спутников безопасным проходом через Московию. Это было нелегко из-за гражданской войны, опустошающей страну и которой, для ясности нашего рассказа, мы должны кратко рассказать причины и следствия.
Монархия московитов восходит приблизительно к середине IX века: она была образована главой датских пиратов, именуемым Рюриком, династия которого будет править в течение более восьмисот лет. Наиболее известным потомком принца являлся, несомненно, Иван Васильевич, который значительно расширил территорию империи: он отвоевал Астрахань и Казань у татар, всю Сибирь, захватил Лифляндию и т. д. После его смерти в 1584 году он передал корону старшему сыну Федору Ивановичу. Другой сын, Дмитрий, которому было всего лишь два года, получил в удел город Углич; он воспитывался там матерью, которая, по обычаю народа, оставшись вдовой, была помещена в монастырь: мы знаем, что русские – христиане, но привержены греческой схизме после возмущения Фотия[496] и выступают против власти викария Иисуса Христа (имеется в виду папа римский).
Федор, слабоумный и не энергичный принц, не обладал ни одним необходимым качеством для правления столь большой империей: он оставил управление в руках своего первого советника Бориса Годунова. У последнего было много амбиций, чтобы не злоупотребить некомпетентностью и доверием своего хозяина с целью получения верховной власти. Он начнет выгонять из двора под различными предлогами всех, кто вызывал у него подозрение и мог противостоять ему своим влиянием или могуществом. Затем он убил молодого Дмитрия в Угличе (1591). Тем не менее некоторые историки утверждают, что Дмитрий избежал смерти с помощью хитрости своего наставника, который заменил его другим ребенком такого же возраста и похожим лицом, чтобы обмануть убийц. После убийства, освободившего его от серьезного соперника, как думал Борис, он в течение нескольких лет стремился как можно больше утвердить свою власть и заполучить доверие московитов. Затем, когда момент казался наиболее благоприятным, он отравил Федора (1601) и взошел на трон, сделав вид, что принимает его неохотно и лишь для блага народа. Он принял имя Бориса Федоровича. Однако интриган, имеющий совершенное сходство с Дмитрием, если только, как думают некоторые, это не был сам Дмитрий, выдававший себя за этого принца, удалился за границу Литвы и готовился к государственному перевороту. Спустя два года (1604) он вошел в земли Московитские во главе армии Польской и казаков, которая крепла изо дня в день с помощью многих перебежчиков. Он захватил несколько городов и несколько раз столкнулся с войсками Бориса. Все предвещало для Дмитрия, истинного или ложного, полный успех, разорение своего противника и завоевания империи. Что касается короля Польши, он занял выжидательную позицию: не признавая открыто Дмитрия, он постоянно отказывался принимать претензию Бориса, который пытался добиться выдачи Самозванца.
Дела обстояли так: о. Павел-Симон и его два спутника прибыли в Икасни. Великий канцлер считал, что миссионеров постигнет неудача, если они лично предстанут перед царем, который, с одной стороны, был очень возмущен отношением короля Польши, а с другой – чрезвычайно озлоблен преследовавшими его поражениями. Он посчитал предпочтительным отправить Борису посылку, включающую письмо императора Рудольфа, другое письмо, написанное им самим, и третье письмо, написанное и подписанное о. Павлом-Симоном в качестве главы миссии. Эти три письма были одного содержания: ниже мы предоставим перевод письма отца[497].
«Светлейшему и могущественному Господину, Царю Борису Федоровичу, правителю всей России, и т. д., т. д. Светлейший Принц, Послы, отправленные к царю Персии в предыдущие годы Первосвященником, папой Климентом VIII, сообщили ему о всех знаках доброты, которую Ваше Высочество проявляло к ним и которые были достойны такого великого и могущественного принца, как Вы. Этот рассказ вдохновил Папу Римского на еще большую любовь к Вашему Высочеству. Также он пожелал, чтобы, отправляясь по его приказу в королевство Персии, наша дорога вела через ваши государства, чтобы засвидетельствовать его чувства к вам и договориться с Вашим Высочеством о других делах, указанных в письмах, которые мы передадим вам от него. Он также поручил нам, чтобы мы вручили лично вам его благочестивые подарки – залог своей привязанности к вам. Наконец, вот письмо, которое адресовал вам император Рудольф, ваш брат, и которое вас уверит на наш счет. Я прошу Ваше Высочество отправить мне, как только можно быстрее, пропуск для меня и моих четверых спутников. Папа Римский хотел, чтобы нас было немного, для того чтобы не вызвать подозрений у некоторых князей или в некоторых регионах и уменьшить затруднения столь длинного путешествия. Учитывая все Ваше величие и могущество, и мнению христианских князей, Вы предоставите нам без промедления, я надеюсь, то, о чем мы вас нижайше просим. В то же время мы молимся Божественному Величеству, чтобы все благословения Небес продлили ваше правление во славу Его Святого Имени.
Икасни, в Литве, 3 ноября 1604 года».
Корреспонденция великого канцлера, сопровожденная разными деталями, была доставлена до ближайшей крепости Русской империи; но не была принята офицером на границе. Только после долгих и настойчивых просьб он согласился взять письма и передать их Борису; что касается ответа царя, мы могли ожидать его только через три или четыре недели. Эти новости, принесенные почтальоном, подвигли о. Павла-Симона отправиться в Вильно: он отправился туда, чтобы присоединиться к двум другим отцам, и вернулся с ними в Икасни, поблагодарив епископа за всю его доброту. Миссионеры напрасно прождали ответа Бориса почти пять недель. Тогда Лев Сапега посоветовал другой выход. Мы поговорим о нем после того, как представим несколько документов, пришедших к тому времени в руки наших миссионеров. Для начала это было второе Бреве, которое Климент VIII адресовал королю Персии, вот его содержание:
«Климент VIII, Папа.
Прославленный и могущественный Шах Аббас, король Персии. Да пребудет с вами Бог и ниспошлет вам во всех делах и начинаниях удачу и долголетие!
Мы отправили к вам Павла-Симона, Иоанна-Фаддея и Викентия, монахов ордена Богоматери горы Кармель; и мы поручили им обсудить с вами от нашего имени некоторые дела. Так как может получиться, что обсуждение этих дел заставит их надолго задержаться у вас, мы поручили им использовать свое свободное время для посещения от нашего имени, христиан, ваших подданных, дабы напомнить им о вечном спасении, и дать им благотворные наставления и опекать их в соответствии с христианскими порядками и в соответствии с властью, которая им дана, духовными средствами и священными таинствами. И, чтобы вы были осведомлены о том, что они исповедуют, мы решили изложить здесь несколько пунктов, которые помогут вам иметь представление об этом деле.
Эти монахи, как было принято считать у римских понтификов, наших предшественников, имели основателями своего Института святых пророков Илию и Елисея, которые известны всем нациям и всем народам. Блаженный Альберт, патриарх Иерусалима, утвердил им их Устав. Этот устав говорит им прежде всего сохранять свое полное послушание, бедность и вечное целомудрие; размышлять над законом Божьим, созерцать и молиться; затем занимать себя проповедями слова Божьего и спасением душ – причины, по которым мы отправили их в удаленные страны. Таким образом, они уже проникли в Испанию, западную часть Индии и многие города Италии.
Что же касается их образа жизни, они не владеют, даже в общине, никакой собственностью и не имеют никакого блага даже во временное пользование, и только почтительное пожертвование милостыни приносит им пишу на каждый день и другие необходимые вещи, как для их личного обслуживания, так и для содержания их церквей. Подобно апостолам, они носят сандалии или оставляют ноги босыми; вот почему их зовут Босоногие. Непрерывное воздержание от мяса, длительное бдение и строгие посты – таковы методы, которые они используют, чтобы умерщвлять свою плоть, обуздывать ее, привести к подневольному состоянию, чтобы она больше не сопротивлялась закону разума, а была, наоборот, подчинена Божьей воле. И тогда как они сами сдерживали себя против восстания плоти, против соблазна земными вещами и против привлечения чувственных удовольствий, они также защищали от этого и других путем предостережения.
Поэтому просим вас оказать им сочувствие и дать им возможность осуществлять свои христианские обязанности, в отношении всех ваших подданных, которые приняли веру. Не удивляйтесь, видя их грубые и бедные одеяния, но обратите внимание на их жизнь и поведение, и вы поймете, что они веруют в Господа и что под суровой и презренной внешностью они прячут прекрасные качества и солидные достоинства, которые делают их угодными Богу и людям. И если после долгих путей они покажутся перед вами в пыли и выпачканными дорожной грязью, их речи и частые беседы, которые произойдут между вами, убедят вас, мы надеемся, в чистоте их души, их полном удалении от всего скверного, что существует, и, наконец, в невероятной красоте, что отличает тех, кто несет мир, тех, кто несет хорошие новости. Дано в Риме, у Святого Марка, под кольцом рыбака, 2 октября 1604 года, 13-го нашего понтификата»[498].
С Бреве от 2 октября миссионеры получили еще один манифест от главного комиссара Конгрегации, во-первых, регулирующий все, что касалось управления миссией; во-вторых, письмо, которое Петр Пресвятой Девы Марии[499] адресовал королю Персии для рекомендации своих монахов; и, наконец, в-третьих, другое письмо рекомендательное, написанное главным прокурором Августинского ордена, монахи которого уже находились в Исфахане. Вот первый из вышеперечисленных документов:
«Брат Петр Пресвятой Девы Марии, Апостольский генеральный комиссар Конгрегации Босоногих Кармелитов.
Нашим дорогим братьям во Христе, Миссионерам в страны неверных.
Руководство и Благодать Святого Духа!
Все творения, созданные Богом, находятся в порядке, утверждает Апостол. Вот только этот порядок создает послушание. Так, чтобы вы смогли справиться с миссией, полученной от Бога и его Викария, Мы, в соответствии с апостольской властью, которая нам дана, делаем отца Павла-Симона Иисуса и Марии, священника и монаха нашей Конгрегации, наместником епископа и наставником тех, кто был и будет отправлен на Запад; и Мы наделяем его всеми полномочиями для генерального служения. Однако он сможет воспользоваться этим не только после того, как получит совет, но и согласие своих товарищей отцов Иоанна-Фаддея Святого Елисея и Викентия Святого Франциска. Если срочное дело потребует неотлагательного решения и нет возможности получить совет или согласие одного или другого отца, то будут запрошены совет или согласие одного из отцов. И если главный викарий не может проконсультироваться ни с одним из своих товарищей, а дело срочное, мы разрешаем ему, после консультации с Богом в своей молитве (без которой, впрочем, нельзя обходиться ни в каком случае), принять на себя решение, которое принесет большую славу Божью, во благо религии и спасения души. И, чтобы соблюдение этих пунктов являлось вопросом более обильных заслуг, мы предписываем их в соответствии со Святым Духом.
Дано в Риме, в нашем монастыре Богоматери Ла Скала, 8 августа 1604»[500].
Такие широкие полномочия не были предоставлены безрассудно: генеральный комиссар знал добропорядочность миссионеров и трезво оценивал необходимость передачи таких широких полномочий в этих начинаниях. В дальнейшем, как мы это увидим, начальники урегулируют этот вопрос более детальным способом.
Глава V. Попытки прохода через Оршу, Невель. Заключение в тюрьму Миссионеров. Возвращение в Полоцк. Пребывание в Варшаве. Бреве о привилегиях. Проект прохода через Крым. Миссионеры в Кракове
Мы уже сказали в предыдущей главе, что миссионеры ожидали ответ Бориса в течение пяти недель, в Икасни. Видя, что ответа нет, Великий Канцлер порекомендовал им послать кого-нибудь из миссионеров в Оршу, для того чтобы обеспечить прохождение. В результате о. Викентий отправился в путь в сопровождении брата Иоанна Успения Богородицы. Прибыв в город Полоцк[501], который находился на полпути от Смоленска, они узнали, что вся провинция поражена эпидемией и что все пути сообщения с этой стороны закрыты.
Отец Викентий, пожелавший испробовать все средства, решил тогда направиться к Невельской волости[502], которая находилась севернее. Но ему было нужно разрешение: после многих усилий для того, чтобы его заполучить, все, чего он добился, заключалось в том, что брат Иоанн мог пойти с проводником в Невель, для того чтобы просить губернатора передать Борису письмо короля Сигизмунда. Получив письмо, губернатор потребовал, чтобы брат немедленно вернулся в Полоцк, где должен был дожидаться ответа от царя, если таковой будет.
В это время Лев Сапега решил прибегнуть к другой хитрости. Одна из статей договора, существующего между Московией и Польшей, заключалась в том, что любой посол одной из двух держав мог пользоваться на территории другой, для себя и для членов своей свиты, совершенной свободой передвижения; Великий Канцлер, воспользовавшись этим, послал к царю своего посланника. Вслед за этим он решил делегировать к Борису, от имени короля Сигизмунда, польского дворянина, который присоединился бы к нашим миссионерам, в качестве капеллана или духовника. Они были проинструктированы, чтобы как можно более тщательно скрывать, пока они не прибыли бы в Москву, свой статус миссионеров, идущих от римского понтифика; но эта мера предосторожности, как мы увидим далее, не помогла. Короче говоря, мы покинули Икасни и отправились в Полоцк, чтобы, как мы предполагали, присоединиться по пути к преп. Викентию и его спутникам, которые должны были вернуться из Орши. Преподобный Викентий в Полоцке в полном одиночестве, потому что, как только брат Иоанн возвратился из Невеля, он отправил его в Икасни, чтобы сообщить другим отцам о положении вещей. К несчастью, брат, не встретив никого в дороге, заблудился. Прибыв в Полоцк, польский дворянин отправил в Невель письмо с поручением объявить наместнику о прибытии посла короля и попросить его, в соответствии с соглашением, обеспечить всем необходимым его и сопровождающих его людей. Затем обсудили, стоит ли ожидать возвращения послушника; и было принято решение уехать без промедления, чтобы не подвергать себя опасности потерять возможность, которая казалась столь благоприятной. Следовательно, 4 декабря, после того, как три отца отслужили мессу в честь св. Варвары, они пустились в дорогу и пересекли границу.
Путешественники прибыли вечером в поселок, недалеко от Невеля, где они надеялись спокойно провести ночь; но они были обнаружены и разоблачены: различные действия, которые были предприняты для въезда и прохождения через московскую территорию, подали сигнал возбуждению подозрений. Местные управленцы пришли к польскому дворянину и горько упрекали его за то, что он тайно ввел в страну иностранцев, посланных Римским Понтификом; затем они дошли до оскорблений и до угроз. Они не ограничились этим: после ночи, наполненной тревогами, которые еще увеличивала полученная новость о задержании, в двух различных населенных пунктах, брата Иоанна Успения Богородицы и почты, наши миссионеры были взяты под стражу в соседнем городе и брошены в тюрьму. Между тем в их жизни появилось утешение, так как утром они воссоединились с послушником, полумертвым от голода и страха, а чуть позже с корреспонденцией. Оказавшись заключенными в тюрьму, слуги Бога полагали, что момент, когда они должны выполнить обещание, которое они дали при их отправлении из Рима, пришел, и они мужественно стали готовиться к смерти. Их заключение длилось пятнадцать дней, после чего от наместника пришел длинный документ, в котором содержалась воля царя Бориса. Эта бумага была составлена на языке московитов[503]; на ней была дата 20 декабря и следующий адрес:
«Милостью Божьей и Великого Владыки, Царь и Великий Князь Борис Феодорович, единственный Правитель всея России и многих других провинций и царств.
Князь Михаил, сын Ивана Ксикопского, воевода Невеля, отцам Павлу-Симону и Иоанну-Фаддею, монахам посланникам Климента VIII, Суверенного Понтифика Римской Церкви».
Упрекнув польского посла в двуличности поведения, воевода разразился словесными оскорблениями в адрес короля Сигизмунда, обвиняя его в том, что он поддерживает, несмотря на договоры, дело самозванца и преступника Дмитрия. По этой причине въезд миссионеров в Московию из Литвы запрещен. Впрочем, если они хотят приехать из других стран, по суше или по морю, по берегу океана или по берегу Черного моря, например, высадиться в порту Иван-города[504], или в порту Архангельска[505], он позволяет им это, а его воевода, от имени своего господина, принимая во внимание большое уважение к папе Клименту, обеспечит доброжелательный прием и все гарантии их безопасности и комфорта на пути в Персию. Но в ожидании они должны немедленно вернуться в Польшу с послом, если они не хотят, чтобы к ним относились как к врагам.
Чтение этого письма было как удар грома для миссионеров, которые уже видели друг друга арестованными во время осуществления своего проекта. В самом деле, все же обещания Бориса внушили им некоторую надежду, но они не могли и думать о том, чтобы сделать объезд, который им навязывался, и предпринять нескончаемую поездку через обширные земли, бесполезно потратив драгоценное время. Они покорились замыслу Божественного Провидения и, уповая на него в будущем, возвратились в Польшу.
Нужно ли говорить, что страх опасностей и страданий не имел никакого значения для слуг Бога? Они были воодушевлены чувствами так, что один из них, о. Викентий, писал преподобному отцу Петру Богоматери из Полоцка: «Я ждал здесь в течение двух недель прибытие других отцов. Я использовал все то время для молитв, для того, чтобы подготовить себя к тому, чтобы мужественно вой ти в страну неверных и схизматиков. Вот то, что касается состояния моей души: если есть надежда про извести некоторую пользу в Московии и если наш Отец Павел-Симон, согласно тому, что он говорил мне неоднократно, посчитает нужным оставить меня, я готов остаться там; потому что у меня нет более горячего желания, чем на самом деле выполнить призвание, которым Господь удостоил меня».
Отец Викентий получил у преподобных отцов Иезуитов, в Полоцке, самый сердечный прием. Остальные пять миссионеров были приняты ими 24 декабря, по возвращении из Московии. Они спокойно отпраздновали Рождество среди своих горячих сторонников; 1 января 1605-го они отправились в Вильно и оттуда в Варшаву, где тогда проходил главный Сейм королевства. Мы объясним мотив, который привел их в этот город; но прежде цель и продолжение нашего труда требуют, чтобы мы познакомились с переводом Бреве Климента VIII о привилегиях, которые Папа предоставлял миссионерам, принадлежащим Ордену Босоногих Кармелитов[506].
«Нашим дорогим Сыновьям Уполномоченным и Братьям Пресвятой Девы Марии с горы Кармель, Конгрегации Италии, Климент VIII, Папа.
Возлюбленные дети, Приветствие и Апостольское Благословение!
Забота о пастве Господа, которая была божественным путем возложена на Нас, обязывает Нас не только заботиться, как Нам должно, о спасении христиан, но выражать нашу озабоченность в связи с обращением неверных. Итак, нам нужны для этого люди выдающиеся в благочестии, усердные в учении и, прежде всего, в святости; и в вашей религиозной общине, слава Богу, на данный момент много монахов, исполненных благоговейного рвения, потому что, с божьей помощью, вы усердно занимаетесь молитвою и созерцанием, изучением Святого Писания, проповедью слова Божия для спасения душ, и что, впрочем, известно, вашим смирением, вашей бедностью, вашим воздержанием, вашими постами, вашей строгостью жизни, вы представляетесь учениками и подражателями святого пророка Илии, вашего Отца и Основателя. Вот почему Мы обратили свой взор на ваш Орден и Конгрегацию Босоногих Кармелитов, желаю вам выбрать и назначить из вашего числа, сейчас и в будущем, людей, которых Мы можем послать без промедления к очень прославленному и могущественному Аббасу, королю персов, чтобы в королевствах, в областях и во владениях этого монарха, так же как и везде, где есть неверные, схизматики и еретики, они проповедовали Евангелие Иисуса Христа, отправляли Таинства и заботились о спасении христиан, которые могли бы оказаться в этих краях, и обращении тех, кто был вовлечен в измену, схизму или ересь. И чтобы монахи, которые будут делегированы вами, таким образом могли осуществлять свое служение с большей легкостью и удобствами, для славы Бога и для торжества католической Церкви, Мы им предоставляем следующие полномочия на время, когда они будут в странах миссии. Они смогут, со спокойной совестью, жить среди неверных, еретиков, схизматиков и отлученных от церкви; общаться с ними посредством беседы и еды; читать их книги и любые другие осужденные произведения, с целью их опровержения и исправления; для того чтобы показывать и рекомендовать им Слово Божие и доктрину Евангелия; обучать тех из них, кто пожелает сделаться христианами, поучать их, позволить им креститься в установленном Церковью порядке. Они смогут строить, основывать, возводить церкви, молельни, кладбища, монастыри братств, как вашего Ордена, так и любого другого ордена или учреждения; благословлять, в случаях осквернения; и, если освященное место было осквернено, вновь освящать окроплением воды, которую необходимо освящать у епископа или которая была освещена у них самих, если нет упомянутой в радиусе сорока миль. Они могут не соблюдать, без необходимости, форму, предписанную Сикстом V, нашим предшественником счастливой памяти, и нашими собственными декретами, допускать в послушание вашего Ордена, и, должным образом, с соответствующим правилам обетом, всех жителей тех краев, которые пожелают стать Босоногими Кармелитами. Они смогут иметь переносные алтари, рассматривая их с поклонением, которое им положено, и использовать их для отправления святой мессы, что им разрешается совершать богослужение везде, лишь бы были соблюдены правильно или пристойно условия, и отдельно от любой суеты мирских дел; они также наделяются правом служить обедню соответственно за полчаса, и, в случае необходимости, за час до рассвета, и через полчаса после обеда. Они могут, для своего использования и для употребления другими священниками, которые окажутся в этих краях, благословлять священнические одежды, украшения, церковные сосуды, за исключением тех, которые требуют помазания Миром, Они смогут, в отправлениях выше и ниже перечисленных, использовать старый елей для больных и новообращенных, когда, приложив все усердие, они не сумели достаться его текущего года. По отношению к еретикам, раскольникам, отступникам и даже ересиархам, лишь бы только они не были отступившими от католической религии, которые, в этих краях, проявляют себя кающимися, миссионеры смогут, заставив их, отречься от своих ошибок публичным или частным порядком, в зависимости от лиц и мест и наложить на них благотворные епитимьи, прощать их, в глубине души и внешне, в преступлениях ереси, расколе и отступничестве, так же как при отлучении от церкви и приговорах, порицаниях и церковных наказаниях, ими подвергнутых, им же примирять и делать возвращение в лоно их Святой Матери Церкви и в единство верующих христиан. Они могут слушать исповеди вышеупомянутых кающихся грешников и верующих, обоего пола, которые живут в этих краях, прощать им любые грехи, преступления, злоупотребления, правонарушения, какой бы ни была их тяжесть и чудовищность, даже в случаях, сохраненных для Нас и для Папского Престола, так же как в Повседневных Молитвах, даже еще в случаях буллы Coenœ Domini, и тот, в котором Апостольский Престол имеет право проводить консультации, при условии, однако, что в случае буллы Cœnœ отпущение грехов может быть дано только один раз в течение жизни и близкой кончины (если только нет причин давать его несколько раз, чтобы удалить от души серьезную опасность), в то время как в других случаях отпущение грехов может быть дано столько раз, сколько оно будет признано необходимым. Они смогут простить по совести нарушение всех обещаний, в том числе тех, которые были подтверждены клятвой и заповедями Церкви, несоблюдения постов и наложения епитимьи, и любые другие правонарушения; и в местах, где нет священников, причащать, вместо них, отправляя таинства Крещения, Покаяния, Евхаристии, Брака и Соборования, которыми имеют право распоряжаться для своих прихожан священники. Они смогут, кроме того, смягчать наказания в других трудах благочестия, по разумной причине, все обеты, даже те, которые были якобы подтверждены торжественной клятвой, за исключением все-таки обетов целомудрия и веры. Они смогут также наложить спасительное покаяние религиозным отступникам, которые оказались бы в этих краях, если те проявят искреннее раскаяние и попросят прощения, отпустить грехи бесчестья отступничества и отлучения от церкви, также и другие церковные нарекания и штрафы, понесенные ими; позволить им снова надеть одежду их ордена и оставаться в течение необходимого времени за пределами монастыря, пока они не смогут вернуться домой; и, если они являются священниками, освободить их от нарушений, которые они допустили, снятием с себя церковного сана, но при этом они служили мессу и другие богослужения, мы говорим, что эти кающиеся священники могут служить Мессу и другие богослужения и отправлять таинства Церкви, при условии, однако, что там нет места скандалу, и польза или необходимость обращения и спасения душ в этих краях заставляет оказать им эту милость. Они смогут, по разумным поводам, отпускать простые обеты веры и целомудрия. Для того чтобы иметь возможность более легко нести бремя своих расходов, они смогут принимать милостыню и приношения, которые им будут сделаны, и также любое сомнительное, добытое нечестным путем добро в этих странах, если те, кому компенсация или реституция должна быть сделана, неизвестны или не могут быть найдены, использовать это в добрых делах и для облегчения положения бедных этой страны. Те из указанных монахов, которые, будучи прибывшими из Европы или допущены в эти края в одежде и в обете Ордена, еще не получили священных поручений, будет посвящены иподиаконом, священником и диаконом, любым католическим прелатом; патриархом, архиепископом или епископом, пользующимся милостью и сопричастностью к Папскому Престолу, и так устроенные, они смогут, свободно и законно, выполнить на алтаре священные обязанности.
Наконец, Мы лишаем и освобождаем полностью (так же как Мы это сделали для местных стран) вышеупомянутых монахов вашей Конгрегации, и дома, обители, монастыри и какие-то резиденции, которые вам случилось бы иметь в этих краях, в юрисдикции государства, превосходстве и власти всех и каждого, кто бы они ни были, Прелаты и церковные сановники, объявив всем и каждому из этих монахов, что духовно и доходами они подчиняются только вам, дорогому сыну, Комиссару-генералу, и Дефинитору Конгрегации Италии, и никоим образом по отношению к ним вышеупомянутые власти не могут их беспокоить; и Мы также заявляем, что ни одна религиозная Конгрегация Италии не может отправиться в вышеупомянутые страны без специального разрешения Генерала-Комиссара, ответственного за это, в противном случае они подвергнутся клейму вероотступничества.
Дано в Риме, недалеко от Святого Марка, под кольцом Рыбака, 13 июля 1604, нашего Понтификата 13-й».
Потерпев неудачу с первой попытки добраться до Москвы, миссионеры отправились в Варшаву, потому что были уверены в том, что встретят там не только короля Сигизмунда, но еще и своих главных защитников, между прочим кардинала Кракова, и они хотели посоветоваться с ним о том, что они должны предпринять, чтобы добраться до Персии. Сейм сразу же предоставил им возможность для решения этой проблемы. Вопрос действительно был решен в первый же день, якобы посол короля Польши должен был быть отправлен в качестве представителя к правителю Малой Тартарии (Крым), который находился в Перекопе[507]. Наши монахи попросились сопровождать этого посланника. Сигизмунд на это охотно согласился и пообещал, кроме того, рекомендательные письма. Заседания Сейма длились до 3 марта. Король возвратился затем в Краков. Миссионеры последовали за ним в компании кардинала, который не прекращал оказывать им свидетельства отцовского расположения. Именно Его Преосвященство сообщил им о смерти Климента VIII, наступившей 4 марта. Это событие, как казалось нашим монахам, особенно препятствовало их начинанию. Будет ли иметь преемник умершего великого папы такое же рвение к миссии в Персию? Препятствия, которым она подвергалась с самого начала, они не смогут снова вынести, или же им предстояло отказаться от своего замысла вообще, как от слишком сложного? Такими были сомнения, которые представлялись им в мыслях; но далее давайте скажем, что было там только желание или временное испытание. Действительно, как мы это увидим, миссии нашли в лице Павла V, почти ближайшего преемника Климента VIII, защитника не менее усердного, чем последний, для распространения веры и спасения душ.
Прибыв в Краков, миссионеры стали умолять кардинала подобрать приличный дом для их проживания, они решили просить приюта в некоторых католических миссиях. Они подчеркнули веские причины, по которым не могут воспользоваться гостеприимством прелата, который хотел разместить их в своем дворце. Они возвратились в монастырь братьев Францисканцев, где они провели остаток поста и отметили праздники Пасхи. В воскресенье in albis, они получили удовлетворение от известия, что у Климента VIII будет достойный преемник в лице кардинала Александра де Ме дичи, который был избран папой 1 апреля и взял имя Льва XI. Их радость, однако, не продлилась долго: после двадцати шести дней правления новый папа умер, не имея времени осуществить прекрасные обещания, которые он сделал Преподобному Петру Богоматери относительно персидской миссии.
Между тем наши миссионеры, получив новость об избрании Льва XI, решились оставить в Кракове о. Викентия и брата Иоанна Успения, чтобы ожидать там новых писем, которые должны были прийти из Рима, и отправились в путь (24 апреля) в Замостье, город, расположенный на востоке от Кракова, резиденцию Великого Канцлера Польши[508]. Он был уполномочен королем организовывать поездку наших монахов до Персии. Они едва достигли Замостья (30 апреля), как получили известие о смерти папы Льва XI. Преподобный Поль-Симон посчитал необходимым тогда возвратиться в Краков: он уехал, поручив о. Иоанну-Фаддею и Франциско Риодолиду продолжать переговоры с великим канцлером в Замостье. Но эти переговоры были внезапно прерваны внезапной смертью самого великого канцлера: весть дошла до о. Павла-Симона в Краков всего через несколько дней после отъезда из Замостья.
Все эти случаи смерти, которые подряд похищали стольких известных персонажей, преданных миссии, заполнили скорбью сердца наших монахов. Но если учесть, что Божественное Провидение имеет обыкновение вести к завершению намерений путями скрытыми, так же как неоспоримо созданными для его славы, они, с еще большим доверием, чем когда бы то ни было, вручили себя в руки Божьей Матери и стали терпеливо ждать просветления и помощи. Вскоре три значительные новости пришли, почти одновременно, чтобы порадовать их веру и укрепить надежду: избрание папой Павла V, смерть Бориса и восхождение Дмитрия на трон Москвы. Кардинал Боргезе был избран папой 17 мая 1605 года: он едва достиг пятидесяти трех лет. Величественная внешность, выдающиеся качества, сплошные достоинства, в течение нескольких дней нашли единогласную поддержку в конклаве. Его большая преданность Апостолу язычников заставила его взять имя Павла V. Мы всегда будем считать его предназначенным для содействия развитию нашей реформы и успеху наших миссий.
Что касается Бориса, то у него случилось сильное кровоизлияние, в то время как он давал публичную аудиенцию послам Швеции и Дании, и он умер почти внезапно. Таким образом, он отправился отчитываться перед Верховным Судьей за то, что несправедливо узурпировал престол, и за невинную кровь, которую он пролил, чтобы сохранить его. Эта ужасная смерть окончила борьбу и открывала Дмитрию, уже избранному единодушно войсками, ворота Москвы. Он появился там 20 июня и был провозглашен императором всей нации.
Дмитрий был католиком и имел, кроме того, большие обязательства в отношении короля Сигизмунда. Эти соображения стали причиной того, что о. Павел-Симон отказался от дороги через Крым и возобновил первый вариант маршрута, который должен был пройти через Московию. Таким образом, он возвратил из Замостья о. Иоанна-Фаддея и Франциско Риодолида и остановился в Кракове со своими спутниками, ожидая подходящего момента.
Глава VI. Празднование первого общего капитула Конгрегации Италии. Краткий доклад Павла V, адресованный миссионерам. Миссионеры в Смоленске и Москве. Папская грамота, подтверждающая постановления капитула относительно миссий. Отъезд из Москвы и прибытие в Казань 2 апреля 1606 года
Существенный факт, с точки зрения Ордена как в целом, так и относительно миссионерства, произошел в месяце мае 1605 года, совершенный Павлом V в церкви: первый главный капитул Конгрегации Италии, созванный генеральным комиссаром согласно папской грамоте Климента VIII, от 13 ноября 1600 года, провозглашенный в монастыре Богоматери Ла Скала в Риме с 10 мая по 2 июня. Заседания были прерваны на десять дней, то есть с 8 по 17 мая из-за отсутствия отца Петра Девы Марии, который был назначен духовником конклава.
Мы уже указали в третьем параграфе Введения важные меры, принятые отцами по поводу миссий. Не будет вредно повторить, указав здесь резюме Отца Иоанна Иисуса и Марии, который присутствовал на капитуле в качестве второго главного помощника начальника ордена.
«Главный капитул был собран: Отец Фердинанд Святой Марии, избранный главным служащим Конгрегации, безоговорочно занялся миссиями в первые же собрания, и, своим примером и своими словами, он вдохновил всех отцов. Следующие действия являются тому доказательством.
Отец Петр получил из Вильно от архиепископа Литовского письмо, в котором последний попросил, чтобы Конгрегация помогла его церкви восстановить прекрасные отношения с Церковью Римской. После прочтения этого письма члены капитула единогласно решили как можно скорее послать монахов в эту страну, чтобы способствовать благим желаниям прелата; так как они считали, что миссия в Польше будет лучшим способом прийти на помощь Русским.
Затем был выдан закон, введенный в наши конституции, по которому каждый раз, когда созывался капитул, отцы должны были причислять к своим самым серьезным заботам поддержку миссий, уже осуществляемых, и предопределять новые.
Также был издан указ о создании училища, называемого Монастырь миссий, направленный на обучение миссионеров: тех наших братьев, которые способны к целомудрию, науке и работоспособности, попросили об этом и будут отправлены в этот дом, чтобы расширить круг своих знаний и проявить внимание к изучению языков и умственным упражнениям. И, чтобы этот монастырь был вдали от развлечений, будет исключена возможность иметь годовые доходы. Так как на данный момент не было средств, чтобы сделать это училище в Риме, но необходимость в этом была, для этого был назначен монастырь Святого Сильвестра, расположенного около Фраскати. Дальше был назначен один монах регентом и в качестве главы этого училища, доказавший свою добродетель и хорошо известный за свою преданность миссиям.
Чтобы помешать курсу времени замедлить рвение к миссиям, новым законом будет создана, для настоящего и для будущего, новая должность Прокурора Миссий: впервые пропаганда этой прекрасной работы была доверена отцу Петру.
Наконец, отцы хотели ознаменовать операцию актом, который значительно возвысил их благочестие: ногами на земле и мыслями в небе, не только они примут всем сердцем миссии как прекрасное произведение Бога, но также изъявили желание идти повсюду, куда их отправят, и принимать все, даже отказываясь от епархий и расходов, в которые они вкладывались, чтобы быть свободными. Именно так миссии были одобрены отцами. Это был замечательный стимул для всей Конгрегации, который развивался с перспективой расширения спасения заблудших душ.
Божественная милость, которая никогда не перестает поощрять благочестивые намерения, устроила неожиданную коронацию в честь миссий. Папа Павел V, который отдавал все свое внимание на расширение святой Церкви, признав подобное рвение у преподобного Петра, хотел сотрудничать с ним для осуществления своих серьезных намерений: он поручил ему мысленно посетить в уме все королевства на земле, подумать о том, как привлечь собственными средствами в лоно церкви тех, кто за ее пределами. Каждую среду преподобный Петр должен был являться к папе со своими предложениями, которые нужно было обсуждать. Можно было сразу заметить, что эта комиссия была чрезвычайно почетна и могла лишь способствовать большому прогрессу наших миссий.
Миссия в Персии, в частности, имела наибольшие шансы на успех. Надежда вскоре подтвердилась, когда Павел V, идя по стопам Климента VIII, вдохновил апостольскими письмами отцов, которые находились в Кракове, и призвал продолжить их деятельность и путешествие. Так говорит Иоанн Иисуса и Марии. Эта простая и красивая страница, с которой, как парфюм, исходит рвение к миссионерскому подвижничеству, очень вероятно, последняя, что он написал: мы можем принять ее как завещание, оставленное этим великим человеком, одним из славнейших представителей Ордена и Итальянской Конгрегации.
Декреты о миссиях были сданы на заседании 5 мая 1605 года. В этот день Отец Павел Пресвятой Девы Марии, который не мог сдержать своей радости, написал миссионерам в Краков, чтобы рассказать эти радостные новости и поручить им передать епископу Вильно регенту капитула. Он сказал также в письме, что вопрос миссионеров получил всеобщее признание. Все хотели быть миссионерами. Это то, что упало с неба; а я пел с Симеоном: «Nunc dimittis servum tuum, Domine». Я надеюсь, что благодаря вашим молитвам Господь убережет меня от опасностей, которым я подвержен ради вас и ради миссий, и сделает меня в один прекрасный день вашим спутником, чтобы я мог получить среди вас венец мученика… Отца приветствовали созданием миссий в Кракове и другом городе Польши: как только мы получим разрешение, мы отправим туда людей и все, что необходимо, и т. д.».
Сразу же после заключения главного капитула отец Петр Пресвятой Девы Марии начал выполнять с величайшим усердием обязанности Прокурора Миссий. Прежде всего, он занялся организацией в Польше миссии в Персию. В своей молитве Папа Павел V отправил в руки наших миссионеров несколько Бреве в Краков в августе 1605 года. В первом, адресованном королю Польши, Сигизмунду III, Папа искренне рекомендует этому государю Босоногих Кармелитов, которые двигаются в Персию. Второй адресован самим миссионерам, чтобы поощрять их и предоставить привилегии и послабления. Третий должен быть доставлен королю Персии и четвертый Дмитрию. Наконец, в пятом докладе Павел V поручил отцу Августинцев, находившемуся в Исфахане, оказать хороший прием миссионерам кармелитам и во всем им помогать. У нас имеется текст на латыни этих пяти докладов в Третьем томе нашего сборника папских грамот. Здесь мы ограничимся, дав лишь перевод второго доклада, который включает в себя детали, которые полезно знать.
«Дорогим сынам Павлу-Симону, Иоанну-Фаддею и Винсенту ордена кармелитов. Павел V, Папа.
Дорогие сыны, Апостольское Приветствие и Благословение.
Мы узнали от нашего дорогого сына Петра Пресвятой Девы Марии, монаха вашей конгрегации, с какой жадностью вы взялись, по приказу нашего предшест венника, благословенной памяти Климента VIII, за очень долгое, очень тяжелое и очень опасное путешествие в Персию, чтобы исполнить заповедь, которую наш Гос подь дал своим Апостолам, когда, перед тем как возвратиться к своему Отцу, он сказал им путешествовать по всему миру и проповедовать Евангелие всякой твари. Эта операция, дорогие Сыны, достойна вашего благочестия и святости собственной жизни, веры, что вы исповедуете: вы сможете с большой выгодой про явить дар доброты, которым Господь вас наделил. Однако вы можете сделать что-то еще более приятное для нас; так как нашему сердцу важно нечто иное, как спасение душ и распространение славы Имени Бога. Именно поэтому мы хотели написать вам. Мы хотели бы сказать вам, насколько мы приветствуем духовное дело, которым вы занимаетесь и как вы принимаетесь за быстрое осуществление путешествия и выполнение ваших апостольских обязанностей с большим мужеством, трудолюбием и милосердием, чтобы Церковь Божья приняла обильные плоды ваших трудов и усталости. И, чтобы вы двигались вперед с меньшими муками и большей радостью, для начала мы предоставляем вам наше апостольское благословение; затем, настоящими письмами, в соответствии с Нашей властью, мы предоставляем вам, уступаем и раскрываем все и каждую из привилегий, полномочий, помилования и поблажек, которые были предоставлены до сих пор или предоставленные, как обычно, Верховными понтификами тем, кого Святой Престол отправляет работать на преобразование неверных, включая доминиканских монахов. Кроме того, желая содействовать вашему похвальному начинанию некой особой благодатью, которая станет дополнительным свидетельством Нашей отеческой благосклонности к вам, мы предоставляем каждому из вас три тысячи венков или четок, и столько же крестов, иконок или медалей, бронзовых или из другого металла; и всем этим предметам мы даем и применяем те же поблажки, благословение и помилование, что мы придавали до сих пор венкам, иконкам и крестам, благословленным нами по просьбе нашего дорогого Сына, прославленного маркиза де Вилена, посла очень дорогого для нас сына, короля католического.
Так идите от имени Господа с духовным ликованием и радостью; несите плоды, и чтобы ваш труд был во славу Всемогущего Бога и расширения святой Церкви; и затем чтобы ваша работа была поощрена вечным Отцом семейства, богатым милостью и хорошо вознаграждающего рабочих своего виноградника.
Однако мы, благими молитвами, молим для вас о благосклонности и благословении единственного Сына Божьего, который, от своего Отца, пришел на эту землю, чтобы искупить человечество от рабства, от греха и сделать его участником вечного наследства.
Дано в Риме, у Святого Марка, под кольцом Рыбака, 20 июля 1605 года нашего первого понтификата».
Благочестивый понтифик, говорит летописец итальянской конгрегации, не остановился на этих благодеяниях: чтобы все больше и больше стимулировать рвение наших миссионеров и сделать более простым исполнение их мандата, Его Святейшество дал им еще большее количество привилегий.
Путешественники могли продолжить путь. Было решено, что они отправляются в Москву в компании племянника посла, Александра Рангони, который был делегирован к Дмитрию, чтобы поздравить от имени папы, с его вступлением на престол Московского Царства. Отъезд был 18 сентября. Вещь, достойная внимания и, когда никто не помешает увидеть предопределенное расположение дел, заключается в том, что наши миссионеры покидали Краков в тот момент, когда четыре других монаха нашего Ордена покидали Геную, чтобы обосноваться в столице Польши; и в тот же день, когда первые пришли в Краков, вторые, после того как пересекли Польшу и Литву, перешли границу, и ступили на земли Московии, и направились к Смоленску. Они прибыли туда 20 ноября 1605 года.
Их прибытие в город сопровождалось действительно королевским торжеством. Дмитрий, предупрежденный о предстоящем прибытии миссионеров и посланника Папы, передал приказы губернатору Смоленска. Впоследствии губернатор оказал важным иностранцам почетный прием, устраиваемый обычно в самых торжественных случаях. Деревянный мост был перекинут через Днепр для прохода повозок. С другой стороны реки конвой ожидал наших путешественников. Он был образован из двух корпусов людей, пятьсот всадников благородного происхождения, в сияющих золотом и вышивкой доспехах, двигались вперед. Затем пятьсот пеших солдат в красивых и разнообразных доспехах. С этими почестями Рангони и монахи были препровождены в роскошную резиденцию, где царская казна была в их распоряжении во время всего их пребывания в Смоленске.
Эта поездка продлилась дольше, чем того желали наши миссионеры. Стало известно, что заговоры и бунты, нагнетаемые сторонниками Бориса, вспыхнули против нового царя. Рангони, миссия которого имела политический характер, имел опасения и не рискнул двигаться дальше. Наши отцы провели с ним в Смоленске весь декабрь. В конце Рангони решил отпустить их в сопровождении одного из своих слуг, которому было поручено вернуться, чтобы сообщить ему о положении государственных дел и действий Дмитрия. Миссионеры благополучно добрались, несмотря на суровость сезона, до Москвы, где они получили от царя самый почетный и радушный прием. Вскоре Рангони присоединился к ним. Это было начало 1606 года.
Прибытие наших миссионеров наполнило радостью сердце Дмитрия: этот принц видел в их поддержке эффективное средство, которое Бог предлагал ему, чтобы возвратить московский народ к повиновению Викарию Иисуса Христа. Он также не замедлил предложить им внедрить реформу Кармель в его Государствах. Раскольнические монахи ордена Святого Василия[509] проявили такое же желание. Исполненные восхищения святостью жизни наших монахов, они чувствовали себя, впрочем, полными влечения к ордену, который так подходил для их учреждения, такого, каким оно было изначально. Они не остановились на достигнутом; но они отправили в Рим несколько своих писем, в которых они умоляли глав Конгрегации предоставить им отцов, которые своими словами и своим примером работали бы на объединение римской церкви и управление в сторону совершенствования многочисленных базилианских монастырей, учрежденных в России. Но еще не наступил час, назначенный Покровителем, чтобы этот варварский народ переменил веру и вошел в лоно Церкви Иисуса Христа: как мы увидим, новые бунты, ужасающие преступления должны были вскоре задушить и уничтожить эти первые и чистейшие семена веры и религии.
Наши миссионеры, остановившись в Москве, ожидали инструкций от своих наставников из Рима. Они получили их в течение месяца марта: отец Петр Пресвятой Девы Марии отправил им новое письмо Павла V королю Персии, поручил им выдвинуться в путь как можно ранее и сказал им от имени Папы Римского некоторые дела, которые они должны были обсудить с Шахом Аббасом. Он также передал им папскую грамоту, подтверждающую речения главного капитула относительно миссий. Этот документ очень важен, чтобы мы оставили его без внимания в нашей Истории.
«Павел V, Папа,
Чтобы увековечить память.
Забота о Вселенной, которая, несмотря на недостаточность Наших сил, была доверена Нам Покровительством Божиим, и рвение, которое Нас вдохновило на пропаганду христианской веры по всей земле, вызывает у Нас желание просить Властелина плодов, отправлять своих рабочих, чтобы собирать урожай.
По этой причине Мы были безумно рады, узнав, что рвение Наших дорогих сынов монахов Ордена Босоногих Кармелитов Итальянской Конгрегации охотно ведет к распространению христианской веры. Действительно, как Нам уже говорилось выше от их имени, они не только согласились лично ходить повсюду, где необходимо преобразование неверных, но также для того, чтобы приниматься за совершение миссий с большим количеством ресурсов и большим успехом; как было постановлено в главном капитуле, им поручено возводить дома и монастыри, в которых люди, проявляющие больше способностей, смогут обучаться языкам и противоречиям необходимым, чтобы опровергать еретиков, сарацин, раскольников, язычников и иудеев, привыкать к длительным бдениям, постам и молитвам, к исполнению всех добродетелей и таким образом становлению более подходящими для выполнения предприятий, о которых идет речь. Однако они смиренно просили нас подтвердить этот указ нашей апостольской властью, открыть в их пользу духовное сокровище церкви и дать верующим, которые приходят благочестиво на помощь, их щедрость, уверенность, основанную на критике, что эти милостыни не должны использоваться для других целей.
Итак, во многом прославляя во имя Господа благочестивые намерения этих монахов, желая заполнить их благосклонностью и особыми милостями и утверждая о значении их мольбы, Мы подтверждаем и утверждаем апостольской властью, по содержанию этих писем, вышеупомянутый указ; и Мы даем Итальянской Конгрегации братьев Босоногих Кармелитов разрешение и возможность свободно и законно создавать, во благо указанное, дома или монастыри в Риме или поблизости, и теперь в новогоднюю ночь возле Тускуланума, а также в любой другой провинции и местности, где заблагорассудится служащим и помощникам начальника ордена.
И, чтобы они еще больше отдавали этому великому предприятию, Мы, опираясь на милость Всемогущего Бога и власть Благословенных Апостолов Петра и Павла, Мы принимаем за Господа у этих монахов отпущение всех грехов, чтобы выиграть молитвами и причастиями, если это возможно, следующие дни: день, когда отправленные наставниками они будут помещены в монастыри миссий; день, когда по окончании года или другого отрезка времени, назначенного Служителем, они возобновят молитвы и обеты продолжить путь в страны неверных, для удовольствия наставников; и день, когда, отправившись в миссию и прибывши на пост, который им будет назначен, они начнут осуществление своих обязанностей.
Кроме того, эти набожные верные, желающие заслужить у неба награду за их работу, созидая ее со своими дарами, были уверены, что милостыня, данная ими для этой цели, получит свое назначение и не будет использована в других целях, Мы приказываем, в силу святого послушания, всем наставникам и всем другим монахам, без разбора, вышеупомянутой Конгрегации, заботиться о том, чтобы все дары, данные для учреждения миссий и осуществления обращения веры неверных, были использованы только в этих целях, то есть служили миссионерам, снабжали их книгами и мастерства, так же как и другими необходимыми вещами как для вышеупомянутых монастырей, так и для монастырей, домов и церквей, которые нужно было построить, обставить и поддерживать в старых миссиях; и чтобы эти суммы не были направлены на другие цели, кроме тех, что были сказаны. Если же они будут действовать иначе, они будут подвергнуты изгнанию latœ sententiœ, от которого их может освободить только сам Папа Римский, за исключением статьи о смерти; и к тому же они должны будут вернуть вышеуказанному делу, учитывая капиталы других монастырей, потраченное имущество. Несмотря на это, и т. д., т. д. И мы желаем, и т. д., т. д.
Дано в Риме, около Святого Петра, под кольцом Рыбака, 15 декабря 1605 года, нашего первого понтификата».
Чтение этого документа и инструкции, пришедших из Рима, порадовало сердца наших миссионеров. Больше их ничего не держало в Москве: они поспешили попросить разрешение у Дмитрия на отъезд. Царь, который их искренне любил, хотел было удержать их подольше рядом с собой; но понимал их доводы, и, чтобы помочь им в осуществлении их проекта, он предоставил им выбор между двумя одинаково благоприятными возможностями: Зенил Камбей, посол, которого король Персии отправил к императору римлян, возвращался в свою страну через Московию и должен был покинуть Москву через два дня; с другой стороны, сам Дмитрий предложил отправить на третьей или четвертой неделе после Пасхи двух послов к царю Шах Аббасу. Он добавил, что, если наши монахи выберут компанию персидского посла, они должны будут остановиться в Казани, чтобы дождаться оттепели на Волге, но в этом случае он прикажет своим послам присоединиться к ним в том городе и сопровождать их отсюда в Астрахань и до Персии.
Миссионеры посовещались: взвесив все за и против, решили, больше не тратя времени уехать с послом Персии, несмотря на малое расположение, которое он к ним проявлял. Вот основная причина их выбора. Авторитет Дмитрия был подкреплен лишь новыми волнениями, происходившими почти каждый день; дальновидные и осторожные люди серьезно остерегались, что мятежникам удастся вытеснить царя или уничтожить его под обломками трона: однако, если эти печальные предсказания сбудутся, путешественники лишатся любого способа добраться до места своей цели. Они высказали свое решение Дмитрию, он выслушал его и поспешил обеспечить их всем необходимым. По его приказу главный канцлер империи выдал им пропуск; трем московским дворянам было приказано сопровождать их и защищать; переводчик по имени Софоний, говорящий на итальянском, должен был предоставить им свои услуги и, наконец, за счет царя, обеспечение жильем, питанием и всем необходимым для путешествия. Дмитрий также хотел предоставить нашим отцам шубы из соболя и другие драгоценности; но они ничего не приняли и довольствовались несколькими грубыми покрывалами, чтобы оборачивать ноги.
Все было готово, и персидский посол торопился отправиться в путь. 22 марта, которое было вторником на Святой Неделе, миссионеры, попрощавшись с Дмитрием и поблагодарив его, сели в сани и направились к Владимиру, старому и очень известному городу, бывшему когда-то резиденцией великих герцогов Московских. Не забудем сказать, что с нашими отцами были еще три других переводчика: венецианец и поляк, который знал русский и присоединившийся к ним в Польше, и волох, греческого обряда, которого они взяли в Москве и который хвастался знаниями турецкого языка.
Пройдя Владимир и Муром, путешественники дошли до огромных равнин, покрытых городами, деревнями и фермами. Среди жителей этих краев насчитывалось некоторое число татар идолопоклонников: наши миссионеры видели их молитвы и жертвоприношения на пороге или в коридоре домов. Они добрались до Волги в Нижнем Новгороде. Толстый слой льда, покрывавший реку, позволил им легко, быстро и уверенно переправится на санях в Казань. Они прибыли туда 2 апреля, пройдя меньше чем за двенадцать дней дистанцию в сто шестьдесят лье, которые отделяли этот город от Москвы.
Глава VII. Миссионеры в Казани. Их отправление из этого города 26 июля 1606 года. Волга. Прибытие 20 августа и нахождение около Царицына
Город Казань находится на реке Казанке, на расстоянии полулье от места ее впадения в Волгу. Расположение города весьма удобно; воздух чистый и здоровый, но зимой стоят сильные холода. Городские сооружения, выстроенные в восточном стиле, придают ему весьма живописный вид. В городе 41 церковь, в том числе один великолепный собор. Часть города построена на горе, другая часть в долине. Дома, расположенные в долине, деревянные, однако имеют очень изящный, привлекательный вид.
Казань некогда была столицей и резиденцией татарских принцев, в 1552 году она была покорена Иваном Грозным, присоединена к Московии и стала главным городом одноименного Казанского уезда.
В 1606 году губернатором Казани был брат Валашского князя. Его пребывание в Риме во времена понтификата Сикста V и Григория XIV, где он был окружен вниманием и почтением, вызвало у него любовь и почтение к итальянцам. Боясь попасть в руки турок, гнет которых сбросил его брат в 1595 году, перешедший на службу к Сигизмунду, князю Трансильвании, он нашел убежище в Московии, и царь поставил его губернатором Казани, произведя в сенаторы. Губернатор Казани радушно, с почестями принял миссионеров, так же как и персидского посла. Он приказал предоставить им жилье в удобном доме, заранее обо всем позаботившись. Тем не менее он воздерживался от проявления личного участия, то ли потому, что, согласно обычаям страны, его положение обязывало его к этому, то ли он не хотел быть мишенью для нападок хитрых противников, будучи иностранцем на этом посту, то ли до него доходили смутные слухи о том, что нечто замышляется против Дмитрия. Катастрофа в самом деле была неизбежна и грозила новой длительной отсрочкой для святого дела наших миссионеров.
Великодушие является уделом, как правило, принцев и королей, одной из их наилучших добродетелей, но когда оно чрезмерно и неблагоразумно, тогда оно становится слабостью. В этом случае оно открывает дверь для мятежей, возмущений, заговоров непокорных. А это не благоприятствует славе властителя и благу народа, порождая презрение к одному и несчастья для другого. Пример Дмитрия является жестоким подтверждением этой истины. Мы уже говорили о том, что начало его правления было отмечено заговорами, организованными против него бывшими сторонниками Бориса. Василий был одним из главных заговорщиков. Он был схвачен, изобличен и объявлен виновным в мятеже и оскорблении величества. Сенат приговорил его к смертной казни через отсечение головы. Его привезли на место казни, и нож палача уже поднялся над ним, но вдруг по приказу Дмитрия казнь остановили: смертная казнь была заменена ссылкой, куда его отправили вместе с братьями и другими соучастниками.
Этот акт милосердия не достиг того результата, которого ожидал царь: напротив, в ссылке еще более ожесточилась ненависть Шуйского к тому, место которого он хотел захватить любой ценой и кому был обязан, к своему стыду, жизнью. Он замыслил тайком новый заговор и вовлек в него без труда астраханского архиепископа-раскольника. Будучи человеком честолюбивым и испорченным, архиепископ не мог простить Дмитрию католические взгляды, которые тот откровенно высказывал. Заговорщики ждали благоприятный случай, и он скоро представился.
Напомним, что, спасаясь от ярости Бориса, Дмитрий, будучи еще молодым, убежал в Польшу. Там он пробыл несколько лет, окруженный вниманием и добрым отношением со стороны воеводы Сандомира. В благодарность за это покровительство он пообещал ему, что как только сядет на трон, то женится на его дочери Анне-Марии. Став Московским царем, он сдержал слово; бракосочетание было назначено на май 1606 года. Незадолго до свадьбы воевода привез свою дочь в Москву, куда прибыло также много польской знати, чтобы придать пышность и значимость этому событию. Дмитрий же собрал возле себя вельмож двора, среди них были архиепископ Астрахани и Василий Шуйский, отозванный из ссылки.
Церемония бракосочетания была назначена на 17-е число. Заговорщики выбрали эту дату для осуществления своего плана. Тем временем они постарались повлиять на мнение большинства и подготовить взрыв всеобщего недовольства. Ужасный и жестокий мятеж произошел в ночь, последующую за свадебными торжествами: дворец был захвачен, Дмитрий был заколот кинжалом в своей комнате, воевода и его дочь были брошены в тюрьму, а Василий был провозглашен императором. Эти события не положили конец гражданской войне; еще долгое время Московия оставалась театром кровавых сражений, рассказы о которых неоднократно будут появляться в нашем повествовании.
Когда новость о событиях в Москве дошла до Казани, наши миссионеры занимались изучением персидского языка. Они сразу же поняли все трудности и опасности своего положения. С одной стороны, они были лишены единственной опоры – доверия людей, с другой стороны, находясь в числе сторонников Дмитрия и будучи известными всем в качестве римских католиков, они стали вдвойне подозрительными для людей; поэтому их могли ожидать либо преследование и травля, либо смерть. Не подлежит сомнению, что губернатор втайне им благоволил, но был вынужден делать вид, что он их преследует; это был, возможно, единственный способ им помочь. Официально известив своих подчиненных о приходе к власти Василия Шуйского и заставив их принести клятву верности ему, губернатор задержал путешественников у себя в качестве пленников до тех пор, пока великий князь, которому он передал вопрос на рассмотрение, не выскажет свои намерения. Наши отцы уже не надеялись на спасение, тем более что к ним разрешали пропускать только удручающие известия. Именно так они узнали, что памфлеты, посылаемые из Москвы, обливали ежедневно грязью Дмитрия, папу и всех католиков и что жители Казани, подстрекаемые клеветой и желающие получить милости от Василия, угрожали ворваться в жилище миссионеров и убить их. Вот почему те серьезно и мужественно готовились к смерти: они удвоили свои покаяния; большую часть ночи проводили в молитве; а утром, совершив богослужение и приняв причастие, они с рвением повторяли свой обет отдать жизнь за Иисуса Христа.
По истечении двух недель, которые показались миссионерам, постоянно живущим в тревоге, бесконечно длинными, воевода получил от Василия приказ отпустить персидского посла, но задержать остальных. Это решение ничуть не расстроило о. Павла-Симона. Напротив, он решил, что пришло время действовать энергично. Он принял решение обратиться прямо к великому князю и написать ему от своего имени и от имени своих товарищей решительное, но в то же время почтительное письмо, в котором дать ему понять, что влиятельные покровители смогут попросить у него отчет за его поведение по отношению к миссионерам. Итак, письмо было составлено, и воевода взялся передать его Василию; оно было следующего содержания:
«Светлейшему государю великому князю Василию и славному высочайшему сенату Московии. Павел-Симон Иисус-Мария и его компаньоны, посланные в Персию, с пожеланием счастья и т. д. и т. д.
Воевода, губернатор города Казани, довел до нашего сведения, что Ваша Светлость приказал ему отпустить персидского посла, а нас задержать. По правде говоря, эта новость нас сильно удивила, так как мы не знаем за собой никаких поступков, которые могли бы заставить Вас принять такую меру. Вам хорошо известно, что мы прибыли в Московское государство во время царствования Дмитрия. И если мы ступили на эту землю, то это было с разрешения как сената, так и того, кого вы считали своим вождем, и тот и другой обещали нам, кроме того, свободное передвижение до Персии. Государи, особенно христианские владыки, имеют обычай верно выполнять обещания, данные иностранцам, тем более если эти люди посланы другими государями.
Мы же, бедные монахи, которых великий понтифик посылает в Персию, не боимся смерти, потому что мы покинули Рим с намерением принести в жертву наши жизни. Но папа и император римлян, от которых мы привезли Вам рекомендательные письма, захотят узнать и тщательно проведут расследование, чтобы разведать, что с нами случилось. Мы Вас умоляем: не становитесь причиной того, что христианская кровь прольется еще обильнее, чем она проливается теперь.
Разумеется, Римский папа проявлял заинтересованность в пользу человека, который, согласно тому, что Вы теперь говорите, не был настоящим Дмитрием. Но Его Святейшество руководствовался при этом своей любовью к Вашей стране, будучи уверенным в том, что Вы сами допускали законность этого государя. Стоит ли удивляться тому, что Дмитрий ввел в заблуждение папу, если он смог обмануть вас, которые его признали и короновали?
После того как мы покорно изложили Вам наши представления, нам остается только умолять Вас в дальнейшем обращаться с нами более мягко и, согласно законам человечности и гостеприимства, не препятствовать нам ехать в Персию. Действуя таким образом, Вы получите милость у Господа, а мы настоятельно будем просить, чтобы он послал Вам мир и благополучие и т. д., и т. д.».
Это письмо было передано распечатанным губернатору, который, желая снять с себя ответственность, захотел прочитать его народу до того, как письмо будет отослано Василию. Затем, сжалившись над положением отцов, с которыми так несправедливо обошлись, он предписал послу Персии также остаться в Казани до прибытия ответа: если этот ответ будет положительным, то следует, что миссионеры должны будут уехать вместе с послом, как и было им обещано. Это заявление вызвало гнев у Зенил Камбея. То ли он считал, что общество этих монахов могло бы повлечь неприятности со стороны населения Московии, то ли он не хотел, чтобы они были в состоянии трудиться над обращением короля персов в другую веру. Или же (что наиболее вероятно), мучимый угрызениями совести, он боялся, что они сообщат его хозяину о недостойном его поведении в Праге, в Москве и во время путешествия в Казань. Повсюду, общаясь и с воеводой, и с великим князем, он пускал в ход все средства, чтобы те разрешили ему уехать одному, без отцов, всеми силами стараясь преградить им путь в Персию. Он решил даже прибегнуть к злобным намекам и отвратительной лжи, чтобы в памяти этих государей стерлись всякие воспоминания о миссионерах. Но все его ухищрения и клеветнические измышления не принесли результата: ему дали просто понять, что великий князь не нуждается в его советах.
Ответ Василия стал известен 20 июля, его привезли два посла, которых Василий отправил в Персию вместо назначенных Дмитрием. Царь поручил им принять отдельно по прибытии в Казань сначала миссионеров, затем Зенил Камбея. Следуя национальному обычаю, в распоряжение отцов были выделены лошади с великолепными попонами, но миссионеры отказались от этой услуги и отправились на аудиенцию пешком. Им был оказан торжественный и помпезный прием. Три сотни слуг и других людей из свиты послов в блестящих ливреях, разукрашенных золотом и драгоценными камнями, ожидали на крытой галерее дворца. Оказывая почести, они ввели миссионеров во дворец. После обычного обмена любезностями послы от имени своего господина горько посетовали на то, что великий понтифик оказывал поддержку Дмитрию, этому отвратительному самозванцу, этому несчастному интригану, от которого произошли все беды Московии. Разумеется, сказали они в заключение, великий князь мог бы с полным правом отказать посланцам папы в той милости, о которой они просят, однако он желает быть великодушным и сохранить с Римским и Венским дворами дружественные отношения, которые были установлены его предшественниками. Поэтому он больше не будет ставить миссионерам преград на их пути в Персию; более того, для большей уверенности он хотел бы, чтобы они путешествовали в компании с двумя посланниками и чтобы государственная казна оплачивала все их расходы.
Наши отцы были неимоверно удивлены и обрадованы тем, что услышали. Этот луч света после стольких грозовых дней казался им сном. Не пытаясь объяснить действия Святого Отца (они посчитали, что это ни к чему не приведет, помимо всего, это объяснение уже содержалось в письме, отправленном ими Василию), миссионеры выразили огромную признательность за оказанную им милость. Однако не без скрытой неприязни они восприняли неудобство путешествовать в беспокойном обществе такого количества людей. Они возвратились в свое жилище, а послы дважды до их отъезда направляли к ним людей, чтобы узнать, как у них дела. После отцов пришла очередь аудиенции Зенил Камбея. Он старался приложить удвоенные усилия и использовать все возможное, чтобы убедить посланников царя задержать миссионеров в Московии. Но он напрасно потерял время: прибывшие из Москвы послы, умные и здравомыслящие, легко распознали лживость и лукавство его обвинений и больше не стали его слушать. Он вернулся в полной растерянности. Тем не менее, как мы увидим позже, посол Персии и в дальнейшем во время их путешествия не прекращал свои интриги и коварные ухищрения.
Отъезд состоялся 24 июля. Численность каравана достигала почти 2000 человек: помимо трех послов и людей их свиты, помимо владельцев лодок и людей, обслуживающих эти лодки, там находилось 500 солдат, отправляемых с целью сдерживать казаков и татар, нападения которых опасались. К тому же караван включал в себя большое количество торговцев и других путешественников, которые воспользовались такой благоприятной и верной оказией. Из уважения к миссионерам им лично выделили лодку с 12 гребцами. Это их очень утешило, так как избавило от шума и суматохи и позволило свободно исполнять свои религиозные обязанности. Было предложено спуститься по Волге до Астрахани, города, расположенного на берегу Каспийского моря в устье реки.
Волга – самая большая река европейской части России и всей Европы. Она берет свое начало в маленьком озере Тверской губернии на холмах бывшей Литвы. Она пересекает большое число губерний и такие города, как Тверь, Углич, Ярославль, Кострома, Балахна, Нижний Новгород, Космодемьянск, Чебоксары, Казань, Симбирск, Сызрань, Саратов, Царицын, Астрахань. Через свое устье, разделенное на 70 рукавов, Волга впадает в Каспийское море, пройдя в своем течении не менее 2800 км. Уже от Твери становится возможным свободное и безопасное судоходство даже на больших кораблях, так как течение реки спокойное, равномерное, без водопадов. Ее длинные рукава образуют многочисленные острова, очень плодородные: некоторые из них имеют достаточно большую протяженность и покрыты гигантскими деревьями. В Волге также водится рыбы больше, чем в любой реке Европы. Особенно в изобилии здесь ловятся осетры, лососи, форель. На берегах в большом количестве собирают ревень.
Во время путешествия наших миссионеров обширные равнины, по которым протекает Волга от Казани до Астрахани, не носили следов культуры и поселений. В этих местах проживали орды Скифов или Татар, почти дикой расы, живущей в основном грабежами. Они постоянно перевозили свои шатры и перегоняли стада с одного пастбища на другое, нигде не поселяясь навсегда. Каждая орда имела вождя и свои законы, однако все они признавали верховную власть великого князя еще с того времени, когда они были покорены Иваном Васильевичем.
На всем протяжении реки (более чем тысяча двести километров) только время от времени можно было встретить несколько жалких поселений, жителями которых являлись в основном солдаты да приговоренные к ссылке. Поэтому совершенно не было возможности раздобыть продовольствие: все необходимое для жизни нужно было взять с собой из Казани. Все, кто путешествовал, как и наши миссионеры, в этом направлении, должны были везти в своих лодках запас провизии по крайней мере на два месяца.
Наши отцы-миссионеры имели полную возможность в течение первых 27 дней плавания составить себе представление об этих краях и их жителях. 20 августа они очень удачно завершили две трети пути, достигнув Царицына. Но там их ожидали новые неприятности. Расположенный на Волге в том месте, где она сближается с Доном, Царицын в те времена был мало чем примечателен. Он насчитывал чуть более сотни домов. Была там, однако, крепость, но она, по словам отца Евсевия, «казалась более пригодной содержать мародеров, чем оказывать сопротивление корпусу регулярных войск». Прибыв на это место, московские послы узнали, что царю противостоит значительная оппозиция. Новость (верная или ложная) о том, что Дмитрий избежал кинжала заговорщиков, мало-помалу распространилась по всем провинциям империи, вызывая различные чувства. Один самозванец, выдавший себя за брата этого царевича, ловко воспользовался общим смятением и смог поднять жителей Астрахани и ее окрестностей против Василия Шуйского. Ему не составляло труда привлечь казаков на свою сторону. Это был суровый кочующий народ, населяющий обширные равнины, орошаемые Доном и расположенные по другую сторону от горного хребта, который на западе закрывает бассейн Волги. Их врожденная привязанность к тому, в ком они видели законного владельца московского трона, усилилась от присутствия двух племянников Дмитрия – сыновей Федора, которые, надеясь на их верность, жили среди них со времени узурпации власти Борисом. Под предводительством старшего из братьев армия казаков, к которой присоединилось большое количество московитов, двинулась к Москве, отстаивать права Дмитрия.
Тем временем Василий отправил в Астрахань двух офицеров своего двора с миссией усмирения умов. Они должны были не скупиться на прекрасные обещания, а если обещания не подействуют, то прибегнуть к жестоким угрозам. Однако повстанцы оказались совершенно равнодушны и к первому, и ко второму. Осыпав Василия проклятиями и оскорблениями, называя ею отцеубийцей и узурпатором, они схватили обоих послов и нескольких знатных особ, которые открыто признали нового правителя, и скинули их с вершины башни, не дав им времени опомниться. Тогда Василий направил против восставшего города армию из 20 тысяч человек под предводительством ловкого и храброго капитана. Прибыв под стены Астрахани, капитан тщетно попытался найти возможность убедить открыть двери города, но ему ничего не оставалось, как осадить город и начать боевые действия.
Таким образом обстояли дела, когда маленький флот с нашими путешественниками достиг Царицына. Разобравшись в ситуации, московские послы были весьма озадачены, так как было в равной степени опасно как останавливаться, так и продолжать плавание до Астрахани. В самом деле, население Царицына было весьма склонно поддерживать Дмитрия, и было сдержанным только в проявлении своего отношения к воеводе, который вовремя успел распространить на месте осады Астрахани благоприятные новости в пользу Василия. Учитывая все это, послы приняли решение, казавшееся им абсолютно разумным: они остановятся, но из лодок выходить не будут до тех пор, пока не узнают о капитуляции осажденного города. «Это не долго продлится, – думали они, – и скоро караван сможет отправиться снова в путь». Сразу же скажем, что они обманулись в своем ожидании: прошло много времени, прежде чем в Царицыне узнали, что армия Василия была вынуждена снять осаду и расположиться зимними лагерями по волжскому берегу в девяти километрах от Астрахани.
Шли дни, не принося никаких перемен в положении путешественников. Наши миссионеры скоро с досадой осознали, что решение, принятое московскими послами, не согласуется с их личными планами. Холодное время года было у порога: вот-вот могли возникнуть новые политические осложнения и подвергнуть опасности судьбу иностранцев: задерживаться и дальше означало отложить путешествие на неопределенный срок, а возможно, и сделать его совсем невыполнимым. Посоветовавшись, монахи решили, что двое из них, о. Павел-Симон и о. Иоанн-Фаддей, тайно отправятся и будут искать возможность проникнуть в Астрахань, где, используя имя Дмитрия, их бывшего покровителя, будут стараться заполучить свободу передвижения для себя и своих товарищей. Это был смелый план, он показывал большое мужество наших отцов-миссионеров. Но Господу было угодно помешать его осуществлению. Отъезд был назначен на 7 сентября, канун праздника Рождества Богородицы, но именно в ночь, которая предшествовала празднику, о. Павел-Симон слег в постель в сильном жару, который не отпускал его в течение месяца и неоднократно подвергал его жизнь опасности. Невозможно выразить, какие муки пришлось испытать служителю Всевышнего во время этой болезни, учитывая то, что не было ни врача, ни лекарств. Чтобы облегчить жажду, которую он испытывал по причине лихорадочного состояния, неотесанные жители побережья могли предложить только отвратительное вино, в котором они кипятили растолченные головки чеснока. В такой экстремальной ситуации о. Павел-Симон надеялся на милость Небесного Врача; его компаньоны присоединились к нему в совместной молитве, обращенной к Всевышнему. И их вера была не напрасной: в то время, когда казалось, что больной вот-вот перестанет дышать, к нему вдруг полностью возвратилось здоровье.
Наступил октябрь, стали ощутимы суровые признаки зимы. Для путешественников стало невозможным дальнейшее пребывание в лодках. Московские послы по-прежнему придерживались мнения, что нельзя двигаться дальше до тех пор, пока Астрахань не будет возвращена; они решили, что нужно высадиться на берег и устроиться, как получится, у жителей Царицына. Тогда миссионеры и посол Персии стали просить, чтобы хотя бы им было разрешено отправиться в Астрахань, потому что их положение по отношению к повстанцам было иным, чем у москвичей. Но им было заявлено, что воля царя состояла в том, чтобы они не расставались, и что они должны этому подчиняться.
Глава VIII. Миссионеры в Царицыне: лишения; страдания; преследования. Возмещение ущерба, причиненного образу Марии. Болезнь миссионеров. Кончина Риодолида и брата Иоанна Успения
Понятно, что наши миссионеры испытывали горькую досаду оттого, что вынуждены были застрять в Царицыне на всю зиму и, таким образом, отложить свое прибытие в Персию, единственную цель их устремлений. Но могли ли они предвидеть все то, что их ожидало? Телесные и душевные страдания, которые они претерпели в Царицыне, таковы, что ужас охватывает при их упоминании. Они бы казались невероятными, если бы наши отцы, честность которых не вызывает никакого сомнения, не упомянули о них в донесениях о своем путешествии.
Путешественников в то время было много, и в Царицыне совсем не было мест. Вот почему миссионеры вместе с переводчиками (всего 8 человек) нашли для житья одну-единственную комнату, в которой не было и четырех метров и где их, естественно, ожидали всякого рода неудобства. Наши отцы надеялись, по крайней мере, получить возмещение за все это в утешении своей набожностью – то есть в торжественном богослужении, участвуя в высочайшем таинстве причастия, которого они были лишены в течение долгого времени. Но им пришлось разочароваться. Прибыв в церковь прихода, чтобы отслужить обедню, они заметили с болью, что вино для причастия не только выдохлось, но полностью непригодно, священник же использует его без зазрения совести. Они спросили, знает ли он, что употребление этого испорченного продукта не приносит пользы и не является законным. На это священник невозмутимо ответил, что он это знает, но не хочет терять вознаграждение. Ужаснувшись при виде такой кощунственной скупости и глубочайшей слепоты, наши отцы осыпали его упреками и стали умолять не делать этого, но все было безуспешно. Скоро, впрочем, они убедились в том, что священники этой нации, так же как монахи и прелаты, предавались самым грубым привычкам, лжи, испорченности, пьянству, распутству, публичному сожительству и что этот образ жизни был следствием их глубокого невежества. Но было обстоятельство еще более плачевное: эти несчастные, не стремясь очиститься от грязи, не боялись ежедневно подниматься на алтарь и предлагать Святые Дары. Пусть читатель не удивляется и не будет шокирован таким поведением схизматиков: только полная правда может освободить человека от тяжести греха.
Если духовенство было таким испорченным, нужно ли было удивляться тому, что миряне обоих полов под влиянием столь пагубных примеров, в свою очередь, предавались самым ужасным порокам и безудержной вольности. От всего этого наши миссионеры постоянно испытывали тяжесть на сердце, а глаза наполнялись слезами. Их письма содержат по этому поводу такие невероятные детали, которые деликатность нашего языка не позволяет выразить.
Оказывая своим служителям огромные милости, Господь допустил, чтобы они были подвергнуты чрезвычайно тяжелым телесным лишениям. Так как за время этого длительного перерыва в путешествии была съедена вся провизия, привезенная из Казани, а небольшое поселение, каким был Царицын, не могло снабдить продуктами столько людей, наши монахи получали едва половину того, что могло их еще держать на ногах. Но к мукам голода, которые они, кстати, выдерживали с героическим мужеством, прибавилось вскоре обстоятельство, поставившее их в очень сложное, полное опасности положение.
Между двумя московскими послами обнаружилось серьезное разногласие: один из них, объявив себя сторонником Василия, не прекращал поносить и обидно злословить в адрес Дмитрия; другой же, будучи охвачен совсем противоположными чувствами, открыто защищал притесняемого. Находясь между этими двумя крайностями, наши миссионеры осмотрительно воздерживались от всяких открытых проявлений в пользу как одной стороны, так и другой. Это поведение получило всеобщее одобрение, но оно раздражало первого из московских послов, а также персидского посла, который с готовностью стал на сторону узурпатора с целью войти к нему в милость и получить от него еще более великолепные подарки, чем те, которыми его осыпал Дмитрий. Эти двое хотели обратить себе на пользу то растущее уважение, которое получали наши отцы, и то влияние, которым они стали пользоваться благодаря своей добродетели. Те двое старались их завоевать, ссылаясь на самые весомые доводы, пытаясь повлиять на их решение публично и решительно объявить себя противниками как личности Дмитрия, так и его действий. Тогда отец Павел-Симон от своего имени и от имени своих товарищей дал ответ, полный мудрости: его и его товарищей могли бы обвинить в безрассудстве, если бы они вмешались в партийную борьбу; римский папа и вышестоящее начальство абсолютно определенно запретили им вмешиваться в политические дела: дела такого сорта, кстати, находятся вне целей их ведомства; как слуги апостолов, они имеют единственную цель – добиваться духовного богатства для людей, проповедовать мир согласно Евангелию, гасить пламя раздоров; их долгом было уважать тех, кто владеет временной земной властью, и они не могли позволить себе обращать к ним оскорбительные слова, если не хотят идти вопреки христианскому и религиозному милосердию.
Это заявление не понравилось тем, кто его спровоцировал. Так как московский посол был им сильно раздражен, персидский посол, всегда с неприязнью относившийся к отцам-миссионерам, воспользовался этим случаем, чтобы дать волю своим дурным чувствам, все более и более возмущая москвича посредством отвратительной лжи. Он стал всячески распространяться, что якобы миссионеры не были таковыми, а только делали вид, что они монахи, посланные Римским Папой к королю Персии, но были бродягами и отвратительными мошенниками. Прикрываясь маской благочестия и добродетели, они якобы имели целью вымогать деньги у простаков и под внешностью кающихся скрывали свою разборчивость в еде. Клевета произвела желаемый эффект. Первый из московских послов полностью забрал продовольственный рацион у миссионеров, на который они имели право согласно обычаю страны и приказам великого князя; затем по соглашению с воеводой крепости и некоторыми другими он написал Василию письмо, в котором обвинял наших отцов в сговоре с другим послом, преданным сторонником Дмитрия, и в подстрекательстве к мятежу против суверенной и законной власти. Затем он спрашивал распоряжений в отношении того, как они должны вести себя с ними, и писал, что он собирается пока их усиленно охранять, чтобы помешать им отправиться в Астрахань, где они неизбежно поддержат мятеж.
Можно ли представить себе, в каком тяжелом положении находились служители Господа! Они подвергались мукам голода, холода и всем неудобствам их тесного жилища. Ежеминутно они были объектом презрения и оскорблений грубой солдатни: они видели себя окруженными сильными и жестокими врагами, целью которых была только их погибель и которые уже радуются в предвкушении успеха своих козней против них. Эти злодеи публично хвалились, что ответ от Василия (который, по их мнению, должен вот-вот прийти) позволит им отрубить миссионерам головы или утопить их в Волге. Тем не менее, будучи погруженными в печали и тревоги, наши монахи почувствовали, что Небо не покинуло их: благодаря божественной защите и своим милосердным поступкам они нашли почтительных и преданных друзей в лице второго московского посла, некоторых жителей Царицына и в переводчиках персидского посла. Эти последние обратились первый раз к ним, чтобы пожаловаться на жестокость их хозяина, который позволял им почти умирать с голоду; и наши отцы великодушно разделили с ними то малое, что у них было для их собственного существования. Движимые чувством признательности и привязанности, эти люди продолжали приходить к монахам. Они вовремя предупреждали их о всех кознях персидского посла и давали возможность предохранять себя от расставленных ловушек.
Один случай, сопровождаемый необычными обстоятельствами, стал свидетельством огромного благочестия и мужества наших отцов, что еще больше привлекло к ним сердца людей. Отец Павел-Симон дал первому московскому послу (еще до того, как он проявил себя в качестве противника миссионеров) прекрасный благочестивый образ Пресвятой Девы Марии. Этот образ был воспроизведением изображения, написанного, по преданию, святым Лукой, образа, который находится в главном алтаре церкви Нотр-Дам дель Пополо в Риме. Не очень заботясь об этом предмете, который не имел большой материальной ценности, посол передал образ священнику Царицынского прихода. Тот установил его в своей церкви, простые люди стали с благочестием почитать образ, несмотря на предубеждение раскольничества против культа высочайшей Божьей Матери. Однако архиепископ Астрахани (которого мы оставили в Москве) по просьбе Василия должен был отправиться в свой город и, используя свое влияние, способствовать утверждению там или подчинению новому правительству. Он остановился в Царицыне в первые дни ноября. Узнав из уст одного презренного доносчика обо всем, что касалось святого образа, он выразил огромное недовольство. Тотчас он потребовал к себе священника, жестоко упрекая его за то, что он осквернил свою церковь, внеся туда вещь, полученную от латинских священников, этих отлученных от церкви, и приказал ему немедленно убрать образ и закопать его где-нибудь подальше от святого места. Священник не осмелился оказать сопротивление и поспешил выполнить порученный кощунственный приказ.
Миссионерам скоро стало известно о тяжком оскорблении, нанесенном Деве Марии. Их охватило огромное страдание; они немедленно приняли решение почтительно исправить содеянное, нисколько не думая об опасности, которая могла их ожидать за столь смелый поступок. Прежде всего, они исповедались, чтобы быть готовыми ко всякой нежелательной встрече. Когда наступил вечер, они вышли из дома в белых плащах, как будто на прогулку, перешли площадь и направились к тому месту недалеко от церкви, где было совершено осквернение. На этом месте все опустились на колени, зажгли восковые свечи. Отец Павел-Симон, покрытый епитрахилью, разрыл землю и вынул оттуда святое изображение. Тщательно почистив его, он почтительно прикоснулся к нему губами и дал поцеловать его остальным. Затем он завернул его в богатое золототканое покрывало, и они все вместе отправились в путь процессией, неся зажженные свечи. Многие жители видели, как они шли, но никто и не подумал им помешать. Миссионеры смогли спокойно завершить их благочестивую церемонию и добраться до своего жилья, где они и установили чудесный образ Божьей Матери.
Новость об этом поступке миссионеров облетела Царицын, удивила и привела в раздражение врагов наших монахов, однако все старались не проявлять своих чувств, и никто не захотел показать себя защитником кощунственного преступления. Напротив, архиепископ и первый московский посол постарались даже умыть руки. Посол отослал одного из своих людей к миссионерам, чтобы передать, что ни он, ни архиепископ не имеют никакого отношения к происшедшему и что, совершая этот акт безумия, приходской священник руководствовался только своими побуждениями, поэтому он один во всем виноват. Но отцы ответили без колебания, что им очень хорошо известно относительно автора этого безбожного поступка. Они добавили, что оскорбление, нанесенное образу, направлено не на них, а на Господа и на Пресвятую Богородицу и что оно не может остаться безнаказанным.
Такой твердый и прямой ответ сильно озадачил посла. Тогда он предпринял вторую попытку. По его приказу приходской священник пришел сам к миссионерам, чтобы попросить прощенья. Он также обратился с просьбой передать ему святой образ, чтобы набожные люди не были лишены счастья видеть и почитать его. Монахи ответили, что поскольку они не получили личного оскорбления, то им нечего прощать, но виновные с чувством глубокого раскаяния должны обратиться к Господу Богу и Деве Марии, если они не хотят, чтобы их постигла суровая кара. Что же касается святого образа, то они не могут его возвратить, опасаясь, что он может быть подвергнут новому осквернению со стороны какого-нибудь врага католиков. Священник, также в свою очередь сконфуженный уроком, который он получил, покинул миссионеров. Четыре или пять дней спустя архиепископ, который отправился спать в совершенном здравии, был обнаружен мертвым в своей постели. Почти в то же время предатель, выступивший в качестве доносчика, вдруг опасно заболел и вскоре оказался в крайне тяжелом состоянии. Он избежал смерти после того, как по совету отцов чистосердечно раскаялся в своем мерзком поступке и стал умолять Богородицу о заступничестве. Это двойное событие было замечено людьми; народ увидел в этом очевидное проявление божественного правосудия, что привело к еще большему почитанию Пресвятой Девы Марии и уважительному отношению к миссионерам.
Тем временем суровая зима вступила в свои права; лед и снег перекрыли путь транспорту с пищевыми продуктами и почтой; у служителей Господа в качестве пищи осталась только сухая рыба. Этот продукт при отсутствии вина был очень трудным для пищеварения и вредным для здоровья в таком холодном и влажном климате. Благодаря силе своего характера монахи смогли в течение нескольких месяцев продержаться в относительно удовлетворительном состоянии. Но в начале поста 1607 года они все пятеро заболели, пораженные эпидемией, царящей в тех местах. В своих письмах они оставили описание этой болезни. Сначала поражаются десны, которые опухают и начинают гнить, покрываясь язвами. Некоторое время спустя кариес поражает зубы, они расшатываются и, крошась, выпадают. Затем болезнь спускается в бедра, колени и ноги, где происходит то же, что во рту. После того как тело опухнет, покроется язвами и станет гнить, останутся только кости, покрытые такой темной кожей, как если бы ее опалил сильный огонь. Но зараза возвращается, атакует кишечник и другие внутренние органы, поражает сердце, и человек умирает.
Для наших больных миссионеров пагубным было то, что их болезнь совпала со временем Великого поста. Ереси, раскольничеству, неверному учению свойственно впадать в абсолютные крайности: с одной стороны, вести беспорядочный образ жизни, а с другой – быть в некоторых пунктах до смешного скрупулезным. Наш Господь упрекал в свое время фарисеев за эту пагубную непоследовательность. И этот тип людей не исчез, по крайней мере, они были здесь, на берегах Волги. Схизматики – жители Московии, окружавшие наших миссионеров, как мы упоминали выше, вели распутную жизнь, но что касается поста, то здесь они доводили воздержание до крайности. Они не ели мяса, яиц, молочное; три дня в неделю не ели ничего вареного, кроме хлеба; и они считали преступлением прерывать пост даже перед лицом смертельной опасности. Монахи же их были еще более строгие: они проводили сорокадневный пост исключительно на хлебе и воде. Что же оставалось делать о. Павлу-Симону при таком положении вещей? С одной стороны, не дать повод для скандала, или, вернее говоря, не вызвать у заблудших московитов несправедливые обвинения, направленные против святой католической Церкви; с другой стороны, необходимо выполнить свой долг милосердия по отношению к братьям-монахам, пораженным, как и он, смертельной болезнью. Воззвав к высочайшей божественной истине, он остановился на решении, которое, как ему казалось, все смогло бы уладить. Он решил не позволять себе никакого облегчения, мало-мальски противоречащего суровости поста и воздержания; другим же он объявил, что он им предоставляет свободу действовать по своему усмотрению, но в соответствии с волей Всевышнего.
Отцы Иоанн-Фаддей и Викентий последовали героизму своего настоятеля и решили с великодушной храбростью разделить всю строгость такого чрезвычайного поста. Отец Иоанн Успения и Франциско Риодолид были не менее великодушны, и они доказали это; в реляциях, посланных отцами, дается описание яркого свидетельства их набожности, умерщвления плоти и строгости их жизни. Но они решили, что обязаны воспользоваться тем снисхождением, которое им предоставляли. И чтобы они смогли это сделать не на глазах у посетителей, их поместили в маленькую, более укромную комнату, по соседству с общей. Удивительная вещь, но именно только они и умерли от этой ужасной болезни, казалось, Господь нашел их готовыми для Небес и дал им вечное вознаграждение; в то же время, желая прославить свое высшее провидение в трех оставшихся в живых, привел их к еще более глубокому неприятию жизненных удобств. Однако не станем забегать вперед.
Пятеро наших миссионеров оказались прикованными к постели. Испытывая страшные боли и не имея почти ничего, чтобы поддержать силы, они скоро совершенно ослабели. Смерть казалась для всех неизбежной и скорой. Но эта перспектива их не пугала; напротив, она вызывала у них радость, оживляла надежду и являлась темой их обычных благочестивых бесед. Всевышний в изобилии компенсировал отсутствие внешней помощи, вложив в их души радость и благодать как достойную награду за все их мучения на этом свете. И это блаженство в их душах в тысячу раз превосходило все радости человеческого утешения. Единственное, что их угнетало, – так это то, что они не смогли получить святое причастие, так как они не хотели принять его из рук раскольников. О том, чтобы самим совершить священное таинство, не было и речи, потому что болезнь приковала их к постели, к тому же у них не было ни капли вина для причастия. Однако Всевышний милосерден к тем, кто всецело на него положился; и он помог несчастным преодолеть это двойное препятствие. Некто, охваченный состраданием к миссионерам, принес им немного хорошего вина, и о. Павел-Симон решился собраться с последними силами и совершить богослужение. Ему удалось с большим трудом подняться с постели и одеться. Затем, опираясь на столик алтаря и время от времени садясь, чтобы передохнуть, он смог совершить мессу и причастить своих товарищей. Можно ли описать радость, которая переполнила их сердца в ту минуту? Она дала им силы снова приступить к выполнению их обетов, которые они дали перед тем, как покинуть Рим.
Это причастие стало последним для двоих из них. В четверг Страстной недели заметили, что Франциско Риодолид значительно ослабел. О. Павел-Симон попросил, чтобы его поднесли к больному: он хотел утешить его и ободрить перед тем, как тот отправится в свой последний путь. Отец Викентий, кровать которого находилась рядом с кроватью умирающего, совершил над ним таинство соборования. На следующий день, в пятницу, добрый Риодолид безмятежно почил в бозе.
Монахи сразу остро почувствовали эту потерю: от них ушел глубоко ими уважаемый и любимый товарищ. Это был энергичный человек, преданный своему делу, опытный; прекрасный образец гуманности, послушания, скромности, самоотверженности; исполненный благочестия и других добродетелей. Горечь и боль утраты смягчалась только при мысли о том, что душа их друга пребывает в окружении ангелов и наполнена божественным покоем и вечным блаженством. Они отказались похоронить останки их товарища в церкви раскольников, а распорядились отвезти их в поле, за город. Мужественный о. Павел-Симон потребовал, чтобы ему разрешили возглавлять траурную процессию. Отец Викентий попытался также присоединиться к ней, однако упадок сил заставил его снова лечь в постель. Тело усопшего сопровождали несколько торговцев-армян и 25 солдат, посланных комендантом крепости в честь военных заслуг усопшего.
Но вскоре другая могила была вырыта рядом с могилой бывшего капитана, доблестно посвятившего свою жизнь и свой талант служению делу миссионеров. Через шесть дней после погребения Риодолида, то есть в четверг, умер брат Иоанн Успения. И он отправился на небеса обетованные, чтобы поселиться в райском уголке, наслаждаясь божественной милостью. Он заслужил это, по мнению своих товарищей, своей добродетельной жизнью, трудом и страданиями. В последние минуты своей жизни он также получил утешение и поддержку от о. Павла-Симона и о. Викентия; его исповедовали и соборовали. Погребальная церемония сопровождалась теми же людьми, что и предыдущая, и была совершена в духе благочестия и набожности.
Что представляли собой эти две могилы, вырытые вдали от родины, на полпути к цели путешествия, в варварской земле, земле раскольников? Было ли это уничтожением их миссии в Персию или же залогом ее успеха? Что это? Смерть или жизнь? Это была жизнь, но жизнь среди новых неприятностей и злоключений.
Глава IX. Наши отцы испытывают в Царицыне новые превратности судьбы. Их отправление из этого города, 24 июля 1607 года: происшествие в пути. Прибытие и пребывание в Астрахани. Отъезд оттуда в конце августа и прибытие на персидскую территорию 27 сентября
Наступление пасхальных дней и приход весны оказали благоприятное воздействие на здоровье троих отцов: они получили возможность свободно принимать более здоровую пищу; им не нужно было больше вести борьбу с суровой и вредной для здоровья температурой воздуха. Поэтому мало-помалу к ним стали возвращаться силы, и наконец они полностью поправились. К тому же снег и лед растаяли, и Волга, как и другие реки, стала готова к навигации. Следовательно, можно было отправляться в Астрахань. Миссионеры настаивали, чтобы им позволили отправиться в путь, но это было бесполезно. Им ответили, что не имеют права нарушать приказы царя. Но это была только отговорка; на самом же деле хотели только вызвать раздражение у миссионеров. Посол Персии предпринял против них целый ряд происков, воспользовавшись обострением разногласий и борьбой между сторонниками Василия и сторонниками Дмитрия, которые были сильнее и использовали любой предлог, чтобы послать на смерть то одного, то другого из своих соперников. Подстрекаемые Зенил Камбеем, они хотели аналогичным образом обойтись и с миссионерами, однако опасались возмущения народа. Кроме того, поскольку речь шла о вражде по отношению к иностранцам, они предпочли выждать (чтобы снять с себя ответственность), пока Василий, к которому они обратились, не предпримет какой-либо шаг против миссионеров. Тем временем, сгорая от нетерпения, они опрашивали каждого прибывающего из Москвы курьера, вслух интересуясь, не привез ли он приказ сжечь живьем или утопить в реке этих мерзких католиков, этих отвратительных обманщиков. Положение наших отцов ухудшилось также по причине недостойного поведения валашского переводчика, которого они взяли себе в помощники в Москве. Этот человек, то ли подкупленный, то ли под воздействием демонских наущений, стал распространять на их счет различные слухи, называя их набожность лицемерием, сдержанность – скрытностью, их милосердие – хитростью и ловким заговором против государства. Предатель пошел еще дальше, чем сторонники Василия, распространяя без угрызения совести самую черную клевету. Он представлял миссионеров московитам (особенно первому послу) и коменданту крепости как безнравственных людей, как ярых врагов религии, Василия, как людей, близко связанных с чернью и вынашивающих втайне зловещие планы. Персидскому послу он говорил, что отцы-миссионеры совместно с его людьми, сговорившись, марают его репутацию и даже подают коварные советы, стремясь организовать покушение на его жизнь. Можно себе представить, какой эффект производили на людей ядовитые речи этого человека. Миссионеры видели, как возрастала опасность для них по мере того, как увеличивались злость и раздражение их врагов. Вот почему, готовясь к верной смерти, они мужественно продолжали совершать добродетельные поступки. Жизнь их действительно держалась на волоске: под давлением все новых посланий, прибывающих из Царицына, Василий уже собирался отдать приказ, чтобы миссионеров вместе со всеми сторонниками Дмитрия предали смертной казни. Однако чудесное божественное провидение пришло на помощь и внезапно изменило положение вещей, избавив от гибели отцов-миссионеров и в то же время приблизив к ней их противников.
Как мы уже говорили выше, прошел слух, что Дмитрий еще жив. Этот слух становился все более обоснованным; говорили даже, что свергнутый царь направляется к Москве во главе мощной армии и что не за горами время, когда он возвратит себе и трон, и все свои права. Итак, в Духов день из Астрахани прибыли три курьера, один из которых был уроженцем Царицына, и подтвердили эти слухи своим личным свидетельством, а также письмом, которое они привезли. Это письмо было написано рукой самого Дмитрия, и в нем он призывал всех своих подданных хранить ему верность, в которой они присягали ему как законному монарху. Жители Царицына уже давно изнемогали от несправедливого, тиранического правления представителей Василия. Глубокое и глухое недовольство бродило в умах, и достаточно было одной искры, чтобы произошел взрыв. Новость, привезенная курьерами, и стала такой искрой. Со всех сторон стал собираться народ и заполнил городскую площадь. Когда первый посол и комендант прибыли, чтобы усмирить и подавить волнение, их встретили свистом, насмешками, за которыми последовали оскорбления, проклятия, угрозы смерти. С большим трудом им удалось спастись от народного гнева. Но они недолго оставались в безопасности. Спустя два дня среди ночи разразился организованный к тому времени грозный мятеж. Услышав сигнал, подаваемый звуками трубы, жители Царицына вооружились и стали выходить на улицы, выкрикивая угрозы и собираясь вместе, чтобы нанести решающий удар. Они предупредили миссионеров, сказав, чтобы те не боялись, что им не причинят зла. На рассвете толпы восставших направились в крепость, в дома послов и в дома тех вельмож, которые поддерживали Василия. Комендант, первый посол и все их сторонники были схвачены. С них сорвали одежды и бросили в тюрьму. После этого восставшие передали командование городом и крепостью второму из московских послов и присягнули Дмитрию в своей верности до самой смерти, объявив Дмитрия законным монархом. Наконец, связав по рукам и ногам бывшего коменданта, восставшие отправили его в Астрахань в сопровождении многочисленного конвоя. Человек, возглавлявший этот конвой, получил указание проинформировать брата Дмитрия обо всем, что произошло, и просить его послать без промедления в Царицын подкрепление.
Посол Персии, сраженный такими внезапными, непредвиденными событиями и чувствуя, что он сильно навредил себе своим недавним поведением, пребывал в огромном страхе перед смертельной опасностью. Наши же отцы-миссионеры помнили только примеры жизни Иисуса Христа и его заповедь нам любить своих врагов и делать добро тем, кто нас ненавидит. Поэтому они отправились к послу Персии, чтобы его успокоить, подбодрить, пообещав ему, что они выступят посредниками между ним и жителями Царицына, а также новым комендантом и что будут выступать в его защиту.
Аналогичным образом они поступили и по отношению к первому московскому послу и всем другим заключенным, великодушно забыв все неприятности и гонения, которые они испытали от этих людей. Теперь эти несчастные почти нагие (как мы уже говорили) лежали в своих темных застенках, и никто не рискнул оказать им какую-либо помощь: одни просто боялись, другие же испытывали ненависть. Миссионеры попросили и получили разрешение помогать этим заключенным. Ежедневно они отправлялись в тюрьму, успокаивая их, приносили пищу, деньги и все, что могло скрасить их печальную участь. Заключенные не переставали восторгаться такой героической самоотверженностью. Особенно был тронут до слез первый посол: как бы очнувшись от глубокого сна, он стал каяться во всех прошедших грехах, просить прощения, превозносил до небес добродетели наших отцов, тысячу раз благодарил их, говоря, что навсегда в его душе останется к ним глубокое уважение, привязанность и признание.
Между тем бывший комендант крепости был доставлен в Астрахань, осужден, приговорен к смерти и казнен. Вскоре в Царицын прибыл отправленный братом Дмитрия верховный судья, который должен был вынести решение относительно судьбы узников. Некоторых из них он приговорил к смерти, других – к бичеванию. Первый посол находился среди этих последних. Государь тем не менее оставил за собой право вынести окончательный приговор этому высокопоставленному преступнику. Судья уверил жителей, что четыре сотни московских солдат уже на пути к Царицыну и вскоре прибудут в их распоряжение. Затем судья отправился в Астрахань. Миссионеры воспользовались такой благоприятной возможностью: они написали брату Дмитрия письмо с просьбой восстановить все их полномочия, которые великий князь им когда-то предоставил, а также разрешить им отправиться в Астрахань, припасть к руке государя и затем, покинув этот город, направиться к предписанной им цели.
Через два дня после отъезда судьи 25 солдат, посланных в качестве разведчиков от семитысячной армии, которую Василий отправил против Астрахани, высадились в Царицыне. Они не ведали о том, что город перешел на сторону Дмитрия, и без всякого опасения вошли в него. Но их схватили, бросили в тюрьму, а командиров сбросили вниз с одной из башен. То же произошло на следующий день с другим отрядом, состоявшим также из 25 человек. Наконец, к вечеру следующего дня на реке показалась целая армия. Войско приплыло на лодках, груженных съестными припасами, оружием и другими запасами. Совсем не подозревая о том, что происходило в Царицыне, они сошли на берег и направились к городу, не соблюдая никакой предосторожности, не построившись. Жители Царицына при поддержке 400 солдат, прибывших из Астрахани, и отряда казаков, вооружившись, поджидали эту беспорядочную толпу. Выждав подходящий момент, они произвели залпы из своих пушек и мушкетов и, преследуя прибывших по пятам, вынудили их бежать до противоположного берега Волги. Окрыленные успехом жители города решили доказать свою приверженность делу Дмитрия еще одним шумным военным действием. Итак, на следующее утро, собравшись, они двинулись, охваченные возбуждением и не соблюдая осторожности, атаковать войско Василия. Но на этот раз их ожидали хорошо подготовленные к атаке воины; к тому же их было раз в десять больше, чем маленькое войско жителей Царицына. При первой же стычке те были отброшены, и их преследовали до самых городских ворот, куда они и возвратились, потеряв часть своего войска убитыми либо взятыми в плен. Один из этих пленников своей ложью оказал услугу своим согражданам. Подвергнутый пыткам сторонниками Василия, он решил, что сможет избежать смерти, если сообщит им кое-что. И он сказал, что армия, состоящая из 10 тысяч отборных воинов, послана из Астрахани братом Дмитрия и ее прибытие ожидается в Царицыне. Это ложное сообщение привело в замешательство врагов, и они оставили Царицын, даже не подумав воспользоваться одержанной только что победой. Если бы они вошли вместе с дезертирами в город, они бы быстро им овладели, так как им помогли бы предатели. И потом уже, спустя некоторое время, они тщетно пытались исправить свою ошибку, однако такая потерянная возможность им больше не представилась. Очевидно, Всевышний внял мольбам наших отцов-миссионеров, как когда-то внимал молитвам святого пророка Елисея, и поразил слепотой и немощью приверженцев Василия.
Произошло же следующее. Предатели, о которых мы уже говорили, организовали вместе с руководством армии Василия заговор, который, как казалось, должен был уничтожить в Царицыне сторонников Дмитрия. Первые из заговорщиков должны были поздно ночью под покровом темноты поджечь каждый из четырех углов города; вторые же, воспользовавшись паникой, возникшей по причине пожара, должны были бросить свои войска в город и предать мечу и жителей, и их защитников. К счастью, этот план не настолько хорошо хранился в секрете, чтобы о нем не стало известно в городе. Поэтому, когда наступила роковая ночь (дата была установлена заранее) и поджигатели уже приготовились выполнить задуманное, держа в руках факелы, их схватили и заключили под стражу. Солдаты Василия напрасно ожидали сигнала, которым должен был стать подожженный город. На рассвете они вдруг увидели, как вдали появилась конница. Возможно, они подумали, что это был авангард армии, посланный братом Дмитрия; или же сам Господь умножил в их глазах количество всадников, движущихся, как им казалось, по направлению к ним. Но, охваченные ужасом, они в панике бросили на берегу боеприпасы и продовольствие и на своих лодках спешно уплыли по направлению к Казани.
Конницу также заметили и в Царицыне; навстречу послали людей узнать, кто это, друзья или враги. Оказалось, что эта группа из 200 конников была послана для сопровождения гонца от Дмитрия. Дмитрий послал гонца, чтобы сообщить своему брату и жителям Астрахани о своих военных успехах. Посол Дмитрия вместе со своими людьми был приглашен в Царицын. Однако, не зная истинного отношения жителей города к происходящим событиям, он не поверил уверениям людей, которые вышли навстречу ему, и долго не решался принять приглашение. Для того чтобы его убедить, наши отцы решили сами выйти к послу, поговорить с ним, рассеяв всякие опасения. Когда прибывшие узнали от миссионеров последние новости о событиях в Царицыне, всех охватила такая радость, что невозможно описать тот восторг, который царил в городе. Все воздавали хвалу Всевышнему, который одарил людей таким количеством своих благ одновременно. В городе целый день звенели колокола, палили из пушек, раздавались звуки труб и барабанный бой. Люди пели и плясали, опьяненные радостью. Читатель легко поймет, что этими невинными проявлениями радость не ограничивалась и вылилась в неумеренное всеобщее ликование.
Радость наших отцов была более спокойной и выражалась в молитвах и милосердии. Они считали, что благодарить Господа нужно не только пением церковных гимнов, псалмов и других духовных песен, коленопреклонением и падением ниц, но и раздачей бедным милостыней, которые они могли дать, исходя из своего материального положения, а также другими добрыми делами. Но то, что явилось венцом их благодарности Богу и что в дальнейшем снискало им новые милости Всевышнего, так это было их изумительное поведение по отношению к Зенил Камбею. Этот неисправимый человек не так давно снова отправил письмо Василию, содержание которого, мерзкое по сути, было направлено против самих миссионеров и против Дмитрия. Однако это послание было перехвачено. Когда его прочитали, негодование охватило жителей Царицына, и вскоре возмущенная до крайности толпа направилась к дому, где жил посол Персии, чтобы предать все огню и мечу. Узнав о том, что происходит, наши отцы поспешили также туда и вступились за человека, причинившего им столько зла, и с помощью своей добродетельной репутации им удалось спасти посла. Но, как мы увидим в дальнейшем, тот недолго проявлял признательность людям, которым он был обязан жизнью.
Между тем от брата Дмитрия были получены в высшей степени доброжелательные письма. Великий князь предоставлял миссионерам возможность свободно отправляться в путь и приказывал властям Царицына без замедления организовать их отправку вместе с Зенил Камбеем в Астрахань. Он также хотел, чтобы ему отправили одновременно первого московского посла, которого он собирался судить своим судом. Кроме того, он послал две тысячи казаков для охраны путешественников. Эта мера была вызвана тем обстоятельством, что армия Василия, которая осаждала Астрахань, по-прежнему располагалась недалеко от города, построив форт на возвышенности по течению Волги. Царицын покидали 24 июля. Комендант крепости выделил отцам-миссионерам и их переводчикам прекрасную большую лодку с 30 гребцами и таким же количеством отборных солдат. На других лодках разместились посол Персии со своей свитой и бывший московский посол, который, будучи закован в цепи, находился под надежной охраной. Он был лишен всего, и наши отцы проявляли к нему постоянно милосердие, утешая его, снабжая его продуктами, деньгами, одеждой. Несчастный узник был тронут до слез и не скупился на выражение своей признательности им. Охранявшие миссионеров казаки плыли на небольших лодках и были готовы немедленно встретить огнем врага, как только он появится.
Астрахань расположена на берегу Каспийского моря в одном из рукавов устья Волги на расстоянии примерно 80 лье от Царицына. Огромная равнина разделяла эти два города. И хотя земля там была очень плодородной, ее никто не возделывал, и равнина имела пустынный, заброшенный вид. Потребовалось 11 дней, чтобы проплыть расстояние до Астрахани. На девятый день путешественники встретили брата Дмитрия, который отправился во главе семитысячного войска присоединиться к Дмитрию. С великим князем ехал о. Франциско Дакоста, португальский монах, возвращавшийся из своей миссии от короля Персии, которую на него возложил папа Климентий VIII; там были также два персидских посла; один из них возвращался к Павлу V, другой – ко двору польского короля. Как только великий князь узнал наших путешественников, он приказал остановиться и сойти на берег. Были раскинуты шатры, и князь пригласил к себе миссионеров и Зенил Камбея. Отцам было оказано с его стороны особое внимание и почтение, как одновременно и миссионерам, и посланцам Папы Римского. Два дня они гостили у князя, там же они пополнили свои запасы провизии. Отец Павел-Симон воспользовался доброжелательным отношением брата Дмитрия и стал просить помиловать московского посла. Он показал все свое красноречие, и его милосердная просьба была принята князем. Он хотел уже ее выполнить, но не успел. Ожесточенные солдаты из его войска, охваченные гневом против всех сторонников узурпатора, в исступлении набросились на московского посла и безжалостно его казнили. Это был почти мятеж, но, пролив кровь ненавистного им врага, солдаты несколько успокоились, и брат Дмитрия посчитал благоразумным не вмешиваться в происходящее, то есть не выражать своего отношения к убийству. Расставаясь с миссионерами, князь усилил их охрану, дав им еще 1000 казаков, чтобы они не опасались вражеской армии, которая была уже близко. Эта предосторожность не была излишней. Враг уже и был информирован, что караван судов покинул Царицын и скоро должен появиться в пределах досягаемости их импровизированной крепости. И они решили дать им возможность спокойно проплыть мимо крепости, но на расстоянии в пол-лье от их лагеря по течению реки они устроили засаду из четырех тысяч солдат. Эти солдаты должны были напасть внезапно и с легкостью одержать победу. Наши же путешественники, ничего не зная о планах противника, со своей стороны приняли меры, которые должны были, по их мнению, обеспечить им безопасность. Дождавшись темноты, они направили бесшумно свои лодки мимо лагеря противника, стараясь держаться как можно ближе к берегу, это помогло бы им избежать выстрелов артиллерии. Они прошли благополучно мимо форта и уже радостно поздравляли друг друга, считая, что враг их не заметил. Лишь один пушечный выстрел привлек их внимание, но так как он им показался безобидным, то их это не насторожило. Они не знали, что это был сигнал из крепости для тех, кто был в засаде.
Казаки, сопровождающие путешественников, считали, что опасность позади. Они сложили оружие и, нарушив боевой строй, плыли дальше без всякого порядка, спокойно, ничего не опасаясь. И вдруг, выйдя из своего укрытия, враги стали осыпать караван градом пуль, сея смерть в рядах казаков. А те, растерявшись сначала от такой неожиданной и стремительной атаки, уступили противнику пять из своих лодок. Однако вскоре они восстановили свой боевой порядок и бесстрашно пошли в контратаку. Завязалась ожесточенная битва. Мало-помалу казаки взяли верх, и битва закончилась их полной победой: они отвоевали свои три лодки и нанесли врагу значительный урон. Вскоре войска Василия вынуждены были бежать; они отступили с позором, убегали беспорядочно, как дикие звери, и спрятались за свои укрепления.
Можно сказать, что в течение этой темной ночи произошли настоящие чудеса храбрости. Но все почувствовали также и со стороны Всевышнего чудесное покровительство, которое он оказывал отцам-миссионерам: среди всей этой неразберихи, во время всех этих военных действий только лишь лодка, где находились наши отцы, оказалась полностью невредимой: никто не был убит и даже ранен.
Караван снова отправился в путь и 7 августа 1607 г. благополучно доплыл до Астрахани. Воевода города, который был одним из первых герцогов или сатрапов Московии, встретил наших миссионеров доброжелательно и почтительно, предоставил им удобное жилье. На следующий день миссионеры вместе с послом Персии были приглашены в большой зал, предназначенный для открытых заседаний, где в присутствии большого количества людей губернатор спросил их, имеют ли они письма от Дмитрия. Услышав отрицательный ответ, он выразил сожаление, что сам он лично не может разрешить им дальнейшее путешествие, и добавил, что необходимо обратиться к великому князю, брату императора, и подождать его решения. Отцы стали настаивать, в надежде уговорить его; особенно они уповали на свою встречу с великим князем, на его добрые слова, обещания и разрешение, которое он дал им на словах. Однако все было напрасно. Они вынуждены были подчиниться губернатору и оставаться в Астрахани до тех пор, пока напишут князю письмо и получат от него ответ.
Ответ скоро прибыл. Как только воевода его получил, он опять призвал к себе отцов-миссионеров и посла Персии. Оказав всевозможные знаки уважения миссионерам, он объявил им, что они получают возможность отправляться в путь когда захотят. Отношение же к послу Персии было иным: дело в том, что было перехвачено его новое письмо к Василию, которое было написано во враждебном тоне по отношению к Дмитрию. Воевода сурово упрекнул посла в его коварстве и связях с врагами Дмитрия и сообщил ему вполне определенно, что он не будет выпущен из Московии.
Эти слова воеводы и его решение привели в неописуемую ярость персидского посла. Не посмев излить свою злость на воеводу, он обратил ее на отцов, которые сделали для него столько добра. Он смог задержать их отъезд на несколько дней, после того как троекратно предпринял отвратительные козни против них. Но, получив повторное письмо от великого князя, подтверждающее разрешение, отправленное в первом письме, миссионеры наконец смогли тронуться в путь.
Наши отцы покинули Астрахань в конце августа. Они погрузились в лодку и в сопровождении двух других лодок, на которых находились казаки, быстро проплыли оставшуюся часть Волги и добрались благополучно до персидского корабля, стоявшего на якоре на берегу Каспийского моря, недалеко от впадения в него Волги. Воевода Астрахани сам лично уладил с капитаном этого корабля все условия относительно транспортировки миссионеров в Персию.
Корабли, плавающие в то время по Каспию, нисколько не были похожи на те, которыми мы любуемся в наших портах. Не имея палуб и тента, они были полностью открыты и к тому же неважно сконструированы: части корабля должны были удерживать огромные, непропорциональные паруса и другое снаряжение. Ко всему прочему, команды на судах практически не владели искусством навигации, по крайней мере, они не могли искусно лавировать с помощью поворота парусов, а судно могли вести только при попутном ветре. Вот почему на море, где часто наблюдались сильные штормы, случались многочисленные кораблекрушения.
Задняя часть корабля была предоставлена в распоряжение миссионеров, их переводчиков и двух армянских купцов. Совместное путешествие с этими купцами могло быть весьма полезно для миссионеров, так как их опыт мог бы им пригодиться и на море, и на суше. Оставшуюся часть судна занимали торговцы из Персии, которые, будучи высланными из Астрахани, возвращались в провинцию Гилян, к себе на родину.
Целых два дня ушло на то, чтобы погрузить на корабль пассажиров, груз и балласт. Затем подняли якорь, натянули паруса, и корабль отчалил. Наши отцы не переставали благодарить Бога за то, что он наконец позволил им покинуть эту землю Московского государства, где они в течение такого длительного времени переносили жестокие испытания. Они уже приветствовали страну, которая была целью их устремлений и которая должна была стать местом их деятельности, а также новых страданий. Корабль плыл не так быстро, как бы им хотелось, и, едва проплыв сто миль, вынужден был остановиться посреди моря, так как подули встречные ветры. Перед глазами путешественников были только бескрайние морские просторы да огромный небесный свод. И вот наконец по окончании почти четвертой недели подул благоприятный ветер. Вновь отправились в путь, и в течение четырех дней плавание было вполне успешным. Затем армянские купцы заметили, что капитан не сдержал слова и вместо того, чтобы плыть в Дербент[510], который был ближайшим городом Персии и где он по договоренности должен был высадить миссионеров, он направил свое судно к провинции Гилян. Наши отцы, предупрежденные купцами, поспешили обратиться к капитану с требованием выполнить обещанное, тем более что времени у них было очень мало, так как король Шах-Аббас находился как раз со своей армией в Дербенте, который он только что отвоевал вновь у турок.
Капитан оставался равнодушным и к просьбам, и к угрозам, и, наконец, чтобы труднее было понять его намерения, он направил корабль в открытое море. Но ему не пришлось долго продолжать свой маневр. Внезапно поднялся сильный ветер, и волей-неволей корабль стало прибивать к берегу, после того как он с большой скоростью проплыл более двух сотен миль. Миссионеры удвоили свои просьбы, и наконец капитан уступил. Навстречу им с берега послали шлюпку, и наши отцы вместе со своими переводчиками и двумя армянскими купцами были доставлены на берег. Было 27 сентября – праздник святых Козьмы и Демьяна.
Глава X. Письмо отца Павла-Симона королю Персии. Миссионеры в Баку, в Шемахе; Ардебиль, Казвин, Сава, Кум, Кашан. Их приезд в Исфахан 2 декабря 1607 года
Покинув лодку, миссионеры первым делом преклонили колени, воздавая должное Божественному Покровителю, который через столько опасностей привел их в страну, к которой они так стремились. Затем в долгой и усердной молитве они просили Бога благословить и оплодотворить их усилия и даже одобрить пролитие крови, если это будет способствовать распространению веры.
Поскольку день уже подходил к концу, наша группа отправилась в маленькую деревню недалеко, чтобы переночевать. Там наши отцы узнали, что находятся приблизительно в двух милях от Баку, столицы провинции Ширвана и что хан, или вице-король, вернулся в этот город несколько дней назад, чтобы порадовать себя охотой. Его звали Зульфикар-Хан; и он был одним из наиболее почитаемых принцев царства, как за дворянское происхождение его племени, так и за большие богатства. Отцы сочли целесообразным сообщить ему о своем прибытии и попросить его покровительства для осуществления миссии, порученной им Папой Римским. Таким образом, один из армян уехал на следующий день в Баку с двумя письмами; то, которое хан должен был передать королю Персии, было следующим:
«Светлейшему и Могущественному Шаху Аббасу, Королю Персии.
Брат Павел-Симон Иисуса Марии и его товарищи, Босоногие Кармелиты, отправленные в Персию. Приветствия, и т. д., т. д.
Святейший и Могущественный король.
Наш Господин Папа Павел V, глава христианских принцев, отправил нас к Вашему Светлейшему Величеству с письмами, в которых он выражает свое благорасположение к Вам. Он также поручил обсудить с Вами некоторые секретные дела. Войны, которые потрясли Московию, задержали нас в этой стране дольше, чем мы предполагали; и, несмотря на мучительные страдания, мы не смогли выполнить приказ, данный Его Святейшеством, добраться до Вашего Величества в ближайшее время. Мы наконец прибыли в окрестности вашего города Баку. Мы настоятельно и смиренно просим Ваше Величество оказать нам милость и соизволить устроить, чтобы нас как только возможно быстрее доставили к Вам. Рудольф, император римлян, Сигизмунд, король Польши, и другие принцы христианские доверили нам письма, адресованные Вашему Величеству, за которого мы обращаем к Богу свои самые пламенные молитвы. Он может бесконечно долго поддерживать Вашу августейшую персону, просветляя ее все больше светом своей благодати и своей мощной дланью еще больше ее прославляя!
В окрестностях Баку 28 сентября 1607 г.»
Армянин вернулся в деревню на следующий день. Его сопровождал дворянин, которому было приказано провести посланников папы римского в Баку. Увидев наших отцов босыми и в грубой одежде, что было резким контрастом с идеями, сформированными у него в течение некоторого времени, он некоторое время оставался изумленным, не зная, что думать о них. Умело скрыв свои чувства, он поспешил похвалить миссионеров и предложить им от имени своего хозяина тысячу различных услуг. В скором времени они отправились в Баку, где путешественники разместились в очень удобном помещении на содержании Зульфикар-Хана. Он дал отцам аудиенцию наутро следующего дня. Он принял их с большими почестями, но не дал согласия на немедленный отъезд к королю. Он хотел, по его словам, взять их через два или три дня в Шемаху, место его резиденции, и с удовольствием принять их со всем великолепием, поясняя, что из этого города ему будет легче отправить их к шаху Аббасу. Но вполне вероятно, что он мало доверял миссионерам и хотел выиграть немного времени, чтобы узнать распоряжения короля на их счет. Не выказывая им уже большого уважения, он все-таки пригласил их отобедать с ним. Отцы сочли своим долгом принять его приглашение; но кушали только яйца, овощи и фрукты. После обеда вице-король объявил им, что едет в Шемаху в этот же день и что они могут отправиться в путь на следующий день, чтобы присоединиться к нему в этом городе.
Дело было так. Миссионеры потратили два дня на дорогу из Баку в Шемаху, которую нашли в плачевном состоянии. Этот город был взят у Турок шахом Аббасом несколькими неделями ранее, и он очень пострадал в течение шести месяцев осады. Зульфикар-Хан предоставил отцам подходящее жилье в доме армянского священника и не пожалел ничего, что могло бы способствовать их удобству. Он приглашал их еще раз в свой дворец на ужин, что было для них большой честью. Наконец после двух долгих недель он дал им лошадей и проводника и отпустил их в путь в Исфахан, куда король шах Аббас вернулся из своей экспедиции против Турок.
От Шемахи до Исфахана около двухсот пятидесяти лье. Наши отцы отправились в дорогу 19 октября. Первый город, которого они должны были достичь, был Ардебиль в провинции Азербайджан. Чтобы попасть туда, они должны были пересечь настоящую пустыню, поскольку страна была опустошена во время недавних войн, и лишь иногда, время от времени, встречался поставленный несколькими людьми на день шатер, среди этой обширной пустыни. Путешественники сильно страдали от голода и всякого рода неудобств. И наконец 28 октября, спустя девять дней, в полном изнеможении они добрались до небольшой деревни в окрестностях Ардебиля. Они остановились там, и отец Викентий, посланный своим начальником, в одиночку отправился в город, чтобы найти и приготовить жилье. Миссионеры, по сути, на ученные опытом, чувствовали лишь небольшое беспокойство путешествия в подобных условиях, за счет государственной казны, и решили сами удовлетворять все свои потребности. Персидский проводник, узнав это, был потрясен: он пришел со слезами на глазах встретить отцов и умолял их изменить их решение, потому что в противном случае, сказал он, король и губернатор города строго его накажут, что будут рассматривать это как следствие его непредусмотрительности или злой воли. Отец Павел-Симон не думал удовлетворить эту просьбу, но пообещал проводнику заступиться за него перед начальством. Последний, потеряв надежду на успех своего дела, посчитал более безопасным и разумным найти губернатора и обо всем ему рассказать. Так он оставил миссионеров в деревне и вернулся в Ардебиль.
Губернатор, осведомленный проводником обо всем, отправил навстречу миссионерам эскорт из 25 разодетых и вооруженных всадников, для того чтобы оказать им почетный прием. Отцы вошли в Ардебиль 30 октября. Они должны были добровольно отказаться от жилья, приготовленного отцом Викентием, и, чтобы соблюсти правила этикета, высказанные губернатором, поселиться в том, который приготовил для них губернатор. На следующий день губернатор лично посетил их и пригласил на следующий день на ужин. Возвращаясь с этого ужина, отцы приняли у себя другого гостя, который утешил их намного больше, чем все официальные почести, которые их сильно утомили. Незадолго до их прибытия в Персию шах Аббас покорил великую Армению и отправил в Ардебиль жителей многих городов и деревень, которые стали жертвами пожара или грабежей. Эти армяне были католиками. Таким образом, вечером многие из них, имея нескольких священников во главе, пришли к миссионерам: после того как они дали однозначное свидетельство о правоверности своей веры и их приверженности к Святому Отцу Папе и их глубоком почтении к личности его представителей, они попросили монахов с большим желанием прийти на следующее утро на празднование Святых Таинств в церкви своего народа. Наши отцы пообещали им это.
Следующий день настал, и миссионеры не были удивлены увидеть перед своим домом 15 священников и столько же диаконов и иподиаконов, всех одетых в священные одеяния и за которыми следовала по порядку шествия большая толпа армян, мужчин и женщин. Тот, кто был впереди всех священников, подошел к нашим отцам и дал им поцеловать книгу Евангелия, которую он нес в своих руках. Другие священнослужители проделали то же самое с крестами и иконами нашего Господа. Потом они продолжили шествие. После духовенства, которое было во главе шествия, шел о. Павел-Симон, имея священника с каждой стороны; за ним тут же следовали его товарищи и переводчики; затем следовали верующие обоих полов с зажженными свечами в руках. Таким образом они проходили по площади и главным улицам города, напевая псалмы и гимны под звуки инструмента, который довольно-таки напоминал кастаньеты. Мы, наверно, никогда не видели столь помпезного шествия в Ардебиле. Магометане, которых было много в этом районе, были раздражены; присутствие охраны, которой губернатор поручил защищать шествие, усмирило их желание протестовать: чтобы не слушать шествие, они не могли сделать ничего более, как заткнуть уши.
Когда они прибыли в церковь, один из армянских священников воспел торжественную мессу, во время которой долго читались молитвы для укрепления веры и на благо римского понтифика. Народ присоединился к нему с песнопениями. После мессы шествие продолжилось, теперь уже для того, чтобы сопроводить наших отцов. Это был настоящий триумф. Неповторимый энтузиазм охватил этих благочестивых христиан: со всех сторон мы видели женщин и детей, выходящих из своих домов и бегущих к миссионерам, чтобы поцеловать руку; люди проливали слезы радости, видя, как дань общественного уважения была оказана кресту и святым иконам, в местах, где до тех пор они были предметом насмешек и презрения; все сошлись во мнении, что стали свидетелями исполнения древнего пророчества, по которому эти страны, порабощенные турками, в скором времени обретут свободу благодаря западным христианам.
Вернувшись в свое жилище, миссионеры задержали на ужин армянских священников и начальников мирян. Они узнали от них о плохом обращении, которому подвергались христиане со стороны магометан, и ужасном богохульстве от этих нечестивых, которые были против религии и вероисповедания католиков. Наши отцы обещали им оказать влияние на губернатора. Они сделали это благодаря своим переводчикам и двум армянским купцам; и губернатор, начиная со следующего дня, издал указ, запрещающий под страхом самого сурового наказания повторение преступлений, на которые были поданы жалобы. Этот указ не был мертвой буквой: негодяй, признанный виновным в изнасиловании, был повешен вверх ногами и жестоко избит в середине городской площади.
В течение семи дней, которые миссионеры провели в Ардебиле, губернатор не переставал выказывать им свою самую нежную и щедрую доброжелательность. К их отъезду он предоставил им лошадей и верблюдов и приставил двух знатных персов и двух вооруженных карабинами людей, чтобы сопроводить монахов до Казвина. Так маленькая и организованная группа выдвинулась в путь 6 ноября. Понадобилось восемь дней, чтобы преодолеть путь из Ардебиля до Казвина. Дорога проходила через огромные и плодородные равнины, где не встречались настоящие города, но довольно часто попадались села в четырех лье друг от друга. Главным происшествием поездки стала отправка обратно валашского переводчика, которого наши отцы взяли в Москве и для которого они сделали столько благодеяний. Этот человек с неверным и злым характером имел, неизвестно почему, глубокую ненависть к одному из двух армянских купцов. Однажды, на пятый день путешествия, он разразился против армянина самой жестокой бранью и предпринял даже нападение, и отцы должны были вмешаться, чтобы помешать ему совершить преступление. На этот раз наши отцы посчитали, что он неисправим, и дали ему уйти.
Около Казвина были 14 ноября. Миссионеры, которые испытали во время поездки все возможные лишения, по лучили новый и печальный опыт алчности подчиненных работников, были более чем когда-либо намерены зависеть отныне только от себя самих, и поселиться на свои собственные средства. Таким образом, не посоветовавшись со своими спутниками и не сообщая губернатору Казвина о своем прибытии, въехав в город, сразу же направились в караван-сарай: имя, которое дают на Востоке крупным постоялым дворам. Они там не задержались. Губернатор, получивший слухи о том, что послы Суверенного Понтифика прибыли в Казвин, поспешно отправил в караван-сарай нескольких своих людей, чтобы пригласить миссионеров от своего лица в свой небольшой дворец за пределами города, который был частью королевского имущества. Наши отцы любой ценой не хотели принимать это предложение; они боролись вежливостью и вескими доводами в течение нескольких часов; но все было напрасно: в конце концов они должны были сдаться и отправиться в жилище, которое было для них предназначено. Ближе к вечеру губернатор пришел лично, чтобы выразить свое почтение и извиниться. Это был разговорчивый человек: он ушел от гостей только в три часа утра, оставив у их двери солдат, для охраны миссионеров.
Тогда в городе Казвине находился английский дворянин, граф Роберт Ширли, брат покойного Энтони Ширли, которого король Персии отправил послом к папе Клименту VIII в 1601 году. Роберт был на службе шаха Аббаса в течение почти 10 лет; но в то время, о котором мы говорим, будучи жертвой ревности, он навлек на себя немилость короля и сбежал в Казвин, где вел плачевное существование. Его единственным желанием было вернуться на родину; но неоднократные попытки, которые он делал для того, чтобы получить разрешение, ничего не изменили. Он был англиканским христианином и был одарен, кроме того, прекрасными качествами. В основном это было прекрасное знание страны, двора и личности короля. Короче говоря, кажется, что Божественное Провидение отправило этого человека на помощь нашим отцам в момент, когда они собирались начать работу, для которой они пришли издалека и преодолели столько опасностей.
Как только Роберт Ширли узнал об их прибытии, он явился к ним, пригласил их к своему столу и немедленно предоставил им ценные сведения. Он рассказал, что король Аббас, кроме всего, был плохо настроен по отношению к христианам в своих государствах, потому что он получал серьезные жалобы против Папы, императора Германии и других Принцев Запада: уже больше четырех лет он тщетно ожидал от них ответов через разных послов, которых он отправил к ним; кроме того, его информировали, что император Рудольф заключил мир с турками. Затем английский дворянин сказал, что он решил сопровождать их в Исфахан и оказать им все услуги, которые были в его власти, а в качестве единственной награды он просил их, чтобы они похлопотали за него перед королем и получили разрешение на его возвращение в Англию.
Миссионеры пробыли в Казвине шесть дней. Губернатор прекрасно относился к ним в течение всего этого времени, обеспечив их всем необходимым для путешествия, и дал им двух проводников, ответственных за обеспечение всех их потребностей. Они уехали 20 ноября; Роберт Ширли должен был выехать на следующий день. Расстояние, которые нужно было преодолеть, чтобы прибыть в Исфахан, было около 110 лье. Не преодолев и дня пути, о. Павел-Симон был внезапно охвачен лихорадкой, жар которой лишь увеличивала дорожная усталость. Спустя три дня они прибыли в Саве. Силы бедного отца были исчерпаны; но он отказался останавливаться, настолько большим было его желание дойти до конца своей дорогой миссии. Через два дня они были в Куру. Губернатор этого города проявил внимание к путешественникам; в особенности по отношению к больному: он хотел отправить к нему своего собственного врача. Врач, наблюдавший у отца обострения лихорадки и крайней слабости, отказа от пищи, не посчитал нужным назначать какие-либо средства, потребовав лишь абсолютный покой. Он посоветовал ему переждать пару дней, прежде чем снова отправляться в путь.
В то же время Роберт Ширли, отправившийся в Казвин днем позже, обогнал караван и прибыл в Кашан. Там он ожидал отцов, которые прибыли в этот город 28 ноября, после двух дней дороги, которые были чрезвычайно трудными для Павла-Симона: поскольку он не мог сидеть на лошади, они были обязаны посадить его в одну из корзин, свисающих по обе стороны верблюжьего горба. Они остановились в Кашане лишь для замены вьючных животных. 30 ноября они достигли деревни в четырех лье от Исфахана. Там миссионеры тут же отправили к королю, вернувшемуся в свою столицу несколько дней назад, одного из своих сопровождающих, чтобы доложить Его Величеству о своем прибытии. Шах Аббас ответил, что ждет их.
Они продолжили свой путь до 2 декабря. Едва они прошли полмили пути, как встретили мехмандара, то есть офицера, которому доверено встречать и принимать иностранцев. Эта важная персона была в сопровождении нескольких дворян, а сам Роберт Ширли, который снова был впереди, начиная с Кашана: он похвалил миссионеров от лица короля, а затем встал с другими людьми во главу каравана.
Вскоре они встретили две другие группы, которые опережали наших отцов. Это были, во-первых, все светские европейцы, которые направлялись в Исфахан; а затем монахи-августинцы, обосновавшиеся в этом городе, а именно о. Дидак Св. Анны, настоятель о. Иероним Креста, и о. Кристоф Св. Духа, и о. Бернар Азеведо. Радость охватила всех присутствовавших.
Прибыв к воротам столицы, миссионеры встретили визиря, или префекта города и всей провинции Ирак, который ждал их во главе конвоя из пятидесяти дворян на лошадях. С этим конвоем и всей огромной и любопытной толпой они вошли в Исфахан и сразу же направились в дом, который им приготовили по приказу шаха Аббаса. Это было 2 декабря 1607 года.
Когда все ушли и наши миссионеры остались одни с Августинскими отцами, они передали адресованные для них два письма из Рима, одно от о. Генерального Прокурора нашего ордена, другое от о. Петра Пресвятой Девы Марии. Эти монахи, тронутые плохим состоянием о. Павла-Симона, произвели самые искренние мольбы, чтобы убедить его принять гостеприимство в своем монастыре, где ему окажут самый заботливый уход и более удобное проживание. Больной был убежден и переправился к ним в монастырь на следующий день. На пятый день после того, как он прибыл в их лазарет, к нему прибыл мехмандар, который сообщил им о назначении королевской аудиенции. Отец сказал, что его самым большим желанием было пойти незамедлительно выразить свое почтение королю, но что болезнь заставляет его, к большому сожалению, отложить выполнение этого долга. В связи с этим дело было отложено на неопределенный срок; и больной мог с комфортом лечиться и набирать силы. К концу декабря его здоровье полностью восстановилось. Поскольку 21-го король уехал на охоту, что было обычным поводом несоблюдения поста, предписанного Кораном, у наших миссионеров было достаточно времени, чтобы отпраздновать Рождество с отцами августинцами, препоручив Богу осуществление благих намерений, за которые они вскоре примутся, для его славы и распространения веры.
Однако в Риме не знали, поминать бедных кармелитов как живых или как мертвых; ибо со времени их пребывания в Царицыне от них не было никаких новостей. Кроме того, в каждом монастыре за них были определены молитвы и труды покаяния.
Источники и литература
Источники
Архивные источники
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 30. Документы, касающиеся связей России с государствами иностранными, извлеченные из зарубежных архивов.
РГАДА. Ф. 32. Сношения России с Римской империей. Оп. 1. Книги и дела.
РГАДА. Ф. 77. Сношения России с Персией. Оп. 1. Книги и дела.
РГАДА. Ф. 89. Сношения России с Турцией. Оп. 1. Книги и дела.
Архив СПб. ИИ РАН. Ф. 178. Астраханская приказная палата. Оп. 1.
Зевакин Е.С. История дипломатических и торговых сношений России с Персией в 16–17 веках, 1934 / Архив востоковедов СПб ИВ РАН. Разряд 1. Оп. 6. Ед. хр. 3. Л. 1–67.
Опубликованные на русском и иностранных языках
Аракел Давриджеци. Книга историй. М., 1973.
Белокуров С.А. Разрядные записи за Смутное время (7113-7121 гг.). М.: Имп. О-во истории и древностей рос. при Моск. унте, 1907. 331 с.
Дневник происшествий московских и посольства в Москву пана Н. Олесницкого и его секретаря А. Гонсевского / Пер. с польск., предисл. и прим. Н.Г. Устрялова // Сказание современников о Дмитрии Самозванце. 3-е изд. СПб., 1859. Ч. 2. С. 199–262.
Летописный сборник, именуемый Патриаршей, или Никоновской, летописью // Полное собрание русских летописей (ПСРЛ) / [Воспроизведение текста изд. 1910 г.]. Т. 6. М.: Наука, 1965. 302 с.
Материалы по Смутному времени на Руси XVII века, собранные проф. В.Н. Александренко // Старина и новизна. Исторический сборник. 1911. Кн. 14. С. 266–367.
Новый летописец // ПСРЛ. / [Воспроизведение текста изд. 1910 г.]. Т. 14. М.: Наука, 1965. 286 с.
Россия и Италия. Сборник исторических материалов. СПб.: 1902. 270 с.
Россия и Италия. Сборник исторических материалов и исследований, касающихся сношений России с Италией. [Описи итальянских архивов, документы, отчеты ученого корреспондента Академии наук Евгения Ф. Шмурло]. СПб., Имп. Акад. наук, 1907. 250 с.
Памятники культурных и дипломатических сношений России с Италией. Т. 1. Вып. 1. Л., 1925. 450 с.
Переписка пап с российскими государями в XVI веке, найденная между рукописями в Римской барбериниевой библиотеке. [С предисл. протоиерея Иоанна Григоровича]. Изд. с переводом актов с лат. на рус. яз. СПб.: Импер. Акад. наук, 1834. 116 с.
Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией / Под ред. Веселовского Н.И. В 3 т. СПб., скоропечатня Яблонского и Перота. Т. 1 – Царствование Федора Иоанновича. 1890. 455 с.; Т. 2 – Царствование Бориса Годунова, Василия Шуйского и начало царствования Михаила Федоровича. 1892. 447 с.; Т. 3 – Царствование Михаила Федоровича (продолжение). 1898. 731 с.
Памятники дипломатических сношений Древней России с державами иностранными. Ч. 1. Сношения с государствами европейскими. СПб., II Отд. собств. Е. И. В. Канцелярии, 1851–1871. Т. 1 – Памятники дипломатических сношений с Империей Римской (с 1488 по 1594). 1851. 1620 стлб.; Т. 2 – Памятники дипломатических сношений с Империей Римской (с 1594 по 1621). 1852. 1542 стлб.
Вильям Парри. Проезд чрез Россию Персидского посольства в 1599–1600 г. / Пер. с англ. С. Соколова. М. Университетская типография, 1900. 12 с.
Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в. / Ред. и пер. Годовиковой Л.Н. М.: Издательство МГУ, 1983. 240 с.
Россия и Европа глазами Орудж-бека Байята – Дон Хуана Персидского / Пер. с англ., введ., коммент. и указ. О. Эфендиева, А. Фарзалиева. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. 211 с.
Тектандер Георг. Краткое и правдивое описание путешествия из Праги через Силезию, Польшу, Москву, Татарию к царскому двору в Персию в 1602–1604 гг. Прага, 1908.
Списки дипломатических лиц русских за границей и иностранных при Русском дворе (с начала сношений по 1800 г.). Сост. Сергеем Ал. Белокуровым. Вып. 1. Австро-Венгрия. М.: Тип. Э. Лесснера и Ю. Романа, 1892. 95 с.
Разрядная книга. 1475–1605 / РАН. Ин-т рос. истории. М.: Памятники исторической мысли. 2003. Т. IV. Ч. 2. 143 с.
Сношения России с Кавказом. Материалы, извлеченные из Московского главного архива Министерства иностранных дел Сергеем Ал. Белокуровым. Вып. 1 – 1578–1613. М.: Унив. тип., 1889. 584 с.
Путешествие в Персию. Письма кн. А.Д. Салтыкова. М., 1849.
Письмо Лжедмитрия I Клименту VIII // Русская старина. 1898. № 5. С. 301–311.
Тарих-и алам-ара-йи Амини. [Текст] / Фазлаллах ибн Рузбихан Хунджи / Пер. с перс. на англ., введ., прил. и коммент. В.Ф. Минорского; пер с англ. на рус. Т.А. Минорской. Баку, 1987.
Хожение купца Федота Котова в Персию. М., 1958.
A Chronicle of the Carmelites in Persia Papal Mission of the XVII-th and XVIII-th Centuries. London, Eyre & Spottiswoode, 1939.
Ambassade en Turquie Jean de Gontaut Biron baron de Salignac 1605 a 1610. Correspondance diplomatique et documents inédit (publies et annotés) / Par le Comte Théodor de Gontaut Biron. Paris, editeur: Honorè Chmpion & Alphonse Picard. M DCCC LXXXIX (1887).
Berchet G. La Repubblica di Venezia e la Persia. Torino, 1865.
Historica Russiae Monumenta, ex antiques exterarum gentium ar-chivis et bibliothecis deprompta, ex antiquis exterarum gentium archivis et bibliothecis deprompta, ab A.J. Turgenevio. Т. II. SPb., Typis Eduardi Pratzi, 1842.
Bertold-Ignace de Sainte-Anne. Reverend Père. Histoire de L’Etablissement de la Misson de Perse par les Pères Carmes-Dechausses (de l’année 1604 à 1612); Bruxelle, 1886.
Epistolae et acta Joannis Stephani Ferrerii 1600–1607// Epistulae et Acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628. T. III. Pragae, 1944.
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609): peripecias de una embajada pontificia que fué a Persia a principios del siglo XVII. Pamplona: Ramón Bengaray, 1929–1930.
Promise by Shah’ Abbas of extraterritorial privileges to europeans 1600 // Diplomacy in the Near and Middle East. A Documentary Record 1535–1914. London – New York, 1956. V. I.
Chardin John. Travels in Persia, 1673–1677. Vol. 2. London, 1927.
Литература
Аделунг Ф. Критико-литературное обозрение путешественников по России до 1700 г. и их сочинения, Фридриха Аделенга, увенчанное большою Демидовскою наградою / Пер. с нем. Александра Клеванова. Ч. 1–2. М.: Имп. О-во истории и древностей российских при Моск. ун-те, 1864. 594 с.
Алкадари Г.-Э. Асари-Дагестан. Исторические сведения о Дагестане. Махачкала, 1994.
Арсений (архимандрит). Несколько страниц из истории христианства в Персии // Христианское чтение. № 5–6. 1881.
Бантыш-Каменский Н.Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 г.). Ч. 2 (Германия и Италия). М.: Типография Э. Лисснера и Ю. Романа, 1896. 280 с.
Бартольд В.В. Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира. Баку: Красный восток, Азполигр. ВСНХ, 1925. 150 с.
Он же. История изучения Востока в Европе и России. Лекции, читанные в Университете и в Ленинградском институте живых восточных языков. Изд. 2-е. Л., [Ленингр. ин-т изучения живых вост. яз.], 1925. 318 с.
Бахтин А.Г. Причины присоединения Поволжья и Приуралья к России // Вопросы истории. 2001. № 5. С. 52–72.
Беккер С. Россия и концепт империи // Новая имперская история постсоветского пространства: Сб. ст. (Библиотека журнала «Ab Imperio») / Под ред. И.С. Герасимова, С.В. Глебова, А.П. Каплуновского, М.Б. Могильнер, А.М. Семенова. Казань: Центр Исследований Национализма и Империи, 2004. 656 с.
Белокуров С.А. О Посольском приказе. М.: Имп. О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1906. 170 с.
Он же. Московский архив министерства ин-х дел в 1812 г. М.: Типография В.И. Воронова, 1912. 96 с.
Броневский С.М. Исторические выписки о сношениях России с Персиею, Грузиею и вообще с горскими народами, в Кавказе обитающими, со времен Ивана Васильевича доныне / Подг. текста к изд., предисл., словарь малоизв. слов, указатели И.К. Павловой. СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1996. 240 с.
Броссе М.М. Критический обзор грузинских летописей новейших времен по русским документам / ЖМНП. 1846, № 7–8. С. 1–95.
Босворт К.Э. Мусульманские династии. М., 1971.
Бурдей Г.Д. Русско-турецкая война 1569 г. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1962. 51 с.
Бурдей Г.Д. Восточная Европа и Запад в XVI в. // Международные связи стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы и славяно-германские отношения. [Сборник. Ред. коллегия: В.Д. Королюк (отв. ред.) и др.]. М.: Наука, 1968. С. 28–53.
Бушев П.П. История посольств и дипломатических сношений русского и иранского государств в 1586–1612 гг. М.: Наука, 1976. 457 с.
Гиршберг А. Марина Мнишек. [Историческое исследование]. Рус. пер. с предисл. Андрея Титова. М.: Изд. И.А. Вахрамеева, 1908. 390 с.
Гордлевский В.А. Из религиозной жизни кызылбашей Малой Азии. М., 1916.
Горский А.А. Москва и Орда. М.: Языки славянской культуры, 2000. 182 с.
Греков И.Б. Очерки по истории международных отношений Восточной Европы XIV–XVII веков. М.: Изд. вост. лит., 1963. – 374 с.
Он же. К вопросу о характере политического сотрудничества Османской империи и Крымского ханства в Восточной Европе в XVI–XVII вв. // Россия, Польша и Причерноморье в XV–XVIII веках: Сб. статей / АН СССР; Под. ред. Б.А. Рыбакова. М.: Наука, 1979. С. 299–314.
Гусейнов А.М. Азербайджано-русские отношения XV–XVII веков. Баку: Изд-во АН АзССР, 1963. 238 с.
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: [В 4 т. / Вступ. ст. А.М. Бабкина]. [Репр. изд.]. СПб.: ТОО «Диамант», 1996.
Фархад Дафтари. Традиции исмаилизма в Средние века: Сб. статей. Пер. с англ. М., 2006.
Дворник Ф. Славяне в европейской истории и цивилизации / Пер. И.И. Соколовой. М.: Языки славянской культуры, 2001. 800 с.
Достян И.С., Карасев И.С. Православная церковь и складывание сербской нации // Роль религии в формировании южнославянских наций / Отв. ред. И.В. Чуркина: РАН, Ин-т славян и балканист. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 138–158.
Джавахия Б.А. Из истории ирано-грузинских взаимоотношений (XVI – пер. треть XVII в.): Дис. … канд. ист. наук. Тбилиси, 1987.
Еврейская Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем: В 16 т. СПб., 1906. Т. 1.
Жигарев С.Л. Русская политика в Восточном вопросе. (Ея история в XVI–XIX веках, критическая оценка и будущие задачи). Историко-юридические очерки. Ч. 1. М.: Унив. тип., 1896. 465 с.
Зайцев И.В. Астраханское ханство / И.В. Зайцев; Рос. акад. наук, Ин-т Востоковедения. М.: Восточная литература, 2004. 301 с.
Закарий Канакерци. Хроника / Пер. М.О. Дарбинян-Меликян. (Серия «Памятники письменности Востока». Вып. 24). М.: Наука, 1969.
Зевакин Е.С., Полиевктов М.А. К истории прикаспийского вопроса. Тифлис: ЗакГИЗ, 1933. 41 с.
Зевакин Е.С. Персидский вопрос в русско-европейских отношениях XVII в. // Исторические записки. 1940. № 8. С. 128–162.
Зимин А.А. Россия на пороге нового времени (Очерки политической истории России в первой трети XVI в.). М.: Мысль, 1972. 452 с.
Зонненштраль-Пискорский А.А. Международные торговые договоры Персии. М.: Моск. ин-т востоковедения им. Н.Н. Нариманова при ЦИК СССР, 17-я тип. «Мосполиграф», 1931. 254 с.
Иван Грозный и иезуиты: миссия Антонио Поссевино в Москве: [сборник] / [сост. и предисл. И.В. Курукина, пер. с нем. С.П. Гуждеу, пер. с лат. Л.Н. Годовиковой]. М.: Аграф, 2005. 256 с.
Ивонин Ю.Е. У истоков европейской дипломатии нового времени. Минск: Изд-во «Университетское», 1984. 160 с.
Он же. Имперская идея Габсбургов на Западе и Юго-Востоке Европы в XIV–XVII вв.: два образа политического развития // Славяне и их соседи: Тезисы XIV конференции. М., 1995. С. 76–79.
Он же. Политика Габсбургов в Юго-Восточной Европе в XVI–XVIII веках // Славяне и их соседи: средние века – раннее новое время / РАН, Ин-т славяноведения. М.: Наука; Вып. 9: Славяне и немцы: 1000-летнее соседство: мирные связи и конфликты. М., 1999. С. 152–167.
История внешней политики России: конец XV–XVII век: (от свержения ордынского ига до Северной войны) / Отв. ред. Г.А. Санин: РАН, Ин-т Российской истории. [Изд. 2-е, стереотип.]. М.: Международные отношения, 1999. 446 с.
История Европы. От Средневековья к Новому времени (конец XV – первая половина XVII в.): В 8 т. Т. 3. М.: Наука, 1993. 656 с.
Камбай-Заде Х.А. Государство Сефевидов в восточной политике западноевропейских держав в конце XVI – начале XVII века // Страны Ближнего и Среднего Востока в системе международных отношений. Баку, 1990. С. 21–29.
Каппелер А. Россия – многонациональная империя. М.: Традиция – Прогресс-Традиция, 2000. 344 с.
Каптерев Н.Ф. Характер отношений России к православному Востоку в XVI–XVII столетиях. М.: Тип. Л.Ф. Снегирева, 1885. 580 с.
Карамзин Н.М. История государства Российского: В 3 кн. Т. 7–12. СПб., 1831.
Карданов И.Э. Из истории отношений между адыгскими народами и Россией в XVI веке. Нальчик: Эльбрус, 1972. 164 с.
Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви: В 2 т. Т. 1. М.: Терра, 1997. 688 с.; Т. 2. 1997. 576 с.
Книпович Н.М. Каспийское море и его промыслы. Берлин; Пб.; М.: З.И. Гржебин, 1923. 87 с.
Кобеко Д.Ф. Волошский воевода Степан Александрович // Известия русского генеалогического общества. 1911. Вып. 4. С. 31–34.
Корбен А. История исламской философии. М.: Прогресс-Традиция, 2010. 360 с.
Королев В.Н. Босфорская война. Ростов-на-Дону, 2002.
Королевство Венгрия и Трансильвания во время войны Османов с Габсбургами. М., 1994.
Котова Е.В. Династия Габсбургов // Новая и новейшая история. 1991. № 4. С. 138–153.
Кузнецов А.Б. Дипломатическая борьба России за безопасность южных границ (первая половина XVI в.). Минск: изд-во «Университетское», 1986. 135 с.
Кушева Е.Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией. Вторая половина XVI – 30-е годы XVII в. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1963. 371 с.
Лаппо-Данилевский А. Из старинных сношений России с Западной Европой // ЖМНП. СПб., 1884. Ч. CCXXXIII. С. 21–38.
Лашков Ф.Ф. Памятники дипломатических сношений Крымского ханства с Московским государством в XVI и XVII веках, хранящиеся в Московском главном архиве Министерства иностранных дел. Симферополь: Тип. газ. «Крым», 1891. 206 с.
Лобанов Н.А. Новые документы по истории русско-немецких отношений начала XVII века. 1604–1654 гг. Венский Государственный архив // Новая и новейшая история. 2002. № 1. С. 202–208.
Лурье Я.С. Новые данные о посольстве Сугорского и Арцыбашева в 1576 г. // Исторические записки. 1948. Т. 27. С. 291–300.
Он же. Вопросы внутренней и внешней политики в посланиях Ивана Грозного // Послания Ивана Грозного / Подготовка текста Д.С. Лихачева и Я.С. Лурье. Перевод и комментарии Я.С. Лурье. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. С. 492–551.
Он же. Русско-английские отношения и международная политика второй половины XVI в. // Международные связи России до XVII в.: Сб. ст. [Ред. коллегия: доктора ист. наук А.А. Зимин, В.Т. Пашуто]. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1961. С. 419–443.
Лэн-Пуль Ст. Мусульманские династии: Хронологические и генеалогические таблицы с историческими введениями / Стэнли Лэн-Пуль; пер. с англ. с прим. и доп. В.В. Бартольда. Перепеч. с изд. 1899 г. М.: Вост. Лит., 2004. 311 с.
Магилина И.В. Россия и проект антиосманской лиги в конце XVI – начале XVII в. /Текст/: монография/ И.В. Магилина; Ин-т славяноведения РАН. Волгоград: МИРИА, 2012. 372.
Макушев В.В. Восточный вопрос в XVI–XVII веках. (По неизданным Итальянским памятникам) //Славянский сборник. Т. 3. СПб., 1876. С. 1–39.
Махмудов Я.М. Взаимоотношения государств Ак-Коюнлу и Сефевидов с западными странами (II половина XV – нач. XVII в.). Баку: Изд-во Бакин. ун-та, 1991. 262 с.
Медведева К.Т. Австрийские Габсбурги и сословия в начале XVII века. М.: Индрик, 2004. 280 с.
Международные связи России в XVII–XVIII вв. (Экономика, политика, культура): Сб. статей. [Ред. коллегия: Л.Г. Бескровный и др.]. М.: Наука, 1966. 506 с.
Международные связи стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы и славяно-германские отношения [Сборник / Ред. коллегия: В.Д. Королюк (отв. ред.) и др.]. М.: Наука, 1968. 326 с.
Мейер М.С. Основные этапы ранней истории русско-турецких отношений // Османская империя: проблемы внешней политики и отношений с Россией: Сб. ст. / Рос. Акад. наук, Ин-т востоковедения: [Отв. ред. и авт. предисл. С.Ф. Орешкова]. М.: ИВ, 1996. С. 44–116.
Минорский В.Ф. Материалы для изучения персидской секты «Люди Истины» – «Али-Иллахи». М., 1911.
Мутаххари М. Иран и ислам: история взаимоотношений / Пер. с перс., примеч. М. Махшулова]. СПб., 2008.
Накашидзе Н.Т. Грузино-русские политические отношения в первой половине XVII века. Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1968. 289 с.
Наумов Е.П., Арш Г.Л., Достян И.С., Виноградов В.Н. Балканы в международной жизни Европы (XV–XIX вв.) // Исторические и историко-культурные процессы на Балканах. [Сб. ст.] / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики. М.: Наука, 1982. С. 42–66.
Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII века. М.; Л., 2-я тип. Изд-ва Акад. наук СССР, 1948. 448 с.
Новосельцев А.П. Русско-иранские политические отношения во второй половине XVI в. // Международные связи России до XVII в. Сборник статей. [Ред. коллегия: доктора ист. наук А.А. Зимин, В.Т. Пашуто]. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1961. С. 444–461.
Он же. Освободительная борьба народов Закавказья в XVI–XVII вв. // Вопросы истории. М., 1969. С. 70–83.
Он же. Русско-иранские отношения в первой половине XVII в. // Османская империя в первой четверти XVII века: Сб. документов и материалов / Сост. Х.М. Ибрагим-бейли, Н.С. Рашба и др; [Пер. А.Н. Гаркавца и др.; Отв. ред. М.С. Мейер]. М.: Наука, 1984. С. 21–28.
Османская империя: проблемы внешней политики и отношений с Россией: Сб. ст. / Рос. Акад. наук, Ин-т востоковедения [Отв. ред. и авт. предисл. С.Ф. Орешкова]. М.: ИВ, 1996. 246 с.
Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XVII в. (Главные тенденции политических взаимоотношений) / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения и балканистики; [Редкол.: Акад. РАН Г.Г. Литаврин (отв. ред.) и др.]. М.: Памятники исторической мысли, 1998. 286 с.
Петрушевский И.П. Государства Азербайджана в XVI веке // Сборник по истории Азербайджана. Вып. I. Баку, 1949.
Он же. Азербайджан в XVI–XVII вв. // Сб. ст. по истории Азербайджана. Вып. 1. Баку, 1949.
Пигулевская Н.В., Якубовский А.Ю., Петрушевский И.П., Строева Л.В., Беленицкий А.М. История Ирана с древнейших времен до конца XVIII века. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1958. 540 с.
Пинегин М.Н. Казань в ее прошлом и настоящем: очерки по истории, достопримечательностям и современному положению города, с приложением кратких адресных сведений / Сост. М. Пинегин. СПб., 1890. 604 с.
Пирлинг П. Восточная идея Поссевино // Пирлинг П. Из смутного времени. Статьи и заметки. СПб.: Издание А.С. Суворина, 1902. 57 с.
Он же. Николай Мело, «Гишпанской земли» чернец // Русская старина. 1902. № 5. С. 303–312.
Он же. Марина Мнишек после майского погрома // Русская старина. 1903. № 2. С. 235–258.
Он же. Россия и папский престол. М., 1912.
Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995.
Полиевктов М.А. Экономические и политические разведки Московского государства XVII века на Кавказе. Тифлис: Науч. – исслед. ин-т кавказоведения Акад. наук СССР, 1932. 54 с.
Он же. Европейские путешественники по Кавказу в XIII–XVIII веках. Тифлис: 1-я тип. Сахелгани, 1935. 221 с.
Рамазанов Х.Х., Шихсаидов А.Р. Очерки политической истории Южного Дагестана: Материалы к истории народов Дагестана с древнейших времен до начала XIX в. Махачкала, 1964.
Рогожин Н.М. Россия XVI–XVII вв. в системе международных отношений западноевропейского региона по материалам посольских книг // Россия в мировом политическом процессе. М., 1997. С. 14–19.
Россия и черноморские проливы (XVII–XX столетия) / Ин-т рос. истории РАН; Отв. ред. А.Н. Нежинский, А.В. Игнатьев. М.: Международные отношения, 1999. 556 с.
Савва В.И. Московские цари и византийские басилевсы. Харьков. Тип. и лит. Зильберберг и сыновья, 1901. 400 с.
Он же. О Посольском приказе в XVI веке. Харьков, тип. Т-ва потреб. о-ва юга России, 1917. 401 с.
Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV–XVI вв.). М., 1998. 410 с.
Синюхаев Г. Марина Мнишек и шах Аббас I // Русская старина. 1903. Т. 9. С. 155–161.
Скрынников Р.Г. Борис Годунов. М.: Наука, 1978. 192 с.
Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты. В 2 т. М., 2005.
Смирнов И.И. Восточная политика Василия III // Исторические записки. 1948. Т. 27. С. 18–66.
Смирнов Н.А. Россия и Турция в XVI–XVII веках: В 2 т. М.: МГУ, 1946. Т. 1. XVI – 158 с. Т. 2. XVII. – 172 с.
Он же. Политика России на Кавказе в XVI–XIX веках. М.: Соцэкгиз, 1958. 244 с.
Соловьев С.М. Сочинения: В 18 кн. Кн. 4: История России с древнейших времен. 1584–1613. Т. 7–8. М.: Мысль, 1989. 960 с.
Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка: В 3 т. / [Предисл. Г.А. Богатовой] – Репринт. изд. М.: Книга, 1989.
Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 1. СПб., 1884. 588 с.
Тимощук В.В. Россия и папский престол в 1580–1601 гг. // Русская старина. 1903. Т. 114. С. 209–240, 444–466.
Толстой Д. Римский католицизм в России. Историческое исследование гр. Дмитрия А. Толстого: В 2 кн. СПб.: В.Ф. Демаков, Т. 1. 1876. 538 с.
Трепавлов В.В. Статус «Белого царя»: Москва и татарские ханства в XV–XVI вв. // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. М., 1993. С. 45–63, 154.
Он же. История Ногайской Орды / В.В. Трепавлов; РАН, Ин-т рос. истории. М.: Восточная литература, 2001. 752 с.
Туманович Н.Н. Европейские державы в Персидском заливе в 16–19 вв. М.: Наука, 1982. 190 с.
Тюменцев И.О. Смута в России в начале XVII столетия: Движение Лжедмитрия II / ВолГУ; НИИ проблем эконом. истории России XX века при ВолГУ. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1999. 582 с.
Тюменцев И.О., Свиридонова В.П. Описание путешествия монахов по Волге в 1606–1607 годах (главы из «Хроники кармелитов») // Стрежень. Научный ежегодник / Под. ред. М.М. Загорулько. Вып. 2. Волгоград: Издатель, 2000. С. 390–422.
Ульяновский В. Смутное время. М.: Издательство «Европа», 2006. 448 с.
Успенский Ф.И. Как возник и развивался в России «Восточный Вопрос». СПб., С.-Петерб.: Славянск. Благотворительное о-во, 1887. 68 с.
Фарзалиев А., Мамедова Р. Сефевиды и Великие Моголы в мусульманской дипломатике. СПб.: Фил. фак. СПбГУ, 2004. 145 с.
Филюшкин А.И. Титулы русских государей. М.: СПб.: Альянс-Архео, 2006. 256 с.
Финкель К. История Османской империи. М., 2010.
Флоря Б.Н. Русско-австрийские отношения на рубеже XVI–XVII вв. (посольство Афанасия Власьева в Империю) // Международные связи стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы и славяно-германские отношения [Сборник. Ред. коллегия: В.Д. Королюк (отв. ред.) и др.]. М.: Наука, 1968. С. 54–80.
Он же. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI – начале XVII века / Б.Н. Флоря; АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики. М.: Наука, 1978. 300 с.
Он же. Проект антитурецкой коалиции в русской внешней политике 70-х гг. XVI в. // Социально-экономическая и политическая история Юго-Восточной Европы до середины XIX в. Кишинев, 1980. С. 118–132.
Фодор П. Идеологическое обоснование османских завоеваний (XIV–XVI века) // Османская империя: проблемы внешней политики и отношений с Россией: Сб. ст. / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения [Отв. ред. и авт. предисл. С.Ф. Орешкова]. М.: ИВ, 1996. С. 5–34.
Хорошкевич А.Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV – начала XVI в. М.: Наука, 1980. 298 с.
Он же. Россия в системе международных отношений середины XVI века. М.: Древнехранилище, 2003. 622 с.
Чаев Н.С. «Москва – Третий Рим» в политической практике Московского правительства в XVI веке // Исторические записки. 1945. Вып. 17. С. 3–23.
Шапсал С. Мусульманские святые в художественном изображении шиитов Персии. М., 1911.
Шахмалиев Э.М. К вопросу о дипломатических сношениях первых Сефевидов с западными странами // Труды Азербайджанского государственного университета, серия истории и философии. 1950. № 4. С. 51–67.
Шмидт С.О. К характеристике русско-крымских отношений второй четверти XVI в. // Международные связи России до XVII в. Сб. ст. [Ред. коллегия: доктора ист. наук А.А. Зимин, В.Т. Пашуто]. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1961. С. 39–52.
Он же. Восточная политика России накануне «Казанского взятия» // [Щербатов М.М.] История Российская от древнейших времен, сочиненная князем Михаилом Щербатовым: В 7 т. СПб., 1791. Т. 6–7. 418 с.
Эфендиев О.А. Дон Хуан Персидский или Орудж-бек Байят // Известия АН АзССР. Серия истории, философии и права. 1966. № 2. С. 63–68.
Он же. Азербайджанское государство Сефевидов в XVI веке. Баку, 1981.
Ambrosini M.L. The Secret archives of the Vatican. Boston-Toronto, 1969.
Bayani K. Les relation de l’Iran avec l’Europe occidentale à l’époque Safavide (Portugal, Espagne, Angleterre, Holland et France); (avec documents inédita). Paris, 1937.
Bellan L.L. Chah Abbas.: Sa vie, son histoire. Paris, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1932. 152 Р.
Blow D. Shah Abbas: London, 2009.
Pedro Ortega García, Juan Tadeo de San-Eliseo (1574–1634)// KALAKORIKOS, 2012, 17. P. 161–183.
Grenard M.F. Une secte religieuse d’Asie Mineure. Les Kysyl-Bâchs. // Journal Asiatique. Série X, T. III, № 3 mai-juin, 1904.
Iran and the World in the Safavid Age (International Library of Iranian Studies) (1st Edition) // by Willem Floor, Edmund Herzig // Hardcover. 2009. Р. 400.
Ferrier R.W. The European diplomacy of the Shah Abbas and the first Persian embassy to England // Iran journal of the British Institute of Persian Studies. London, 1973. Vol. XI. P. 75–92.
Fischer A. «Qyzyl elma», die Stadt (das Land) der Sehnsucht der Osmanen. // The Royal Central Asian Society. 1931. Vol. XVIII. P. 170–174.
Gronke M. Derwische im Vorhof der Macht. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Nordwestirans im 13. und 14. Jahrhundert. Stuttgart, 1993.
Hammer J. de. Histoire de l’Empire Ottoman. Paris, MDCC–CXXXVI (1886). V. II.
Janacek J. Pad Rudolfa II. Praha, Mlada Fronta, 1973. 220 S.
Kolodziejczyk D. Polen und die Osmanen im 17. Jahrhundert / Polen und Österreich im 17. Jahrhundert // Hrsg. von Leitsch W., Ttawkowski S. – Wien etc.: Böhlau, 1999. 294 S.: Diagr. – (Wiener Archive für Geschichte des Slawentums und Osteuropas; Bd. 18).
Krahmer G. Die Beziehungen Rüßland zu Persien // Rüßland in Azien. Band. VI. Leipzig, 1906.
Edem. Moskau und die Politik des Kaiserhofes im XVII Jahrhundert (1604–1654). Graz-Köln, 1960.
Leisch W. Wiener Archive fur Geschichte des Slawentums und Osteuropas. Bd. 18. Wien, 1999.
De Leva G. La legazione di Roma di Paolo Paruta (1592–1595). Documenti storici publicati dall R. Deputazione di stiria Patria! Venedig, 1887. Vol. VII. 192. Lockhart L. The fall of the Safavi Dinasty and the Afghan occupation of Persia. Cambridge, 1958.
Malcolm J. Histoire de la Perse. V. II. Paris, 1821.
Matousek J. Tureskà vàlka v evropské politice v letach 1592-1594, Obrazs z dejin diplomacie protireformacni. Praha, 1935.
Mahmoud Afshar. La politique européenne en Perse. Quelques pages de l’histoire diplomatique. Berlin, 1921.
Rudi Matthee. Iran’s Relations with Europe in the Safavid Period: Diplomats, Missionaries, Merchants and Travel // The fascination of Persia: the Persian-European dialogue in seventeenth-century art & contemporary art from Tehran / edited by Axel Langer; [translations, Tradukas GbR, Nancy Atakan] Zürich: Verlag Scheidegger & Spiess AG, 2013 (6–40).
Moreen V.B. Iranian Jewry’s Hour of Peril and Heroism. New York, 1987.
Niederkorn J.P. Die europäischen Mächte und der «Lange Türkerkrieg» Kaiser Rudolf II (1593–1606). Wien, 1993.
Newman A.J. Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire. London, 2006.
Palombin Barbara von. Bündniswerben abendländischer Mächte um Persien 1453–1600. Wiesbaden, Franz Steiner Verlag GMBH, 1968. 138 S.: Diagr. – (Freiburger Islamstudien 1).
La Persia e la repubblica di Venezia. Tehran. 1973.
Pirling P. Papes et tsars (1547–1597): D’après des documents nouveaux. Paris, 1890.
Edem. Un missionnaire diplomate au seizième siècle // Revue du monde catholique. Paris, 1894. T. XXIV.
Edem. Lettre du Dmitri dit le faux à Clement VIII. Paris, 1898.
Edem. La Russie et le saint-siège. Etudes diplomatiques. T. I, T. II, T. III. Paris, 1896–1901.
Rassmussen K. On the Information Level of the Muscovite Posolkij Prikas in the Sixteenth Century// Forschungen fur Östeuropaischi Gecshishte. Wiesbaden, 1978. Bd. 24. S. 87–99.
Rouillard C.D. The Turk in French History, Thought and Literature (1520–1660). Paris, 1935.
Sardari R. Un chapitre de l’histoire diplomatique de l’Iran. (Les Traités entre l’Iran et la Russie depuis le XVI siècle jusqu’à 1917). Paris, 1941.
Smolka S. Projét d’une ligue contre les Turcs en 1583. Cracovie, Publications de l’Académie des Sciences, 1890.
Stloukal K. Das Projekt einer internationalen paneuropaschen Liga mit Persien aus dem Ende des 16 Jahrhunderts. Persica I. (1963-1964).
Storia politica d’Italiano. Preponderanza spagnuola (1559–1700). Mulano, 1950.
Vocelka K. Die politische Propaganda Kaiser Rudolf II (1576-1612). Wien, 1981.
Edem. Rudolf II und seine Zeit. Wien-Köln-Graz: Böhlau, 1985. 228 s.
Uebersbergers H. Österreich und Rußland seit dem Ende des 15 Jahrhunderts. Bd. 1: 1488–1605. Wien u Leipzig, Braumüller, 1906. 584 s.
Вклейка
Преподобный о. Павел-Симон
Преподобный о. Иоанн-Фаддей
Энтони Ширли
Роберт Ширли
Борис Годунов
Лжедмитрий I
Папа Павел V
Папа Климент VIII
Рудольф II
Шах Аббас
Хуссейн Али-бек
Мехди Кули-бек
Зайнуль Абдин-бек Шамлу
Сноски
1
Понятие «коалиция» и «лига» тождественны, но имеют качественное различие. Лига – это объединение (союз) организаций или государств, коалиция предполагает заключение союза между государствами для достижения определенной цели. В данном случае коалиция создавалась для борьбы с Османской империей. В документации XVI в. чаще употребляется термин «лига», хотя по практическому содержанию антитурецкий союз представляет собой именно «коалицию».
(обратно)2
Термин см.: Хорошкевич А.Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. М., 2003. С. 559.
(обратно)3
Если не считать находившихся в 1606 г. в Москве послов короля Речи Посполитой Сигизмунда III Васа Николая Олесницкого и Александра Гонсевского. Но польских послов скорее можно назвать не свидетелями, а участниками событий Смуты.
(обратно)4
Бертольд родился в 1156 г. в Салиньяке южнее Лиможа, на границе с испанской Калабрией. Поселился в качестве отшельника на горе Кармель. В 1185 г. он был главой проживавшей там группы отшельников, из которой, после 1200 г., образовался орден кармелитов. Умер в 1195 г., и его мощи покоятся в руинах монастыря крестоносцев в Вади-ле-Сиа. Таким образом, официальное оформление общины отшельников в орден произошло уже после смерти его основателя в 1196 г.
(обратно)5
На латыни «Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo».
(обратно)6
Нищий религиозный орден целиком зависит от милостыни людей на средства к существованию. Такие ордена не имеют какой-либо собственности, ни частной, ни общественной, и принимают обет бедности с целью посвятить всю свою энергию и время религиозной работе.
(обратно)7
Тереза Санчес Сепеда Давила и Аумада – святая Тереза Авильская (1515–1582) – испанская монахиня-кармелитка, католическая святая, автор мистических сочинений, реформатор кармелитского ордена, создатель орденской ветви босоногих кармелиток. Провозглашена католической церковью «Учителем Церкви». Хуан де Епес Альварес – святой Хуан де ла Крус (Иоанн Креста) (1542–1591) – христианский мистик, писатель и поэт, реформатор ордена кармелитов. Провозглашен католической церковью «Учителем Церкви».
(обратно)8
Ordo Fratrum Diacalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo.
(обратно)9
Климент VIII (1536–1605), в миру Ипполито Альдобрандини – папа римский с 30 января 1592 по 3 марта 1605 г.
(обратно)10
Церковь была построена на месте полуразрушенной лачуги древнеримских времен после того, как на лестнице, точнее, на ступенях стал проявляться образ Богородицы. В настоящее время эта церковь – одно из основных мест паломничества верующих христиан в Риме, наряду с собором Святого Петра.
(обратно)11
Iran and the World in the Safavid Age (International Library of Iranian Studies) (1st Edition) // by Willem Floor, Edmund Herzig // Hardcover. Р. 400, 2009.
(обратно)12
Rudi Matthee (6–40) Iran’s Relations with Europe in the Safavid Period: Diplomats, Missionaries, Merchants and Travel // The fascination of Persia: the Persian-European dialogue in seventeenth-century art & contemporary art from Tehran / edited by Axel Langer; [translations, Tradukas GbR, Nancy Atakan] Zürich: Verlag Scheidegger & Spiess AG, 2013.
(обратно)13
A Chronicle of the Carmelites in Persia Papal Mission of the XVII-th and XVIII-th Centuries. London, Eyre & Spottiswoode, 1939. Издательский дом I.B. Tauris, со штаб-квартирами в Лондоне и Нью-Йорке, ставит своей целью заполнить прорыв, существующий между коммерческими и университетскими издательствами, то есть публиковать серьезные, но доступные широкой читательской аудитории книги на темы международной политики и культуры.
(обратно)14
Berthold-Ignace de Sainte-Anne. Reverend Père. Histoire de L’Etablissement de la Mission de Perse par les Pères Carmes-Dechausses (de l’année 1604 à 1612); Bruxelle, 1886.
(обратно)15
Тюменцев И.О., Свиридонова В.П. Описание путешествия монахов по Волге в 1606–1607 годах (главы из «Хроники кармелитов») // Стрежень. Научный ежегодник / Под. ред. М.М. Загорулько. Вып. 2. Волгоград: Издатель, 2000. С. 390–422.
(обратно)16
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609): Peripecias de una embajada pontificia que fué a Persia a principios del siglo XVII. Pamplona, 1929–30.
(обратно)17
Наумов Е.П., Арш Г.Л., Достян И.С., Виноградов В.Н. Балканы в международной жизни Европы XV–XIX вв. // Исторические и историко-культурные процессы на Балканах. М., 1982. С. 42.
(обратно)18
Дословно «золотое яблоко» – обозначало мировую державу и являлось, наряду со скипетром, неотъемлемой частью инсигний византийских императоров. Но у османов «кызыл эльма» имело еще одно значение – «земля обетованная», расположенная на западе. По древним преданиям: «Наш император сразится, Он захватит страну язычников (христиан), и Кызыл Эльма (земля обетованная) будет им захвачена и завоевана». Первоначально земля обетованная была Константинополем, но после его завоевания «кызыл эльма» стала превращаться в Рим. См.: Fischer A. «Qyzyl elma», die Stadt (das Land) der Sehnsucht der Osmaiien // The Royal Central Asian Society. 1931. Vol. XVIII. P. 170–174.
(обратно)19
Фодор П. Идеологическое обоснование османских завоеваний в XIV–XVI веках // Османская империя: проблемы внешней политики и отношений с Россией: Сб. ст. М., 1996. С. 28–30.
(обратно)20
Греков И.Б. Очерки по истории международных отношений Восточной Европы XIV–XVII веков. М., 1963. С. 23.
(обратно)21
Термин «крестовый поход» фигурирует в источниках до конца XVII в. См.: Stloukal K. Das Projekt einer internationalen paneuropaschen Liga mit Persien aus dem Ende des 16 Jahrhunderts. Persica I. (1963–64). S. 42.
(обратно)22
Франко-габсбургские войны (1494–1559); противостояние в 30-х гг. XVI в. между императором Карлом V – светским главой католического мира и римскими понтификами – духовно-идеологическими лидерами Европы; Реформация, которая закончилась в 1555 г. религиозным и, как следствие, политическим переделом Европы. Только в 1559 г., после подписания мира в Като-Камбрези, вопрос об антитурецкой лиге начинает приобретать реальные очертания. См.: История Европы. От Средневековья к Новому времени (конец XV – первая половина XVII в.). М., 1993. Т. 3. С. 388–411.
(обратно)23
Римская курия обладала флотом в 35 галер, на содержание каждой галеры в год уходило 300 тысяч золотых. См: Smolka S. Projét d’une ligue contre les Turcs en 1583. Cracovie, 1890. Р. 43.
(обратно)24
Филипп II сам выразил свое отношение к лиге, во время переговоров с послами своего дяди, императора Священной Римской империи Максимилиана II: «Лига соответствует тому, что Его Католическое Величество всегда желало и желает в настоящее время и надеется на Бога, тем более что Его Святейшество приложило к этому делу свою руку». И далее: «Если ему (Филиппу II) представится возможность равная его желанию принести пользу и услужить императору, то он сделает это с большой охотой, как он это делал всегда, как мог и будет делать это… не нанося вреда самому себе и тем делам, которые ему послал Бог». См.: 1576. декабря 8. Ответ его католического величества послам императора И. Кювенхюллеру и В. Румпфу // Шмурло Е.Ф. Россия и Италия. Пг., 1915. Т. III. Вып. 2. С. 325–327.
(обратно)25
Испанский посланник в Венеции граф де Куэва следующим образом характеризовал венецианскую политику: «Венецианцы верили, что могли каждое вредное для них решение турок нивелировать определенной суммой золотых, прежде всего они заручались расположением и благосклонностью Великого Визиря, посредством того, что порочили в его глазах других христианских князей, а себя представляли единственными, кому турки могли доверять». Цит. по: Niederkorn J. P. Die europäischen Mächte und der «Lange Türkerkrieg» Kaiser Rudolf II (1593–1606). Wien, 1993. S. 295.
(обратно)26
De Leva G. La legazione di Roma di Paolo Paruta (1592-1595). Documenti storici publicati dall R. Deputazione di stiria Patria! Venedig, 1887. Vol. VII. P. 190–191.
(обратно)27
Leitsch W. Moskau und Politik des Kaiserhofes im XVII. Jahrhundert. I. Teil, 1604–1654. Graz-Koln, 1960. S. 265.
(обратно)28
Медведева К.Т. Австрийские Габсбурги и сословия в начале XVII века. М., 2004. С. 7.
(обратно)29
Niedercorn J.P. Op. cit. S. 37.
(обратно)30
Первый договор о торговых привилегиях был заключен между Сулейманом Кануни и Франциском I в 1536 г. В 1543 г. Франция открыто выступила против Карла V в союзе с османами. Знаме нитая франко-османская морская операция, когда турецкий флот, зайдя в Марсель и соединившись с французами, нанес поражение императору Карлу V под Ниццей. См.: История Европы. Указ. соч. С. 301.
(обратно)31
Туманович Н.Н. Европейские державы в Персидском заливе в 16–19 вв. М., 1982. С. 27–28.
(обратно)32
Современные польские османисты подчеркивают, что договор 1533 г. между польским королем Сигизмундом I Старым и султаном Селимом I был заключен на три года раньше, чем договор между Сулейманом и Франциском I от 1536 г. См.: Kolodziejczyk D. Polen und die Osmanen im 17. Jahrhudert // Wiener archive fur Geschichte des slawentums und osteuropas: Band. XVIII. Vein, 1999. S. 261.
(обратно)33
Максимилиан II, Иван IV в переписке открыто называли Стефана Батория «турецким посаженником». См.: Kolodziejczyk D. Op. cit. S. 262.
(обратно)34
Успешные военные кампании Сулеймана Великолепного привели к тому, что Венгрия в 1547 г. была разделена на три части: Трансильванское княжество – вассал Османской империи; Средняя Венгрия, на территории которой османы образовали Будайский пашалык; Западная Венгрия, входила в состав Священной Римской империи. Стефан Баторий был внуком Яноша Заполь и, получившего Трансильванию из рук султана Сулеймана. См.: Дворник Ф. Славяне в европейской истории и цивилизации. М., 2001. С. 295.
(обратно)35
Баторий просил у папы «необходимые средства для похода против Москвы – 200 тысяч золотых дукатов». Всю кампанию Баторий собирался осуществить за три года, силами 24 тысяч кавалерии и пехотинцев. См.: Pirling P. La Russie et le Saint-Siège. Etudes diplomatiques. Paris, 1897. Vol. II. P. 414–415.
(обратно)36
Stloukal K. Das Projekt einer internationalen paneuropaschen Liga mit Persien aus dem Ende des 16 Jahrhunderts. Persica I. (1963–1964). S. 78–79.
(обратно)37
Позицию Филиппа II можно уяснить из депеши Поссевино кардиналу Коменчи: «…необходимо отвлечь короля Польши от этих замыслов другими заботами и направить его энергию против турка». См.: Possevinus card. Comensi. Pragae 6 novembris 1584 // Monumenta Poloniae Vaticano. Cracoviae, 1950. T. VII. P. 492–493. Позднее, в 1585 г. в депеше кардиналу Комо Поссевино изложил подробный план действий, которые намеревался осуществить Баторий. Это единственный документ, в котором письменно отражены планы Батория по «захвату Кремля». См.: № 256. 1585 г. Февраля 17. Краков. Депеша А. Поссевино кардиналу Комо // Россия и Италия. Сборник исторических материалов СПб., 1902. Т. II. С. 213.
(обратно)38
Дворник Ф. Славяне в европейской истории… С. 534.
(обратно)39
Smolka S. Op. cit. P. 51.
(обратно)40
Smolka S. Op. cit. P. 56.
(обратно)41
Palombin Barbara von. Bündniswerben abendländischer Mächte um Persien 1453–1600. Wiesbaden, 1968. S. 126.
(обратно)42
Ак-Коюнлу – «Белые бараны», в отличие от Кара-Коюнлу – «Черных баранов» – конфедерация туркменских племен, именуемых по изображению тотема на знамени. Под туркменскими племенами следует понимать тюрок-огузов, которые тесно соприкасались с Византией с XIV в. Брачные связи правителей Ак-Коюнлу с Комнинами, а затем с правящей в Трапезунде династией Палеологов были на протяжении двух столетий весьма тесными. См.: Босворт К.Э. Мусульманские династии. М., 1971. С. 223.
(обратно)43
Пигулевская Н.В., Якубовский А.Ю., Петрушевский И.П., Строева Л.В., Беленицкий А.М. История Ирана с древнейших времен до конца XVIII века. Л., 1958. С. 94.
(обратно)44
Palombin B. Op. cit. S. 20.
(обратно)45
Berchet G. La Repubblica di Venezia e la Persia. Torino, 1865. Р. 100–113.
(обратно)46
Махмудов Я.М. Взаимоотношения государств Ак-Коюнлу и Сефевидов с западными странами (II половина XV – начало XVII в.). Баку, 1991. С. 56.
(обратно)47
Жигарев С.Л. Русская политика в Восточном вопросе (Ее история в XVI–XIX веках, критическая оценка и будущие задачи). Историко-юридические очерки. М., 1896. Ч. 1. С. 22.
(обратно)48
Чаев Н.С. «Москва – Третий Рим» в политической практике московского правительства XVI века // Исторические записки. 1945. Т. 17. С. 12.
(обратно)49
Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции (XV–XVI вв.). М., 1998. С. 189, 242–243.
(обратно)50
Успенский Ф.И. Как возник и развивался в России «Восточный Вопрос». СПб., 1887. С. 34, 57.
(обратно)51
1505 – Ю. Кантингер; в 1506 – он же; 1509 – ганзейские купцы, доставившие грамоту императора; 1513 – Ю. Шнитценпаймер, 1514 – Я. Ослер и М. Бургштеллер (по результатам этих посольств между Василием III и Максимилианом I был заключен договор «о дружбе и союзе»; 1515 – вновь Шнитценпаймер, а затем некий Пантелеймон и гонец В. Эдер; 1516 – С. Герберштейн, П. Мракси и И. фон Турн; 1517 – послы императора Франц, Яков и Владимир; 1518 – Ф. да Колло, А. де Конти и И. фон Турн; 1518 – Я. Христоф; 1521–1522 – посол императора Бартоломей; 1523-1524 – вновь А. де Конти; 1525 – граф Л. Нугароль и вновь С. Герберштейн. См.: Списки дипломатических лиц русских за границей и иностранных при Русском дворе (с начала сношений по 1800 г.) / Сост. С.А. Белокуровым. Вып. 1. Австро-Венгрия. М., 1892. С. 11–12. Главным вопросом обсуждения на переговорах между Империей и Русским государством были враждебные отношения с Литвой и Польшей. Империя выступала посредником на переговорах между Москвой и Литвой. Важно, что вопрос мира между Москвой и Литвой увязывался имперскими дипломатами с возможностью участия Московского государства в антитурецкой коалиции.
(обратно)52
Лев X – Джованни де Медичи (1513–1521).
(обратно)53
Бантыш-Каменский Н.Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 г.). М., 1896. Ч. 2. С. 268.
(обратно)54
Греков И.Б. Очерки по истории международных отношений… С. 252.
(обратно)55
Греков И.Б. Очерки по истории международных отношений… С. 249; Хорошкевич А.Л. Русское государство в системе международных отношений в конце XV – начале XVI века. М., 1980. С. 215; Мейер М.С. Основные этапы ранней истории русско-турецких отношений // Османская империя: проблемы внешней политики. Указ. соч. С. 44–116.
(обратно)56
Письмо Альберто Кампензе к Его Святейшеству папе Клименту VII о делах Московии // Библиотека иностранных писателей о России / Сост. Семенов В. СПб., 1836. Т. I. С. 87.
(обратно)57
Письмо Альберто Кампензе к Его Святейшеству папе Клименту VII о делах Московии // Библиотека иностранных писателей о России / Сост. Семенов В. СПб., 1836. Т. I. С. 88.
(обратно)58
Смирнов И.И. Восточная политика Василия III // Исторические записки. 1948. Т. 27. С. 18.
(обратно)59
Хорошкевич А.Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV – начала XVI в. М.: Наука, 1980. С. 174.
(обратно)60
Греков И.Б. Очерки по истории международных отношений… С. 243–244; Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XVII в. М., 1998. С. 143–144.
(обратно)61
Некрасов А.М. Международные отношения и народы Западного Кавказа в последней четверти XV – первой половине XVI века. М., 1990. С. 89.
(обратно)62
Смирнов И.И. Указ. соч. С. 45.
(обратно)63
Карданов И.Э. Из истории отношений между адыгскими народами и Россией в XVI веке. Нальчик, 1972. С. 33. Стоит отметить, что сложившаяся ситуация целиком и полностью отвечала интересам крымских татар. Выполняя волю своего сюзерена, крымские ханы удовлетворяли и собственные потребности, так как основу экономики Крыма составляли набеги на сопредельные территории с целью грабежей и продажи захваченных пленных. См.: Шмидт С.О. К характеристике русско-крымских отношений второй четверти XVI в. // Международные связи России до XVII в. М., 1961. С. 46.
(обратно)64
Греков И.Б. К вопросу о характере политического сотрудничества Османской империи и Крымского ханства в Восточной Европе в XVI–XVII вв. // Россия, Польша и Причерноморье в XV–XVIII веках: Сб. ст. М., 1979. С. 302.
(обратно)65
Кузнецов А.Б. Дипломатическая борьба России за безопасность южных границ (первая половина XVI века). М., 1986. С. 6.
(обратно)66
Смирнов Н.А. Россия и Турция в XVI–XVII веках. М., 1946. Т. 1. С. 36–37.
(обратно)67
Весной 1524 г. вассалитет от Османской империи признал казанский хан Сагиб-Гирей, объявив Казань «юртом» Сулеймана Кануни. Вероятно, это дало основание султану Сулейману, в 1529 г., в письме к польскому королю Сигизмунду II Старому, включить в свой титул земли «Дешт-и-Кипчак» – «властелин и султан кипчакских степей». Такой титул носили ханы Золотой Орды. Подобного рода претензии султана означали вассалитет Крыма и Казани, но не Астрахани. Сначала крымские ханы узурпировали титул ханов Золотой Орды. Султан Сулейман, не очень разбираясь в наследственно-династической расстановке сил в Дешт-и-Кипчак, присваивал себе этот титул через своего вассала крымского хана. См.: Зайцев И.В. Астраханское ханство. М., 2004. С. 112. Тем не менее реальная зависимость татарских ханств Поволжья от Османской империи в течение первой половины XVI в. постоянно возрастала. Греков И.Б. Указ. соч. С. 289.
(обратно)68
Смирнов Н.А. Россия и Турция в XVI–XVII веках. С. 54.
(обратно)69
Смирнов И.И. Восточная политика Василия III. Указ. соч. С. 60.
(обратно)70
1525, апрель. Ответная грамота Великого Князя Василия Иоанновича к папе Клименту VII // Переписка пап с российскими государями в XVI в. СПб., 1834. С. 20–21; РГАДА. Ф. 32. Оп. 1. Кн. 1. Д. 11; Оп. 5. № 17; а также Россия и Италия: Сб. материалов и исследований, касающихся сношений России с Италией. СПб., 1902. Т. I. Вып. 1. С. 14–26.
(обратно)71
Uebersbergers H. Österreich und Rußland seit dem Ende des 15 Jahrhunderts. 1488–1605. Wien, 1906. S. 184.
(обратно)72
Хорошкевич А.Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV – начала XVI в. М.: Наука, 1980. С. 253.
(обратно)73
Кузнецов А.Б. Указ. соч. С. 120.
(обратно)74
Хорошкевич А.Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. М., 2003. С. 58–60.
(обратно)75
Плюханова М.Б. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995. С. 202.
(обратно)76
Шмидт С.О. Восточная политика России накануне «Казанского взятия» // Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. М., 1999. С. 115.
(обратно)77
Горский А.А. Москва и Орда. М., 2000. С. 83. С этой точкой зрения солидарен Р.Г. Скрынников, который считает, что после завоевания Казани и Астрахани складывались предпосылки развития Русского государства по имперскому пути развития. См.: Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 445.
(обратно)78
Беккер С. Россия и концепт империи // Новая имперская история постсоветского пространства. Казань, 2004. С. 72.
(обратно)79
Филюшкин А.И. Титулы русских государей. М.; СПб., 2006. С. 383.
(обратно)80
Хорошкевич А.Л. Россия в системе международных отношений… С. 560.
(обратно)81
Новосельский А.А. Указ. соч. С. 89; Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе в XVI–XIX веках. М.,1958. С. 174; Хорошкевич А.Л. Указ. соч. С. 561; Шмидт С.О. Указ. соч. С. 121.
(обратно)82
Беккер С. Указ. соч. С. 75.
(обратно)83
Худяков М. Очерки по истории Казанского ханства. Казань, 1923; Алишев С.Х. Завоевание татар Русским государством // Материалы по истории татарского народа. Казань, 1995; Тагиров И.Р. Очерки истории Татарстана и татарского народа (XX век). Казань, 1999; Каппелер А. Россия – многонациональная империя. М., 2000. С. 26; Филюшкин А.И. Проблема генезиса Российской империи // Новая имперская история постсоветского пространства. Казань, 2004. С. 389.
(обратно)84
Согласно замыслу султана, основной ударной силой должны были стать Поволжские ханства и Ногайская Орда. Если с ногайцами крымско-турецким послам так и не удалось договориться, то Астраханское ханство к союзу присоединилось. Османская империя должна была выступать в качестве координатора и финансового донора. Кроме того, в боевых действиях против Москвы должны были принимать участие подразделения янычар и турецкая артиллерия. См.: Бахтин А.Г. Причины присоединения Поволжья и Приуралья к России // Вопросы истории. 2001. № 5. С. 66.
(обратно)85
Г.Д. Бурдей утверждал, что Московское государство не имело во внешнеполитических планах Турции первостепенного значения, так как основные интересы Турции концентрировались на Балканах, Средиземном море и Ближнем Востоке. См.: Бурдей Г.Д. Русско-турецкая война 1569 г. Саратов, 1962. С. 43. Возможно, территория непосредственной вотчины московских государей и не была предметом чаяний османов, но во втор. пол. XVI в. стратегические интересы Стамбула находились в Поволжье и на Кавказе. См.: Некрасов А.М. Международные отношения и народы Западного Кавказа. Указ. соч. С. 124–126.
(обратно)86
Смирнов Н.А. Россия и Турция в XVI–XVII веках. Т. 1. С. 69–70.
(обратно)87
Карданов И.Э. Указ. соч. С. 43.
(обратно)88
Посольские книги по связям с Персией сохранились только с 1588 г. О прибытии в Москву первого официального персидского посольства в 1553 г. писал С.А. Белокуров, который реконструировал это событие, сопоставляя летописные материалы и посольские книги по связям с народами Кавказа. См.: Сношения России с Кавказом. Материалы, извлеченные из Московского главного архива Министерства иностранных дел Сергеем Ал. Белокуровым. Вып. 1 – 1578–1613. М., 1889. С. XII, далее: Сношения России с Кавказом.
(обратно)89
Шах Тахмасп, правивший с 1524 по 1576 г., имел много общих черт с Иваном IV. Вступив на престол десятилетним мальчиком, первое время был игрушкой в руках кызылбашской знати. Тем не менее в дальнейшем шах смог силой обуздать как кызылбашских ханов, так и местную иранскую знать и начать череду длительных войн с Османской империей за лидерство в регионе. См.: Пигулевская Н.В., Якубовский А.Ю., Петрушевский И.П., Строева Л.В., Беленицкий А.М. История Ирана с древнейших времен до конца XVIII века. Л., 1958. С. 257–258.
(обратно)90
Каппелер А. Указ. соч. С. 46.
(обратно)91
Османская империя начала продвижение на Кавказ еще в первой четверти XVI в., но системный характер захват закавказских территорий приобретает со второй половины XVI в. Существовало два основных пути продвижения. Первый – северный, через Крым, Азов, Тамань, к устью Волги на Каспий; второй – южный, через Курдистан, Грузию, Армению, Шемаху, опять же на Каспий. См.: Некрасов А.М. Указ. соч. С. 138.
(обратно)92
Смирнов Н.А. Русское государство в системе международных отношений… С. 21.
(обратно)93
Хорошкевич А.Л. Россия в системе международных отношений… С. 121.
(обратно)94
Об этом свидетельствует деятельность «московских послов» в Европе 1547–1553 гг. Ганса Шлитте и Иоганна Штейнберга. В самом начале своего царствования Иван IV поручил Г. Шлитте пригласить на московскую службу «мастеров и ученых». В этом заключалась официальная часть его миссии. Неофициально Шлитте предлагал Карлу V заключить военно-политическое соглашение против турок. В русских дипломатических документах сведения о содержании миссии Шлитте отсутствуют. В западноевропейской историографии факт переговоров не отрицается, но делается поправка на то, что ни Г. Шлитте, ни его подручный И. Штейнберг не имели никаких полномочий для ведения подобного рода переговоров. См.: Pirling P. Papes et tsars (1547–1597): D’après des documents nouveaux. Paris, 1890. Р. 28–29; Uebersbergers H. Op. cit. S. 97. Споры относительно этого вопроса не прекращаются до сих пор. И.Б. Греков подчеркивал, что часто переговоры о таких серьезных вопросах носили тайный характер и исполнителями такого рода поручений могли выступать иностранцы, как во время правления Василия III, так и его сына Ивана IV, и что Шлитте и Штейнберг действовали согласно инструкциям Ивана IV и дьяка Висковатого. См.: Греков И.Б. Указ. соч. С. 300. Не вызывающим споры фактом является то, что миссия Шлитте – Штейнберга была сорвана откровенными провокациями со стороны польского короля Сигизмунда-Августа, который не желал видеть в Московском государстве сильного соседа, пользующегося авторитетом у западноевропейских государей. Если же император или папа все-таки пойдут на союз с русскими, то Сигизмунд готов «заключить союз с турками вместо того, чтобы сражаться с ними». См.: Пирлинг П. Россия и папский престол. М., 1912. С. 372.
(обратно)95
Греков И.Б. Очерки по истории международных отношений. С. 307.
(обратно)96
Лурье Я.С. Новые данные о посольстве Сугорского и Арцыбашева в 1576 г. // Исторические записки. 1948. Т. 27. С. 294.
(обратно)97
Во время аудиенции у дожа Венеции И. Шевригин от имени Ивана IV призывал Республику начать военные действия против турок. В обмен царь обещал Венеции выгодный «торговый трафик» по территории Московского государства и свободный проезд в Персию. См.: № 254 – 1581 г. Февраля 15. Венеция. Аудиенция Истомы Шевригина у дожа Николо да Понте // Памятники культурных и дипломатических сношений России с Италией. Л., 1925. Т. 1. Вып. 1. С. 183.
(обратно)98
№ 243 – 1581 г. Января 17. Прага. Депеша А. Бадоэра венецианскому сенату // Памятники культурных и дипломатических сношений. Указ. соч. С. 175. Стоит отметить, что в русских посольских документах упоминания о посольстве к Фердинанду II не сохранилось.
(обратно)99
Толстой Д.А. Римский католицизм в России. СПб., 1876. Т. I. С. 31.
(обратно)100
Дословно цель соединения обозначена следующей фразой: «…чтобы христианство вело жизнь спокойную, безопасную и свободную от всякой вражды и чтобы неверные не поднимали рук своих на христиан и кровь христианская более не проливалась». См.: Письмо Ивана IV Григорию XIII от 1583 г. / Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в. МГУ. 1983. С. 145–146.
(обратно)101
Успенский Ф.И. Как возник и развивался в России «Восточный Вопрос». СПб., С.-Петерб.: Славянск. Благотворительное о-во, 1887. С. 42.
(обратно)102
Пирлинг П. Восточная идея Поссевино // Пирлинг П. Из Смутного времени. СПб., 1902. С. 37–38.
(обратно)103
№ 242 – 1581 г. Января 16. Прага. Депеша нунция Маласпина кардиналу Комо // Памятники культурных и дипломатических сношений. Указ. соч. С. 173.
(обратно)104
Хорошкевич А.Л. Россия в системе международных отношений. С. 256.
(обратно)105
Смирнов Н.А. Россия и Турция в XVI–XVII веках. С. 59.
(обратно)106
Селим II (1566–1574) и Мурад III (1574–1595) – сын и внук Сулеймана Великолепного.
(обратно)107
Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе. С. 26.
(обратно)108
Карданов И.Э. Указ. соч. С. 43.
(обратно)109
Смирнов Н.А. Россия и Турция. Т. 1. С. 127.
(обратно)110
Государство Шейбанидов (1507–1598) – государство, образованное в Мавераннахре («Заречье», области по правому берегу Амударьи). Основатель государства и правящей династии Мухаммед Шейбани-хан был Чингизидом, считавшим свою родословную от Шейбан Бахадур-хана, одного из тринадцати сыновей Джучи, старшего сына Чингисхана. Шейбаниды, так же как и османы, были суннитами. Пятый хан из династии Шейбана Менгу-Тимур, живший в середине XIV в. в правление хана Золотой Орды Узбека, дал имя этого хана своему юрту (уделу). С тех пор потомки Шейбана стали называться узбеками. Потомок Менгу-Тимура в шестом поколении Мухаммед Шейбани отнял у Тимуридов в 1500 г. Самарканд, столицу Трансоксианы, и основал первое узбекское ханство. См.: Лэн-Пуль Ст. Мусульманские династии: Хронологические и генеалогические таблицы с историческим введением. М., 2004. С. 196.
(обратно)111
Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II: В 3 ч. Ч. 3. События. Политика. Люди. М., 2004. С. 334.
(обратно)112
Иванов Н.А. Османское завоевание арабских стран 1514-1574. М., 1984. С. 28.
(обратно)113
Каппелер А. Указ. соч. С. 46.
(обратно)114
Титул «султан ислама», по словам В.В. Бартольда, означает правитель «халифата» – праведного мусульманского государства, где царят законы шариата, а правитель осуществляет «правду Божью на земле». См.: Бартольд В.В. Халиф и султан. Полн. собр. соч. Т. VI. М., 1966. С. 43.
(обратно)115
Волго-Донской канал должен был создать удобную водную артерию между османскими морскими базами на Черном море и Каспии. См.: Некрасов А.М. Указ. соч. С. 138.
(обратно)116
Османы потерпели поражение в сражении с русскими войсками под Астраханью, а остатки османских подразделений на обратном пути в Азов разгромили гребенские казаки.
(обратно)117
Ильханы, или Хулагуиды, от царевича Хулагу, сына Тулуя, младшего сына Чингисхана. Ильхан означает младший хан, то есть подчиненный великому каану в Каракоруме.
(обратно)118
Эфендиев О.А. Азербайджанское государство Сефевидов в XVI веке. Баку, 1982. С. 41.
(обратно)119
Вопрос этнической принадлежности Сефи ад-Дина (1252-1334) до сих пор остается дискуссионным. Большинство современных исследователей, в частности азербайджанские историки вслед за В.В. Минорским, считают, что шейх Сефи ад-Дин был не иранцем, а азербайджанцем, то есть тюрком.
(обратно)120
Ардебиль (Ардабиль) – город на северо-западе Ирана, в Иранском Азербайджане.
(обратно)121
Суфизм – широкое мистико-религиозное течение, охватывавшее все сферы творческой деятельности: литературу, искусство, философию. Суфийская философия предлагала уход от реальной жизни, полной несправедливости и зла, и пассивное отношение к реальным политическим событиям. Небесная гармония должна была заменить земной беспорядок. Суфием мог стать представитель любого религиозного течения («универсализм»), социального положения и материального достатка.
(обратно)122
Некоторые из кызылбашских племен (румлу и устаджлу), ранее проживавших на территории современной Сирии, принадлежали к «крайним шиитам». Крайние шииты обожествляли Али ибн-Талиба и были нетерпимы к иноверцам. Это также сыграло свою роль в принятии шейхами Джунейдом и Хайдаром шиизма.
(обратно)123
Имамиты – умеренные шииты, или «иснаашариты» («дву надесятники», «дюжинники»), то есть последователи 12 имамов, потомков двоюродного брата пророка Мухаммеда Али, составляют умеренное крыло шиизма. Основная доктрина заключается в том, что имамат (осуществление верховной власти в исламе) передается устами пророка или предшествующего имама. В конце IX в. последний имам из рода Али, девятилетний Мухаммад, таинственным образом исчез – «скрылся». Отсюда вера в «скрытого» имама, тесно сопряженная с верой в его возвращение в качестве Махди (Мессии), который установит царство справедливости на земле. В его отсутствие руководство шиитской умой (общиной, государством) осуществляют духовные авторитеты, главным из которых считался шейх из рода Сефи ад-Дина. См.: Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII–XV веках. Л., 1966. С. 232.
(обратно)124
Бартольд В.В. Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира. Баку, 1925. С. 103.
(обратно)125
Гусейнов А.М. Азербайджано-русские отношения XV–XVII веков. Баку, 1963. С. 34.
(обратно)126
См.: Эфендиев О.А. Азербайджанское государство. С. 94.
(обратно)127
Гулямы – шахские рабы, преимущественно грузины, черкесы, армяне. Сильные и крепкие мальчики и юноши исламизировались и после интенсивной военной подготовки вступали в шахскую гвардию. Гулямов можно считать аналогом турецких янычар. Позднее именно они составили категорию шахсевенов – «любящих шаха», самых надежных и преданных слуг, благополучие которых определялось только милостью падишаха.
(обратно)128
Bellan L.L. Chah Abbas.: Sa vie, son histoire. Paris, 1932. S. 23.
(обратно)129
У Мухаммеда Солтан Худабендэ и Хайр аль-Нисы Бегум было 5 сыновей: Хасан, Хамзе, Аббас, Абу-Талиб, Тахмасп. Все, кроме Аббаса, погибли насильственной смертью.
(обратно)130
Bély L. Les relations internationales en Europe XVII–XVIII siècles. Paris, 1992. Р. 73.
(обратно)131
Ширваншахи – титул правителей государства, созданного в пределах исторической области Ширван (на северо-востоке современного Азербайджана) и известного в исторических источниках как государство Ширваншахов. Дербенди – третья и последняя династия ширваншахов, правившая с 1382 по 1538 г. Происходит от ширваншаха Кей Кубада ибн Ахситана, правившего с 1317 по 1356 г.
(обратно)132
Рамазанов Х.Х., Шихсаидов А.Р. Очерки политической истории Южного Дагестана: Материалы к истории народов Дагестана с древнейших времен до начала XIX в. Махачкала, 1964. С. 112.
(обратно)133
Алкадари Г.-Э. Асари-Дагестан. Исторические сведения о Дагестане. Махачкала, 1994. С. 35.
(обратно)134
История Азербайджана. Баку, 1958. Т. 1. С. 261.
(обратно)135
Новосельцев А.П. Освободительная борьба народов Закавказья в XVI–XVII вв. // Вопросы истории. М., 1969. С. 74.
(обратно)136
Петрушевский И.П. Азербайджан в XVI–XVII вв. // Сб. ст. по истории Азербайджана. Вып. 1. Баку, 1949. С. 262.
(обратно)137
Земли, на которых племена кочевали и собирали с населения налоги в свою пользу. «Юрт» – тюркский термин, дословно обозначающий место кочевья. Кызылбашские племена продолжали придерживаться своих древних традиций и вели главным образом полукочевой образ жизни, что не мешало вождям племен заниматься эксплуатацией местного оседлого населения.
(обратно)138
Португалия, имевшая колонии в Персидском заливе, с начала XVI в. иногда предоставляла Сефевидам военную и финансовую помощь против османов в виде огнестрельного оружия и войсками. Так, в 1549 г. шах Тахмасп получил от португальского короля Жоана III подразделение из 10 тысяч аркебузиров и 20 пушек и 20 тысяч цехинов. См.: A Chronicle of the Carmelites in Persia Papal Mission. Op. cit. Р. 26.
(обратно)139
Stloukal K. Das Projekt einer internationalen paneuropaschen Liga mit Persien. Op. cit. S. 79.
(обратно)140
La Persia e la repubblica di Venezia. Tehran. 1973. Р. 36.
(обратно)141
Сношения России с Кавказом. С. LXXXVII.
(обратно)142
Казы-Гирей Бора (Буря), сын крымского хана Мухаммед Гирея, был захвачен в плен кызылбашами. Несколько лет он пробыл пленником у шаха в крепости Кагкага, затем бежал в Турцию к Мураду III, который сделал его в 1588 г. крымским ханом.
(обратно)143
Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией. СПб., 1890. Т. 1. С. 76., далее: Памятники дипломатических сношений с Персией.
(обратно)144
А. Бадоэр также сообщал сенату, что Иван IV, помимо И. Шевригина, посланного к императору, отправил из Нарвы еще одного посланника к Филиппу II с предложением «составить хорошую лигу против турок». См.: № 243. 1581 г. Января 17. Прага. Депеша А. Бадоэра венецианскому сенату // Памятники культурных и дипломатических сношений. Указ. соч. С. 173.
(обратно)145
Persischen Türkische und Moskowitische Zeitung, 1580, s. Anhang Flugschriften // Palombini Barbara. Op. cit. S. 126.
(обратно)146
Сношения России с Кавказом. Указ. соч. С. XCI.
(обратно)147
РГАДА. Ф. 89. Сношения России с Турцией. Кн. 2. Л. 299.
(обратно)148
«Дешт-и-Кипчак» – кипчакская степь, территория между Доном, Азовом и Волгой.
(обратно)149
Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. М., 2001. С. 357.
(обратно)150
Финкель К. История Османской империи. М., 2010. С. 239.
(обратно)151
«Шерть» – присяга мусульман на подданство. Дать «шерть», «шертовать» – означало присягнуть. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978. Т. 4. С. 411. С 1557 г., когда ногайский бий Исмаил шертовал Ивану IV, в Русском государстве стали рассматривать шертование как присягу на верность. В.В. Трепавлов считает, что в XV–XVII вв. «шерть» не являлась межгосударственным соглашением, а была персональным договором между правителями. С восшествием на престол нового правителя ее необходимо было продлевать. Нарушение условий «шерти» могло рассматриваться как личная измена одной стороны. См: Трепавлов В.В. Указ. соч. С. 599.
(обратно)152
Трепавлов В.В. Указ. соч. С. 358.
(обратно)153
Сигала был представителем патрицианской генуэзской фамилии Чикала. Ребенком он был захвачен в плен пиратами и продан в гарем. Там на смышленого знатного мальчика обратил внимание сам султан, сделав его капитаном янычар. Сигала, несмотря на то что был ярым последователем ислама, время от времени на турецких галерах посещал своих родных в Генуе, при молчаливом попустительстве генуэзских галеасов.
(обратно)154
Собственно, такое обещание в 1583 г. было сделано Филиппом II персидскому посланнику Ходже Мухаммеду в Мадриде. Следовательно, в течение двух лет шаху ничего еще не поступило из обещанной помощи.
(обратно)155
Palombin Barbara. Op. cit. S. 96. По возвращении в Рим Веккьетти составил отчет, в котором подробно проанализировал военно-стратегические возможности персидской армии, финансовые возможности и политическое положение Персии. В отчете были отражены и связи Персии с соседними государствами. Но он ни словом не обмолвился о положении, в котором находился шах Худабендэ, и о бесчинствах кызылбашских эмиров, которые препятствовали централизованным действиям шахской армии против османов. См.: Ibid. S. 111.
(обратно)156
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 55.
(обратно)157
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 57.
(обратно)158
В 1543 г. Франция открыто выступила против Карла V в союзе с османами. Знаменитая франко-османская морская операция, когда турецкий флот, зайдя в Марсель и соединившись с французами, нанес поражение императору Карлу V под Ниццей. История Европы. От Средневековья к Новому времени (конец XV – первая половина XVII в.): В 8 т. Т. 3. М.: Наука, 1993. С. 301. Поддерживая османов, Франция наносила серьезный ущерб своим врагам, испанским и австрийским Габсбургам.
(обратно)159
Об этом венецианскому сенату докладывал Лоренцо Бернардо из Константинополя. Венецианский посол успокаивал правительство: «Этого союза бояться не надо, так как Порта связана войной с Софи». См.: Rouillard C. D. The Turk in French History, Thought and Literature (1520–1660). Paris, 1935. Р. 296.
(обратно)160
По шиитской традиции шах из рода Сефевидов являлся не только главой государства, но и духовным лидером (пир) населявших его шиитов, что в определенные моменты истории было намного важнее, так как военные действия в этом случае принимали характер «газавата» или «джихида» – священной войны.
(обратно)161
Newman A.J. Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire. London, 2006. Р. 118.
(обратно)162
Blow D. Shah Abbas. London, 2009. P. 57.
(обратно)163
Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты: В 2 т. М., 2005. Т. 1. С. 327.
(обратно)164
Гусейнов А.М. Азербайджано-русские отношения. Указ. соч. С. 76.
(обратно)165
Впоследствии выяснилось, что это был отряд запорожских черкас, которых польский король Стефан Баторий отправил на помощь Осман-паше.
(обратно)166
Кушева Е.Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией. Вторая половина XVI – 30-е годы XVII в. М., 1963. С. 267.
(обратно)167
Сношения России с Кавказом. С. 231.
(обратно)168
Памятники дипломатических сношений с Персией. Т. 1. С. 136.
(обратно)169
Посольских материалов, посвященных приезду в Москву Анди-бека, не сохранилось. Предложения шаха русскому государю воспроизводились в посольских документах, относившихся к 90-м гг. Информация о послании шаха содержится в РГАДА. Сношения России с Персией. Ф. 77. Оп. 1. Кн. 1–3; и Сношения России с Римской империей. Ф. 32. Оп. 1. Кн. 5.
(обратно)170
Исторический обзор связей Кавказа. С. 164.
(обратно)171
«Дать правду хрестное целование» означало подтвердить статьи договора, свидетельствовать об их правильности – «правде» и, поцеловав крест, поклясться именем Христовым. См.: Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. М., 1989. Т. 4. С. 211.
(обратно)172
В 1585 г. русский посланник И. Мясной сообщал из Крыма, что Уруз вновь просил Ислам Гирея напомнить султану Мураду об обещанных ногаям войсках и деньгах. См.: Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII века. М.; Л., 1948. С. 35.
(обратно)173
Стоит отметить, что ногаи, давшие шерть, рассматривались по отношению к русскому царю – «старшему брату» как «младшие братья». См.: Трепавлов В.В. Указ. соч. С. 360.
(обратно)174
Malcolm J. Histoire de la Perse. V. II. Paris, 1821. Р. 217. В посольских источниках 90-х гг. несколько раз встречается информация о том, что Анди-бек, прибывший в Москву летом 1587 г., рассказал об убийстве Хамза-мирзы, хотя ранее он утверждал, что выехал из Персии осенью 1586 г.
(обратно)175
Наемный убийца был сразу схвачен и приведен в палатку Муршид Кули-хана, но он не успел ничего рассказать, так как был тут же изрублен кызылбашами.
(обратно)176
Муршид Кули-хан Устаджлу, второй опекун Аббаса, был одним из самых уважаемых и влиятельных кызылбашских эмиров, его называли «творец шахов», ни один переворот или заговор не проходил без его участия. Али Кули-хан Шамлу вообще был «лялэ» – дядькой-воспитателем Аббаса, который с младенчества не видел своей матери, а отца увидел уже юношей. Восемнадцати месяцев от роду Аббас был отправлен в Герат, центр провинции Хорасан, родовое гнездо племени устаджлу, формально в статусе губернатора, практически заложником. См.: Bellan L.L. Chah Abbas. Op. cit. Р. 113.
(обратно)177
В 1590 г. ожидалось наступление первого тысячелетия ислама. Это событие привело к появлению большого числа религиозно-философских движений, ожидавших конца света. Нюктави ожидали появления скрытого имама и установления Царства Божьего на земле.
(обратно)178
Эти «крайние шиитские» секты объединяли городские ремесленные общины (по аналогии с западноевропейскими ремесленными цехами). Поэтому их влияние было сильно особенно в крупных торгово-ремесленных городах – Багдаде и Тебризе.
(обратно)179
Newman A.J. Op. cit. Р. 76.
(обратно)180
Остаток жизни Худабендэ провел под «арестом» в своем гареме. Умер он от дизентерии в 1595 г.
(обратно)181
В Мешхеде находится мавзолей особо почитаемого восьмого имама – Резы (Али б. Мусы ар-Риды).
(обратно)182
История Ирана с древнейших времен. Указ. соч. С. 272.
(обратно)183
Bellan L.L. Op. cit. Р. 253.
(обратно)184
Malcolm J. Op. cit. Р. 112; Памятники дипломатических сношений с Персией. Т. 1. С. 163–198.
(обратно)185
В 1590 г. Муршид Кули-хан был убит гулямом Аллах Вердиханом, по приказу Аббаса. Муршид Кули-хан, возводя на престол Аббаса, думал, что его власть при дворе молодого правителя будет абсолютной. Он недооценил характер Аббаса, который был прямым продолжением своей сильной и волевой матери Хайр аль-Нисы, а не безвольного отца, шаха Худабендэ. Аббас не забыл Муршид Кули-хану ни убийства матери и брата, ни гибели любимого «лялэ» Али Кули-хана Шамлу, который был убит Абдулла-ханом во время захвата Герата. Муршид Кули-хан отказался оказать помощь осажденным, считая Али Кули-хана соперником. Аббас терпеливо переносил диктат Муршид Кули-хана при дворе в течение 18 месяцев, а затем, укрепив свое положение, безжалостно расправился с ним. Персия вступала в новую фазу своего политического развития. См.: Blow D. Shah Abbas. Op. cit. P. 57.
(обратно)186
Bellan L.L. Op. cit. Р. 113.
(обратно)187
Эфендиев О.А. Азербайджанское государство Сефевидов. С. 58.
(обратно)188
Годунов добился этой привилегии в 1588 г.
(обратно)189
Ферхад-хан Караманлу, второе лицо в государстве, будет казнен в 1597 г. по приказу шаха. Аббас решил, что авторитет и влияние Ферхад-хана будут угрожать его личной власти.
(обратно)190
«Да и то мне ведомо, что многие государства великих государей за государем вашим, и изо многих земель государи ко государю вашему служити приезжают со многими людьми и живут у государя вашего по своим волностям, и от веры от их государь их не отводит». См.: Памятники дипломатических сношений с Персией. С. 76.
(обратно)191
Кушева Е.Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией. С. 270.
(обратно)192
Памятники дипломатических сношений с Персией. С. 96.
(обратно)193
Памятники дипломатических сношений с Персией. С. 126.
(обратно)194
Анди-бек (1588), Бутак-бек (1590), гонец Кай (1591), Хаджи Хосров (1593), вновь Анди-бек (1595), Пакизе Имам Кули (1596).
(обратно)195
Посольство кн. Васильчикова Г.Б. (1589), кн. Звенигородского А.Д. (1594), кн. Тюфякина В.В. (1597).
(обратно)196
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978. Т. 1. С. 361.
(обратно)197
Имеется в виду на своем собственном языке.
(обратно)198
Этот договор был заключен 18 февраля 1229 г. Фридрих II, после неудачи с организацией Крестового похода, отправил своих послов в Иерусалим к преемнику Саладина султану Алькамилю. Завязалась переписка, в результате которой был заключен договор. Договор состоял из 8 статей и касался совместного и равноправного пользования Иерусалимом, как христианами, так и мусульманами, со всеми вытекающими из этого последствиями. Правда, после смерти султана Алькамиля в 1239 г. его преемник аннулировал договор. Тем не менее дубликат договора на арабском языке, находившийся у императора Фридриха II, сохранился в секретных архивах Ватикана до наших дней. См.: Ambrosini M.L. The Secret archives of the Vatican. Boston-Toronto, 1969. P. 206–211.
(обратно)199
Не следует смешивать подобного рода договор с режимом «капитуляций», которые заключались между турецким султаном и некоторыми европейскими государствами. «Капитуляции» были применимы только к условиям Османской империи.
(обратно)200
Веселовский Н.И. Татарское влияние на русский посольский церемониал в московский период русской истории. СПб., 1911. С. 1–19.
(обратно)201
Савва В.И. Московские цари и византийские басилевсы. Харьков, 1901. С. 137–138.
(обратно)202
Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией. Т. I. С. 381.
(обратно)203
«Дать правду» означало подтвердить статьи договора, свидетельствовать об их правильности – «правде».
(обратно)204
Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией. С. 352.
(обратно)205
Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. Т. 3. С. 451.
(обратно)206
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. С. 411.
(обратно)207
Трепавлов В.В. Указ. соч. С. 599.
(обратно)208
Трепавлов В.В. Указ. соч. С. 611.
(обратно)209
Трепавлов В.В. Указ. соч. С. 612. Например, ногаи, приносящие шерть, рассматривались как младшие братья (партнеры) по отношению к московскому царю.
(обратно)210
Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией. Т. I. С. 355.
(обратно)211
Энтони Ширли (1573–1635); Роберт Ширли (1581–1628).
(обратно)212
Malcolm J. Histoire de la Perse. Paris, 1821. V. II.; Bellan L.L. Chah Abbas.: Sa vie, son histoire. Paris, 1932.
(обратно)213
Bayani K. Op. cit. Р. 57–58.
(обратно)214
По происхождению Анджело Кораи был сирийцем-христианином, и его настоящее имя Фадлалах. См.: A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 178.
(обратно)215
Berchet G. Op. cit. P. 39.
(обратно)216
Bellan L.L. Op. cit. P. 89–90.
(обратно)217
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 74. Этот факт подтверждает в своих записках Орудж-бек Байат (Дон Хуан Персидский): «Направляясь в Персию, дон Антонио держал свой путь через Грецию и Османскую империю, и, зная турецкий язык, ему было легко выдавать себя за турка…» См.: Из рассказов Дон Хуана Персидского. Путешествие персидского посольства через Россию от Астрахани до Архангельска в 1599–1600 гг. // ЧОИДР. 1899. Кн. 188. С. 6–7.
(обратно)218
Мехмед III – правил с 1595 по 1603 г.
(обратно)219
A Cronicle of the Carmelites in Persia. P. 95.
(обратно)220
A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 92., Malcolm J. Op. cit. Р. 187; Бартольд В.В. История изучения Востока в Европе и в России. СПб., 1911. С. 105.
(обратно)221
Bayani K. Op. cit. P. 57.
(обратно)222
Bellan L.L. Op. cit. P. 42.
(обратно)223
Bellan L.L. Op. cit. P. 45.
(обратно)224
Бартольд В.В. Указ. соч. С. 106. Здесь, однако, стоит отметить, что реорганизацией армии занимался Роберт и оставшиеся с ним «дворяне». Такую работу невозможно было произвести ни за два месяца, ни за год. К. Байани отмечал в своем исследовании, что за время своего пребывания в Персии, то есть с 1598 г. и до первой отправки его во главе шахского посольства в Европу в 1608 г., Роберт Ширли и оставшиеся с ним дворяне отлили 500 пушек и сделали 60 тыс. мушкетов. См.: Bayani K. Op. cit. P. 58.
(обратно)225
A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 105. Тем не менее Аббас до конца 20-х гг. XVII в. продолжал считать Филиппа III самым могущественным монархом Европы.
(обратно)226
Так, по крайней мере, утверждал Орудж-бек Байат, который впоследствии остался в Испании и составил описание персидского посольства в Европу. См.: Don Juan of Persia a shi’ah catholic 1601–604. London, 1926.
(обратно)227
Оставшийся в Европе после посольства 1600 г. Э. Ширли много лет убеждал испанского короля Филиппа III напасть на Египет, самую богатую и малозащищенную провинцию Османской империи. Тем самым, по убеждению Э. Ширли, султан мог бы лишиться финансового могущества и огромных территорий, которых в сложившейся ситуации на Балканах уже не смог бы возвратить обратно. См.: Niedercorn J.P. Op. cit. S. 231.
(обратно)228
A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 74.
(обратно)229
Россия и Италия. СПб., 1915. Т. III. Вып. 2. С. 323–326.
(обратно)230
Следует отметить, что в исторической науке до сих пор нет единого мнения об авторстве проекта «Конфедерации», доставленного в Европу персидским посольством. Высказывались сомнения насчет непосредственного авторства проекта шаха Аббаса. Возникла такая ситуация из-за отсутствия персидского подлинника документа, он сохранился только в латинском переводе. У нас не вызывает сомнения, что оригинальный документ на персидском языке был доставлен в Европу. Об этом сообщал в Рим папский нунций при дворе императора Рудольфа II кардинал А. Феррери. Из-за болезни императора персидское посольство провело в Праге осенью 1600 г. несколько месяцев. Переводом документа на латынь занималось ведомство кардинала Ф. Дитрихштайна, который был заинтересован в создании антиосманской коалиции. См.: Epistolae et acta Joannis Stephani Ferrerii 1600–1607// Epistulae et Acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592–1628. T. III. Pragae, 1944. Р. 46.
(обратно)231
Примечательно, что сам Аллах Верди-хан был, по утверждениям кармелитов, христианином. Действительно, Аллах Верди-хан был этническим грузином. Однако кармелиты не учитывали тот факт, что практически все знатные кахетинские и картлийские дворяне, поступавшие на службу к Аббасу и желавшие сделать карьеру, должны были принять ислам. См.: Джавахия Б.А. Из истории ирано-грузинских взаимоотношений (XVI – пер. треть XVII вв.): Дис. … канд. ист. наук. Тбилиси, 1987.
(обратно)232
Из рассказов Дон Хуана Персидского. С. 7.
(обратно)233
Vocelka K. Rudolf II und seine Zeit. Wien-Köln-Graz: Böhlau, 1985. S. 184.
(обратно)234
Пирлинг П. Николай Мело, «Гишпанской земли» чернец // Русская старина. 1902. № 5. С. 304.
(обратно)235
Из рассказов Дон Хуана Персидского. С. 8.
(обратно)236
Из рассказов Дон Хуана Персидского. С. 19. Посольство Э. Ширли – Хусейн Али-бека выехало из Исфахана 9.06.1599. В русских посольских документах о посольстве Пер Кули-бека почти не сохранилось сведений, но это произошло из-за плохой сохранности всех документов, относящихся к периоду 1600–1624 гг.
(обратно)237
Броневский С.М. Исторические выписки о сношениях России с Персиею, Грузиею и вообще с горскими народами, в Кавказе обитающими, со времен Ивана Васильевича доныне. СПб., 1996. С. 40.
(обратно)238
Из рассказов Дон Хуана Персидского. С. 11.
(обратно)239
Обычно послы получали первую аудиенцию через месяц после прибытия в Москву.
(обратно)240
Из рассказов Дон Хуана Персидского. С. 21.
(обратно)241
Bayani K. Op. cit., P. 61. Здесь имеется в виду запрет любым иностранным послам и посланникам выходить за пределы помещений, которые им отводились для проживания. Иностранные послы неоднократно отмечали, что, приезжая в Москву, они находятся под «арестом». Так русское правительство пыталось не допустить контактов иностранцев с местным населением с целью «получить или распространить» враждебную для Русского государства информацию.
(обратно)242
Пирлинг П. Николай Мело… С. 306.
(обратно)243
О встрече о. Иоанна-Фаддея и о. Николау да Мело в 1609 г. речь пойдет далее.
(обратно)244
Обычная практика для послов, которые таким образом компенсировали свои затраты на организацию посольства, так как все расходы целиком и полностью лежали на плечах послов. Практика назначения послом носила добровольно-принудительный характер и для неимущего человека была настоящей катастрофой.
(обратно)245
A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 71.
(обратно)246
A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 71.
(обратно)247
Хулагуиды (Ильханиды) – потомки Хулагу, внука Чингисхана. Правители государства Хулагуидов носили титул ильхан («хан страны») в значении улусный хан. Ильханы занимали более низкое положение в отношении ханов Золотой Орды. И это несмотря на то, что государство Хулагуидов в период своего наивысшего могущества включало Иран, Арран, Ширван, Азербайджан, бóльшую часть Афганистана, Ирак, Курдистан, Джезиру (Верхняя Месопотамия) и восточную часть Малой Азии. Столицами были последовательно Мераге, Тебриз, Сольтание, затем снова Тебриз.
(обратно)248
Магилина И.В. Россия и проект антиосманской лиги в конце XVI – начале XVII в. Волгоград, 2012. С. 196.
(обратно)249
Орудж-бек так описывал происхождение и статус клана Байят при дворе Сефевидов: «семья Байят, благороднейший дом и родословная, и все мы, как сказали бы в Испании, герцоги». См.: Россия и Европа глазами Орудж-бека Байята – Дон Хуана Персидского. СПб., 2007. С. 14.
(обратно)250
Вильям Парри. Проезд чрез Россию Персидского посольства в 1599–1600 г. М., 1900. С. 7.
(обратно)251
Вильям Парри. Проезд чрез Россию Персидского посольства в 1599–1600 г. М., 1900. С. 7.
(обратно)252
Вильям Парри. Проезд чрез Россию Персидского посольства в 1599–1600 г. М., 1900. С. 8.
(обратно)253
Вильям Парри. Проезд чрез Россию Персидского посольства в 1599–1600 г. М., 1900. С. 8.
(обратно)254
Вильям Парри. Проезд чрез Россию Персидского посольства в 1599–1600 г. М., 1900. С. 7.
(обратно)255
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 75.
(обратно)256
Рудольф II страдал МДП – маниакально-депрессивным психозом, наследственным заболеванием, которое так ярко проявилось у прабабки императора Хуаны Безумной, которая передала это заболевание как испанским, так и австрийским Габсбургам.
(обратно)257
Niedercorn J.P. Op. cit. S. 68.
(обратно)258
Практически вся персидская торговля шелком-сырцом шла через турецкие территории, причем торговые караваны с завидной регулярностью прибывали в Алеппо, где турецкие власти взимали с персидского шелка почти половину его стоимости. Для Аббаса такая торгово-экономическая зависимость от Турции была очень невыгодна, поэтому он стремился наладить сбыт шелка через Московское государство и через испанские торговые колонии, что вообще не принесло ожидаемого результата. См.: Зонненштраль-Пискорский А.А. Международные торговые договоры Персии. М., 1931. С. 21–24.
(обратно)259
Торговля шелком-сырцом была главным финансовым источником пополнения государственной казны.
(обратно)260
A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 76.
(обратно)261
A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 76.
(обратно)262
Кардинал Дитрихштайн – Франтишек Дитрихштайн принадлежал к знатному дворянскому роду из Штирии. Несколько поколений Дитрихштайнов служили штирийским эрцгерцогам. Ф. Дитрихштайн происходил из моравской ветви рода. Воспитанник иезуитов, с 1599 г. епископ Олоуца – центра Контрреформации. Мать Дитрихштайна была знатной испанкой, и его детство прошло при испанском дворе. При дворе императора Рудольфа II кардинал Ф. Дитрихштайн принадлежал к «испанской партии». С детства был близок к Ипполито Альдобрандини (Климент VIII), который помог ему сделать блестящую карьеру. Ф. Дитрихштайн пользовался большим доверием Рудольфа и был основным исполнителем политической программы императора. См.: Медведева К.Т. Австрийские Габсбурги и сословия в начале XVII века. М., 2004. С. 68.
(обратно)263
По всей видимости, Хусейн Али-бек таким образом пытался наверстать упущенное время, напрасным ожиданием аудиенции у императора. С другой стороны, такой ход давал возможность, минуя громоздкий дипломатический протокол, в кратчайшие сроки донести предложения Аббаса до сведения Римской курии. Кроме того, это объясняет, каким образом проект «антиосманской конфедерации» шаха Аббаса оказался в архивах Ватикана.
(обратно)264
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 71.
(обратно)265
Promise by shah Abbas of extraterritorial privileges to Europeans 1600 // Diplomaci in the Near and Middle East A Documentary Record. V. 1 (1535–1914). London; New York, 1956. P. 16.
(обратно)266
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 72.
(обратно)267
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 72.
(обратно)268
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 72.
(обратно)269
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 72.
(обратно)270
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 73.
(обратно)271
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 73.
(обратно)272
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 74.
(обратно)273
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 74. Обсуждение этой части предложений шаха будет предпринято в последней главе.
(обратно)274
Такая точка зрения укоренилась в советской историографии. Западноевропейские исследователи больше делали акцент на результатах миссии 1599–1600 гг. и не вдавались в подробности самих переговоров.
(обратно)275
Malcolm J. Op. cit. V. II. Р. 352. Кроме того, Э. Ширли еще долгое время после миссии 1599–1600 гг. оставался дееспособным участником международного процесса в Европе, выполняя поручения испанского короля и императора.
(обратно)276
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 80.
(обратно)277
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 74.
(обратно)278
«Persarum Regis legatis Domino Antonio Syherli anglo cique adiuncto Cuscinali Bego exibitum». Характерно, что в ответном послании Рудольфа на предложения Аббаса Э. Ширли назван послом, а Хусейн Али-бек его помощником. См.: A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 74.
(обратно)279
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 75.
(обратно)280
Ответ датирован 11 декабря 1600 г., его копия хранится в секретных архивах Ватикана. Lettere di Principi e Titolati (1596–1605). № 54. См.: A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 74. Вероятнее всего, именно такой ответ императора должен был доставить Аббасу посланник Михаил Шель, через Русское государство. Реестр С.А. Белокурова относит приезд М. Шеля в Москву в конце апреля – начале мая. Из Праги гонец отбыл 18 декабря 1600 г. «Посланник императора Рудольфа II Михаил Шель с просьбой о пропуске его, Шеля, в Персию для побуждения шаха к войне против турок». См.: Белокуров С.А. Указ. соч. С. 17. Исходя из этого можно сделать вывод, что миссия М. Шеля была ответной реакцией на приезд в Прагу посольства Э. Ширли – Хусейн Али-бека и письмо шаху должны были доставить через Русское государство.
(обратно)281
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 77.
(обратно)282
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 80.
(обратно)283
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 82.
(обратно)284
Имеется в виду комплектация боевых подразделений под руководством племянника Климента VIII – Джан Франческо Альдобрандини, которые своими несогласованными действиями во время осады Каниша только усугубляли положение императорских войск. См.: Niedercorn J.P. Op. cit. S. 312.
(обратно)285
A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 83.
(обратно)286
Не совсем понятно, что именно имел в виду Климент VIII, когда писал о «поддержке христианского оружия».
(обратно)287
A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 83.
(обратно)288
A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 84.
(обратно)289
Bellan L.L. Op. cit. P. 94. На наш взгляд, вся кампания по дискредитации шахских послов была предпринята с единственной целью – нежеланием европейских государей связывать себя какими-либо практическими обязательствами с шахом Аббасом.
(обратно)290
Описание торжественного въезда и пребывания персидского посольства в Риме в апреле 1601 г. СПб., 1900.
(обратно)291
Don Juan of Persia a shi’ah catholic 1601–604. Р. 156.
(обратно)292
Bayani K. Op. cit. P. 61.
(обратно)293
A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 75.
(обратно)294
A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 95–96.
(обратно)295
Niedercorn J.P. Op. cit. S. 221.
(обратно)296
Niedercorn J.P. Op. cit. S. 230.
(обратно)297
A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 74.
(обратно)298
Из рассказов Дон Хуана Персидского. С. 58.
(обратно)299
Niederkorn J.P. Op. cit. Р. 195. Кстати говоря, Э. Ширли неоднократно в письмах к Филиппу III предлагал напасть на Египет, так как считал, что это самое слабое место в обороне османов. Захватив Египет, европейцы могли бы лишить турок финансового источника для ведения войны на Балканах.
(обратно)300
Bayani K. Op. cit. P. 68.
(обратно)301
Бреве Климента VIII к шаху Аббасу от 6.06.1601 // A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 79.
(обратно)302
Россия и Европа глазами Орудж-бека Байята – Дон Хуана Персидского. СПб., 2007. С. 62.
(обратно)303
Хусейн Али-бек выехал из Лиссабона в начале 1602 г. на испанском корабле, который ему предоставил Филипп III. Осенью посольство прибыло в Ормуз.
(обратно)304
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 80.
(обратно)305
Palombin B. Bündniswerben abendländischer Mächte um Persien. S. 96.
(обратно)306
A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 95.
(обратно)307
РГАДА. Ф. 32. Оп. 2. Грамоты 1573–1699. Ед. хр. 23. 1601. Июня 2 из Праги. «Просьба пропустить через Россию в Персию папских нунциев Франциску да Косту и Дидака Миранда Энрикия».
(обратно)308
Бесценное свидетельство пребывания папских послов в Московском государстве сохранила «Хроника кармелитов». Подробности, почерпнутые из «Хроники кармелитов», только подтверждают наше мнение о том, что посольская документация, касавшаяся посольств кн. А.Ф. Жирово-Засекина и Пер Кули-бека, не сохранилась в силу различного рода причин.
(обратно)309
Посольство, следующее через третью страну транзитом, не должно было обеспечиваться «кормом». Климент VIII снабдил своих послов для этих целей 4000 скудо. Получив «корм» лично по распоряжению Годунова, предприимчивые португальцы совершили должностное преступление. Согласно «Хронике», они продали «корм» и получили за него деньги, но, несмотря на столь «согласованные» действия, ссоры между ними продолжались. В Астрахани, где зимовало посольство, борьба за лидерство между послами достигла своего апогея. Ф. Дакоста, воспользовавшись отсутствием своего «товарища», украл у него письма к шаху и всю одежду. Возмущенный Д. да Миранда был вынужден жаловаться астраханскому воеводе О.Т. Плещееву. Однако реакция официальных астра ханских властей была по меньшей мере необычной. Воевода обвинил Д. да Миранду «в безумии». Действия О.Т. Плещеева можно было бы объяснить, если бы сохранились его донесения в Посольский приказ. «Хроника кармелитов» объясняет этот факт тем, что «послы плохо обращались с москвичами и делали другие глупости». Папские посланники настолько хорошо освоились в Астрахани, что в дальнейшем хотели возвращаться в Европу именно через Московское государство, так как, несмотря на свой посольский статус, беззастенчиво занимались в Астрахани и в Москве торгово-коммерческими операциями. См.: A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 95–96.
(обратно)310
Посольство прибыло в Персию в состоянии жестокой вражды между посланниками. Ф. Дакоста так и не возвратил имущество «товарищу» до самой Персии. Уже в Казвине «английский капитан», посланный Р. Ширли, уговорил строптивого Ф. Дакосту вернуть одежду Д. да Миранде, который «был практически голый». Однако да Миранде сумел жестоко отомстить обидчику. Получив обратно украденные письма и одежду, он единолично поехал представляться шаху Аббасу, который находился в тот момент в Хорасане. Вручив шаху письма и подарки, что, кстати, сделал, серьезно нарушив посольский церемониал, Миранда объявил, что является единственным послом Климента VIII, а Ф. Дакоста его священник. Кроме того, да Миранда эпатировал шаха своим заносчивым и тщеславным поведением. После общения с папскими послами у шаха сложилось плохое впечатление о католических миссионерах. См.: A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 100.
(обратно)311
«Персия увидит непобедимого Императора Рудольфа, направляемого рукой Господа, который уже многие годы преуспевает в пролитии турецкой крови, ради общего дела Европы, и который будет обязан принять участие в союзе из-за возможного ущерба, который может нанести ему враг… Персия увидит также короля Польши, который может нанести врагу не меньше ущерба. Она увидит также непревзойденных герцогов Московии, Савойи и Тосканы, которые не будут последними в этом благом деле и которые обязательно должны участвовать в Священном союзе». См.: Gouveanus Autonius Relation des grandes guerres et victoires obtenues par le roy de Perse Chah-Abbas contre les empereuris de Turque Mahomet et Achmet son fils… Rouen, 1646. Р. 34.
(обратно)312
Gouveanus Autonius Relation des grandes guerres et victoires obtenues par le roy de Perse Chah-Abbas contre les empereuris de Turque Mahomet et Achmet son fils… Rouen, 1646. Р. 35.
(обратно)313
Испанские послы обычно попадали в Персию морским путем, через Гоа, вокруг мыса Доброй Надежды. Караван со специями, к которому обычно присоединялись посольские корабли, отправлялся в Испанию только один раз в год. Тяжелое и опасное путешествие длилось от 9 до 12 месяцев. Многие послы умирали в море, так и не добравшись до пункта назначения. Диего да Миранда высказал протест на решение Аббаса отправить его этим маршрутом. Его желанием было ехать в Европу через Астрахань и Москву, где он мог сделать настоящее состояние на персидских товарах. Шах пригрозил строптивому послу самой настоящей расправой от рук португальцев, которых да Миранда, находясь в Персии, успел ограбить. См.: A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 169.
(обратно)314
Люсьен Беллан в своем фундаментальном исследовании по истории правления шаха Аббаса писал, что «осенью 1602 г. в Мешхеде Аббас встретился сразу с двумя посольствами. Одно из них представлял посол испанского короля Филиппа III – Антонио да Гувеа, вместе с монахами-августинцами во главе с преподобным Жеромом де ля Крус, второе было посольством от императора Рудольфа II во главе с Стефаном Какашем фон Залонкемени». См.: Bellan L.L. Op. cit. P. 120. Это не соответствует действительности. 6 ноября 1602 г. посольство только прибыло в Москву, зимовало в Русском государстве и только весной 1603 г. отправилось в Персию. См.: Тектандер Г. Краткое и правдивое описание путешествия из Праги через Силезию, Польшу, Москву, Татарию к царскому двору в Персию в 1602–1604 гг. Прага, 1908. С. 9.
(обратно)315
Bellan L.L. Op. cit. P. 120.
(обратно)316
Bellan L.L. Op. cit. P. 121.
(обратно)317
Bellan L.L. Op. cit. P. 122–123.
(обратно)318
Тектандер Г. Указ. соч. С. 22. Тектандер подчеркивает, что «раз двадцать обедал с Его Величеством Шахом». Именно от шаха Тектандер узнал, что «года три тому назад Великий Князь Московский, по наущению Его Римского Императорского Величества, убедил ныне царствующего Шаха открыто объявить войну Туркам. И до нынешнего дня сей последний все одерживал над ними победы». См.: Тектандер Г. Указ. соч. С. 34.
(обратно)319
Тектандер Г. Указ. соч. С. 38.
(обратно)320
Bellan L.L. Op. cit. P. 127.
(обратно)321
Этой точки зрения придерживался Л. Беллан. См.: Bellan L.L Op. cit. P. 201.
(обратно)322
Vocelka K. Die politische Propaganda kaiser Rudolf II (1576-1612). Wien, 1981. S. 97.
(обратно)323
Edem. Rudolf II und seine Zeit. Wien, 1985. S. 235–236.
(обратно)324
Edem. Rudolf II und seine Zeit. Wien, 1985. S. 228.
(обратно)325
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). Р. 18.
(обратно)326
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). Р. 19.
(обратно)327
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). Р. 19.
(обратно)328
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). Р. 20.
(обратно)329
Имеется в виду Тебриз, с 1501 по 1555 г. – столица государства Сефевидов. По договору в Амасийе отошел османам. Шах Аббас вернул Тебриз в 1603 г.
(обратно)330
A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 103.
(обратно)331
Bayani K. Op. cit. P. 15.
(обратно)332
По всей видимости, ровесник о. Павла кардинал Доменико Риварола (1575–1627) был его родственником. Известен знаменитый портрет кардинала Риваролы, написанный А. Ван Дейком.
(обратно)333
Paulus Simon a Jesu Maria. Relatione della Ambasciata che fecero li Padri Carmelitani Scalzi a Scia Abbas, Ré di Persia, in nome della S. Santità di Paolo V // AGOCD. Plut. 234/a. 12 sq. (1609 г.). Рукопись хранится в Главном архиве Ордена Босоногих Кармелитов (Archivio Generale dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi – AGOCD) в Риме.
(обратно)334
A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 103.
(обратно)335
Один из главных монастырей босоногих кармелитов. Монастырь был построен на месте лачуги, располагавшейся на древнеримском фундаменте. В 1592 г. на лестнице (Scala) чудесным образом стал проявляться образ Божьей Матери. Срочно был построен монастырь, на лестнице которого после этого неоднократно происходили чудеса. В настоящее время она является одной из самых почитаемых христианских святынь.
(обратно)336
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). Т. II. Р. 16.
(обратно)337
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). Т. II. Р. 12.
(обратно)338
A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 104.
(обратно)339
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 19.
(обратно)340
Инструкция папы Климента VIII графу Лодовико Ангвишиоле, отправленному послом к царю Федору Иоанновичу, для склонения его к союзу против Турок // Российская историческая библиотека (РИБ). СПб., 1884. Т. VIII. Стб. 21–36.
(обратно)341
Августинские братья – нищенствующий орден, основанный в 1256 г. папой Александром IV, объединившим в единую конгрегацию несколько небольших отшельнических общин в Италии. В своей деятельности руководствуются «Уставом святого Августина», который был написан через много веков после смерти Августина в 430 г. и использовался духовенством, желавшим жить по нормам, близким к монашеским. Именно португальская конгрегация августинцев обосновалась в Гоа во второй половине XVI в.
(обратно)342
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 17.
(обратно)343
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 21.
(обратно)344
В Лорето находится одна из величайших святынь христианства – «святая хижина», или дом, где росла и воспитывалась Дева Мария и где произошло Благовещение.
(обратно)345
Павел-Симон записал в своем дневнике: «Вся эта страна состоит почти из еретиков, которые насмехались над нами; и многие пришли, чтобы посмотреть, есть ли у нас рога, и никто не хотел пустить нас на ночлег; но Бог наш Господь помог нам, как всегда. В Graman (Kruman), когда ни один хозяин гостиницы не захотел нас приютить, мы пошли к Отцам иезуитам, и они приняли нас очень хорошо и приветливо». См.: Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 30.
(обратно)346
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 31.
(обратно)347
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 32.
(обратно)348
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 32.
(обратно)349
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 32.
(обратно)350
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 34.
(обратно)351
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 34.
(обратно)352
Преподобный Викентий пишет «Sapikea», другие пишут «Leo Sapia».
(обратно)353
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 35.
(обратно)354
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 36.
(обратно)355
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 37.
(обратно)356
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 37.
(обратно)357
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 38.
(обратно)358
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 38.
(обратно)359
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 44.
(обратно)360
Bayani K. Op. cit. P. 63.
(обратно)361
Это письмо датировано осенью 1604 г. Таким образом, можно говорить о том, что Лжедмитрий заботился о проекте антитурецкой лиги еще тогда, когда его восхождение на «трон отца и деда» было весьма гипотетично. См.: Pirling P. La Russie et le Saint-Siège. Р. 187.
(обратно)362
Leitsch W. Op. cit. S. 39.
(обратно)363
Предложения Лжедмитрия до сведения императора Рудольфа донес о. А. Лавиский, который специально для этого заезжал в Прагу по пути в Рим. См.: Pirling P. Lettre du Dmitri dit le faux à Clement VIII. Paris, 1898. Р. 18.
(обратно)364
Авраамий Палицын сообщал подробности подготовки похода на Азов. См.: Палицын А. Сказание. М.; Л., 1955. С. 38–39.
(обратно)365
Monumenta Poloniae Vaticano. Cracoviae, Edidit Edward Kuntze, 1950. T. VII. P. 370.
(обратно)366
Еще не имея согласия на участие в антитурецком походе от своих потенциальных союзников, Лжедмитрий приказал накапливать в Ельце казачьим подразделениям артиллерию и другое военное оборудование. На конец весны 1606 г. был запланирован поход на Азов.
(обратно)367
Historica Russiae Monumenta. Т. II. XXXVII. An 1605. Pauli P.V. ad Pseudodemetrium. Р. 57.
(обратно)368
РГАДА. Ф. 77. Оп. 1. Реестр 2. 1607. Ед. хр. 1. Л. 1–24.
(обратно)369
Бушев П.П. в своем исследовании заявил, что посольство И.П. Ромодановского было направлено в Персию, чтобы предъявить шаху Аббасу ультиматум в его неправомерных действиях по отношению к Кахетии, которая «юридически» входила в состав Московского государства. См.: Бушев П.П. История посольств и дипломатических сношений русского и иранского государств в 1586–1612 гг. М., 1976. С. 121. «Неправомерными» действиями П.П. Бушев назвал убийство царя Александра и его младшего сына Георгия старшим сыном Константином, ставленником шаха. Московскому двору было хорошо известно, что Константин был отдан в аманаты шаху еще ребенком. Он вырос в окружении шаха, принял ислам, по его собственным словам, добровольно и женился на одной из принцесс шахской семьи. О своем отношении к царю Александру Константин лично сообщил в 1594 г. московскому послу кн. А.Д. Звенигородскому, требовавшему от шаха отправки Константина в Москву: «Только отец мой всем государем манит, как турском, так государю московскому… и верить ему никому ни в чем нельзя». См.: Памятники дипломатических и торговых сношений Мос ковской Руси с Персией. Т. 1. С. 264. Шах руками Константина расправился с Александром за то, что тот отказался прийти на помощь как к отряду воеводы И. Бутурлина, посланному Годуновым в 1604 г. к Шемахе, так и к самому шаху, выступившему на Ширван. Кстати, грузинским делам в отрывке наказа отведено несколько строк, среди прочих поручений.
(обратно)370
Карамзин Н.М. История государства Российского. Т. 9. С. 462–463.
(обратно)371
К середине лета 1606 г. Лжедмитрий приказал накапливать в Ельце казачьим подразделениям артиллерию и другое военное оборудование для похода на османский Азов.
(обратно)372
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 110.
(обратно)373
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 111.
(обратно)374
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 48.
(обратно)375
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 52. Здесь речь шла о заговоре Василия Шуйского, которого Лжедмитрий помиловал во время его казни.
(обратно)376
Это письмо было написано 15 марта 1606 г.
(обратно)377
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). Р. 67.
(обратно)378
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). Р. 70.
(обратно)379
Pirling P. La Russie et le saint-siège. Р. 213.
(обратно)380
Pirling P. La Russie et le saint-siège. Р. 210.
(обратно)381
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 112.
(обратно)382
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 69.
(обратно)383
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 70.
(обратно)384
Строительство белокаменного Кремля началось в Казани сразу же после ее присоединения к Русскому государству, в 1556 г. Его описание есть в самой ранней писцовой книге по городу (1565–1568): «И всего города каменные стены и около башен и стрелен по загороду с одного меры 300 сажен, до Никольских и Воскресенских ворот каменные ж стен меры 15 сажен». См.: РГАДА. Ф. 127. Оп. 1. Кн. 4. Л. 107.
(обратно)385
Пинегин М.Н. Казань в ее прошлом и настоящем: очерки по истории, достопримечательностям и современному положению города. СПб., 1890. С. 104.
(обратно)386
Разрядная книга. 1475–1605 гг. [Подготовка текста, вводная статья и ред. В.И. Буганова]. М., 1994. С. 124.
(обратно)387
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 71.
(обратно)388
Белокуров С.А. Разрядные записи за Смутное время. (7113-7121 гг.). М., 1907. С. 74.
(обратно)389
В свою очередь, был незаконнорожденным сыном Богдана III от Анастасии из Лэпушны. Богдан III Злой был сыном Стефана Великого.
(обратно)390
Кобеко Д.Ф. Волошский воевода Степан Александрович // Известия русского генеалогического общества. 1911. Вып. 4. С. 31.
(обратно)391
Кобеко Д.Ф. Волошский воевода Степан Александрович // Известия русского генеалогического общества. 1911. Вып. 4. С. 33.
(обратно)392
Послов нужно было принимать со всеми почестями. В их честь устраивались «толстотрапезные» пиры; для стрельцов и народа на воеводском дворе выставлялись кади с вином, пивом и медом. Послы столовались за царский счет, а воеводы должны были их одаривать подарками, в противном случае «царь бывал гневен».
(обратно)393
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 72.
(обратно)394
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 72.
(обратно)395
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 72.
(обратно)396
Дневник происшествий московских и посольства в Москву пана Н. Олесницкого и его секретаря А. Гонсевского // Сказание современников. 1865. С. 78.
(обратно)397
Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией. Т. II. С. 146–147. Делалось это настолько небрежно, что имя «Димитрия Иоанновича» даже было не заретушировано, а просто зачеркнуто одной чертой, а сверху написано имя Василия Шуйского.
(обратно)398
Тюменцев И.О. Смута в России в начале XVII столетия: Движение Лжедмитрия II. Волгоград, 1999. С. 212.
(обратно)399
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). Р. 75.
(обратно)400
Тюменцев И.О. Самозванцы 1606–1607 гг. и народная религиозность // Средневековое православие. Волгоград, 2000. Вып. 2. С. 213.
(обратно)401
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 75.
(обратно)402
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 77.
(обратно)403
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 77.
(обратно)404
Тюменцев И.О. Царицынская крепость в XVII в. // Стрежень. Волгоград, 2000. С. 193.
(обратно)405
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 76.
(обратно)406
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 78.
(обратно)407
Тюменцев И.О., Свиридонова В.П. Описание путешествия монахов по Волге в 1606–1607 годах (главы из «Хроники кармелитов») // Стрежень. Волгоград, 2000. С. 419.
(обратно)408
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 78.
(обратно)409
Согласно «Новому летописцу», князь Иван Петрович Ромодановский погиб в Царицыне от рук самозванца Лжепетра. См.: Новый летописец // Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). Т. XIV. СПб., 1910. С. 321.
(обратно)410
Тюменцев И.О. Смута в России в начале XVII столетия. С. 232.
(обратно)411
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 79.
(обратно)412
Белокуров С.А. О Посольском приказе. М., 1906. С. 136.
(обратно)413
Разрядные записи за Смутное время. С. 211.
(обратно)414
Разрядная книга 1475–1605 гг. М., 2003. Ч. 2. С. 64.
(обратно)415
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 80.
(обратно)416
Florencio del Niño Jesús. A Persia (1604–1609). P. 62.
(обратно)417
A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 91.
(обратно)418
A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 92–93.
(обратно)419
Медведева К.Т. Указ. соч. С. 116.
(обратно)420
Медведева К.Т. Указ. соч. С. 118.
(обратно)421
Медведева К.Т. Указ. соч. С. 135.
(обратно)422
Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XVII в. С. 23.
(обратно)423
В сентябре 1607 г. император выступил перед Государственным собранием и объявил, что в течение всего своего правления он вел победоносные войны с османами, которые пришлось прервать из-за венгерского восстания, его вынудили заключить мир с Портой. Однако поведение османов, по мнению Рудольфа, позволяло предположить, что они заключили мир фиктивно. Поэтому он отложил отъезд своих послов, уже готовых отправиться в Стамбул, до тех пор пока не узнает истинных намерений султана. См.: Медведева К.Т. Указ. соч. С. 148.
(обратно)424
Кстати, эта информация действительно была получена императором. См.: Королевство Венгрия и Трансильвания во время войны Османов с Габсбургами. М., 1994. С. 97–98.
(обратно)425
Эти сведения в Рим сообщил нунций Д.С. Феррери. См.: Joannis Stephani Ferrerii. Op. cit. Р. 291.
(обратно)426
Медведева К.Т. Указ. соч. С. 149. Интересна позиция самого Матиаса в отношении Османской империи. Матиас предлагал создать видимость мира с османами и венграми, до тех пор пока вопрос о войне с османами не решится окончательно между сословиями и императором. Подобную позицию можно резюмировать как «войны не вести, мира не заключать».
(обратно)427
«Au roy, 1607, 14 mars» / Ambassade en Turquie. 1886. P. 150–152.
(обратно)428
«Au roy, 1607, 14 mars» / Ambassade en Turquie. 1886. P. 150.
(обратно)429
«Au roy, 1607, 14 mars» / Ambassade en Turquie. 1886. P. 151. Речь шла о восстании Кара-Языджи и Дели Хасана (братья Абдулхалил), установивших контроль над Восточной Анатолией.
(обратно)430
Кармелиты составили письменную характеристику этого неординарного человека: «…Дон Роберт мужчина среднего роста, белокурый и безбородый, примерно 30 лет от роду. В ухе носит серьгу в виде маленького кольца с алмазом. Человек он проницательный, но хвастливый, претенциозный и тщеславный. В Персии он жил свободно, как католик, посещал церкви и выполнял все необходимые для хрестьянина обязанности». См.: A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 120.
(обратно)431
Ferrier R.W. Op. cit. P. 89.
(обратно)432
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Op. cit. P. 121.
(обратно)433
Berthold-Ignace de Sainte-Anne. Histoire de L’Etablissement de la Misson de Perse. P. 81.
(обратно)434
Посольство Мехди Кули-бека прибыло в Европу в декабре 1604 г.
(обратно)435
A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 82. Возвратившийся в Персию Мехди Кули-бек, в отличие от Зайнуль Абдин-бека, снискал большее расположение шаха и даже был повышен по службе. Он стал начальником стражи у сына главного визиря Алаверди-хана – Али Кули-хана, который в 1622 г. отвоюет у испанцев Ормуз. Ibid. P. 170.
(обратно)436
Leitsch W. Moskau und die Politik… S. 61.
(обратно)437
Leitsch W. Moskau und die Politik… S. 61.
(обратно)438
Leitsch W. Moskau und die Politik… S. 62.
(обратно)439
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 101.
(обратно)440
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 102.
(обратно)441
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 103. В одном из писем к папе Аббас действительно предлагал отдать Иерусалим в вечное владение Римской курии, если ему удастся им овладеть. См.: Ibid. Р. 212.
(обратно)442
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 103.
(обратно)443
Туманович Н.Н. Указ соч. С. 45–46.
(обратно)444
Имелось в виду посольство Мехди Кули-бека и Зайнуль Абдин-бека, которые в течение шести месяцев на рубеже 1603-1604 гг. находились в Праге одновременно.
(обратно)445
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 123.
(обратно)446
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 124. Как уже отмечалось, Аббас считал, что находился в состоянии войны с турками с момента окончания перемирия в 1597 г.
(обратно)447
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 125.
(обратно)448
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 127. Со своей стороны, по замыслу Римской курии, Аббас должен был отправить в Рим своего полномочного представителя.
(обратно)449
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 169.
(обратно)450
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 140.
(обратно)451
Чтобы иметь возможность приватно беседовать с шахом и, что еще более важно, понимать разговоры окружающих, кармелиты за три месяца выучили персидский язык. Точнее сказать, тюркский (азери), на персидском составлялись официальные и дипломатические документы.
(обратно)452
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 142.
(обратно)453
Bellan L.L. Op. cit. P. 132.
(обратно)454
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 120.
(обратно)455
Bayani K. Op. cit. Р. 61.
(обратно)456
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 143.
(обратно)457
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 141.
(обратно)458
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 144.
(обратно)459
Ивонин Ю.Е. Указ. соч. С. 74.
(обратно)460
Письмо датировано 20 июля 1608 г. См.: A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 140.
(обратно)461
Bayani K. Op. cit. P. 100–101.
(обратно)462
Эту информацию доставили Аббасу кармелиты и вернувшийся вслед за ними Зайнуль Абдин-бек, и, кроме того, шаха регулярно информировали его «тезики», имевшие свои торговые кварталы в Астрахани.
(обратно)463
Berthold-Ignace de Sainte-Anne. Op. cit. Р. 367.
(обратно)464
РГАДА. Ф. 77. Оп. 2. Грамоты 1603–1717. № 5. Содержание грамоты говорит лишь о том, что она является верительной. // Если учесть, что о. Иоанн-Фаддей так и не попал в Москву, то можно предположить, что эта грамота была привезена не о. Иоанном-Фаддеем. Однако известно, что в практике Посольского приказа было принято отсылать привезенные верительные грамоты в Москву еще до прибытия посла, в то время как посольство ожидало разрешения на въезд в Астрахани или Смоленске.
(обратно)465
Эти предложения Аббаса известны только из отчета о. Иоанна-Фаддея в Рим.
(обратно)466
Судя по этой фразе, можно предположить, что Аббас был информирован о том, что Польша и Московское государство к этому моменту времени представляли собой «нечто единое».
(обратно)467
A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 194.
(обратно)468
По всей видимости, имеется в виду крепость Терки, в которой зимовал в 1604/05 г. воевода Бутурлин, посланный Б. Годуновым на помощь войскам шаха после переговоров с персидским послом Лачин-беком в начале 1604 г. См.: Смирнов Н.А. Россия и Турция в XVI–XVII веках. Т. 2. С. 4. Отряд Бутурлина был разбит турками, а крепость разрушена.
(обратно)469
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 195.
(обратно)470
Имеются в виду священники армянской церкви, которые приняли унию с католиками.
(обратно)471
Грузинский царь Александр был убит своим старшим сыном Константином по приказу шаха Аббаса весной 1605 г. В этот момент при его дворе находились московские послы М.И. Татищев и дьяк А. Иванов. Посольство было направлено в Грузию почти одновременно с отправкой отрядов воеводы И. Бутурлина в Дагестан в 1604 г. Об этом свидетельствует запись в Разрядной книге, которая следует за записью о комплектовании полков И. Бутурлина. См.: Разрядная книга 1475–1605. С. 65. Посольство М.И. Татищева должно было привести Александру предписание Б. Годунова о том, что русские войска начинают военные действия против шевкала. На месте Александра не оказалось, так как он находился на турецко-персидском фронте вместе с шахом. Послам пришлось его ожидать. Аббас, узнав об этом, специально отпустил Алек сандра для соединения с русскими подразделениями воеводы И. Бутурлина. Однако по неизвестной причине Александр на помощь И. Бутурлину не пришел, и русский гарнизон был практически полностью уничтожен турками. За это Аббас приказал убить Александра и его младшего сына Георгия. Расправу над отцом и братом Константин совершил «перед государевыми послы». Новости о событиях в Грузии в Москву принесли М. Татищев и А. Иванов. См.: Белокуров С.А. Сношения России с Кавказом. С. 571. Царь Теймураз был сыном царевича Георгия.
(обратно)472
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 194. «С великой радостью в сердце» о. Иоанн-Фаддей наблюдал, как по улицам грузинской столицы 23 марта 1611 г. прошел крестный ход к главному храму города, в котором было прочитано католическое кредо подчинения римскому папе и прочитана месса. Кроме этого, православный царь Теймураз предложил кармелитам создать в его стране филиалы ордена.
(обратно)473
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 196.
(обратно)474
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 197.
(обратно)475
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 197.
(обратно)476
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Р. 197.
(обратно)477
Как уже говорилось, церковный суд приговорил о. да Мело к 10 годам монастырской тюрьмы, откуда он смог освободиться только с приходом к власти Лжедмитрия I. См.: A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 71.
(обратно)478
Пирлинг П. Марина Мнишек после майского погрома // Русская старина. 1903. № 2. С. 235.
(обратно)479
Юдин П.А. Посольство Марины к шаху Аббасу: Эпизод из истории Смутного времени // Русская старина. 1914. № 12. С. 628.
(обратно)480
Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией. Т. III. С. 112.
(обратно)481
Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией. Т. III. С. 425.
(обратно)482
Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией. Т. III. С. 428.
(обратно)483
Воевода И.П. Хворостинин был казнен по приказу атамана И.М. Заруцкого в 1613 г.
(обратно)484
Памятники… С. 424.
(обратно)485
Памятники… С. 429.
(обратно)486
Синюхаев Г. Марина Мнишек и шах Аббас II // Русская старина. 1903. Т. 114. С. 158.
(обратно)487
A Chronicle of the Carmelites in Persia. P. 197.
(обратно)488
«А литовку Маринку было ему шаху у себя держати на постели». См.: Памятники… T. III. C. 352.
(обратно)489
Памятники… T. III. С. 434.
(обратно)490
A Chronicle of the Carmelites in Persia. Op. cit. P. 198.
(обратно)491
Berthold-Ignace de Sainte-Anne. Reverend Père. Histoire de L’Etablissement de la Mission de Perse par les Pères Carmes-Dechausses (de l’année 1604 à 1612).
(обратно)492
Сигизмунд III (1566–1632) – сын шведского короля Юхана III и Екатерины Ягеллонки, отец Владислава IV. Как потомок Ягеллонов по женской линии, 21-летний принц Сигизмунд в 1587 г. был избран польским королем, благодаря стараниям своей тетки Анны Ягеллонки и Яна Замойского.
(обратно)493
Скапуларий – элемент монашеского одеяния, носимый католиками по обету, представляет собой два прямоугольных куска материи или иного материала, на которые нанесены религиозные изображения или тексты, скрепленные между собой шнурами. Наиболее распространенным среди скапуляриев является кармелитский «Скапулярий Матери Божией с горы Кармель», известный также как «Коричневый скапулярий»
(обратно)494
Сапега Лев (1557–1633) – государственный деятель и дипломат Речи Посполитой; с 1589 г. – канцлер Великого княжества Литовского, с 1623 г. – воевода виленский, с 1625 г. – литовский великий гетман. Происходил из древнего рода оршанских бояр. Сапеги являлись представителями герба «Лис» и считались другим по значительности (после Радзивиллов) магнатским родом ВКЛ. В 1584 г. Сапега был направлен королем Стефаном Баторием в Москву в качестве посла. В 1600 г. Сапега вторично прибыл в Москву в качестве посла. В результате переговоров с царем Борисом Годуновым в 1601 г. было заключено двадцатилетнее перемирие. Активно поддерживал деятельность Лжедмитрия I, а после его гибели начатую королем Сигизмундом III в 1609 г. открытую интервенцию в Русское государство, рассчитывая, что избрание королевича Владислава на русский престол приведет в конце концов к унии Речи Посполитой и Русского государства.
(обратно)495
С 1586 г. Лев Сапега получил в пожизненное владение Слонимское староство, прибыль от которого шла ему. После этого Лев Сапега сделал Слоним своей главной резиденцией. Во время его староства был значительно перестроен и благоустроен городской замок, расширены помещения архива и библиотеки, построен новый каменный призамковый дворец (названный дворцом Сапеги), где в 1597–1685 гг. проходили предсеймовые генеральные сеймики всего Великого княжества Литовского, куда съезжались послы и сенаторы воеводств. Здесь проводились также сеймики поветовые, на которых выбирались послы на сеймики генеральные и депутаты в трибуналы. Для приема большого количества вельмож Сапега построил рядом с замком дома для гостей, вымостил улицы и площадь, посадил сады, построил новые мосты.
(обратно)496
Фотий, патриарх Константинопольский (820–897) – богослов, проповедник, ученый и политик, константинопольский патриарх с 857 по 867 и с 878 по 886 г. Блестяще образованный, глубоко постигший как богословскую, так и классическую литературу. В период патриаршества Фотия папство в лице папы Николая получило достойный ответ в своих притязаниях – как политико-территориальных, так и догматически-вероучительных. Фотий был высокообразованным, знал не только в совершенстве философию, но и богословие. Когда споры о Филиокве были в самом разгаре, в 60-х гг. IX в., Фотий кратко, но четко изложил суть православного учения против этой ереси в двух документах, в двух посланиях. Одно было Окружным посланием, а другое было обращено к патриарху Аквилейскому, имя которого неизвестно. Уровень образования папы Николая, «истинного носителя папской идеи», не мог стать вровень с Фотием. Кроме того, Фотий отличался такой же энергией и силой воли, какой и папа Николай. Все это в совокупности сделало память Фотия священной для церкви восточной, в то же время сделало его настолько ненавистным для церкви римской, что до сих пор ни один церковный писатель-католик не может равнодушно говорить о Фотии.
(обратно)497
Текст письма написан на латыни и находится во II томе L’HISTORIA GENERALIS CARM. DISC. (Общая история.) С. 56.
(обратно)498
Латинский текст, воспроизведенный отцом Евсевием Всех Святых и отцом Петром Св. Андрея в L’HISTORIA GENERALIS CARM. DISC.
(обратно)499
Петр Пресвятой Девы Марии был генерал-приором Ордена Босых братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель.
(обратно)500
Латинский текст, предоставленный Петром Св. Андрея в HISTORIA GENERALIS CARM. DISC. (Общая история.) Т. II. С. 60.
(обратно)501
Полоцк был, с этой стороны, последним городом Речи Посполитой. В 1579 г. король Стефан Баторий отвоевал Полоцк у Ивана Грозного.
(обратно)502
Невель – город в нескольких лье от Витебска.
(обратно)503
Латинский перевод можно посмотреть во II томе, с. 58 в HISTORIA GENERALIS CARM. DISC.
(обратно)504
На Балтике.
(обратно)505
На Белом море.
(обратно)506
HISTORIA GENERALIS CARM. DISC. T. III. С. 348.
(обратно)507
Перекоп – город, расположенный на перешейке того же названия, который соединяет Крым с континентом.
(обратно)508
Замойский Ян (1542–1605) – королевский секретарь, затем канцлер и великий коронный гетман Речи Посполитой, крупнейший военный и политический деятель 1570–1580-х гг., вождь польской «коронной шляхты», убежденный и последовательный противник России, осаждавший Псков во главе польской армии в 1580 и 1581 гг.
(обратно)509
Орден Святого Василия, или Базилиане (Ordo Sancti Basilii Magni). Название нескольких католических монашеских орденов византийского обряда, следующих общежительному уставу, который приписывается св. Василию Великому. Орден получил большое распространение в восточных областях Речи Посполитой, где большинство населения традиционно придерживалось византийского обряда. Деятельность ордена способствовала переходу в католичество восточного обряда православного населения восточных земель Речи Посполитой.
(обратно)510
Дербент, который турки называют Демир-Капи (железные ворота), является главным городом Дагестана. Он существует с незапамятных времен. Будучи расположенным у подножия горы, на западном берегу Каспийского моря, он имеет важное стратегическое значение. Хосров его фортифицировал, после чего его захватили арабы и знаменитый Гарун аль-Рашид основал в нем свою резиденцию. Затем город часто менял хозяев. В 1722 г. Россия отняла его у Персии, но в 1795 г. он был возвращен Персии, однако затем, уже во второй раз, он отошел к России, где и находится в настоящее время.
(обратно)
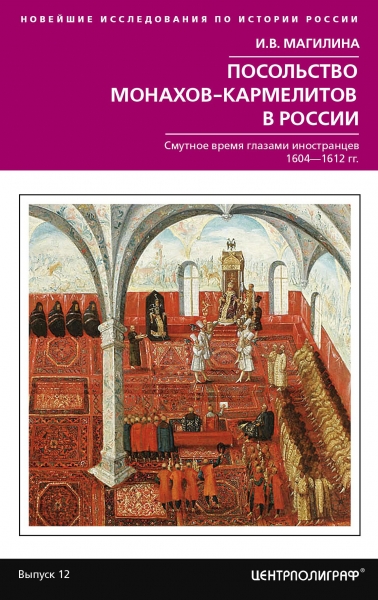


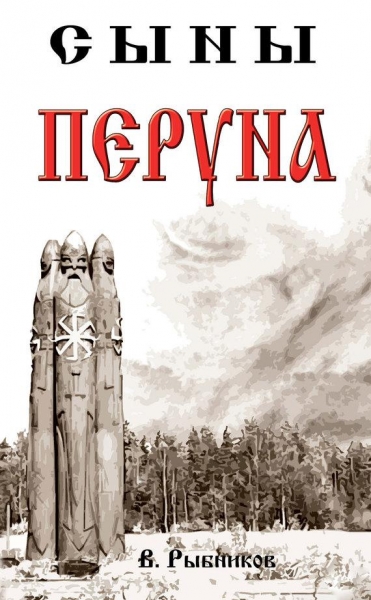
Комментарии к книге «Посольство монахов-кармелитов в России. Смутное время глазами иностранцев. 1604-1612 гг.», Инесса Владимировна Магилина
Всего 0 комментариев