Ростислав Капелюшников ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ История идей, методология, неравенство, рост
© Капелюшников Р. И., 2021
Предисловие
Предлагаемая вниманию читателя монография представляет собой сборник работ (как общетеоретических, так и более прикладных), публиковавшихся в основном в 2013–2019 гг. Вошедшие в нее исследования разнообразны по тематике, но строятся вокруг четырех ключевых сюжетов: история идей, методология, неравенство, экономический рост. Многие из этих работ при первой публикации вызвали значительный интерес и были затем включены в списки учебной литературы для различных курсов по экономической и социологической теории. Однако зачастую они выходили в малотиражных труднодоступных изданиях. Объединение этих работ в рамках одной монографии не только сделает их более доступными, но и позволит отечественному читателю получить более полное и целостное представление о ряде ведущих направлений современного экономического анализа — таких как институциональная теория, поведенческая экономика, демографическая экономика, австрийская экономическая школа и др. Несмотря на кажущуюся мозаичность, собранные в книге работы дают комплексное представление о важнейших путях, по которым движется сегодня экономическая мысль. Рассматриваемые в ней проблемы важны как с теоретической, так и с практической точек зрения.
В первой части обсуждаются некоторые «вечные темы», никогда не перестающие интересовать представителей самых разных общественных дисциплин. Здесь прослеживается история возникновения и последующей эволюции таких важнейших для обществознания концептов, как «мрачная наука» (Т. Карлейль), «дух капитализма» (М. Вебер), «расширенный порядок» (Ф. Хайек). Обращаясь к происхождению концепта «мрачная наука», мы обнаруживаем, что широко распространенное представление, будто Карлейль назвал так современную ему политическую экономию из-за пессимистических выводов, которые следовали из теории народонаселения Т. Р. Мальтуса, на самом деле является мифом. Карлейлевские тексты не оставляют сомнений, что он наградил политическую экономию эпитетом «мрачная» за активные выступления экономистов-классиков против сохранения рабства в британских колониях. Что касается «духа капитализма», то, следуя Веберу, такой тип экономической мотивации можно было бы описать с помощью достаточно простой формулы: «протестантская этика минус религиозность». Важно, однако, учитывать, что по большому счету подобную специфическую форму экономического поведения Вебер считал уже реликтом прошлого, полагая, что с наступлением XX в. она практически исчезла. Парадоксально выглядит и ситуация с хайековской концепцией «расширенного порядка», поскольку некоторые экономисты-неоклассики не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить на нее моральную ответственность за многочисленные провалы рыночных реформ в бывших социалистических странах. Не нужно быть большим знатоком истории экономической мысли, чтобы признать заведомую несостоятельность этих попыток. По сути, они представляют собой защитную реакцию мышления, формируемого неоклассической экономической теорией. Можно надеяться, что содержащийся в первой части подробный анализ концептов «мрачная наука», «дух капитализма» и «расширенный порядок» будет способствовать устранению недоразумений и ложных толкований, нередко возникающих по их поводу.
Во второй части представлен развернутый анализ трех новейших концептуальных трендов, полностью изменивших за последние 30–40 лет облик современной экономической науки. Это — пришествие экспериментальных и квазиэкспериментальных методов анализа; рождение и утверждение поведенческой экономики; проникновение в исследования по экономической истории институционального подхода, в котором главным «мотором» исторического процесса провозглашается защищенность прав собственности. Подобная теоретическая переориентация означала разрыв с установками «экономического империализма», доминировавшего в междисциплинарных взаимодействиях на протяжении нескольких предыдущих десятилетий. Если раньше в таких взаимодействиях экономическая наука выступала в роли «учителя», тогда как другие дисциплины в роли «учеников», то теперь она уже стала представать в роли «ученика», тогда как другие дисциплины в роли «учителей». В случае разработки и применения экспериментальных и квазиэкспериментальных методов это — медико-биологические исследования, в случае поведенческой экономики это — когнитивная психология. (Более сложный случай представляет институциональный подход к изучению истории, который, наверное, было бы правильнее рассматривать как запоздалую манифестацию «экономического империализма».)
Как следует относиться к этим парадигмальным сдвигам? Можно ли рассматривать их как безусловные свидетельства научного прогресса, достигнутого экономического наукой на рубеже XX–XXI вв.? Представленный в этой части анализ позволяет сделать вывод, что оценка этих концептуальных новаций должна быть по меньшей мере неоднозначной. Так, пришествие эксперименталистики сопровождалось резким сдвигом экономической науки в сторону атеоретичности: если раньше она мечтала быть как физика и ставила своей целью открытие универсальных закономерностей, управляющих социальными процессами, то сегодня она превратилась в подобие медицинской статистики и видит свое предназначение в обнаружении тех или иных точечных каузальных эффектов. Появление поведенческой экономики означало перенос акцентов с изучения рыночного на изучение индивидуального поведения (традиционного поля деятельности психологии), а также обращение к разного рода манипулятивным техникам как при получении, так и интерпретации результатов анализа. Наконец, если говорить об институциональном подходе к истории, то он открыл двери для достаточно произвольных фантазий на исторические темы, склонность к которым, как показывает анализ, питают многие ведущие исследователи-институционалисты.
Части третья и четвертая переносят нас из мира идей в мир реальных экономических явлений и процессов. Часто не сознают, что в начале XXI в. мировая экономика пережила радикальную трансформацию, приобретя немало новых черт, с трудом поддающихся теоретическому осмыслению. Сегодня это мир, где налицо резкое замедление темпов экономического роста, хотя причины этого замедления до сих пор остаются не до конца понятными; где на всех углах твердят о пришествии Четвертой промышленной революции, но никаких следов ее влияния на динамику производительности труда почему-то не видно (возможно, пока?); где широко распространены страхи по поводу возникновения крупномасштабной технологической безработицы, но где фактическая безработица поддерживается на достаточно низком, а в некоторых случаях даже на сверхнизком по историческим меркам уровне; где многие экономики утратили былую мобильность и динамичность, о чем наглядно свидетельствует ощутимое проседание таких показателей, как коэффициенты создания и ликвидации рабочих мест, коэффициенты рождаемости и смертности фирм, степень географической мобильности населения и т. д.; где несмотря на сверхмягкую денежную политику (политику денежного смягчения), сохраняемую на протяжении уже целого десятилетия, инфляция загадочным образом удерживается на поразительно низкой отметке; где кривая Филлипса, описывающая связь между безработицей и динамикой цен, схлопнулась и уже не работает; где экономическое неравенство стало рассматриваться как главное зло, с которым сталкиваются современные общества, но где попытки его количественного измерения пребывают в состоянии статистической «какофонии» и где в глобальном масштабе наблюдается его быстрое снижение; где происходит стремительное старение населения, но где государства продолжают упорно держаться за распределительные пенсионные системы, так что, скорее всего, рано или поздно это должно будет привести к коллапсу государственных финансов. Некоторые из этих головоломок (угроза «вековой стагнации», перспектива крупномасштабной технологической безработицы, экономические эффекты старения населения) подробно обсуждаются в третьей и четвертой частях. Можно надеться, что это будет способствовать хотя бы частичному прояснению достаточно необычной ситуации, сложившейся в последние десятилетия в мировой экономике.
Дополнительно в книгу включена небольшая работа, написанная на старте рыночных реформ (1992), в которой предпринималась попытка предугадать, есть ли у идей либерализма шансы прижиться на российской почве. Ретроспективно представляется небезынтересным заглянуть в прошлое, чтобы сравнить ожидания четвертьвековой давности с реальным ходом событий: какие из выдвигавшихся тогда аргументов «за» или «против» возможного расширения ареала влияния либерализма сработали, а какие нет.
В заключение остается добавить, что предлагаемая вниманию читателя книга продолжает и развивает линию анализа, представленную в предыдущей монографии автора «Экономические очерки: методология, институты, человеческий капитал» (2016).
История идей
I Казус Карлейля, или Кто рассорил экономическую науку с другими социальными и гуманитарными дисциплинами[1]
В этих заметках я намерен коснуться трех тем, так или иначе связанных с крылатым выражением «мрачная наука», свободно переходя от одной к другой: 1) место этого концепта в истории идей; 2) его место в дискуссиях по социальным проблемам в Великобритании XIX в.; 3) его место в системе представлений Т. Карлейля — мыслителя, которому он обязан своим рождением. При этом я исхожу из того, что читателю известно, кто такой Карлейль и при чем тут классическая политическая экономия.
ДВЕ ВЕРСИИ
«Мрачная» — таков ярлык, намертво приставший к экономической науке, от которого она не может избавиться вот уже более полутора столетий. Одни теоретические школы умирали, другие рождались, новые концепции вытесняли старые, на смену одним авторитетам приходили другие, совершенствовались методы и техника анализа, иной становилась сама рыночная система, но — что бы ни происходило с экономической наукой, а также с экономической реальностью, которую она изучала, — презрительная кличка, пущенная в оборот в середине XIX в. британским историком, философом, писателем и публицистом Томасом Карлейлем (1795–1881), неизменно оставалась в ходу и ею неизменно охотно (скажем даже — не без некоторого садистического удовольствия) продолжали пользоваться представители других социальных и гуманитарных дисциплин. И более того: подобная дискурсивная практика благополучно дожила до наших дней и на нее по-прежнему имеется устойчивый спрос.
Похоже, сам Карлейль чрезвычайно гордился изобретенным им оборотом и часто использовал его в своих текстах, причем не только в сочинениях, рассчитанных на широкую публику, но даже в частной переписке [Coleman, 2002] Однако «мрачная» — лишь один из множества бранных эпитетов, на которые он не скупился по отношению к современной ему экономической науке — классической политической экономии. В своей знаменитой «Речи по поводу негритянского вопроса» (1849) Карлейль описывает политическую экономию в таких терминах: «безотрадная, унылая, …довольно жалкая и удручающая; такая, что вполне заслуживает названия мрачной науки» [Карлейль, 2019]. Возникает вопрос: за что же такая немилость?
Чтобы ответить на него, обратим прежде всего внимание на контекст, в котором впервые появляется это выражение. «Мрачной науке» противопоставляется «веселая наука». По словам Карлейля, «„социальная наука“ (иначе говоря — политическая экономия) — это „печальная“, а вовсе не „веселая“ наука, за какую она пытается себя выдать» [Там же]. Но что тогда представляет собой настоящая, а не притворная «веселая наука», которую он имеет в виду? Особой загадки тут нет: в истории литературы словосочетание «веселая наука» издавна обозначало поэзию провансальских трубадуров [Перски, 2019]. (Позднее «Веселой наукой» назвал одну из своих книг Ф. Ницше — возможно, не без влияния Карлейля.) Тем самым Карлейль дает понять, что свою атаку на «мрачную науку» политической экономии он ведет от лица «веселой науки»: в буквальном смысле — от лица поэзии, в более общем — от лица культуры и искусства своего времени. И действительно: единомышленниками и союзниками Карлейля в его крестовом походе против «проповедников спроса и предложения» выступали лучшие перья тогдашней Англии — Ч. Диккенс, Ч. Кингсли, Дж. Рёскин, А. Теннисон, Э. Троллоп, Р. Саути и др. (Диккенсовский роман «Тяжелые времена» вышел с посвящением Карлейлю.) Позднее — несомненно с его подачи — жестко критическая, «антиэкономистская» установка проникла и прочно укоренилась в самых различных социальных и гуманитарных дисциплинах — от социологии и антропологии до истории и литературоведения.
Но все же за что конкретно экономическая наука была награждена прозвищем «мрачная»? Расхожее объяснение, которое вошло в учебники и на котором среди прочих настаивали и такие авторитетные экономисты, как Дж. К. Гэлбрейт или Р. Хейлброннер [Galbraith, 1987; Heilbroner, 1986], гласит, что все дело в теории народонаселения Т. Р. Мальтуса. Согласно Мальтусу, численность населения всегда будет расти быстрее, чем количество доступного людям продовольствия, так что основная часть человечества обречена на то, чтобы влачить жалкую жизнь на уровне минимума средств существования, обеспечивающем в лучшем случае простое выживание. Любые попытки улучшить судьбу этих несчастных обречены на провал, поскольку будут сводиться на нет действием объективных экономических законов: становясь хоть немного состоятельнее, люди сразу же примутся быстрее размножаться, так что все неизбежно вернется на круги своя. Получается, что Карлейль окрестил политическую экономию «мрачной наукой» за присущие ей фатализм, пессимизм и неверие в возможность изменения общества к лучшему.
В таком случае распределение ролей представляется очевидным: по одну сторону «мрачная наука» экономистов — бездушная, сухо рационалистическая, восхваляющая безудержный эгоизм и погоню за прибылью, сводящая все многообразие человеческих отношений к денежным связям, грубо материалистическая и не признающая высших духовных ценностей, выражающая интересы правящих классов и внушающая низшим слоям общества чувство смирения перед выпавшей на их долю незавидной судьбой, а по другую — «веселая наука» интеллектуалов-гуманитариев — высокодуховная, антирассудочная, оптимистичная, гуманная, ставящая моральные ценности выше материальных, протестующая против того, чтобы все измерялось деньгами, сострадающая униженным и оскорбленным и стремящаяся к тому, чтобы улучшить жизнь беднейших групп населения. В общем, знакомая картина: говоря современным политическим языком, «реакционеры против прогрессистов».
Однако не выдуманная, а реальная история происхождения выражения «мрачная наука» выглядит совершенно иначе. При обращении к фактам выясняется, что общепринятое толкование — самый настоящий миф: издевательское определение экономической науки было впервые использовано Карлейлем вне всякой связи с доктриной Мальтуса и отнюдь не являлось реакцией на нее[2]. Он клеймил политическую экономию позором вовсе не за ее предостережения относительно возможных последствий роста населения, а за ее призывы к освобождению чернокожего населения британских колоний от рабства. Для Карлейля, как следует из его собственных пояснений, слово «раб» означало «слугу, нанятого пожизненно» и такую форму найма он полагал «самым что ни на есть желанным соглашением» [Карлейль, 2019, с. 44].
Стоит напомнить, что в то время, когда писался его памфлет, институт рабства имел широкое распространение во всем мире и даже в Британской империи его отмена произошла лишь недавно (примерно за полтора десятилетия до публикации «Речи»). То, что полемика между Карлейлем и экономистами-классиками шла именно по этому вопросу, отчетливо видно из самого названия его работы. В ней он доказывает, что в британских колониях Вест-Индии после отмены рабства воцарился хаос, что бывшие рабы стали чересчур зажиточными, что из-за этого они отказываются от работы на сахарных плантациях и что их следует принуждать к ней силой — «с благотворной помощью кнута, коль скоро другие средства не помогают» [Там же, с. 40]. В его глазах физическое принуждение чернокожего населения к труду было морально вполне оправдано, поскольку это биологически низшая раса, неспособная разумно распорядиться свободой, если ей ее предоставить. Любопытный факт: при переиздании своего памфлета в виде отдельной брошюры Карлейль дал ему немного иное, намеренно расистское название — «Речь по поводу ниггерского вопроса» [Carlyle, 1853][3]. Скорее всего, таким же оно было и в первоначальной авторской редакции, но издатель «Журнала Фрейзера для города и деревни», где «Речь» была опубликована впервые, по-видимому, испугался столь неприкрытого нарушения общественных приличий, изменив его на более нейтральное — «Речь по поводу негритянского вопроса».
Но коль скоро выражение «мрачная наука» имеет однозначно расистскую родословную, то тогда распределение ролей оказывается совершенно иным: по одну сторону экономисты-либералы — просвещенные, проникнутые духом гуманизма, отвергающие тиранию, рабство и крепостничество, ставящие свободу выше материального интереса, исповедующие универсалистскую этику, не приемлющие расизм, отстаивающие равенство всех людей перед законом независимо от цвета кожи, считающие своим моральным долгом оказывать поддержку самым обездоленным и готовые ради этого идти на материальные жертвы, а по другую — интеллектуалы-гуманитарии, оправдывающие расизм, убежденные в том, что между народами существуют непреодолимые, биологически обусловленные различия, проповедующие примитивную племенную мораль по принципу «свой — чужой», презирающие идеалы равенства и свободы, не признающие верховенства права, восхваляющие рабство и крепостничество, возвеличивающие отношения господства и подчинения как наиболее достойные и благородные, требующие от низших классов безусловной лояльности по отношению к высшим, всегда готовые прибегнуть к насилию, пустив в дело «благодетельный кнут». И кто тут тогда «прогрессисты», а кто «реакционеры»?[4]
Даже удивительно, с какой легкостью в зависимости от решения, казалось бы, мелкого историографического вопроса о происхождении выражения «мрачная наука», «черное» и «белое» в оценке противоборствующих идейных течений середины XIX в. меняются местами!
КАРЛЕЙЛЬ-ПОЛЕМИСТ
Чтобы лучше понять дискурсивную стратегию Карлейля, начнем с простых текстологических наблюдений. Памфлет открывается пародийным предуведомлением от издателя, где тот сообщает, что намерен представить на суд публики речь, произнесенную неким неизвестным оратором на собрании Ассоциации по всеобщему избавлению от страданий, и что запись этой речи была приобретена им у квартирной хозяйки сбежавшего от кредиторов и разыскиваемого полицией д-ра (а в действительности незадачливого репортера) Фелина М’Квирка. Этот сатирический персонаж — карикатура на одного из ведущих британских экономистов того времени Р. Мак-Куллоха [O’Brien, 1970] и шире — карикатура на типичного экономиста вообще. В своих более поздних работах Карлейль еще не раз, когда хотел высмеять экономистов, обращался к этой комической фигуре, переименовав д-ра М’Квирка в д-ра М’Крауди, но сохранив легко прочитываемую ассоциацию с Мак-Куллохом [Dixon, 1999][5]. Что касается Ассоциации по всеобщему избавлению от страданий, на заседании которой якобы и была оглашена речь, то ее издевательское название отсылает к Эксетер-Холлу — месту собраний приверженцев нонконформистского христианства, баптистов и квакеров, где они устраивали публичные обсуждения, в том числе и различных благотворительных проектов. Фактически памфлет Карлейля написан как пародия на высокопарные речи, звучавшие под сводами Эксетер-Холла: речевые обороты, типичные для выступавших там ораторов, используются им с обратной целью — для глумления над дорогими их сердцу филантропическими идеями, чем и достигается комический эффект.
Карлейль был одним из лучших, а, возможно, и лучшим стилистом во всей английской литературе XIX в.[6] Стилизация под ораторскую речь позволяет ему развернуться во всем блеске риторических приемов, на которые он был великий мастер и до которых — великий охотник. На нас обрушивается каскад сарказмов, парадоксов, шокирующих характеристик, причудливых ассоциаций, патетических восклицаний, зловещих пророчеств, неожиданных переходов от высокого к низкому и обратно: «Для экономистов, — писал Й. Шумпетер в „Истории экономического анализа“, — он является одной из важных и наиболее характерных фигур в культурной панораме той эпохи. Он стоит в героической позе, изливая презрение и насмешку в адрес материалистической мелочности своего века, щелкая хлыстом, которым помимо всего прочего он собирается выпороть и нашу „мрачную науку“. Так он видел самого себя и таким его видела и любила публика того времени» [Шумпетер, 2001, т. 2, с. 539]. Даже сегодняшним читателям трудно не поддаться магии карлейлевской прозы — что уж говорить о его современниках! (Впрочем, в полемическом азарте ему нередко изменяло не только чувство меры, но и вкус: чего, например, стоит его издевательский пассаж о «ниггерской» матери, назвавшей в надгробной надписи свою умершую дочь «лилией» (т. е. белой).)
Карлейль вынужден вести атаку сразу на два фронта: во-первых, против евангелических филантропов из Эксетер-Холла и, во-вторых, против экономистов, т. е. адептов «мрачной науки». Сегодняшнему читателю такой союз («брак Эксетер-Холла с мрачной наукой», по выражению Карлейля) должен представляться странным, но современники не видели в нем ничего удивительного. Дело в том, что две эти группы были главной движущей силой общественной кампании за отмену рабства, которая развернулась в Великобритании в конце XVIII — начале XIX в. и завершилась окончательной ликвидацией этого института в 1833 г. Правда, действовали они исходя из разных установок и представлений.
Евангелические филантропы придерживались традиции буквального прочтения Священного Писания: раз в Библии рассказывается о происхождении всего человеческого рода от общих прародителей — Адама и Евы, то, значит, так все и было на самом деле, а раз так, то получается, что негры — наши братья, т. е. такие же люди, как и мы, а значит, владеть ими — грех. На звучавшие в Эксетер-Холле сентиментальные речи на предмет того, кто кому брат, Карлейль отвечал издевательскими насмешками [Карлейль, 2019].
Что касается экономистов, то они, следуя за Адамом Смитом, исходили из представления о фундаментальном единстве человеческой природы поверх любых расовых, национальных и культурных различий. Отсюда следовало, что в справедливо устроенном обществе все люди независимо от их происхождения должны обладать равными свободами и что поэтому превращение одних в собственность других морально неприемлемо. Подобный универсалистский подход также вызывал у Карлейля только ярость, смешанную с отвращением.
Дж. Перски считает аргументы, представленные в «Речи», мало научными и связывает это с тем, что анализу Карлейль предпочитал интуицию, а также «избегал силлогизмов дедуктивной логики» [Перски, 2019]. Парадокс, однако, состоит в том, что в известном смысле наука XIX столетия была на стороне Карлейля. С одной стороны, в филологии библейская критика продемонстрировала, что тексты Священного Писания нельзя воспринимать буквально, а, значит, рассказ о происхождение всех людей от общих прародителей не более чем красивая легенда или, в лучшем случае, ничем не подтвержденное предположение. С другой стороны, в антропологии того времени широко обсуждались идеи расовой обусловленности человеческого поведения, предполагавшие среди прочего, что в этом мире у каждой расы есть свое особое предназначение. Если так, то тогда любые попытки изменить к лучшему внешние условия существования тех или иных народов (например, чернокожих или ирландцев) при том, что их «национальный характер» остается прежним, заведомо обречены на провал и могут сделать только хуже. (Карлейль, собственно, так и рассуждал.) В этот период на сцену выходит евгеника — новое учение, быстро ставшее сверхпопулярным и обеспечившее расистским аргументам Карлейля мощную «научную» поддержку [Peart, Levy, 2003].
Когда он писал свою «Речь по поводу негритянского вопроса», прошло уже более четырех десятилетий со времени запрета в Британской империи работорговли (1807) и более полутора десятилетий со времени ликвидации рабовладельческой системы вообще (1833). Вроде бы все споры вокруг негритянского вопроса должны были остаться в прошлом. Зачем же Карлейль решил вернуться к этой, казалось бы, перевернутой странице истории? П. Груневеген считает, что к этому его подтолкнули впечатления от недавней поездки по Ирландии, а также только что состоявшееся (1848) освобождение рабов во Франции [Груневеген, 2019]. И все же главной причиной было, по-видимому, то, что в 1840-е годы экономика «эмансипированной» Ямайки оказалась в глубоком кризисе. Тут сошлось несколько факторов: коллапс мировых цен на сахар после окончания Наполеоновских войн; удорожание рабочей силы после того, как чернокожее население острова получило свободу; прекращение действия защитного импортного тарифа на сахар (1846), который был частью сделки между правительством и рабовладельцами при принятии закона об отмене рабства на территории Британской империи. Карлейль воспринял разразившийся кризис (в котором он обвинял склонных к бездельничанью бывших рабов) как свидетельство полного провала проекта эмансипации, посчитав, что это дает неплохие шансы на то, чтобы попытаться взять реванш за проигранную ранее партию — пусть хотя бы частично. Отсюда — идея повторного закабаления чернокожих, которая является лейтмотивом его рассуждений. Возможно также, что своим выступлением Карлейль надеялся воздействовать на ход дискуссии по «негритянскому вопросу» в США. И действительно: в годы, предшествовавшие Гражданской войне, его «Речь» неоднократно переиздавали и на нее часто ссылались противники аболиционизма.
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИНЧ
Утверждение Груневегена о том, что Карлейль имел слабое представление о современной ему экономической теории [Груневеген, 2019], достаточно спорно. Не зря же, в конце концов, он был шотландцем и вдобавок ректором Эдинбургского университета![7] Достаточно сказать, что одним из самых первых его литературных опытов, увидевших свет, был перевод на английский язык очерка «Политическая экономия» С. де Сисмонди для Британской энциклопедии [Dixon, 2007]. В его письмах есть упоминания о чтении им «Богатства народов»; кроме того, он внимательно проштудировал «Принципы политической экономии» Дж. Ст. Милля, оставив пометки на полях 153 страниц этой книги. В одном из своих памфлетов он обращается к экономистам с таким признанием: «В наказание за мои грехи я перечитал множество ваших неподражаемых томов — на деле, думается мне, несколько телег, доверху ими наполненных» [Carlyle, 1850, p. 57]. Еще важнее, что полемику с «мрачной наукой» Карлейль ведет с явным знанием дела — как бы выворачивая ее аргументы наизнанку.
Антропологический фундамент классической политической экономии составляли два общих положения, сформулированных в «Богатстве народов» А. Смита: 1) склонность к обмену — отличительный признак, свойственный только человеку и выделяющий его из всего остального животного мира; 2) эта склонность универсальна и присуща всем людям, как бы сильно ни отличались они друг от друга по внешним характеристикам. Таким образом, в смитианской традиции человек — это животное, наделенное способностью к обмену. При этом Смит вполне допускал, что эта способность является не базовой характеристикой человеческого рода, а всего лишь следствием дара речи (поскольку как иначе — без использования языка — можно было бы договариваться об условиях сделки?). Вот ключевой пассаж, где участие в обмене квалифицируется как уникальное свойство человека, отличающее его от всех других живых существ: «Эта склонность обща всем людям и, с другой стороны, не наблюдается ни у какого другого вида животных, которым, по-видимому, данный вид соглашений, как и все другие, совершенно неизвестен. Никому никогда не приходилось видеть, чтобы собака сознательно менялась костью с другой собакой. Никому никогда не приходилось видеть, чтобы какое-либо животное жестами или криком показывало другому: это — мое, то — твое, я отдам тебе одно в обмен на другое. …Почти у всех других видов животных каждая особь, достигнув зрелости, становится совершенно независимой и в своем естественном состоянии не нуждается в помощи других живых существ; между тем человек постоянно нуждается в помощи своих ближних… Он скорее достигнет своей цели, если… сумеет показать им, что в их собственных интересах сделать для него то, что он требует от них. Всякий, предлагающий другому сделку какого-либо рода, предлагает сделать именно это. Дай мне то, что мне нужно, и ты получишь то, что тебе нужно, — таков смысл всякого подобного предложения» [Смит, 2007, кн. 1, гл. 2].
Столь же фундаментальное значение имел и другой тезис Смита — о том, что человеческая природа едина и что наблюдаемые между людьми поведенческие различия объясняются по большей части историей, институтами и случайностью, а не природными данными: «Различные люди отличаются друг от друга своими естественными способностями гораздо меньше, чем мы предполагаем, и самое различие способностей, которыми отличаются люди в своем зрелом возрасте, во многих случаях является не столько причиной, сколько следствием разделения труда. Различие между самыми несхожими характерами, между философом и простым уличным носильщиком, например, создается, по-видимому, не столько природой, сколько привычкой, обычаем и образованием. Во время своего появления на свет и в течение первых шести или восьми лет своей жизни они были очень похожи друг на друга, и ни их родители, ни играющие с ними сверстники не могли заметить сколько-нибудь заметного различия между ними. В этом возрасте или немного позже их начинают приучать к различным занятиям. И тогда становится заметным различие способностей, которое делается постепенно все больше, пока, наконец, тщеславие философа отказывается признавать хоть тень сходства между ними» [Там же]. Развивая эту мысль, в своих «Лекциях по юриспруденции» Смит специально оговаривает, что межстрановые различия в уровнях производительности («добросовестности и пунктуальности», как он выражался) «никоим образом не должны приписываться особенностям национального характера, как решаются утверждать некоторые» [Smith, 1978].
Против смитовской аргументации Карлейль предпринимает настоящую диверсионную вылазку, пытаясь взорвать ее изнутри. Он готов считать участие в обмене тестом на принадлежность к человеческому роду. Но тогда нам придется признать, что если представители той или иной расы (будь то «квоши»[8] на Ямайке или ирландцы в Европе) участвовать в нем отказываются, то, значит, они не вполне люди. В самом деле, раз у них отсутствует склонность к обмену, то они оказываются ближе, скорее, к собакам (вспомним рассуждения Смита) или лошадям, у которых ее тоже нет[9]. В качестве подтверждения Карлейль ссылается на поведение чернокожего населения Ямайки, которое отказывается трудиться на плантациях сахарного тростника в обмен на заработную плату, предпочитая ее получению ничегонеделанье: «Там, где благодаря солнцу и почве чернокожий человек, работая полчаса в день… может обеспечить себя достаточным количеством тыквы, он, скорее всего, окажется слишком несговорчив и не станет впрягаться в тяжелую работу. Спросу и предложению, которые, как утверждает наука, должны воздействовать на него, не так-то просто справиться с подобной задачей» [Карлейль, 2019, с. 32]. Точно так же — «нерыночно» — ведут себя и ирландские «свободные» граждане, «которые не продаются, не покупаются, не выставляются на рынок, — они умирают в канаве» [Там же, с. 47][10]. (Разница, по Карлейлю, только в том, что «квоши» ничем не занимаются и живут в довольстве, а ирландцы ничем не занимаются и живут в нищете.)
Отказ от вступления в контрактные отношения — в полном соответствии с логикой Смита — свидетельствует о недочеловеческом статусе этих рас. Чтобы показать это, Карлейль задействует не только рациональные аргументы, но и зрительные образы, наделяя «квошей» звероподобными чертами: они выглядят как «огромные темные уроды» и «жуткие страшилища»; у них «лошадиные челюсти» и выдающиеся «резцы и коренные зубы»; жизнь, которой они живут, «достаточна для свиней»; по большому счету это всего лишь «двуногий скот»[11]. В расширенной версии «Речи» он идет еще дальше и уподобляет их живым мертвецам: «Ненавижу ли я негров? Нет, но только если в них окончательно не убита душа» [Carlyle, 1853, p. 302].
В другом памфлете «Настоящее время» [Carlyle, 1850, сh. I], написанном почти одновременно с «Речью», Карлейль пытается, используя развернутую звериную метафору, довести логику своих оппонентов до абсурда. На этот раз собратьями «квошей» и ирландцев оказываются лошади. Карлейль показывает, что агитация за права негров и ирландцев с таким же успехом может быть распространена и на их четвероногих двойников: «Черные в Вест-Индии освобождены и, по-видимому, уже отказываются работать. Белые в Ирландии уже давно достигли полной эмансипации и никто от них работы не ждет… Среди людей, склонных к размышлению, иногда возникал вопрос: в прогрессе эмансипации должны ли мы уповать на времена, когда все кони также будут эмансипированы и окажутся подчинены принципу спроса и предложения? Кони тоже ведь имеют для этого свои „основания“: они действуют под влиянием голода, страха, надежды, любви к овсу, ужаса перед ременным кнутом; более того, у них тоже есть тщеславие, амбиции, зависть, благодарность, мстительность, есть какие-то грубые задатки наших человеческих чувств — они являются некоторым нашим грубым подобием по уму и сердцу, равно как и по телесному сложению. …Я уверен, что если бы мог сделать коня счастливым, то ради такой цели наверняка пожелал бы даровать ему право голоса (вдобавок к двадцати миллионам уже имеющихся). …Ведь вы тоже подчас его тираните, причем во вред самим себе, пуская в ход тираническим образом и без особой надобности плеть, давая ему мало овса или не давая его ему вовсе, а также не проветривая как следует конюшню. Боюсь, грубые объездчики временами обращаются с ним как настоящие маленькие тираны. — „Но разве я не конь и не полу-брат твой?“» [Ibid., p. 33][12].
Как и следовало ожидать, обретя свободу, эмансипированные кони начинают отказываться добровольно вступать в сделки по обмену своего досуга на овес: «Пока трава имеется в изобилии, они, смею сказать, будут счастливы или, по крайней мере, будут думать, что счастливы. А фермер по имени Мужик, приступающий в ясное весеннее утро к пахоте с ситом овса в руке и трепетом ожидания в сердце, — будет ли счастлив он? — „Помоги мне сегодня пахать, Старина Вороной, если поможешь, полная мера овса будет твоя“. — „Ф-р-р-р, нет, благодарю“, — фыркает в ответ Старина Вороной; он предпочитает прославленную свободу и траву. — „Гнедой Скакун, может быть, ты?“ — „Ф-р-р-р.“ — „А ты, моя прекрасная толстозадая Сивая Кобыла?“ — О небеса, она тоже отвечает „Ф-р-р-р“! Ни одно четвероногое не желает вспахать для меня ни одной борозды! Выращиванию хлеба в этом мире наступил конец!» [Carlyle, 1850, p. 34].
Последствия предоставления рыночной свободы — что четвероногим, что двуногим скотам — оказываются одинаково катастрофическими, причем прежде всего — для них самих: «И вот, не ради блага Мужика, а ради блага его коней начинаются мольбы о немедленном прекращении прежнего благотворного порядка и о введении нового лучшего. Но не слишком-то большим милосердием по отношению к коням Мужика станет их эмансипация! Рано или поздно всех эмансипированных коней неизбежно ждет одна и та же судьба: не иметь в этой обитаемой части Земли никакой травы для пропитания (на Черной Ямайке она постепенно исчезает, в Белой Коннемаре [один из регионов Ирландии. — Р. К.] ее уже нет), бесцельно бродить, опустошая посевы, и быть гонимыми домой к Хаосу сторожевыми и адскими псами при невиданных доселе ужасах нищеты» [Ibid.]. С легкой руки Карлейля отсутствие видимой реакции на экономические стимулы у представителей других исторических эпох, других обществ, других культур стало интерпретироваться как очевидное свидетельство неспособности экономической науки объяснять их поведение, иначе говоря — как свидетельство ее неуниверсальности, исторической и географической ограниченности. В самом деле, раз нет реакции на стимулы, значит, мы имеем дело не с Homo oeconomicus или даже не с Homo sapiens — так, похоже, думал Карлейль. Подобный ход рассуждений, который можно обозначить как «силлогизм Карлейля», достаточно быстро стал клише и с теми или иными модификациями начал без конца воспроизводиться в работах историков, социологов, антропологов, философов последующих поколений. (Разница в том, что для самого Карлейля такие не осознающие выгод от обмена субрациональные существа были полулюдьми/полуживотными, тогда как позднейшие авторы были склонны их романтизировать, приписывая им, напротив, самые благородные и возвышенные — антимеркантильные — мотивы.)
Но в таком случае автоматически отпадает и второй ключевой тезис Смита — о единстве человеческой природы. В самом деле, если расы столь явно делятся на высшие и низшие, то о каком равенстве природных способностей может идти речь? Для Карлейля было очевидно, что белые от рождения намного мудрее чернокожих — и «кто же из смертных усомнится в этом?» [Карлейль, 2019, с. 43][13]. По его оценке, «по уровню интеллекта, способностям, обучаемости, энергии и наличным достоинствам» один белый стоит нескольких сотен «квошей» [Там же, с. 26–27]. Поэтому рабство — это не социальное, а природное явление: «Мне очень неприятно напоминать вам, но это вечный факт: кого небо сделало рабом, того никакое парламентское голосование и никакая сила на земле не в состоянии сделать свободным. …Вы можете назвать его свободным …Вы можете дать ему тыквы, жилье за десять или за тысячу фунтов. Но чем больше вы станете освещать его рабский образ, тем в большей и отвратительной пропорции будут проступать в нем рабьи черты. …Высшие силы, создавая его, задумали его рабом и предназначили ему в удел не власть, а повиновение» [Carlyle, 1850, p. 317].
Низшие расы на Ямайке и в Ирландии потому и не желают работать и остаются вне рынка труда, что не обладают достаточным интеллектом, чтобы осознать преимущества обмена[14]. И поскольку они не в состоянии уразуметь своих собственных истинных интересов, им нельзя давать свободу, к чему призывают профессора «мрачной науки»: если предоставить низшие расы самим себе, то им же от этого будет только хуже, как показывает притча с эмансипированными лошадьми. Другими словами, отношения между людьми, которые принадлежат разным расам, не поддаются регулированию с помощью законов рынка. Рынок труда — по крайней мере, в колониях — должен регулироваться не спросом и предложением, а физическим принуждением. Причем не обязательно только в них: так, в качестве средства борьбы с безработицей и бедностью в самой Великобритании Карлейль предлагал формировать из безработных и пауперов «промышленные полки» (Industrial Regiments)[15].
Вполне естественно, что иная антропология предполагает и иные формы эффективной организации общества. Идеальное институциональное устройство в понимании Карлейля можно обозначить как антирынок. Нет, он не отрицает, что для каких-то стран в какие-то ограниченные промежутки времени свободный рынок может быть наилучшим выбором. Так, принцип laissez faire был вполне уместен в Великобритании конца XVIII в., когда Смит писал «Богатство народов». И вообще: если правитель не обладает мудростью, то самое лучшее, что он может сделать, это предоставить своих подданных самим себе, не пытаясь вмешиваться в их дела. Но даже в Англии середины XIX в. время принципа laissez faire уже безвозвратно ушло, не говоря уже о Вест-Индии или Ирландии, где он никогда не мог принести ничего кроме социальных бедствий.
Иерархия природных способностей неизбежно требует иерархического устройства общества, так чтобы наверху находились наиболее, а внизу — наименее способные: «Если бы наимудрейший человек находился на самой вершине общества, ниже него — следующий за ним по мудрости, и так далее вплоть до ниггера из Демарары (за которым дальше вниз шли бы лошади и прочие), …то тогда это был бы совершенный мир, в котором продуцировался бы абсолютный максимум мудрости» [Carlyle, 1853, p. 305]. Соответственно отношения между людьми с неодинаковыми способностями должны строиться по принципу хозяин — слуга: «Безусловно верно, что человек извечно является „прирожденным рабом“ одних людей, прирожденным хозяином некоторых других и равным по рождению некоторым третьим, признает ли он этот факт или нет» [Carlyle, 1843, p. 249]. Иными словами, «те из нас, кто глупее, должны быть слугами у тех, кто наделен умом в наибольшей степени» [Карлейль, 2019, с. 43].
В условиях такого природного неравенства каждый должен заниматься тем делом, которое больше всего соответствует его способностям: «Несомненно, между всеми путями, на которые человек может вступить, в каждый данный момент для каждого человека, имеется один наилучший путь, одно дело, заниматься которым, по сравнению со всеми другими делами, для него было бы… наиболее мудро… Его успех в таком случае был бы полным, его счастье достигало бы максимума» [Carlyle, 1843, p. 217]. При этом не имеет значения, выбирает это дело человек сам, или его приходится принуждать к нему силой: «Свобода? Истинная свобода человека… состоит в том, чтобы он отыскал правильный путь или его заставили отыскать его и затем по нему идти. Пусть человек узнает сам или его научат, к какой работе он действительно пригоден, и пусть затем посредством разрешения, убеждения или даже принуждения его подтолкнут к тому, чтобы заниматься именно ею. Если вы знаете лучше, чем я, что хорошо и правильно, я умоляю вас, во имя Господа, заставьте меня это делать — хоть с помощью медных ошейников, плетей и кандалов, но не дозволяйте мне упасть в пропасть!» [Ibid., p. 212]. Ближе всего к этому идеалу, по мысли Карлейля, было средневековое общество, где отношения между людьми строились на основе взаимных обязательств: подчинения и лояльности — со стороны низших классов по отношению к высшим, руководства и милосердия — со стороны высших классов по отношению к низшим [Carlyle, 1840].
Основной принцип провозглашенного Карлейлем «Евангелия Труда» звучал так — «Познай свое дело и исполни его!» [Carlyle, 1900]: «Я непрерывно молю Небеса о том, чтобы все люди, самые белые и самые черные, самые бедные и самые богатые… приобрели божественное право быть принуждаемыми… к работе, для которой они предназначены» [Карлейль, 2019, с. 36]. Исходя из этого преступлением, которому нет и не может быть прощения, оказывается праздность — отказ от дела, определенного каждому при рождении. И именно в этом, самом страшном на свете преступлении оказываются виновны чернокожие жители Ямайки[16].
Но как такое могло случиться? Как легко догадаться, ответственность за это несут филантропы из Эксетер-Холла и адепты «мрачной науки», усилиями которых в Британской империи была упразднена система рабовладения. Чернокожие стали свободными и им были дарованы равные с белыми права, что разрушило узы прежних взаимных обязательств, связывавшие низших с высшими, рабов с рабовладельцами. Но предоставленные самим себе, «квоши», как и следовало ожидать от низшей расы, стали довольствоваться тем, что можно даром получить от природы, и свели предложение труда фактически к нулю. Если оставить все как есть, то впереди Британскую империю, предсказывает Карлейль, ждут «невиданный хаос», «черная анархия», «социальная смерть», превращение колоний Вест-Индии в «черную Ирландию» [Карлейль, 2019, с. 27].
Что же делать? Общий смысл карлейлевских предложений сводился к тому, что «квошей» необходимо так или иначе вернуть на сахарные плантации, заставить их заняться тем делом, которое им предназначено свыше: «…Ни один чернокожий человек, который не работает в соответствии со способностями к труду, данными ему богами, не имеет ни малейшего права на то, чтобы есть тыквы»; он должен быть «принуждаем настоящими собственниками этой земли трудиться так, чтобы обеспечивать свое существование» [Там же, с. 35].
С одной стороны, в своей «Речи» Карлейль подчеркивал, что считает работорговлю отвратительным явлением и что он не хотел бы для Ямайки возвращения к прежней рабовладельческой системе[17]. С другой — предупреждал, что при определенных обстоятельствах такой возврат неминуем и что это было бы явно предпочтительнее нынешнего хаоса: «Если квоши не станет помогать выращивать пряностей, он добьется того, что его снова сделают рабом (и это его состояние будет несколько менее отвратительным, чем нынешнее), и с благотворной помощью кнута, коль скоро другие средства не помогают, его заставят работать» [Там же, с. 40]. В качестве более приемлемого и более реалистического варианта он выступал за введение системы пожизненного найма (вместо поденного), фактически — за перевод чернокожего населения Ямайки на положение крепостных: «Если черный джентльмен рожден слугой и по сути полезен Божьему творению только как слуга, то позвольте тогда нанимать его не на месяц, но на гораздо более длительный срок. …В качестве слуг, нанимаемых пожизненно или на длительный срок, по контракту, который нелегко расторгнуть, — только так и никак иначе хотели бы нанимать и наниматься все разумные смертные, и черные и белые» [Carlyle, 1853, p. 311–312][18]. Первым шагом в этом направлении, по его мнению, могло бы стать принятие закона наподобие того, что действовал по отношению к «старым европейским сервам, которых королевская власть обязывала отрабатывать определенное число дней в году» [Карлейль, 2019, с. 46]. Наконец, в том случае, если бы ничего из этого предпринято не было, он был готов поддержать самое радикальное решение вопроса, связанное с физическим очищением острова от бывших рабов: «Боги наделены долготерпением, но изначальный закон гласит: тот, кто не работает, должен исчезнуть со света»[19].
Но как быть с принадлежащими к белой расе пауперами и безработными в самой Великобритании? Как уже упоминалось, совет Карлейля сводился к тому, чтобы государство начало объединять их в трудовые армии — «промышленные полки Новой эры» [Carlyle, 1850, p. 211]. Громкое название ясно показывает, что для него самого это предложение было лишь первым шагом на пути к тотальному переустройству общества на новых принципах — принципах «организации труда»: «Организация труда, — отмечал он, — составляет теперь самую жизненно важную задачу на всем земном шаре» [Ibid., p. 45–46][20]. Будущее обновленной Британии рисовалось ему таким: «Я предвижу, что вступление бандитов нищеты в полки промышленности будет только началом благословенного процесса, который коснется даже самых вершин нашего общества и который в течение нескольких поколений превратит всех нас снова в управляемую нацию….После того, как такие полки освоят пустующие земли, придет черед их создания и в других отраслях, таких как текстильная, обувная, производство сельскохозяйственных орудий, строительство — словом, во всех остальных видах промышленной деятельности. Фабричные рабочие, вся масса вольнонаемных работников, которые останутся еще не охваченными и будут продолжать кочевать между частными хозяевами, увидя такой благодетельный пример, скажут: „Хозяева, нас нужно записать в полки. Пусть наши общие с вами интересы станут постоянными, а не временными и преходящими, иначе мы запишемся на службу к государству“. Так будет продолжаться, пока, с одной стороны, государство будет действовать подобным образом и пока, с другой стороны, все хозяева рабочих, все частные Капитаны Промышленности, не окажутся принуждены к постоянному сотрудничеству с государством и Капитанами Общества. Они будут формировать полки по-своему, а государство по-своему, в еще большем масштабе, пока они не встретятся и не сольются между собою и не оставят ни одного не зачисленного в полки рабочего» [Ibid., p. 212].
БЛАГАЯ ВЕСТЬ Д-РА М’КРАУДИ[21]
Современную ему политическую экономию Карлейль считал полным антиподом своей социальной философии, без устали ее разоблачал и высмеивал. Его сочинения переполнены инвективами и язвительными замечаниями по ее адресу. Для самого Карлейля речь в данном случае шла ни больше ни меньше как о двух противостоящих, органически несовместимых картинах мира — его собственного «Евангелия труда» и «Евангелия Мамоны» (карлейлевский термин) экономистов [Carlyle, 1843]. Список претензий, предъявляемых Карлейлем к «мрачной науке», богат и разнообразен.
Политическая экономия бесполезна и интеллектуально ничтожна: она занимается пустяками, которые, возможно, могли бы представлять ценность, но только не для людей, а «для собак или чертей» (цит. по: [Dixon, 1999, p. 4]). Вследствие этого она не заслуживает даже того, чтобы ее называли наукой: «Политическая философия должна объяснять нам, каков смысл понятия „страна“, объяснять нам, какие причины делают людей счастливыми, нравственными, верующими, а какие приводят к обратному результату. …Вместо этого она [политическая экономия] повествует нам о том, как фланелевые рубахи обмениваются на свиные окорока» (цит. по: [Coleman, 2002, p. 16]). Но разве не является политическая экономия полезной и разве ее профессора не достойны уважения хотя бы поэтому? На это Карлейль отвечает так: «Моя корова тоже полезна; я держу ее в стойле, кормлю ее жмыхом, помоями и мякиной и действительно уважаю ее. Но должна ли она жить в моем кабинете? Нет, о богини судьбы, она должна жить в стойле» (цит. по: [Груневеген, 2019]).
Политическая экономия бездуховна и сводит высшие человеческие ценности к голому материальному интересу: «В нашу усовершенствованную эпоху… главной целью людей стало наживать и тратить деньги. …„Покупать как можно дешевле и продавать как можно дороже“… в этом и заключается вся сумма социальных обязательств, конечная точка божественных велений» [Carlyle, 1850, p. 22]. Профессора «мрачной науки» исходят из того, что «у человеческих деяний нет никакой иной ценности, кроме той, что можно записать в гроссбух» [Ibid., p. 192]. «Убогая наука кассовой книги» — так именует ее Карлейль в «Памфлетах последнего дня» [Ibid., p. 194]. Но считать деньги «истинным символом мудрости» [Carlyle, 1853, p. 305] — это, по его словам, «самая прóклятая из всех идей, когда-либо приходивших в голову какому-нибудь двуногому животному из класса не-пернатых» [Carlyle, 1850, p. 357]. При таком подходе человек начинает рассматриваться всего лишь как «денежный мешок и машина для еды» [Ibid., p. 328]. Объявляя главной движущей силой развития общества корыстолюбие, а единственным предназначением человека — получение удовольствий, политическая экономия низводит людей до положения животных: «Этот мир [политической экономии], насколько может судить о нем здравомыслящий человек, представляет собой безразмерное корыто с помоями для свиней, в котором перемешаны твердое и жидкое, похожее и непохожее, а также, что особенно важно, то, до чего можно добраться, и то, до чего добраться нельзя, причем того, что большинству свиней недоступно, там гораздо больше. Моральное зло — это то, до чего в этом корыте дотянуться нельзя, а моральное благо — это то, до чего дотянуться можно. Миссия всемирного свинства, долг всех свиней на все времена состоит именно в том, чтобы уменьшать количество помоев, до которых дотянуться нельзя, и увеличивать количество помоев, до которых дотянуться можно. Все знания и все усилия должны быть направлены на это и только на это; это единственная цель Свинской Науки, Свинского Рвения и Свинского Энтузиазма» [Ibid., p. 400–401]. В представлении д-ра М’Крауди, замечает Карлейль, «этот мир — огромный душный хлев с несколькими комфортабельными апартаментами на верхних этажах для тех, кто делает деньги» [Ibid., p. 357].
Политическая экономия аморальна: она демонстративно абстрагируется от вопросов морали, вынося их за скобки анализа. Однако, как подчеркивал Карлейль в одном из писем к Дж. Рёскину, никакая теория, пытающаяся хранить в таких важнейших вопросах нейтралитет, не имеет права называться «политической» [Dixon, 1999, p. 4]. В силу нравственной слепоты экономисты, например, не видят, что рабство является этически более предпочтительной системой, чем рынок. Когда существовало рабовладение, чернокожие жители Ямайки были ограждены попечительной заботой рабовладельцев от таких пороков, как пьянство, азартные игры и проституция, которые пышным цветом цветут среди «белых рабов» в самой Великобритании [Levy, 2001a].
Политическая экономия асоциальна: она исходит из того, что «спрос и предложение являются самодостаточной заменой приказаниям и их исполнению для двуногих животных класса непернатых» [Carlyle, 1853, p. 305]. «Мрачная наука» не признает никаких других межличностных отношений кроме денежных, но «денежные платежи никогда не были… той связью, которая соединяла бы человека с человеком в общий союз» [Carlyle, 1843, p. 189]. Настаивая на равенстве тех, кто не равны от природы, она высвобождает низменные животные инстинкты в низших классах и заставляет высшие классы забыть о моральном долге быть руководителями общества: «Многочисленными и разнообразными способами нас пытались убедить, что можно обходиться без управления людьми, и посредством абсолютно искусственных спекуляций о laissez faire, спросе и предложении и т. д., и т. д. уверить, что так нам будет лучше всего» [Carlyle, 1850, p. 80]. Такой порядок превращает людей в изолированные атомы, порождает огромное имущественное неравенство (нищету посреди изобилия), провоцирует социальные конфликты и в конечном счете грозит полным распадом общества: «Разорвите на мелкие кусочки каждое отношение, которое с таким трудом формировалось, замените принудительное добровольным, сделайте переменчивым все, что было постоянным, — другими словами, камень за камнем, втыкая клинья в каждый стык, расшатайте все здание социального бытия, и когда оно, наконец, в достаточной мере утратит крепость, его опрокинет внезапный взрыв революционной ярости» [Ibid., p. 32][22]. В итоге вместо стабильного, упорядоченного, сцементированного взаимными связями общества мы получаем «абсурд новейшей анархии… выражающийся в законе спроса и предложения» [Ibid., p. 342].
Политическая экономия аисторична: она не замечает, что выработанные ею теоретические представления не универсальны и являются отражением специфических условий, которые существовали только в Великобритании и только на протяжении очень короткого промежутка времени [Carlyle, 1865, p. 2569]. Все дело в том, что профессора «мрачной науки» «не проводят различия между здесь и там, между временами прошлыми и временами нынешними и уделяют этим различиям недостаточно внимания» [Ibid., p. 2570].
Политическая экономия противоестественна: навязывая ложный принцип laissez faire, вместе со своими союзниками — филантропией, парламентаризмом, конституционализмом — она пытается извратить природный порядок вещей: «Как рабство человека предопределяется природой и суровой судьбою, а не только актами парламента и господством капитала, точно так же в бесчисленном количестве случаев зло предопределяется именно парламентом и денежным капиталом» [Carlyle, 1850, p. 318].
Политическая экономия лицемерна: экономисты вместе с филантропами проливают крокодиловы слезы из-за бедственного положения чернокожего населения Ямайки, но не замечают того, что творится у них под носом, — не замечают гораздо более бедственного положения «бедных, изнуренных до болезненности английских ткачей и пахарей» [Ibid., p. 113]. Даже сейчас, после отмены рабства, «квоши» продолжают питаться гораздо лучше: они «теперь уже достигли эмансипации и живут праздно, не чувствуя никакой потребности в труде и нагуливая себе жир» [Ibid.]. А при прежней системе у них вдобавок были еще гарантированная работа, обеспеченная старость, даровое лечение в случае болезней — все те социальные блага, которых лишены белые рабочие в Великобритании. Помогать нужно не «дальним» — чернокожему населению Британских колоний, а «ближним» — рабочему классу в самой Британии. Если возникает дилемма, кому помогать — людям или полуживотным, для человека с неизвращенным нравственным чувством выбор должен быть очевиден. По большому счету «мрачная наука» лишь на словах заботится о слабых и угнетенных, тогда как на деле стоит на страже интересов денежного капитала — «крупных Капиталистов, Директоров железных дорог, раздувшихся Торгашей, Королей Акций» [Ibid., p. 39]. Ведь от эмансипации и laissez faire низшим классам, лишенным благодетельного руководства со стороны высших, становится только хуже, причем намного хуже, как это видно на примере английских и особенно ирландских рабочих. Иными словами, уничтожение иерархической системы господства и подчинения идет вразрез с истинными интересами низших классов, что бы ни утверждали на сей счет адепты «мрачной науки».
Политическая экономия политически наивна: она не осознает пагубных последствий, которыми чреваты ее проповеди о том, «что между неграми и белыми не существует связи, что они существуют отдельно друг от друга на основе совершенного равенства и что… они подчиняются единственному закону — закону спроса и предложения» [Карлейль, 2019, с. 45]. Находясь в плену абстрактных схем, «мертвых человеческих формул» [Carlyle, 1850, p. 378], она оказывается не способна выйти за границы своего вымышленного мира — мира «совиных видений» [Ibid., p. 180] и понять, как своими рецептами она подталкивает общество к хаосу социальной революции. При этом профессора «мрачной науки» напрасно надеются, что социальный мир достижим с помощью денег, — это иллюзия: «Купить за деньги… повиновение огромного, непрерывно растущего и невыразимо глупого класса человеческих созданий невозможно» [Carlyle, 1853, p. 305][23].
Как видим, поток инвектив, которые обрушивает Карлейль на политическую экономию и рынок, на редкость внушителен: доктринерство, оторванность от реальной жизни, грубый материализм, сведение всего множества человеческих мотиваций к корыстолюбию, асоциальность, подмена межличностных связей денежными отношениями и как следствие атомизация общества, антиисторизм, историческая, географическая и культурная ограниченность, неприложимость выработанных ею принципов к другим нациям помимо англосаксонских, моральный индифферентизм, равнодушие к судьбам низших классов собственной страны, апология нищеты посреди изобилия, обслуживание интересов денежного капитала, провоцирование классовых конфликтов, проповедь социальной анархии в сочетании с оправданием бездействия государства. Не мудрено, что при таком послужном списке экономическая наука воспринималась им как «мрачная»! На общественное сознание той эпохи его инвективы по адресу политической экономии произвели, по-видимому, сильнейшее впечатление. Едва ли удивительно поэтому, что со временем они сделались общим местом и начали почти ритуально воспроизводиться в сочинениях философов, антропологов, социологов, историков, литературных критиков. (Парадокс в том, что сегодня к такого рода обвинениям охотнее всего прибегают авторы левой ориентации, не подозревающие о расистском происхождении их риторики и о своей фактической солидарности с Карлейлем.)
Но вот что странно: при всем, казалось бы, антиутилитаризме Карлейля критика, с которой он обрушивается в «Речи» на теорию и практику «мрачной науки», оказывается насквозь пропитана меркантильными соображениями. Ему жалко 20 млн фунтов, которые были уплачены при освобождении рабов в Вест-Индии; проект завоза на Ямайку дополнительной рабочей силы из Азии и Африки представляется ему неэффективным; блокада берегов Африки для перехвата пиратских судов, занимающихся нелегальной перевозкой рабов, оценивается им как слишком дорогостоящая; чтобы обеспечить честную конкуренцию на международном рынке сахара, он призывает правительство направить военные корабли на Кубу и в Бразилию, где сохранялся рабовладельческий труд, и изменить там социальный порядок силой[24]; даже сама центральная идея его «Памфлета» сводится в конечном счете к тому, что плантации сахарного тростника в британских колониях необходимо снова сделать рентабельными. Причем в своих как бы экономических изысканиях он подчас заходит так далеко, что невольно выставляет сам себя на посмешище — как, например, в пассаже, в котором выращивание черного и серого перца оказывается у него синонимом высших духовных ценностей: «корица, сахар, кофе, перец, черный и серый, еще пребывали во сне, ожидая белого Чародея, который повелел бы им проснуться» [Карлейль, 2019, с. 38]. Ирония ситуации была подмечена Миллем: выходит так, что экономистам, погрязшим в низменных материях, нет ничего дороже свободы, а Карлейлю, устремленному к высотам духа, нет ничего дороже потребления специй!
И в заключение — последнее замечание, касающееся устойчивого антагонизма между экономической наукой, с одной стороны, и прочими социальными и гуманитарными дисциплинами — с другой. Чаще всего этот антагонизм объясняют либо чрезмерной формализацией и математизацией современного экономического анализа, либо «методологической гордыней» экономистов, считающих, что из всех видов знания об обществе только экономическая теория вправе претендовать на то, чтобы считаться наукой в строгом смысле слова наравне с естественными дисциплинами. И хотя, несомненно, эти факторы имеют значение, не стоит все же забывать, что «война факультетов» возникла значительно раньше, когда жестких языковых междисциплинарных барьеров еще не существовало. Начало традиции изображать экономическую науку в качестве морального и интеллектуального монстра с точки зрения гуманитарного сознания было положено Карлейлем, причем, что поразительно, в откровенно расистском контексте. Эта традиция жива до сих пор с той только разницей, что сегодня ее поддерживают по преимуществу интеллектуалы-прогрессисты, а не интеллектуалы-реакционеры, каким был Томас Карлейль. В исторической ретроспективе кажется очевидным, что прогрессу научного знания об обществе этот междисциплинарный раскол не пошел на пользу.
ЛИТЕРАТУРА
Груневеген П. Томас Карлейль, «мрачная наука» и современная ему политическая экономия рабства // Истоки. Экономика — мрачная наука? Вып. 9 / под ред. В. С. Автономова и др. М.: Изд. дом ВШЭ, 2019. С. 79–125 (Groenewegen P. Thomas Carlyle, «The Dismal Science» and the Contemporary Political Economy of Slavery // History of Economics Review. 2001. Vol. 34. No. 1. P. 74–94).
Карлейль Т. Речь по поводу негритянского вопроса // Истоки. Экономика — мрачная наука? Вып. 9 / под ред. В. С. Автономова и др. М.: Изд. дом ВШЭ, 2019. С. 24–49 (Carlyle Th. Occasional Discourse on the Negro Question // Fraser’s Magazine for Town and Country. 1849. Vol. 40. February. P. 527–538. ).
Маркс К. Капитал. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. М.: Госполитиздат, 1960.
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. М.: Госполитиздат, 1955.
Милль Дж. С. Негритянский вопрос // Истоки. Экономика — мрачная наука? Вып. 9 / под ред. В. С. Автономова и др. М.: Изд. дом ВШЭ, 2019 (Mill J. S. The Negro Question // Littell’s Living Age / ed. by E. D. Littell. Boston, MA. 1850. Vol. 24. P. 465–469. negroquestion.htm).
Перски Дж. «Мрачный» романтик // Истоки. Экономика — мрачная наука? Вып. 9 / под ред. В. С. Автономова и др. М.: Изд. дом ВШЭ, 2019. С. 65–78 (Persky J. A Dismal Romantic // Journal of Economic Perspectives. 1990. Vol. 4. No. 4. P. 165–172).
Смит А. Исследование о причинах и природе богатства народов. М.: Эксмо, 2007.
Шумпетер Й. А. История экономического анализа: в 2 т. Т. 2 / пер. с англ. под ред. В. С. Автономова. СПб.: Экономическая школа, 2001.
Carlyle Th. Chartism. L.: J. Fraser, 1840 (рус. пер.: Карлейль Т. Чартизм. М.: Издательские решения, 2015).
Carlyle Th. Past and Present. L.: Chapman and Hall, 1843. (рус. пер.: Карлейль Т. Прошедшее и настоящее. М.: Книжный клуб «Книговек», 2014).
Carlyle Th. Latter-Day Pamphlets. L.: Chapman and Hall, 1850. %3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ALatter-day_Pamphlets.djvu&usg=AOvVaw3XO29hWdPF5biUzXZ1E882 (рус. пер.: Карлейль Т. Памфлеты последнего дня. СПб.: Издание Ф. И. Булгакова, 1907).
Carlyle Th. Occasional Discourse on the Nigger Question. L.: Thomas Bosworth, 1853 .
Carlyle Th. History of Friederich II of Prussia, called Frederick the Great. Vol. VI. N. Y.: Harper & Brothers Publishers, 1865. -carlyle-apos-s-works-history-of-friedrich-ii-of-prussia-called-frederick-the-great.
Carlyle Th. Arbeiten und Nicht verzweifeln. Berlin: Karl Robert Langewiesche Verlag, 1900 (рус. пер.: Карлейль Т. Этика жизни // Карлейль Т. Прошедшее и настоящее. М.: Книжный клуб «Книговек», 2014).
Coleman W. O. Economics and Its Enemies. Two Centuries of Anti-Economics. N. Y.: Palgrave-Macmillan, 2002.
Dixon R. The Origin of the Term «Dismal Science» to Describe Economics / Research Paper No. 715. Melbourne: Department of Economics at the University of Melbourne, 1999.
Dixon R. Carlyle, Malthus and Sismondi: The Origins of Carlyle’s Dismal View of Political Economy // History of Economics Review. 2007. Vol. 44. No. 1. P. 32–38.
Galbraith J. A History of Economics. Harmondsworth: Penguin Books, 1987.
Heilbroner R. The Worldly Philosophers. 6th ed. L.: Penguin Books, 1986 (рус. пер.: Хайлброннер Р. Л. Философы мира сего. М.: Астрель, 2011).
Levy D. How the Dismal Science Got Its Name: Debating Racial Quackery // Journal of the History of Economic Thought. 2001a. Vol. 23. No. 1. P. 5–35.
Levy D. How the Dismal Science Got Its Name. Classical Economics and the Ur-Text of Racial Politics. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2001b.
Levy D. Economic Texts As Apocrypha // Reflections on the Classical Canon: Essays in Honor of Samuel Hollander / ed. by E. Forget, S. Peart. L.: Routledge, 2001c.
O’Brien D. J. R. McCulloch: A Study in Classical Economics. L.: George Allen & Unwin, 1970.
Peart S., Levy D. M. Denying Human Homogeneity: Eugenics and The Making of Post-Classical Economics // Journal of the History of Economic Thought. 2003. Vol. 25. No. 3. P. 261–288.
Smith A. Lectures on Jurisprudence / ed. by R. L. Meek, D. D. Raphael, P. G. Stein. Oxford: Clarendon University Press, 1978.
II Гипноз Вебера. Заметки о «Протестантской этике и духе капитализма»[25]
«Протестантская этика и дух капитализма» великого немецкого социолога Макса Вебера (1864–1920) была впервые опубликована более 100 лет тому назад, в 1904–1905 гг. Из всех его многочисленных сочинений это самая громкая, самая прославленная и самая популярная работа: в академическом сообществе споры о ней не утихают до сих пор. Сегодня только ленивый не знаком с ее ключевой идеей о протестантизме как стартовой площадке для развития капитализма. Эта идея не только стала неотъемлемой частью современной интеллектуальной поп-культуры, но и принимается в качестве безусловной истины подавляющим большинством профессиональных исследователей — социологов, политологов, экономистов, социальных психологов, специалистов по менеджменту. Именно она послужила отправным пунктом при разработке теории модернизации. Тезис Вебера о рождении «духа» капитализма из протестантской этики бессчетное число раз воспроизводился и продолжает воспроизводиться не только в публицистических и научных статьях, но также в учебниках по социологии и учебных курсах для бизнес-школ по всему миру. В отечественных публикациях тоже можно нередко встретить утверждения о том, что России никак не удается ступить на путь успешного экономического развития только потому, что в свое время она не прошла суровую выучку в школе протестантизма. Ну, а без протестантской этики откуда взяться настоящему капитализму? Ясно же, что неоткуда.
Почти всеобщая загипнотизированность веберовской идеей о протестантской этике как катализаторе капиталистического развития достаточно удивительна. Дело в том, что многие крупнейшие ученые прямо и недвусмысленно писали о том, что она представляет собой не более чем миф и явно противоречит имеющимся историческим фактам. Так, еще в начале 1960-х годов знаменитый американский социальный психолог Дж. Хоманс констатировал, что гипотеза Вебера «лежит в руинах» (цит. по: [Delacroix, 1995, p. 126]). Сходную оценку давал ей выдающийся французский историк Ф. Бродель: «Для Макса Вебера капитализм в современном смысле слова являлся ни больше ни меньше как детищем протестантизма или даже, если быть более точным, пуританизма. Все историки находились в оппозиции к этой сомнительной теории, хотя и не отбрасывали ее с порога. Однако она явно ошибочна. Северные страны заняли то место, которое раньше так долго и с таким блеском занимали старые капиталистические центры Средиземноморья. Но они не создали ничего нового ни в области технологии, ни в области управлении бизнесом» [Braudel, 1977, p. 65–66]. О том же в своем президентском обращении к Обществу научного изучения религии говорил Р. Старк: «Возможно, именно потому, что этот тезис столь элегантен, он широко принимался несмотря на его очевидную ложность. Даже сегодня „Протестантская этика“ пользуется настолько высоким авторитетом среди социологов, что… опубликовать критическую статью о ней в каком-нибудь уважаемом социологическом журнале практически невозможно. По иронии судьбы… одинаково трудно опубликовать такую статью и в каком-нибудь экономическом журнале, потому что специалисты по экономической истории давным-давно отвергли веберовскую монографию как антикатолический нонсенс на том неоспоримом основании, что в Европе капитализм появился на несколько столетий раньше Реформации» [Stark, 2004, p. 465–466]. Один из самых авторитетных современных экономических историков Д. Макклоски отмечала: «Ошибочность веберовского анализа демонстрировалась вновь, вновь и вновь с тех самых пор, когда он был впервые предъявлен в 1905 г. Было показано, что он ошибочен с точки зрения теологии, с точки зрения экономической теории, с точки зрения истории. Но подобные новости не доходят до неспециалистов, которых продолжает приводить в восхищение манящий веберовский тезис про то, как из духовной искры возгорелось материальное пламя» [McCloskey, 2017]. С Макклоски солидарен ведущий теоретик по экономике религии Л. Йаннокоун: «По иронии, наиболее примечательная черта тезиса „Протестантской этики“ состоит в отсутствии у него какой-либо эмпирической поддержки. Анализ опровергает принадлежащее Веберу стилизованное объяснение европейской экономической истории, демонстрируя, что в регионах, на которые он ссылался, экономический прогресс либо не коррелировал с религией, либо никак не вписывался в его тезис хронологически, либо происходил фактически в порядке обратном тому, о котором заявлял он» [Iannaccone, 1998, p. 1474, 1475]. Однако сколько бы таких оценок ни высказывалось, им никогда не удавалось поколебать статус ключевой веберовской идеи, что наглядно свидетельствует о ее уникальной «тефлоновости».
Сам Вебер считал тезис, представленный в «Протестантской этике», непреложной истиной, твердо установленным научным фактом и не допускал никаких сомнений в его достоверности [Lehmann, 2005]. На тех, кто отваживался выступать с критикой, он смотрел свысока и третировал их либо как невежд, не владеющих историческим материалом, либо как бездарных читателей, не способных адекватно воспринимать научные тексты. По его мнению, если кто и мог бы при обсуждении данной темы вести с ним диалог на равных, так это не психологи, не социологи и даже не историки, а только теологи [Ibid.].
Автор настоящих заметок не социолог, не историк, не теолог, а экономист. Соответственно у него нет права — если следовать за Вебером — высказываться по существу проблемы, рассматриваемой в «Протестантской этике». Поэтому в настоящих заметках мы постараемся уйти, насколько это возможно, от оценки истинности/неистинности его основополагающего тезиса, ограничившись обсуждением особенностей (можно даже сказать сильнее — странностей) самой веберовской аргументации. Для краткости в дальнейшем изложении вслед за самим Вебером и другими исследователями мы будем обозначать его базовую идею просто как «Тезис».
ОБЩАЯ СХЕМА
Труд Вебера носит название «Протестантская этика и дух капитализма». Что такое «протестантская этика», в первом приближении более или менее понятно: это религиозно-нравственные представления и предписания, выработанные отцами-основателями различных протестантских деноминаций, их последователями и толкователями. Но с тем, что такое «капитализм» и уж тем более что такое «дух капитализма», ясности куда меньше. Естественно поэтому начать обсуждение с двух этих тем: что представляет собой «капитализм» как особая форма хозяйства и что представляет собой соответствующий ей неповторимый «дух».
Комментаторы обнаруживают у Вебера трехуровневую классификацию альтернативных форм организации экономической деятельности [Kaelber, 2005]. На первом, самом общем, уровне он выделяет четыре главных типа хозяйства, известных экономической истории (см. рис. II.1). Во-первых, это капитализм — экономическая система, которая основана «на ожидании прибыли посредством использования возможностей обмена, т. е. мирного (формально) приобретательства» [Вебер, 1990, с. 48]. Во-вторых, это социализм (или коммунизм) — экономическая система, ориентированная на прямое удовлетворение некоего заданного набора потребностей. Решения здесь принимают не частные предприниматели, а государственные служащие (бюрократы), представляющие интересы общества либо правящей группы. В такой экономике денежная прибыль отсутствует, а следовательно, отсутствует и ориентация на ее непрерывное возрастание. Государственно-социалистическую систему хозяйства Вебер находил, например, в Древнем Египте [Там же, с. 52]. В-третьих, это примитивная экономика самообеспечения, где потребление балансирует на грани минимума средств существования. Из-за крайне низкой производительности в ней отсутствует устойчивый экономический излишек (surplus), а значит, отсутствует даже сама возможность появления прибыли. В-четвертых, это традиционалистская экономика, где получение прибыли ограничено жесткими этическими нормами и где, следовательно, именно эти нормы регулируют распределение доходов и накопление богатства. Поскольку такая экономика ориентирована на поддержание некоего фиксированного одобряемого обществом стандарта потребления (для разных социальных групп он может быть разным), рост производительности, если он происходит, оборачивается в ней сжатием предложения труда и капитала. В ответ на повышение ставок заработной платы работники начинают уменьшать количество рабочих часов, увеличивая количество часов досуга. Аналогичную реакцию при повышении прибыли демонстрируют и предприниматели: разбогатев, они отходят от дел и начинают вести жизнь рантье (покупают земли, строят дворцы, приобретают дворянские титулы и т. д.). Словом, все докапиталистические, протокапиталистические, антикапиталистические экономические системы функционируют на принципиально иных институциональных и психологических основаниях, нежели капитализм.
На следующей ступени Вебер проводит разграничение между двумя альтернативными формами уже самого капитализма — «политическим» и «экономическим» (или, что то же самое, «рыночным»). В первом случае возможности для извлечения прибыли создаются государством или правящим классом с использованием политических средств, тогда как во втором — предоставляются рынком. При политическом капитализме равноправный обмен отсутствует: принудительно вводятся односторонние ограничения, которые позволяют извлекать прибыль за счет добычи сырья, рабского труда, эксплуатации колоний и т. д.
Рис. II.1. Веберовская типология организации экономической деятельности
Источник: [Kaelber, 2005, p. 142].
Наконец, на последней, третьей ступени Вебер выделяет три альтернативных формы экономического капитализма. «Грабительский» капитализм, подобно политическому, также строится на неравноправном обмене с использованием силы или угрозы ее применения. Разница только в том, что в данном случае такой обмен навязывается частными агентами, а не правителями или бюрократами. В условиях «авантюристического» капитализма источником прибыли выступает «иррациональная спекуляция», другими словами — разного рода рисковые операции. Он движется не рациональным расчетом, а игровым азартом (как в казино): у капиталистических авантюристов, которые существовали везде и всегда, «шансы на успех… носили обычно чисто иррационально-спекулятивный характер» [Вебер, 1990, с. 50]. Наконец, «современный рациональный капитализм» предполагает свободный и добровольный обмен, ориентацию на получение максимальной прибыли в денежной форме, систематическую эксплуатацию (с использованием исключительно мирных средств) возможностей, открывающихся на рынке, а также принятие решений на основе рациональной калькуляции ожидаемых выгод и издержек. Это уникальная форма хозяйства, которая известна только Западу Нового времени и которая нигде раньше никогда не наблюдалась. Все остальные — «нерациональные» — экономические системы в тех или иных модификациях встречались в самые разные эпохи и в самых разных частях света. Собственно поискам ответа на вопрос, как могла возникнуть такая не знающая аналогов организация хозяйственной деятельности как современный рациональный капитализм, и посвящена «Протестантская этика».
По Веберу, каждой экономической системе соответствует свой особый тип мотивации, или, как он выражается, свой особый «дух» (см. рис. II.2). Для примитивной экономики самообеспечения — это стремление к выживанию, для традиционалистской — стремление к поддержанию привычного стандарта потребления, для социалистической — стремление к удовлетворению заданного набора потребностей, для капиталистической — стремление к извлечению максимальной прибыли. Если «экономический» капитализм ориентирован на рынок, то «политический» — на эксплуатацию через прямое или скрытое насилие, идущее от государства. Если «грабительский» капитализм движим желанием «сильных» поживиться за счет «слабых», а «авантюристический» — иррациональной страстью к риску ради риска, то «современный рациональный» капитализм — стремлением к непрерывному наращиванию прибыли на основе рационального расчета [Kaelber, 2005].
Понятие «дух» капитализма — современного — является смысловым ядром веберовской концепции и на нем следует остановиться подробнее. Само это выражение (как, впрочем, и выражение «современный капитализм») было заимствовано Вебером у В. Зомбарта [Зомбарт, 1904][26]. Как Зомбарт, так и Вебер использовали его для обозначения особой экономической культуры, особой конфигурации ценностей, присущих «современному капитализму» и только ему. В версии Вебера, представленной в «Протестантской этике», «дух капитализма» обладает — почему-то — классовой природой: в случае работников он выражается в отношении к труду как к самоцели, в случае предпринимателей — в отношении к возрастанию прибыли как к самоцели. (Как стало возможно подобное раздвоение — не объясняется.) Этот «дух» ведет происхождение от протестантской этики, точнее — от этики аскетического протестантизма, к которому Вебер относит кальвинизм и протестантские секты. Однако протестантская этика не тождественна «духу капитализма», составляя лишь один из его элементов (правда, по вопросу о том, какие еще элементы в него входят, Вебер никаких разъяснений не дает). Еще более важно, что в отличие от протестантской этики «дух капитализма» свободен от какой бы то ни было религиозной направленности. Однако во всем остальном он выступает ее прямым и непосредственным наследником.
Рис. II.2. Веберовская типология мотиваций и целей экономической деятельности
Источник: [Kaelber, 2005, p. 144].
Согласно Веберу, основу протестантской этики составляла идея мирской аскезы. В первом приближении она предполагает, что человек обязан, с одной стороны, отдавать всего себя своей мирской деятельности, пытаясь достичь в ней максимальных высот (в этом его нравственный долг), но, с другой — воздерживаться от пользования ее плодами. Наградой ему за успехи в профессии или бизнесе становится не получение доступа к большему объему потребительских благ, а нечто гораздо более важное — обретение надежды на спасение, вера в то, что раз ему сопутствует успех в мирских делах, значит, Бог избрал его для вечной жизни. Эта вера заставляла приверженцев аскетического протестантизма вести строго рациональный образ жизни: сохранять постоянный самоконтроль, дорожить каждой минутой, не поддаваться эмоциям, сопоставлять текущие действия с их возможными будущими последствиями, проявлять в делах честность и скрупулезность, планировать деятельность на длительную перспективу. (Подробнее этот круг вопросов рассматривается в следующих разделах.) Как полагал Вебер, новейший рациональный капитализм мог возникнуть только при наличии подобной уникальной рациональной этики, выработанной аскетическим протестантизмом. Он считал не случайным, что, в отличие от Запада Нового времени, во всех незападных культурах и обществах прошлого отсутствовали даже зачатки развития «в сторону современного капитализма, и прежде всего духа капитализма в том смысле, в каком он присущ аскетическому протестантизму» [Вебер, 2017, с. 264].
Однако рациональная этика лишь одно из необходимых условий, сделавших возможным появление современного капитализма: помимо духовных он нуждался также и в целом ряде материальных предпосылок. Главнейшая из них — это рациональный расчет денежного капитала и получаемого от него дохода посредством новой бухгалтерии и составления баланса в качестве нормы для действующих предприятий [Вебер, 1924, с. 176]. Помимо этого капиталистическая система была бы невозможна при отсутствии: 1) частной собственности на средства производства; 2) свободного товарного рынка без навязанных извне — например, государством — искусственных ограничений; 3) рационального права; 4) рациональной техники; 5) свободного труда (т. е. возможности работников самостоятельно распоряжаться своей рабочей силой); 6) коммерческой организации хозяйственной деятельности с широким применением ценных бумаг[27]. При невыполнении этих условий идея рационального экономического расчета теряет смысл. Скажем, в экономических системах с подневольным трудом — рабским, крепостным и т. д. — из-за отсутствия регулярных сделок по купле-продаже рабочей силы оказывается невозможна точная калькуляция одного из важнейших элементов издержек производства — трудовых [Там же, с. 177].
По мысли Вебера, предпосылки, сделавшие возможным современный капитализм, исторически не были связаны друг с другом и вызревали в разное время. Так, система римского права, в которой он видел вершину рационального правового сознания, сформировалось в период поздней Античности. Современный бухгалтерский учет, основанный на принципе двойной записи, появился в Италии в эпоху Возрождения. И так далее. Еще важнее, что, как настаивал Вебер, «дух» и «тело», экономическая культура и экономическая организация также могут двигаться и чаще всего движутся по автономным историческим траекториям. Это одна из его главных, принципиальных методологических установок. По его терминологии, «социальная материя» и «социальный дух» находятся друг с другом в отношениях адекватности, а не каузальности (вернее, не только каузальности). Когда между ними обнаруживается «избирательное сродство» [Вебер, 1990, с. 106], происходит своего рода химическая реакция, способная радикально преобразить существующий социальный порядок. С новым европейским капитализмом так все именно и произошло.
Вебер был убежден в недостаточности как чисто материалистических, так и чисто спиритуалистических объяснений генезиса современного капитализма и являлся яростным критиком таких односторонних подходов. Он в равной мере отвергал как концепции, объявлявшие Реформацию продуктом капитализма, так и концепции, объявлявшие капитализм продуктом Реформации («уже одно то, что ряд важных форм капиталистического предпринимательства… значительно старше Реформации, показывает полную несостоятельность подобной точки зрения» [Вебер, 1990, с. 106]). В веберовском понимании «дух» и «тело» современного рационального капитализма достаточно долго существовали порознь, живя каждый своей отдельной жизнью[28]. Такое разъединение наблюдалось на заре современной капиталистической системы и, скорее всего, повторится на ее закате.
Ранний капитализм очень часто демонстрировал наибольшие успехи совсем не там, где процветал его «дух». Так, во Флоренции XIV–XV вв., являвшейся центром капиталистического развития того времени, предпринимательская деятельность расценивалась как морально предосудительная, тогда как в Пенсильвании XVIII в., «где из-за простого недостатка денег постоянно возникала угроза экономического краха и возвращения к натуральному обмену, где не было и следа крупных промышленных предприятий, а банки находились на самой ранней стадии своего развития», подобная деятельность «считалась смыслом и содержанием высоконравственного жизненного поведения» [Там же, с. 93][29]. В XVII в. в Массачусетсе «„капиталистический дух“… существовал до какого бы то ни было „капиталистического развития“», тогда как в будущих южных штатах США, где действовали крупные капиталисты, «„капиталистический дух“ был несравненно менее развит» [Там же, с. 77]. Еще пример: «Бенджамин Франклин был преисполнен „капиталистического духа“ в то время, когда его типография по своему типу ничем не отличалась от любого ремесленного предприятия», т. е. никак не могла считаться рационально-капиталистическим предприятием [Там же, с. 85]. Это с одной стороны. А с другой стороны, очень похоже на то, что от «позднего» капитализма конца XIX — начала XX в. прежний «дух» уже отлетел или по меньшей мере начал уже отлетать: на наших глазах тают последние остатки протестантской этики и капиталистическая экономика чем дальше, тем больше делается «бездуховной», лишенной какой бы то ни было этической опоры [Там же, с. 206].
По Веберу, только тогда, когда разнообразные элементы, составившие «современный капитализм», вошли друг с другом в «сцепление», он смог начать функционировать как целостная хозяйственная система. Только соединившись, «тело» и «дух», новая экономическая организация и новая экономическая культура обрели достаточный потенциал, чтобы начать последовательно вытеснять более ранние формы организации хозяйственной деятельности (прежде всего — традиционалистские). Такой стадии развития, полагает Вебер, западной экономике удалось достичь к середине XIX в.: «Целая эпоха может быть названа типично капиталистической лишь в том случае, когда покрытие потребностей капиталистическим путем совершается в таком объеме, что с уничтожением этой системы пала бы возможность их удовлетворения вообще» [Вебер, 1924, с. 176–177]. Сформировался совершенно уникальный тип хозяйства, никогда ранее не встречавшийся в экономической истории [Там же, с. 177].
Что можно сказать по поводу этих концептуальных построений? Начнем с того, что перед нами изощренная интеллектуальная конструкция, не уязвимая практически ни для какой критики. Полемика вокруг «Протестантской этики» представляет собой бесконечную сагу о том, как оппоненты Вебера раз за разом попадали в расставленные для них ловушки. Больше всего это похоже на безостановочное хождение по кругу. Стоит критикам обнаружить эмпирические свидетельства, которые, казалось бы, явно противоречат концепции Вебера, как за этим незамедлительно следует ответ его интерпретаторов, что веберовский замысел был в очередной раз неверно понят и что на самом-то деле он имел в виду совсем не то, что пытаются приписать ему недоброжелатели.
Обнаружена экономически отсталая протестантская страна? Но ведь там же ведущей религией являлись другие формы протестантизма, а не аскетический протестантизм, о котором писал Вебер. Обнаружена экономически отсталая страна, где большинство населения были кальвинистами (скажем, Венгрия XVII в. или, позднее, Шотландия)? Но ведь там в то время еще не созрели материальные условия, необходимые для формирования современного рационального капитализма. Обнаружена экономически успешная католическая страна? Но ведь существовавший в ней тогда капитализм был не рациональным, а политически-ориентированным или авантюристическим. Обнаружен «дух капитализма», который существовал задолго до рождения протестантизма, подтверждением чему служат произведения античных, средневековых или ренессансных авторов? Но ведь это были чисто литературные теории, которые не могли оказать влияния на реальное поведение людей. В современных данных не просматривается никакой положительной связи протестантизма (или даже аскетического протестантизма) с индикаторами экономического развития? Но ведь Вебер сам писал именно об этом — о том, что с определенного момента влияние религиозности на экономику начинает сходить на нет и что «победивший» капитализм отбрасывает этическую основу, на которой в свое время вырос.
Словом, при интерпретации выкладок Вебера требуется предельная бдительность. Утверждение, что протестантизм как таковой, в любых его формах, способствовал появлению современного капитализма — это не его Тезис; утверждение, что протестантская этика явилась самодостаточным фактором, благодаря которому и возник современный капитализм, — это не его Тезис; утверждение, что протестанты экономически успешнее католиков по причинам, не имеющим прямого отношения к трудовой этике, — это не его Тезис; утверждение, что понятие «протестантская этика» полностью эквивалентно понятию «дух капитализма», — это не его Тезис; наконец, утверждение, что положительное влияние протестантской этики на экономическое развитие должно наблюдаться и в наши дни, — это тоже, строго говоря, не его Тезис.
В историко-экономической литературе можно найти немало вполне реалистических гипотез о том, каким образом в XVI–XVIII вв. протестантизм мог послужить фактором, способствовавшим перемещению центра европейского экономического развития из стран Южной в страны Северной Европы. Например, Ф. Горски указывает на четыре возможных каузальных механизма такого перехвата экономического лидерства [Gorski, 2005]. Во-первых, спровоцировав активную миграцию, связанную с массовым переездом приверженцев протестантизма из преимущественно католических в преимущественно протестантские страны, Реформация привела к крупномасштабному перемещению человеческого и финансового капитала, переносу передовых технологий и переформатированию торговых сетей в пользу стран Северной Европы. Во-вторых, сократив число религиозных праздников и удлинив среднюю продолжительность рабочего дня, она увеличила предложение труда. В-третьих, благодаря экспроприации монастырской собственности и ликвидации монашеских орденов в хозяйственный оборот был включен огромный дополнительный объем физических и людских ресурсов. В-четвертых, стимулируя антиабсолютистские политические движения, Реформация способствовала утверждению менее хищнических и более предсказуемых форм государственного управления, появлению более надежных и лучше защищенных прав собственности. Несомненно, все это достаточно правдоподобные объяснения того, каким образом протестантизм мог ускорить экономическое развитие стран Северной Европы. Однако все они не являются веберовскими, поскольку апеллируют не к специфике протестантской этики, а к тем или иным «неспиритуалистическим» факторам.
Странная особенность рассуждений Вебера о «современном рациональном капитализме» — их хронологическая неопределенность. Из текста «Протестантской этики» нелегко понять, когда он, по мнению Вебера, возник, как эволюционировал и продолжает ли существовать до сих пор.
Бóльшая часть книги посвящена XVII–XVIII вв., но считал ли Вебер капитализм, существовавший в тот период, уже «современным»? Судя по всему, он относился к числу тех историков, которые датировали переломный момент в экономическом развитии Запада самое позднее рубежом XVI–XVII столетий [Gorski, 2005]. Такой подход, по существу, предполагает, что новая «капиталистическая» экономика возникла сразу вместе с наступлением Нового времени. Действительно, у Вебера можно встретить утверждение о том, что «начиная с XVI–XVII вв. экономический рационализм покорил Запад» [Weber, 1946, p. 293] (цит. по.: [Kalberg, 2002, p. lx]). В «Протестантской этике» Вебер замечает, что «рациональная капиталистическая организация буржуазного промышленного предприятия возникла… на рубеже Средних веков и Нового времени» [Вебер, 1990, с. 119]. Он характеризует XVI век как «решающий» период в истории капитализма, поскольку именно тогда развитие рынка само по себе, изнутри, смогло разрушить в Англии помещичью систему [Вебер 1924, с. 75; 2016, с. 161]. Но, скорее всего, эти пассажи относятся к тому периоду, когда «рациональный» капитализм хотя уже появился, но еще не стал доминирующей формой хозяйства: согласно еще одному веберовскому высказыванию, «специфический западный капитализм подготавливался начиная с XVI–XVIII вв.» [Вебер, 2016, с. 279].
Многие комментаторы (едва ли не все) связывают рождение нового экономического порядка с Первой промышленной революцией конца XVIII — начала XIX в. и относят суждения Вебера о «современном» капитализме именно к ней. Это вполне вероятное предположение, но в тексте «Протестантской этики» нет ни одного упоминания ни о Промышленной революции, ни вообще об экономическом развитии Запада в конце XVIII — первой половине XIX в. Правда, в некоторых других веберовских текстах иногда встречаются высказывания о том, что новая форма производства, «основывающаяся на соединении в руках частного предпринимателя всех средств производства», развилась в Англии в XVIII столетии [Вебер, 1924, с. 194], или о том, что Англия того времени стала «родиной капитализма» [Там же, с. 214]. Однако говорится все это вне каких-либо отсылок к протестантской этике. Похоже, сам Вебер не считал Промышленную революцию каким-то уникальным историческим событием и рассматривал экономическое развитие той эпохи как достаточно плавное и эволюционное. В любом случае из текста «Протестантской этики» при всем желании невозможно вычитать излюбленную идею социологов-веберианцев о протестантизме как «моторе» индустриализации.
Как уже упоминалось, по оценке Вебера, критический порог, обозначивший полное господство «современного рационального капитализма», был достигнут к середине XIX столетия. Однако считал ли он все еще «рациональным» капитализм конца XIX — начала XX в.? Да, он продолжает именовать его «современным», но, по-видимому, уже только в хронологическом, а не в содержательном смысле. Из наблюдений Вебера следует, что на рубеже XIX–XX вв. «победивший» капитализм начинает перерождаться во что-то иное, хотя и не вполне ясно, во что именно. Многое указывает на то, что в этот переходный период он перестает быть «рациональным» и, в этом смысле, — «современным». Вебер ссылается на несколько видимых примет начавшегося перерождения.
Во-первых, новейший капитализм уже не нуждается ни в какой нравственной опоре и за ненадобностью отбрасывает ее [Вебер, 1990, с. 206]. Отныне субъективное усвоение работниками и предпринимателями этики мирской аскезы не «является необходимым условием дальнейшего существования капитализма» [Там же, с. 76]. Теперь он выращивает необходимые ему кадры сам: «Индивид в той мере, в какой он входит в сложное переплетение рыночных отношений, вынужден подчиняться нормам капиталистического хозяйственного поведения: фабрикант, в течение долгого времени нарушающий эти нормы, экономически устраняется столь же неизбежно, как и рабочий, которого просто выбрасывают на улицу, если он не сумел или не захотел приспособиться к ним» [Там же]. Таким образом, место морали занимает рыночный отбор, место этических принципов — инстинкт выживания: «Капитализм, достигший господства в современной хозяйственной жизни, воспитывает и создает необходимых ему хозяйственных субъектов — предпринимателей и рабочих — посредством экономического отбора» [Там же, с. 76–77]. По словам Вебера, если «пуританин хотел быть профессионалом, мы должны быть таковыми» [Там же, с. 206]. Рыночная конкуренция предстает сегодня как «стальной панцирь», надетый на общество и заставляющий всех вести себя строго единообразно независимо от субъективных предпочтений, нравственных установок, религиозных убеждений [Там же][30]. Одним из следствий этого становится то, что наблюдавшаяся в прошлом связь между религиозностью и экономикой размывается, если не исчезает полностью: «Что касается современного „развитого капитализма“… то он не подвержен более тому влиянию, которое в прошлом могло оказывать вероисповедание» [Там же, с. 108].
Во-вторых, в новых условиях на смену мирскому аскетизму приходит непрерывная эскалация потребительских запросов, безостановочная погоня за жизненными удовольствиями: внешние мирские блага сумели подчинить себе «людей и завоевали наконец такую власть, которой не знала вся предшествующая история человечества. В настоящее время дух аскезы… ушел из этой мирской оболочки» [Там же, с. 206].
В-третьих, работники прекращают слепо относиться к труду как к самоцели и их главной мотивацией становится стремление к максимально высокой заработной плате: «Если бы рабочий класс не утерял веру в вечное блаженство — возможно, что он и посейчас был бы доволен своим жребием. Но надежда на воздаяние в будущем пала и на первый план выдвинулись все возрастающие противоречия интересов. Здесь кончается эпоха раннего капитализма и начинается железный век XIX столетия» [Вебер, 1924, с. 230 (с изменениями)].
В-четвертых, рациональный капитализм начинает вытесняться хорошо знакомым истории авантюристическим капитализмом: на арену выдвигается когорта крупных предпринимателей-авантюристов, таких как Пирпонт Морган, Рокфеллер, Джей Гоулдс и др. [Там же, с. 230][31]. Как и в прежние эпохи, деятельность таких экономических гигантов стоит «по ту сторону добра и зла», т. е. не сдерживается никакими внутренними моральными ограничениями [Вебер, 1990, с. 248]. Более того, в широких слоях самой передовой капиталистической страны, США, «в настоящее время стремление к наживе, лишенное своего религиозно-этического содержания, принимает характер безудержной страсти, подчас близкой к спортивной», иными словами, приобретает азартно-игровую, спекулятивно-рисковую ориентацию [Там же, с. 207].
В-пятых, нарастает бюрократизация государственной власти, а также деятельности крупных компаний. Западные общества начинают терять былую открытость и былой динамизм: с высокой степенью вероятности впереди их ждет «век механического окостенения» и тотальной «египтизации» [Там же].
Хотя контуры нарождающейся экономической системы не до конца ясны («никому не ведомо, кто в будущем поселится в этой прежней обители аскезы» [Там же]), одно несомненно — она будет мало напоминать старый добрый «рациональный» капитализм[32]. По словам Вебера, сформировавшееся в конце XIX — начале XX в. хозяйственное устройство — это чудовищный космос, «который… подвергает неодолимому принуждению каждого отдельного человека, формируя его жизненный стиль, причем не только тех людей, которые непосредственно связаны с ним своей деятельностью, а вообще всех ввергнутых в этот механизм с момента рождения» [Вебер, 1990, с. 76].
Итак, исходя из разрозненных и не всегда однозначных замечаний Вебера, эволюцию «современного капитализма» можно схематично представить в виде следующего хронологического ряда: 1) XVI–XVII вв.: мирская аскеза протестантской этики меняет экономическое поведение широких слоев населения Западной Европы; 2) XVIII в.: лишившись религиозной основы, протестантская этика трансформируется в «дух капитализма»; 3) конец XVIII — начало XIX в.: из соединения необходимых духовных и материальных предпосылок рождается «современный рациональный капитализм», который начинает активно вытеснять иные формы организации экономической деятельности (традиционалистские, политико-капиталистические, авантюрно-капиталистические); 4) середина XIX в.: «победивший» капитализм становится господствующей формой хозяйства; 5) конец XIX — начало XX в.: появляются признаки перерождения «рационального» капитализма в какую-то иную, скорее всего, менее рациональную форму хозяйства.
Конечно, предложенная нами периодизация является во многом условной и гипотетической. Нельзя с уверенностью утверждать, что сам Вебер имел в виду именно такую историческую последовательность. Но все же можно надеяться, что эта реконструкция более или менее адекватно отражает его представления о том, через какие основные этапы проходила трансформация капиталистической системы.
ВЕБЕР-ЭКЗЕГЕТ
Центральную идею, или гипотезу, веберовского анализа можно сформулировать так: протестантская этика явилась прародительницей «духа» капитализма и через это способствовала утверждению системы современного рационального капитализма.
Однако здесь сразу же нужны уточнения. На протяжении всей своей книги Вебер не перестает напоминать о том, что его Тезис касается не любых форм протестантизма, а исключительно его аскетических течений. Аскетический протестантизм включает: 1) кальвинизм; 2) пиетизм; 3) методизм; 4) вышедшие из анабаптистского движения секты [Там же, с. 136]. Все эти течения можно объединить под общей рубрикой «пуританизм», ни лютеранство, ни англиканство сюда не попадают. С учетом этого, труд Вебера было бы правильнее назвать не «Протестантская этика и дух капитализма», а «Пуританская этика и дух капитализма».
То, что неаскетический протестантизм чужд «духу капитализма» и потому не мог оказывать на экономическое поведение того же влияния, какое оказывал на него аскетический протестантизм, — одна из сквозных тем «Протестантской этики». Вебер возвращается к ней вновь и вновь. Так, лютеранство в отличие от пуританизма (и в этом оно походило на католицизм), не обладало способностью стимулировать мирскую (экономическую) активность своих приверженцев: «Не может быть и речи ни о каком внутреннем родстве лютеровских взглядов с „капиталистическим духом“» [Там же, с. 98]; «…у Лютера в его многочисленных высказываниях против ростовщичества и против любого взимания процентов… совершенно недвусмысленно проявляется „отсталость“ его представления о сущности капиталистического приобретательства» [Там же, с. 99]; «Лютер вообще не создал какой-либо принципиально новой или принципиально иной основы, на которой зиждилось бы сочетание профессиональной деятельности с религиозными принципами» [Там же, с. 101]; практическая этика сохранила «у Лютера свой традиционалистский характер» [Там же, с. 49]; «у Лютера — а еще больше в лютеранской церкви — психологические основы профессиональной рациональной этики становятся более шаткими, чем у мистиков» [Там же, с. 101]; в кальвинизме «установлена совершенно иная связь между религиозной жизнью и земной деятельностью, нежели в католицизме или лютеранстве» [Там же, с. 103]; «последователи строгой лютеранской веры и церковности мыслят крайне традиционалистски» [Там же, с. 249]; «лютеранство отличается пассивным характером, стремлением к успокоенности в Боге» [Там же, с. 149]; лютеранство воспринимало «рациональную аскезу как чужеродное тело» [Там же, с. 166]; имело место «глубоко отрицательное отношение католической и за нею лютеранской этики к любому капиталистическому начинанию» [Вебер, 1924, с. 223]. Упоминания об англиканстве встречаются в «Протестантской этике» намного реже, но и оно удостаивается от Вебера сходной оценки: покровительством англиканской церкви пользовались монополисты, крупные спекулянты и банкиры [Вебер, 1990, с. 99]; основы англиканства были предметом критики со стороны приверженцев пуританизма [Там же, с. 137]; англиканская церковь близка «католицизму по своим внешним чертам и по духу» [Там же].
По Веберу, аскетический протестантизм — это абсолютно уникальное явление, причем не только среди всех христианских деноминаций, но и шире — среди всех мировых религий вообще. И только такое уникальное религиозное учение, как пуританизм, могло подготовить почву для появления такой уникальной системы хозяйства, как современный капитализм.
Уникальность аскетического протестантизма Вебер связывает с доктриной предопределения основателя реформатства Жана Кальвина (1509–1564). Согласно Кальвину, Бог — это таинственное, непостижимое, трансцендентное существо, чьи помыслы и решения покрыты непроницаемым мраком; человек в своем ничтожестве постичь их заведомо неспособен. Еще до сотворения мира Бог определил одних к вечному блаженству, а других к вечному проклятию (идея «двойного декрета»). По подсчетам оптимистов, спастись должен один человек из каждой сотни или из каждой тысячи, по подсчетам пессимистов — один мужчина из каждой тысячи и одна женщина из каждых пяти-десяти тысяч [Zaret, 1992]. Со стороны Бога было актом милости предназначить к спасению хотя бы часть человеческого рода и сделал Он это исключительно ради собственной вящей славы. Будучи всеведущим и всемогущим, Бог своих решений не меняет: судьба любого человека — избран он или проклят — предопределена с начала времен, так что «милосердие в такой же степени не может быть утеряно теми, кому оно дано, в какой оно недостижимо для тех, кто его лишен» [Вебер, 1990, с. 142]. Никто и ничто не может изменить Его вердикт — ни проповедники, ни таинства, ни церковь, ни вера, ни покаяние, ни благочестие, ни праведная жизнь, ни добрые дела, ни даже сам Бог: не существует «никаких средств, которые могли бы обратить божественное милосердие на того, кто лишен его волею Бога» [Там же, с. 143]. Предположить обратное означало бы, что Его суверенные решения могут быть подвержены влиянию со стороны людей [Там же, с. 142].
В сравнении с Богом люди настолько ничтожны, что не в состоянии не только тем или иным способом побудить Его к пересмотру своих решений, но даже понять, какие именно решения в отношении них были изначально Им приняты. Предопределен конкретный человек к спасению или к проклятию — этого не дано знать ни ему самому, ни тем, кто его окружает, потому что «по поведению людей нельзя определить, избраны они или осуждены на вечные муки»: ведь «в земной жизни избранные внешне не отличаются от отверженных» [Там же, с. 147]. Таким образом, промысел Божий всегда остается тайной, скрытой от всех.
Пребывание в полной неизвестности относительно собственной судьбы должно было рождать в душах приверженцев кальвинизма «страх и трепет», погружая их в состояние непреходящего психологического напряжения: «невероятное напряжение… было неизбежным и ничем не смягчаемым уделом кальвиниста» [Там же, с. 153]. И поскольку все средства хотя бы временного снятия этого напряжения (предлагавшиеся, например, католицизмом) Кальвином были отвергнуты, его учение о предопределении обрекало верующих на перманентный психологический кризис без малейшей надежды обрести когда-либо душевный покой. Для его последователей вопрос о том, избран ли я и как мне удостовериться в своем избранничестве, оставался без ответа, что становилось для них источником никогда не ослабевающего страха смерти и страха перед загробным миром [Там же, с. 145].
Вполне понятно, что последующие поколения кальвинистских богословов и проповедников не могли обойти стороной эту проблему, поскольку душеспасительная практика повсеместно наталкивалась на муки, порождавшиеся учением о предопределении [Там же, с. 148]. Переакцентировка была произведена достаточно быстро. Как отмечает Вебер, в работах «эпигонов Кальвина» (начиная уже с работ его ближайшего соратника Т. Безы (1519–1605)) и, что еще важнее, «в повседневной жизни широких слоев верующих» исходные кальвиновские положения «претерпели существенное изменение» [Там же].
Вопреки точке зрения Кальвина, было признано, что все же существуют косвенные признаки, по которым и сам человек, и окружающие могут с большей или меньшей вероятностью судить о его статусе — принадлежит он (скорее всего) к числу избранных или же (скорее всего) к числу отверженных[33]. Речь идет об успехе в мирских делах; чем успешнее человек в своей профессиональной деятельности, тем больше шансов на то, что он был изначально предназначен к спасению: «Ведь успех его — это успех Бога, поскольку Бог ему способствовал, или уж, во всяком случае, знак Божьего благословения его самого и его действий» [Вебер, 2017, с. 187]. И поскольку тот, кто добивался успеха в мирских делах, обретал уверенность в своей избранности, он, таким образом, получал «психологическую премию» — разрядку от того неимоверного напряжения, на которое обрекало последователей Кальвина учение о предопределении. Верующий получал дополнительную психологическую премию, если, как это происходило в протестантских сектах, факт его избранничества обретал признание также и со стороны окружающих[34]. (В таких случаях премия оказывалась уже не чисто психологической, но и вполне материальной, обеспечивая почет, уважение, повышение социального статуса, расширение клиентуры и т. д.) Идея «психологической премии» (Prämien) за достижение успеха в мирской деятельности является, пожалуй, самым главным, центральным пунктом всей веберовской аргументации.
Однако, как и учил Кальвин, абсолютно достоверное, безошибочное знание о промысле Божием заведомо недостижимо: знание о том, кому какая участь уготована, всегда будет оставаться лишь вероятностным. Ведь в отличие от католицизма в кальвинизме «добрые дела» служат не средством к спасению, а не более чем знаком избранничества [Вебер, 1990, с. 151]. А это значит, что разрядка от психологического напряжения, которую дает мирской успех, может быть только временной: в любой момент уверенность в собственном спасении может быть утрачена, сменившись сомнениями, страхом и отчаянием. Чтобы не допустить этого, кальвинист был вынужден безостановочно доказывать свою избранность все большими и большими успехами в мирских делах: уверенность в спасении «избранник Божий все время стремится вновь обосновать безудержной и успешной профессиональной деятельностью» [Там же, с. 170].
Облегченный вариант поведения по принципу «согрешил — покаялся, согрешил — покаялся», доступный католикам, в подобной ситуации уже невозможен: подтверждать свое избранничество требуется постоянно и непрерывно, не расслабляясь ни на минуту, поскольку любой неверный шаг может означать, что ты проклят Богом и не входишь в число тех, кто предназначен к спасению. Отсюда Вебер выводит главную, во многом уникальную поведенческую характеристику, которую аскетический протестантизм прививал своим приверженцам, а именно — установку на последовательную рационализацию всего жизненного уклада. Конкретные проявления этой установки: ни на миг не прерывающийся самоконтроль; регламентация поведения в соответствии с установленными жесткими правилами; систематичность и методичность; встраивание отдельных решений в единую стратегию; следование долгосрочным жизненным планам. «Практическая этика кальвинизма, — замечает Вебер, — устраняла отсутствие плана и системы в повседневной жизни верующего и создавала последовательный метод всего жизненного поведения» [Там же, с. 153–154]. Необходимость подобной рационализации для самих приверженцев аскетического протестантизма объясняется просто: ведь только так они могли рассчитывать на получение максимальной «психологической премии».
Как полагает Вебер, точнее всего эту поведенческую установку выражает выработанное протестантизмом понятие «профессиональное (мирское) призвание». Согласно его разысканиям, употребление слова «призвание» для обозначения четко отграниченной сферы практической деятельности впервые обнаруживается в лютеровском переводе Библии, а до этого в светской литературе никогда не встречается. В таком значении, утверждает он, это понятие известно только протестантским народам и неизвестно ни католическому миру, ни Античности [Там же, с. 96][35]. Но когда профессиональная деятельность получает религиозное осмысление в качестве «призвания» (т. е. призванности человека на данное поприще Богом), тогда «„выполнение долга в рамках мирской профессии“ начинает рассматриваться как наивысшая задача нравственной жизни» [Там же, с. 97]. В отличие от католицизма, где понятие «профессии» оставалось этически нейтральным, во всех протестантских исповеданиях «выполнение мирских обязанностей так, как они определяются для каждого человека его местом в жизни» служило «единственным средством стать угодным Богу» [Там же]. Однако у Лютера понятие «мирского призвания» сохраняло свой «традиционалистский характер» (в лютеранстве речь шла лишь о том, что каждый должен оставаться в том состоянии, которое было дано ему Богом [Там же, с. 101]).
Подобный «традиционалистский» подход был преодолен в аскетическом протестантизме, в котором «отношение к своей работе как к призванию» стало трактоваться не только как самое верное, но в конечном счете и как «единственное средство увериться в своем избранничестве» [Там же, с. 203–204]. Добавление столь мощного психологического импульса имело огромное практическое значение: благодаря этому религиозную санкцию в глазах верующих получало «систематическое и рациональное стремление к законной прибыли в рамках своей профессии» [Там же, с. 85]. Для работников «призванием» становился усердный, добросовестный, продолжительный труд, для предпринимателей — неутомимая деятельность, направленная на получение прибыли, увеличивать которую они чувствовали себя обязанными [Там же, с. 202][36].
Однако, как постоянно подчеркивает Вебер, концепция наживы как «призвания» — это совсем не то же самое, что голая, безудержная, бесцеремонная, не знающая никакой меры алчность: «Безудержная алчность в делах наживы ни в коей мере не тождественна капитализму и еще менее того его „духу“. Капитализм может быть идентичным обузданию этого иррационального стремления» [Там же, с. 48]. Инстинктивная жажда обогащения стара как мир: «Безудержное, свободное от каких бы то ни было норм приобретательство существовало на протяжении всего исторического развития; оно возникало повсюду, где для него складывались благоприятные условия» [Там же, с. 79]. Напротив, «рациональное этическое ограничение жажды наживы», которое принес с собой пуританизм, исторически беспрецедентно [Вебер, 2017, с. 264].
Утверждение протестантской этики, отмечает Вебер, сопровождалось «в высшей степени тягостной и жесткой регламентацией всего поведения, глубоко проникающей во все сферы частной и общественной жизни» [Вебер, 1990, с. 62]. Она выступала «как против недобросовестности, так и против инстинктивной жадности» [Там же, с. 198]. Иными словами, в аскетическом протестантизме стремление к наживе предстает как строго регламентированное, причем регламентированное не внешними запретами (которые он, наоборот, упразднял), а интериоризированными моральными нормами, такими как честность, пунктуальность, добросовестность, обязательность, законопослушность и т. д. Парадоксальным образом, но такое добропорядочное поведение становилось залогом материального преуспеяния. Почему? Потому что соблюдение, как мы сегодня сказали бы, норм деловой этики способствовало накоплению репутационного капитала, а накопление репутационного капитала способствовало все большим успехам в бизнесе: «Ни один благочестивый пуританин… не счел бы богоугодным делом ростовщичество, использование ошибки партнера… торговые махинации, участие в политическом или колониальном грабеже. Твердая цена, абсолютно деловое, чуждое голого стремления к наживе, безукоризненно честное поведение с любым партнером — вот качества, которыми квакеры и баптисты объясняли, почему даже безбожники покупали у них, а не у своих, несли деньги на сохранение… им, а не своим, обогащали их, а не своих, что и было подтверждением правильности их жизни перед Богом» [Вебер, 2017, с. 254].
Но откуда берется сама связь между предназначенностью к спасению и успехом в мирских делах? Каким образом второе может становиться сигналом о первом? Все дело в том, что, согласно кальвинистской доктрине, Бог создал мир исключительно ради своей вящей славы. Тот, кто успешно участвует в преобразовании и улучшении мира, по существу, занимается приумножением славы Господней и поэтому может надеяться, что избран: ведь не станет же Бог помогать тем, кого сам осудил на проклятие. Только неутомимая деятельность в рамках своей профессии «прогоняет сомнения религиозного характера и дает уверенность в своем избранничестве» [Вебер, 1990, с. 149]; только она позволяет «завоевать в повседневной борьбе субъективную уверенность в своем избранничестве и в своем оправдании» [Там же, с. 148]. В результате в веберовской трактовке кальвинизма мирская профессиональная деятельность предстает как «самое верное средство, снимающее состояние аффекта, порожденное религиозным страхом» [Там же, с. 149].
Кальвинистская идея, что Бог создал мир ради собственного прославления, имеет и еще одно важное следствие: поскольку плоды успешной мирской деятельности принадлежат не человеку, а Богу, человек не вправе наслаждаться ими и вместо этого обязан направлять их на дальнейшее улучшение мира. Он должен избегать земных удовольствий, всемерно ограничивая свои потребности и желания. Несмотря на то что вся его деятельность протекает в миру, ему надлежит вести, по сути, аскетический образ жизни. Поэтому протестантскую этику Вебер определяет как этику мирской аскезы. В отличие от аскезы католического монашества, которая являлась потусторонней, аскеза кальвинизма и протестантских сект была посюсторонней [Там же, с. 105][37].
Почему приверженцы аскетического протестантизма оказывались сами заинтересованы в воздержании и отказе от наслаждения жизнью? Ответ очевиден: направляя заработанное на потребление, они лишали бы себя возможности добиться еще большего мирского успеха, т. е. лишали бы себя возможности получения новых, дополнительных подтверждений своей избранности, а следовательно, и возможности получения столь необходимой им «психологической премии». Озабоченность проблемой спасения души перевешивала все остальное.
Утверждение мирского аскетизма имело непредвиденные экономические последствия. Как отмечает Вебер, два наиболее эффективных, проверенных аскетических средства — это труд и отказ от потребления [Там же, с. 198]. С одной стороны, мирская аскеза протестантизма поощряла неутомимый, постоянный, систематический профессиональный труд среди работников и неустанное стремление к наживе среди предпринимателей, поскольку только так им удавалось убеждаться в собственной избранности [Там же]. С другой стороны, она «со всей решительностью отвергала непосредственное наслаждение богатством и стремилась сократить потребление», т. е. поощряла наращивание сбережений [Там же, с. 197]. Неизбежным результатом такого сочетания — роста доходов с ростом бережливости — становилось активное накопление капитала, служившее «мотором» экономического прогресса.
Итак, мы прошли всю цепочку веберовских аргументов: от религиозной экзегезы до экономической истории, от доктрины предопределения до подъема капитализма. Здесь следует подчеркнуть один исключительно важный для Вебера момент, который с трудом воспринимался многими комментаторами: положительное влияние аскетического протестантизма на развитие экономики было непредвиденным следствием его возникновения и распространения [Там же, с. 105]. Такой результат не входил в замыслы самих протестантских богословов и проповедников и, более того, являлся крайне нежелательным с их точки зрения, поскольку «богатство как таковое таит в себе страшную опасность, искушения его безграничны», а стремление к нему не только бессмысленно, но и нравственно предосудительно [Вебер, 1990, с. 185].
Здесь, настаивает Вебер, следует четко разграничивать два аспекта — религиозную догму и жизненную практику, формальные предписания и реальные стимулы. В своих поучениях пуританские проповедники осуждали наживу, богатство, накопление капитала, деньги, торговлю, ростовщичество не менее, а может быть и более сурово, чем католические или лютеранские. Однако «психологическую премию» в виде уверенности в спасении души приверженцы аскетического протестантизма получали за методически-рациональное поведение, ориентированное на достижение экономического успеха. Против такой действенной награды любые проповеди с осуждением «мамонизма» были бессильны. Как подчеркивает Вебер, лишь постольку, поскольку религиозная этика «имплантирует» в сознание людей определенную систему стимулов, ей удается менять их поведение, в том числе и их хозяйственную практику [Там же, с. 116].
Этот важнейший пункт рассуждений Вебера не был в должной мере понят большинством его критиков. Пытаясь опровергнуть Тезис о положительной связи протестантской этики с экономическим прогрессом, они ссылались на многочисленные документальные свидетельства резко отрицательного отношения к «мамонизму» пуританских авторов и значительно более терпимого отношения к нему католических. Однако такие возражения бьют мимо цели. С точки зрения Вебера, словесные осуждения ничего не доказывают. Он сам с готовностью признавал «антикапиталистический» настрой многих приверженцев аскетического протестантизма: «Из пуританской литературы можно извлечь любое количество примеров того, как осуждалась жажда богатства и материальных благ и противопоставить их значительно более наивной по своему характеру этической литературе средневековья» [Там же, с. 186]. Ключевой «теологический» вопрос состоит в том, порождала или не порождала протестантская этика стимулы, которые направляли бы экономическую активность в «капиталистическое» русло, но именно он чаще всего выпадал из поля зрения критиков.
Едва ли не первая развернутая попытка поставить под сомнение адекватность самой веберовской экзегезы была предпринята лишь на рубеже 1980–1990-х годов канадским социологом Р. Маккинноном [MacKinnon 1988a; 1988b; 1994; 1995]. По его мнению, теологические изыскания Вебера практически полностью несостоятельны: его Тезис покоится на искаженном прочтении религиозных текстов, несущем в себе «посыл, который дискредитирует его собственные цели»; предпринимаемые в «Протестантской этике» попытки экзегезы «идут вразрез реальности и, чтобы подкрепить их, Вебер задействует фактические ошибки и ловкость рук»; «его тщетные усилия в этом направлении отмечены непониманием богословской терминологии, ее безграмотным употреблением, перечеркивающим весь его замысел, возникающими отсюда непоследовательностью и противоречиями и, что менее извинительно, трюкачеством, когда его аргументация наталкивается на свидетельства, которые в нее не вписываются» [MacКinnon, 1988b, p. 178–181].
Экзегеза Вебера дважды ошибочна. Во-первых, он не заметил, что при переходе от Кальвина к его «эпигонам» идея предопределения уходит резко в тень, так что ни о каком психологическом напряжении, которое она порождала бы, и соответственно ни о какой потребности в снятии этого напряжения говорить уже не приходится. Во-вторых, он превратно истолковал понятие «добрые дела»: рассуждая о них, кальвинисты, подобно представителям других христианских деноминаций, имели в виду труды духовные, а не мирские. Отметим, что любого из двух этих пунктов вполне достаточно, чтобы обрушить всю веберовскую конструкцию.
Маккиннон согласен с Вебером, что исходная доктрина предопределения должна была порождать у верующих неизбывное психологическое напряжение: Бог Кальвина — всеведущее мстительное существо, которое, исходя только из Ему самому известных причин, предопределило большую часть человечества к проклятию и лишь меньшую — к спасению. Из-за абсолютной трансцендентности Бога проникнуть в его тайный замысел невозможно, и, более того, как учил Кальвин, человек не должен даже пытаться угадать, какое именно решение относительно него было принято. Неопределенность здесь неизбежна и непреодолима: человеку остается только верить в свое избранничество, не имея на то никаких — ни внешних, ни внутренних — свидетельств и подтверждений.
Но дальше представления Вебера и Маккиннона расходятся. Вебер полагал, что в позднейшей кальвинистской догматике учение о предопределении было сохранено в полной неприкосновенности. Однако пастырская литература не могла не отреагировать на крик души со стороны паствы. Она бросила ей спасательный круг, указав частичный выход из создавшегося экзистенциального тупика, а именно — предложив проверять избранность каждого исходя из его успехов в мирском призвании.
Здесь, по мнению Маккиннона, экзегеза Вебера обнаруживает свою тенденциозность и искусственность. В посткальвиновский период радикальные изменения произошли не только в душеспасительной практике, но и, что важнее, в самом вероучении. Сначала в пастырской литературе 1590-х годов, а затем и в догматике XVII в. учение о предопределении выхолащивается и приобретает сугубо символическое значение. Появляются предупреждения верующим, что к этой «таинственной доктрине» следует относиться с крайней осторожностью [MacKinnon, 1994]. На первый план выходит «теология завета» (covenant theology), ядро которой составляет идея договора между Богом и верующим: взаимодействие между ними начинает мыслиться по образцу бизнес-контракта, когда Бог берет на себя определенные обязательства по отношению к избраннику, если тот, в свою очередь, готов выполнять свои обязательства по отношению к Богу. В результате отношения между Богом и верующим перестают быть односторонними и становятся двусторонними, а значит, намного более постижимыми, предсказуемыми и комфортными. Идея «небесного контракта» фактически передает судьбу человека в его собственные руки: решающим фактором оказывается его воля к вере, его желание обрести спасение.
Как учит теология завета, в рамках «небесного контракта» верующий при должном исполнении заповедей может получить абсолютно достоверное знание о собственном религиозном статусе — «безошибочную гарантию» (infallible assurance) своего избранничества: «Те, кто верит в Господа Иисуса, кто искренне любит его и кто старается с чистой совестью ходить перед ним, могут в этой жизни обрести уверенность (be assured) в том, что они пребывают в состоянии благодати» [MacKinnon, 1995, p. 220]. Более того, знаки избранничества могут проявляться и становиться зримыми не только самому человеку, но также и окружающим [MacKinnon, 1994, p. 592]. Долг каждого — прилагать все возможные усилия к тому, чтобы сделать свое призвание и свою избранность несомненными (sure) и явленными (visible) [Ibid.]. В качестве средств, с помощью которых человек может безошибочно установить свою избранность и получить абсолютную гарантию спасения, теология завета называет интроспекцию и добрые дела: верующие «должны прилежно пытаться определить, на какие добрые дела Господь указал в Его слове и затем всеми силами стараться все их исполнять» [MacKinnon, 1995, p. 220].
При этом сами «добрые дела» понимаются совершенно не так, как это предполагает веберовская экзегеза, где они, напомним, однозначно связываются с усердным трудом в рамках избранной профессии. В текстах кальвинистских богословов и проповедников проводится строгое разграничение между двумя видами призвания — духовным (небесным, вечным) и мирским (земным, временным). «Добрыми делами» можно считать только то, что совершалось Им и Его святым словом, и ничто больше [Ibid., p. 221]. Соответственно есть духовная деятельность, которая имеет искупительное значение и участие в которой — долг каждого христианина, и есть мирская деятельность, участие в которой не имеет отношения к спасению, и которая охватывает все, что в Писании и не предписано, и не запрещено.
С религиозной точки зрения такая деятельность по сути нейтральна. Однако на практике земное призвание может становиться помехой для небесного. Мирские дела являются источником двойной опасности: если человек уделяет им слишком мало времени и сил, у него развивается лень, но если он уделяет им слишком много времени и сил, это отвлекает его от выполнения духовных обязанностей. Как говорил Кальвин, мы становимся богаты добрыми делами, когда проявляем безразличие к земному богатству [MacKinnon, 1994, p. 593]. В этом контексте Маккиннон ссылается на одного из самых знаменитых пуританских проповедников XVII в. Р. Бакстера (1615–1691): «Выбирай то занятие или призвание, в котором ты можешь быть более всего угоден Богу. Выбирай не то, в котором ты сможешь снискать наибольший почет, а то, в котором ты сможешь сделать более всего добра и в котором сможешь надежнее всего избегать греха» [MacKinnon, 1995, p. 222][38].
По словам Маккиннона, теология завета «вдохнула новую жизнь в идею добрых дел, санкционировала поиск свидетельств избранности с помощью интроспекции, предоставила избранным безошибочную гарантию их избранности и сделала ее зримой для них» [MacKinnon, 1994, p. 591]. При контрактных отношениях с Богом, при достижимости абсолютного знания о своей избранности и при ключевом значении духовной, а не мирской деятельности от веберовского Тезиса не остается практически ничего. Критика Маккиннона оказывается для него абсолютно разрушительной: если с помощью интроспекции и добрых дел кальвинист мог рассчитывать на обретение абсолютной уверенности в своей предназначенности к спасению, то он не должен был постоянно пребывать в состоянии страха и трепета; если неустранимое психологическое напряжение отсутствовало, то незачем было предпринимать усилия по его снятию; если добрые дела, порождавшие уверенность в спасении, не имели ничего общего с земными трудами, то тогда не могло возникать стимулов, которые подталкивали бы верующих к трудоголизму и погоне за прибылью; если трудоголизм и погоня за прибылью не имели места, то отсутствовали связанные с протестантской этикой факторы, которые могли бы способствовать развитию капитализма; наконец, если все это так, то, значит, пуританизм не принес с собой никаких уникальных этических норм, которые не были бы известны другим религиям.
Естественно, критика Маккиннона не могла не вызвать контркритики со стороны верных веберианцев. С фронтальной атакой выступил Д. Зарет [Zaret, 1992; 1995]. Как и следовало ожидать, Маккиннон был обвинен в искажении веберовских взглядов, а предложенная им интерпретация кальвинизма — с негодованием отвергнута. Основные возражения Зарета: критика Маккиннона строится на вырванных из контекста цитатах, что методологически неприемлемо; кальвинизм никогда не отказывался от доктрины предопределения, а в некоторых отношениях пуританские проповедники были даже большими кальвинистами, чем сам Кальвин; преуменьшая элементы волюнтаризма у самого Кальвина, Маккиннон в то же самое время преуменьшает элементы детерминизма у его «эпигонов», так что нет оснований говорить о каком-либо резком сломе при переходе от первого ко вторым; теология завета представляет собой сложное переплетение мотивов волюнтаризма и детерминизма, но Маккиннон видит лишь первую ее половину и игнорирует вторую; он пытается представить теологию завета в виде стройного, внутренне непротиворечивого учения, тогда как на самом деле это амбивалентное, полное нестыковок идеологическое образование; Маккиннон ставит себя в нелепое положение, когда отрицает наличие противоречий у кальвинистов XVI–XVII вв., но находит массу противоречий у Вебера[39]; хотя пуританские проповедники чаще говорили о духовном, а не о мирском призвании, нельзя не замечать их попыток одухотворить практическую деятельность [Zaret, 1992; 1995]. Кроме того, на материале личных документов, относящихся к XVII в., Зарет показывает, какие мучительные переживания испытывали люди той эпохи (скажем, О. Кромвель), пытаясь разгадать свою будущую судьбу [Zaret, 1995]. Таким образом, все основные пункты веберовской схемы — с большими или меньшими оговорками — остаются в силе.
Хотя неспециалист (не теолог?) не может быть арбитром в этом споре, все же с позиции здравого смысла подход Маккиннона выглядит более предпочтительно. Во-первых, если кого и следовало бы обвинять в избирательном подходе и вырывании цитат из контекста, так это, прежде всего, самого Вебера. Даже если согласиться с интерпретацией Зарета, все равно получается, что в «Протестантской этике» Вебер целиком проигнорировал всю «волюнтаристскую половину» пуританизма. Во-вторых, Вебер сам писал о «существенном изменении», произошедшем при переходе от Кальвина к его «эпигонам», хотя и полагал, что оно затронуло не догматику, а только пастырскую практику. В-третьих, экзегеза Вебера полностью игнорирует идею договора с Богом, которая уравновешивала, а при определенных условиях могла вообще отменять (как, например, в случае с Бакстером) идею предопределения. В-четвертых, ему практически нечего возразить на предложенную Маккинноном антивеберовскую трактовку добрых дел [MacKinnon, 1994][40].
Наконец, ссылки Зарета на личный духовный опыт пуритан XVII в. сами по себе также ничего не доказывают. Религиозные сомнения известны представителям любых эпох и любых вероисповеданий: ключевой вопрос — их психологическая окраска. Пусть даже Зарет прав, и в теологии завета доктрина предопределения не превратилась всего лишь в «ширму», как полагает Маккиннон. Но одно дело испытывать религиозные сомнения, зная, что никаких шансов узнать свою будущую судьбу нет и что от тебя ничего не зависит, и другое — испытывать их, зная, что существует возможность узнать ее с абсолютной достоверностью и что все зависит только от тебя. Во втором случае нет той безысходности и той потребности в маниакальном коллекционировании внешних знаков избранничества, которые есть в первом. Зарет, по справедливому замечанию Маккиннона, просто-напросто не пытается поставить себя на место верующего [MacKinnon, 1994].
Чтобы пояснить, как в кальвинизме могли уживаться принципы детерминизма и волюнтаризма, Зарет ссылается на пример марксизма: марксизм тоже совмещает в себе, казалось бы, несовместимые идеи объективных законов истории, с одной стороны, и революционного активизма — с другой, и они тоже находятся друг с другом в чрезвычайно сложных и противоречивых («диалектических») отношениях [Zaret, 1992]. Но это аналогия неудачная (неудачная — для самого Зарета). Не нужно быть глубоким знатоком марксизма, чтобы признать, что, скажем, теории Э. Бернштейна и теории В. Ленина предлагают принципиально разные картины мира.
СКАЗ О 109%
Конструкцию, которая обсуждалась в предыдущем разделе, можно назвать утонченно-богословской версией веберовского Тезиса. Ее подробная, пошаговая разработка составляет основное содержание «Протестантской этики». Но, как ни странно, исходная формулировка проблемы в первом разделе первой части книги ничего подобного в общем-то не предвещает: здесь нам рассказывают во многом иную, гораздо более простецкую историю.
Вебер начинает с того, что преподносит в качестве общеизвестного, признаваемого всеми факта существование положительной связи между протестантской верой и материальным преуспеянием. Так, он отмечает, что в Германии среди владельцев капитала и квалифицированных рабочих явно преобладают протестанты [Вебер, 1990, с. 61]. Чтобы проиллюстрировать общеизвестность этой закономерности, он ссылается на мнения ряда авторитетных наблюдателей, в частности, английского поэта Дж. Китса (1795–1821), шотландского историка Г. Бокля (1821–1862), французского философа Ш. Монтескье (1689–1755), одновременно выражая недоумение, почему так широко распространены «необоснованные» сомнения по поводу ее существования [Там же, с. 111]. (Отметим, что эта оговорка не слишком хорошо согласуется с исходным веберовским утверждением о вроде бы всеобщем признании тесной связи между протестантизмом и капиталистическим предпринимательством и во многом его обесценивает[41].)
Правда, этим Вебер не ограничивается. В качестве эмпирической базы для подтверждения выдвинутого им Тезиса он использует статистические данные из докторской диссертации своего ученика Мартина Оффенбахера о распределении учащихся средних школ разного типа по конфессиональной принадлежности их семей в земле Бремен за 1885/86–1894/95 учебные годы. Важно подчеркнуть, что это единственное эмпирическое свидетельство (единственное в самом буквальном смысле слова), на котором держится вся конструкция Вебера. Все остальное — экзегеза религиозных и литературных текстов, призванная показать содержательную близость между «протестантской этикой» и «духом капитализма». Мы воспроизводим таблицу Оффенбахера в том виде, в каком она была представлена в его диссертации и затем перенесена Вебером в «Протестантскую этику» (добавлена только отсутствовавшая у Оффенбахера последняя колонка с суммой по строкам) (см. табл. II.1).
Первое, что сразу бросается в глаза при обращении к этим статистическим данным, это намного более сильная склонность протестантских семей давать своим детям среднее (необязательное) образование, поскольку доля протестантов среди учащихся средних школ оказывается существенно больше их доли в общей численности населения Бремена — 48 % против 37 % (см. табл. II.1). Впрочем, Вебер не придает этим конфессиональным различиям в спросе на среднее образование особого значения, полагая, что они могут объясняться более высокими доходами протестантских семей, а также тем, что среди католиков гораздо выше доля семей, проживающих в сельской местности.
Таблица II.1
Распределение учащихся средних школ разного типа по конфессиональной принадлежности, Баден, 1885/86–1894/95 гг., % (исходные оценки М. Оффенбахера)
Источник: [Becker, 1997, p. 485].
Ключевое значение для его аргументации имеет другой факт — резкие контрасты, наблюдаемые в распределении учащихся-протестантов и учащихся-католиков по средним школам разного типа. В конце XIX в. в Германии действовала достаточно сложная система среднего полного девятиклассного (необязательного) образования [Becker, 2000]. Наряду с классическими гимназиями, дававшими образование преимущественно гуманитарного профиля с изучением древнегреческого и латыни (чему посвящалась почти половина всего учебного времени), существовали реальные гимназии, дававшие образование более современного типа — без преподавания классических языков и с бóльшим упором на изучение математики, естественных наук и современных языков. Высшие реальные школы представляли собой учебные заведения промежуточного типа, где отсутствовало преподавание древнегреческого, но преподавание латыни сохранялось. Помимо этого в таблице Оффенбахера фигурируют еще два типа средних школ, которые давали неполное шести- или семилетнее образование и служили подготовительными ступенями для продолжения обучения в реальных гимназиях или высших реальных школах. Во всех учебных заведениях плата за обучение была примерно одинаковой, но при этом альтернативные образовательные треки были жестко изолированы друг от друга: переходы из школ одного типа в школы другого типа были практически невозможны. (Речь идет только о средних учебных заведениях для мальчиков; для девочек существовали свои особые школы.)
Как видно из приводимых в табл. II.1 цифр, если в гимназиях преимущество было на стороне католиков, то в школах современного типа абсолютно доминировали протестанты. Так, в реальных гимназиях разрыв между долей протестантов и долей католиков достигал огромной величины — 38 п.п.! Не столь внушительным, но все же весьма значительным он был и во всех других разновидностях реальных школ. Вебер был склонен рассматривать этот разрыв как статистическое подтверждение своего главного тезиса о большей склонности протестантов к капиталистическому предпринимательству. Действительно, из оценок Оффенбахера следовало, что протестанты чаще выбирают для своих детей более практическое, более техническое, более современное образование, которое открывает путь к таким востребованным на рынке профессиям, как инженеры, техники, квалифицированные рабочие. По Веберу, различия в образовательных предпочтениях отражают различия в профессиональных ориентациях, а те, в свою очередь, отражают различия в религиозно-нравственных установках католиков и протестантов. Каждая группа выбирает те профессии, которые более всего соответствуют ее интериоризированным религиозным ценностям. Католический этос подталкивает к выбору классического гуманитарного образования, протестантский — современного технического и коммерческого.
Однако здесь Вебер невольно ставит себя в достаточно затруднительное положение. Важнейшее различие между разными типами средних школ состояло в том, что только окончание классических гимназий давало право на поступление в любой из существовавших тогда немецких университетов, в то время как выпускникам реальных школ доступ туда был закрыт. Они могли поступать в высшие учебные заведения только неуниверситетского типа, престиж которых был намного ниже. Так, только выпускники университетов могли претендовать на получение ученого звания доктора; только они, пройдя обучение на соответствующих факультетах, могли становиться юристами, врачами, священниками. Как следствие, именно из них рекрутировались кадры административной, политической, культурной, а также финансовой и промышленной элиты страны. Нужно ли удивляться, что выходцы из высших слоев общества, к какой конфессии ни принадлежали бы их родители, обучались почти исключительно в классических гимназиях?
В этом смысле современному читателю нелегко понять, почему в изложении Вебера классическое образование предстает как какое-то второсортное, если именно оно открывало наилучшие профессиональные перспективы, обеспечивало самые высокие заработки и более всего ценилось в обществе. Почему высший управляющий или адвокат — это «нерыночные» виды занятий, а техник или квалифицированный рабочий — «рыночные»? И если уж задаться вопросом о рациональности поведения, то ее скорее демонстрировали католические семьи, чаще отправлявшие своих детей в гимназии, а не протестантские, выбиравшие обучение в реальных школах. Подобное положение вещей прямо противоположно тому, в котором пытается нас уверить Вебер. Объяснить этот парадокс можно только тем, что он не допускал даже мысли о том, что выбор типа учебного заведения может диктоваться экономическими (т. е. рациональными в его собственной системе представлений) соображениями, и сводил все к ценностным установкам, прививаемым в ходе религиозного воспитания.
Но интересно не только это. Как видно из последней колонки табл. II.1, ряд оценок Оффенбахера следует признать результатом либо арифметических ошибок, либо типографских опечаток. Действительно, в трех случаях из пяти сумма по строкам не сходится к 100 %. В двух случаях это совсем небольшие погрешности, но в третьем, касающемся реальных гимназий, сумма по строке доходит аж до 109 %! Поразительно, но в таком откровенно дефектном виде таблица Оффенбахера воспроизводилась в многочисленных научных статьях и учебниках по социологии в течение почти полувека. И даже после того, как эти ошибки были, наконец, замечены, множество авторов по-прежнему продолжали включать ее в свои работы без каких-либо корректировок.
Г. Беккер смог пересчитать оценки Оффенбахера по первичным данным бременской статистики, получив во многом иные результаты [Becker, 1997]. В результате такого пересчета доля протестантов среди учащихся реальных гимназий упала с 69 до 52 %, а доля католиков возросла с 31 до 36 %. Соответственно конфессиональный разрыв в представительстве протестантов и католиков для средних учебных заведений данного типа сократился с 38 до 16 п.п. (Неточности были обнаружены Беккером и в других ячейках таблицы, но они незначительны и не меняют общей картины.)
Не менее важная техническая проблема состоит в том, что табличные данные в том виде, в каком они были изначально представлены Оффенбахером, не слишком информативны и трудны для восприятия. Они характеризуют распределение учащихся средних школ разного типа по конфессиям, а нас, по идее, должно интересовать распределение учащихся разной конфессиональной принадлежности по типам средних школ. Строго говоря, подлежащее и сказуемое в табл. II.2 следовало бы поменять местами. Если же сделать это, то тогда становится очевидно, что различия в распределении католиков и протестантов по разным типам средних учебных заведений ничтожно малы — вопреки тому, что показывают исходные оценки Оффенбахера. По каждому отдельно взятому типу реальных школ конфессиональный разрыв составляет не более 1–2 п.п., и даже суммарно по всем ним он дотягивает не более чем до 8 п.п. (см. табл. II.3). Иными словами, среди католиков доля обучавшихся в классических гимназиях была лишь на 8 п.п. выше, а доля обучавшихся в реальных школах лишь на 8 п.п. ниже, чем среди протестантов.
Не правда ли, есть некоторая разница: 38 и 8 п.п.? В этой ситуации, чтобы достичь абсолютного межгруппового равенства, было бы достаточно «перебросить» 400 учащихся-католиков из классических гимназий в реальные школы или наоборот — 400 учащихся-протестантов из реальных школ в классические гимназии [Becker, 1997]. Но это совсем не те величины, исходя из которых было бы можно делать вывод о существовании принципиальных поведенческих различий между католиками и протестантами — различий, обусловленных соответствующими религиозными этосами. Рискнем задать вопрос (естественно, риторический): какую реакцию вызвала бы сегодня у научного сообщества некая глобальная концепция, эмпирическое обоснование которой состояло бы в обнаружении межгрупповой разницы по какому-либо количественному показателю в 8 п.п.?
Таблица II.2
Распределение учащихся средних школ разного типа по конфессиональной принадлежности, Баден, 1885/56–1894/95 гг., исходные и скорректированные оценки, %
Источник: [Becker, 1997, p. 487].
Таблица II.3
Распределение учащихся разной конфессиональной принадлежности по типам средних школ, Баден, 1885/86–1894/95 гг., %
Источник: [Becker, 1997, p. 488].
Вебер справедливо замечает, что бóльшая предрасположенность учащихся-католиков к получению классического образования могла быть связана с тем, что среди них намного чаще, чем среди учащихся-протестантов, наблюдалось стремление к поступлению после окончания школы на теологические факультеты университетов (напомним, доступ туда был открыт только выпускникам классические гимназий) [Вебер, 1990, с. 109]. Однако это наблюдение он оставляет без каких-либо комментариев, заставляя предполагать, что все дело опять-таки в особенностях католического этоса.
В 1870–1880-х годах после того, как в 1870 г. Ватикан принял догмат о непогрешимости папы, в Германии по отношению к католикам начала проводиться репрессивная политика: их стали воспринимать как подрывную, антипатриотическую группу, выступающую агентом влияния вражеской иностранной державы [Munch, 1995; Becker, 2000]. Эта репрессивная политика выразилась в принятии целого ряда антикатолических законов, высылке из страны нескольких епископов, запрещении деятельности на территории Германии католических орденов, закрытии большого числа семинарий и отказе государства утверждать предлагавшиеся католической церковью кандидатуры на занятие вакантных мест священнослужителей. (Стоит отметить, что образованная часть немецкого общества поддерживала эту антикатолическую культурную политику — Вебер также был среди ее сторонников, рассматривая католиков как невежественную, бездеятельную, обскурантистскую силу, чуждую прогрессу и тянущую страну назад.)
В результате в католических церквях Германии возник острейший кадровый дефицит, который удалось восполнить лишь к началу Первой мировой войны. Ситуация с протестантскими священнослужителями была прямо противоположной: здесь, наоборот, наблюдался явный избыток кадров. Когда в 1887 г. отношения между Ватиканом и Германской империей нормализовались, у католической церкви появилась, наконец, возможность начать заполнять вакансии священнослужителей, остававшиеся незанятыми в течение предыдущих десятилетий. Естественно, это способствовало резкому скачку спроса на богословское образование среди католической молодежи. (Немаловажное значение имел также и чисто экономический фактор: дело в том, что студенты богословских факультетов получали наибольшую финансовую поддержку в виде государственных стипендий.)
Отсюда можно сделать вывод, что различия в профессиональной специализации между выходцами из католических и протестантских семей — повышенный интерес к получению богословского образования у первых и отсутствие такого интереса у вторых — имели чисто экономическую природу и объяснялись неравными возможностями на рынке труда. Если католикам (особенно из небогатых семей) получение богословского образования открывало прекрасные профессиональные перспективы, так что учеба в классических гимназиях оказывалась для них очень привлекательной опцией, то протестантов получение богословского образования вело в профессиональный тупик, так что более привлекательной для них оказывалась учеба в реальных школах. В этом смысле и те и другие действовали экономически рационально. Различия в их поведении объяснялись по преимуществу социально-политическими факторами, тогда как религиозный этос не играл сколько-нибудь значительной роли.
Но, пожалуй, самое важное заключается в том, что дискуссия по поводу оценок Оффенбахера выявляет присутствие в «Протестантской этике» двух во многом не идентичных объяснительных схем: прямолинейно-позитивистской (условно — Вебер-1) и утонченно-богословской (условно — Вебер-2; она обсуждалась нами в предыдущем разделе). Первая (раздел I первой части книги) имеет немало серьезных отличий от второй (основной корпус книги). Так, концепция Вебер-1 предполагает, что: 1) протестантизм в любых его формах положительно связан с успехами в практической жизни (поскольку большинство протестантов Бремена не были реформатами, а принадлежали к лютеранской церкви); 2) положительное влияние протестантской этики на экономическое поведение сохраняется до настоящего времени (иначе мы не наблюдали бы различий в образовательной стратегии и профессиональных предпочтениях католиков и протестантов); 3) даже агенты, пропитанные чуждым «духу капитализма» католическим этосом, способны неплохо вписываться в современную экономическую реальность (поскольку выбирают для своих детей образование, сулящее более высокие доходы и более высокий социальный статус). Хотя Вебер нигде не говорит обо всем этом открытым текстом, но имплицитно подобные выводы, несомненно, присутствуют в его обсуждении табличных данных Оффенбахера. Однако все они, как было показано выше, эксплицитно отвергаются им позднее в других частях книги. Причем, что интересно, для читателя, а возможно и для самого автора, переход от Вебера-1 к Веберу-2 совершается абсолютно незаметно.
Едва ли поэтому справедливо упрекать в упрощении и искажении взглядов Вебера исследователей, которые ищут прямые связи между протестантизмом (в любых его формах) и показателями экономического развития и полагают, что подобные связи могут сохраняться до сих пор. Начало подобной примитивизации положил он сам, когда пытался подвести под свой Тезис хоть какую-нибудь эмпирическую (статистическую) базу.
НА КОМ ПОЧИЕТ «ДУХ КАПИТАЛИЗМА»?
Как мы помним, Тезис Вебера возводит родословную «духа капитализма» (с уточнением — современного) к протестантской этике. В веберовском понимании наиболее явно этот «дух» выражается в отношении человека к своей профессиональной деятельности («призванию») как к самоцели, а не как к средству, позволяющему более полно удовлетворять желания и потребности. В случае работников такое отношение принимает форму почти маниакального, но не утилитарного стремления к труду (ради него самого), в случае предпринимателей — форму почти маниакального, но не утилитарного стремления к прибыли (ради нее самой). Труд как самоцель и прибыль как самоцель — вот краткая формула «духа капитализма», как представлял себе его Вебер.
В более общих терминах можно было бы сказать, что это такой склад психики или такой строй мышления, который ориентирован на использование рациональных средств (планирование, точный расчет и т. д.) ради достижения иррациональных целей (почти по Э. Бернштейну — цель ничто, движение все). По словам Вебера, в «духе капитализма» труд и нажива до такой степени начинают мыслиться как самоцель, что становятся «чем-то трансцендентным и даже просто иррациональным по отношению к „счастью“ или „пользе“ отдельного человека» [Вебер, 1990, с. 75][42].
Уже из этого эскизного описания видно, что из протестантской этики «дух капитализма» взял, что нового внес и от чего отказался. Сохранив верность идеям мирской аскезы, мирского призвания, рационализации жизни и строгой нравственности, он облек их в секулярную (нерелигиозную) форму. Конкретно это выразилось в том, что успешность в практической деятельности стала цениться сама по себе, а не в качестве знака избранности к спасению. Говоря иначе, исчезла та психологическая премия, которую получал пуританин, когда достигал успеха в мирских делах. Достижительность как самоцель, а не как полученный от Бога сигнал — вот главное, чем «дух капитализма» отличается от протестантской, или, как иногда выражается Вебер, «старопротестантской», этики. С учетом этого можно предложить обобщенную формулу такого, примерно, вида:
дух капитализма = протестантская этика — религиозное обоснование.
(Мы говорим «примерно», потому что, как уже отмечалось, отношение к мирской деятельности как самоцели Вебер считал лишь одним из элементов «духа» современного капитализма, не называя, впрочем, никаких иных.)
Пробуждение протестантскими богословами и проповедниками этого, вообще говоря, чуждого им «духа» никак не входило в их планы: «Мы, конечно, не предполагаем, что стремление к мирским благам, воспринятое как самоцель, могло кому-нибудь из них представляться этической ценностью» [Вебер, 1990, с. 105]. Его возникновение стало непредвиденным и непреднамеренным результатом их деятельности, которая от этого только усложнилась.
Вместе с тем нельзя не отметить, что, по мнению Вебера, наряду со многим другим «дух капитализма» унаследовал от протестантской этики одну критически важную черту, а именно — «классовый» подход в понимании самой идеи мирского призвания. Веберовские рассуждения на эту тему отличаются странной асимметрией: сигналы, посылаемые Богом работникам и предпринимателям, оказываются почему-то разными; точнее, разными оказываются признаки, по которым определяется успешность тех и других в мирских делах. Это раздвоение возникает уже на первых страницах «Протестантской этики» и затем проходит через всю книгу.
Для предпринимателей, как нам сообщают, преданность своему делу выражается в стремлении к возможно более высокой прибыли. Но тогда, по логике вещей, следовало бы ожидать, что для работников преданность своему делу будет выражаться в стремлении к возможно более высокой заработной плате. Казалось бы, и то и другое есть мерило деловой успешности человека и поэтому может рассматриваться в качестве сигнала о его избранности к спасению. На ту же мысль наводят и содержащиеся в «Протестантской этике» пассажи о «современном экономическом человеке», у колыбели которого стоял пуританизм [Там же, с. 200]. В изображении Вебера этот изолированный от мира Homo oeconomicus (его прообразом объявляется Робинзон Крузо) предстает как «машина для получения дохода» [Там же, с. 197][43]. Но если это так, то тогда к наибольшему денежному доходу должны стремиться все экономические агенты независимо от их классовой принадлежности: что верно для предпринимателей, то верно и для работников.
Однако из «Протестантской этики» вырисовывается совершенно иная картина. В ней мы встречаем, с одной стороны, верного своему профессиональному долгу предпринимателя, который стремится к наживе, а с другой — верного своему профессиональному долгу рабочего, «который не стремится к наживе» (Курсив мой. — Р. К.) [Там же, с. 203]. Если предприниматель судит о шансах на свое избранничество исходя из размера полученного им денежного дохода, то рабочий — почему-то нет. Аскетический протестантизм легализовал «эксплуатацию… специфической склонности к труду» [Там же, с. 204]; он учил, что «добросовестная работа, даже при низкой ее оплате… является делом, чрезвычайно угодным Богу» [Там же, с. 203]; он воспитывал рабочих, «считавших долгом своей совести подчиняться экономической эксплуатации», т. е. мириться с низкой заработной платой [Там же, с. 270]; выполняя «свой долг по отношению к труду», такие рабочие не принимали «в расчет размер своего заработка» [Там же, с. 83]; исполнение ими своего призвания означало «их согласие подвергаться в капиталистических предприятиях самой безудержной эксплуатации» [Вебер, 1924, с. 229]. Столь нерациональное, на первый взгляд, поведение Вебер объясняет тем, что за него рабочим обещалось нечто, превосходящее любую материальную награду, а именно — «вечное спасение» [Там же]. Но точно такая же асимметрия приписывается затем и «духу капитализма», уже не имеющему к религии никакого отношения: упорный труд, сочетающийся с максимально высоким денежным доходом, вменяется Вебером в качестве самоцели капиталистическим предпринимателям, но упорный труд, сочетающийся с устойчиво низким денежным доходом, — капиталистическим работникам [Вебер, 1990, с. 204]. Насколько можно понять, комбинация «высокая прибыль + низкая заработная плата» представлялась ему необходимым условием для резкой активизации сбережений, а значит, и для мощного ускорения накопления капитала, а значит, и для безостановочной экспансии «современного капитализма»[44].
Вебер не только не объясняет, как такое может быть, но, похоже, даже не осознает, что здесь требуется какое-то объяснение: он просто постулирует «классовость» сначала протестантской этики, а затем и «духа капитализма» как нечто само собой разумеющееся. Однако для его Тезиса этот дуализм является фатальным. Либо все верующие судят о своих шансах на спасение по тому, как их деятельность оценивается «рынком», и тогда исчезает асимметрия между предпринимателями и работниками, либо предприниматели и работники являются носителями разного этоса, и тогда вообще рушится вся его конструкция. Исходя из того, что пишет сам Вебер, реальное (психологическое) значение для работников должны иметь не проповеди с призывами довольствоваться низкими заработками, а знаки делового успеха, сулящие вечное блаженство. И если таким знаком является высокий рыночный доход, то они будут стремиться к нему точно так же, как это делают предприниматели (при соблюдении соответствующих этических норм). Веберовская аргументация заходит здесь в явный логический тупик и выбраться из него без потерь для себя она не в состоянии[45].
Парадоксально, но наиболее полное и адекватное воплощение «духа капитализма» Вебер обнаруживает в сочинениях, а также в жизненном поведении Бенджамина Франклина (1706–1790). Выбор Франклина в качестве «иконы» капиталистического духа удивителен по многим причинам: по своим убеждениям Франклин был не пуританином, а, как выражается Вебер, бесцветным деистом «без какой-либо конфессиональной направленности» [Вебер, 1990, с. 75]; он никогда не был фанатично предан бизнесу и занимался им лишь часть своей жизни (сначала в качестве простого типографа, а позднее в качестве хозяина типографской мастерской); свой небольшой бизнес он вел, по оценке Вебера, не на рационально-капиталистической, а на традиционалистской основе [Там же, с. 85]; он никогда не ограничивал себя какой-либо одной сферой деятельности, а всю жизнь подвизался на нескольких поприщах одновременно; наконец, он был прежде всего литератором и лишь затем бизнесменом, общественным деятелем, дипломатом, ученым, философом, революционером, женолюбом, светским человеком.
Чем же Вебер обосновывает свой выбор? Ничем, кроме непонятной уверенности в том, что всем, как и ему, должно быть совершенно очевидно, что принадлежащие Франклину «строки пропитаны именно „духом капитализма“, его характерными чертами» [Там же, с. 73]. Все, однако, указывает на то, что очевидно это было лишь одному человеку — самому Веберу. Ни у кого из позднейших исследователей, специально занимавшихся изучением творчества Франклина, веберовская трактовка не получила признания.
Собственно говоря, в «Протестантской этике» все сводится к разбору небольшого отрывка из сочинений Франклина, где тот делится мыслями о том, как можно стать богатым. Но что представляет собой сам этот отрывок? Это контаминация, сконструированная Вебером из двух крошечных текстов Франклина: «Совет молодому торговцу, написанный старым» (1748) размером в полторы страницы и «Необходимые советы тем, кто хотел бы стать богатым» (1736) размером в полстраницы[46]. И в том и в другом случае Вебер первым делом обрезает начало и конец, а затем к большому фрагменту из первого текста присоединяет несколько абзацев из второго[47].
Названия этих текстов говорят сами за себя: в них Франклин дает практические рекомендации, как себя вести и что делать, если хочешь разбогатеть. Здесь мы встречаем многие его знаменитые изречения на экономические темы: «время — деньги»; «деньги по природе своей плодоносны и способны порождать новые деньги»; «путь к богатству… зависит… главным образом от двух слов — „усердие“ и „бережливость“»; «тот, кто бесцельно потерял время, равное пяти шиллингам, потерял эти пять шиллингов так же, как если бы выбросил их в море» и т. п.
Достаточно неожиданно, но Вебер объявляет эти житейские максимы «проповедью» [Там же, с. 73], придавая им моралистическую и даже квазирелигиозную окраску: перед нами, утверждает он, этические нормы, регулирующие «весь уклад жизни» [Там же, с. 74]; по Франклину, долг каждого добропорядочного человека «рассматривать приумножение своего капитала как самоцель» [Там же, с. 73]; «здесь проповедуются не просто правила житейского поведения, а излагается своеобразная „этика“, отступление от которой рассматривается не только как глупость, но и как своего рода нарушение долга. Речь идет не только о „практической мудрости“… но о выражении некоего этоса» [Там же, с. 73–74]; «в его поучении, обращенном к молодым коммерсантам, безусловно, присутствует этический пафос» [Там же, с. 115]; у Франклина «нажива в такой степени мыслится как самоцель, что становится чем-то трансцендентным и даже просто иррациональным» [Вебер, 1990, с. 75].
Впрочем, на деле позиция Вебера не столь однозначна, как могло бы показаться на первый взгляд. Комментируя «сборный» франклиновский текст, он предлагает — буквально через запятую — три не слишком хорошо согласующиеся друг с другом трактовки: поучения Франклина — это моральные предписания (они носят характер «категорического императива»), откуда следует, что их нельзя считать всего лишь максимами житейской мудрости; поучения Франклина — это сугубо утилитарные рекомендации (все они обосновываются соображениями полезности), откуда мы вправе сделать вывод (сам Вебер его, конечно же, не делает), что перед нами как раз таки максимы житейской мудрости; поучения Франклина — это проповедь наживы как самоцели «при полном отказе от наслаждения… от всех эвдемонистических или гедонистических моментов» [Там же]. (Заметим, что предлагая эти три толкования одновременно, Вебер вновь удачно ограждает себя от возможной критики.)
Однако дело не ограничивается одним только вменением Франклину «духа капитализма». Вебер идет дальше, давая понять, что нравственное кредо Франклина являет собой чистейший образец протестантской этики (правда, в секуляризированной форме). В первой части книги он лишь намекает на протестантские корни жизненной философии Франклина, указывая на то, что его отец был суровым кальвинистом [Там же], но во второй — уже открытым текстом записывает Франклина в число «деятелей пуританизма» (с оговоркой — свободомыслящих) [Там же, с. 218]. Остановимся на минуту и попытаемся осознать, что это значит. По Веберу получается, что семейное воспитание — это все, а собственные нравственные и интеллектуальные поиски человека, его духовное самоопределение — ничто. Да, сознательно Франклин был «бесцветным деистом», но бессознательно он оставался пуританином и всю жизнь сохранял верность пуританским поведенческим установкам, воспринятым от отца. И именно благодаря этому «пуританская профессиональная аскеза» (за вычетом «ее религиозного обоснования») смогла найти в его сочинениях свое наиболее полное и систематизированное выражение [Там же, с. 205].
Основанием для всего этого построения служит единственное упоминание Франклином в его «Автобиографии» того факта, что в детстве отец не раз повторял ему изречение из Притчей Соломона: «Видел ли ты человека, проворного в своем деле? Он будет стоять пред царями; он не будет стоять перед простыми» (Притч. 22:29). Хотя, продолжает Франклин, «я никогда не думал, что буду в буквальном смысле стоять перед царями, однако так и случилось: я стоял перед пятью королями и даже имел честь сидеть с одним из них за обедом, а именно, с королем Дании» [Франклин, 2015, с. 46]. Пожалуй, самое невероятное здесь то, как Вебер ухитрился не заметить, что смысл библейского изречения, на которое ссылается Франклин, прямо противоположен тому, что подразумевает концепция «духа капитализма»: ведь в стихе из Притч «проворность в своем деле» предстает вовсе не как самоцель, а как средство для обретения социальных благ — высокого положения в обществе, почета, уважения, славы, вхождения в круг сильных мира сего.
Интеллектуальное сальто, которое проделывает Вебер, превращая Франклина в «деятеля пуританизма», поразительно не только само по себе, но еще и тем, что оно проходит совершенно незамеченным для читателя. Рассуждая по аналогии, уместно было бы спросить: что мы сказали бы об авторе, который попытался бы реконструировать некую «католическую этику» (естественно, за вычетом религиозной санкции) по сочинениям Вольтера или Дидро на том основании, что их «папы» были католиками? Но ведь, по существу, Вебер поступает именно так: деист Франклин попадает у него прямиком в «деятели пуританизма» только потому, что его отец был пуританином!
Франклин был профессиональным литератором и его тексты нельзя воспринимать без учета их жанровой специфики. В зависимости от контекста, адресата, избранного жанра, игры со смыслами он мог высказывать самые разные суждения по одному и тому же предмету и было бы ошибкой автоматически вменять их ему в качестве выражения его авторской позиции. Так, исследователи творчества Франклина не сомневаются, что «Советы молодому торговцу» были задуманы и написаны как юмористический текст. Вебер (скорее всего, сознательно) обрезает его концовку, где предшествующие рекомендации иронически снимаются или по меньшей мере сильно умеряются: «Тот человек, который честно зарабатывает деньги и умеет сохранить то, что заработал (необходимые расходы не в счет), несомненно, разбогатеет, если, конечно, Всевышний, на которого мы все смотрим с благоговением, не уготовил ему другой путь» (Курсив мой. — Р. К.) [Франклин, 2015, с. 103].
В этом же тексте есть такое предупреждение: «Тот, кто бездумно потратил крону, лишается всего, что она могла произвести: сотен и тысяч фунтов» [Там же, с. 102]. Вебер комментирует это место следующим образом: «Небрежность в обращении с деньгами равносильна [для Франклина] как бы „умерщвлению“ эмбрионов капитала и поэтому также является нарушением этической нормы» [Вебер, 1990, с. 181]. Мимо его внимания проходит тот важный игровой момент, что здесь Франклин пародирует сам себя, отсылая читателя к собственной знаменитой «Речи мисс Салли Бейкер» (1747) [McCloskey, 2010]. В своей речи Салли (мать пятерых незаконнорожденных детей) среди прочего заявляет: «Большое и растущее число холостяков этой страны, многие из которых… никогда в жизни честно и искренне не ухаживали за женщиной, своим образом жизни оставили нерожденными (а это, я думаю, не намного лучше убийства) сотни своих потомков до тысячного поколения. Не является ли их преступление против Общего Блага более тяжким, чем мое?» [Franklin, 1747]. Еще один пример франклиновской юмористики: можно ли поверить, чтобы человек, одержимый «духом капитализма», был способен написать такую полную самоиронии вещь как «Разговор Франклина с подагрой» (1780)? По свидетельству веберовского племянника Э. Баумгартена, Вебер не настолько хорошо владел английским языком, чтобы разбираться в нюансах франклиновской прозы и чувствовать ее игровые, юмористические обертоны [Roth, 1995].
Не менее примечательно то, что из обоих текстов Вебер изымает фрагменты, в которых однозначно проступает их утилитарная направленность. Вот опущенное им начало «Советов молодому торговцу»: «Как вы и хотели, я написал следующие рекомендации, которые в свое время послужили мне, и возможно, если вы будете их соблюдать, послужат и вам» [Франклин, 2015, с. 102]. А вот опять-таки опущенное им начало «Необходимых советов»: «Все преимущество иметь деньги заключается в возможности ими пользоваться» [Франклин, 1956]. Где тут «нажива как самоцель», где тут «чувство долга» и где тут «категорический императив»? Оба текста, если восстановить веберовские изъятия, не оставляют сомнения в том, что перед нами житейские советы, а не моральные предписания. Их посыл предельно прозрачен: если ты хочешь разбогатеть, то поступай так-то и так-то. Но в них нет даже намека на требование «ты должен богатеть». Гротескность веберовского прочтения становится очевидной, если принять во внимание, что оба цитируемых текста Франклина стоят в одном ряду с такими его сочинениями как «Совет молодому человеку как выбрать любовницу» (1745) и аналогичными ему.
Вершиной интепретаторского произвола можно считать утверждение Вебера о том, что «дух капитализма» присутствует у Франклина «во всех его сочинениях без исключения» (Курсив мой. — Р. К.) [Вебер, 1990, с. 76]. И это говорится о писателе, чьи сочинения переполнены солеными шутками и неоднократно запрещались цензурой как непристойные и нарушающие общественную мораль! Добавим, что исследователи в одном только «Альманахе бедного Ричарда» (1732–1758) насчитывают несколько десятков поговорок с осуждением богатства и накопительства. Возможно, точнее всего мысли самого Франклина на этот счет выражает одна из них [Franklin, 1733]:
У бедных — мало, у нищих — ничего,
У богатых — слишком много, в самый раз — ни у кого.
Одна из странностей комментариев Вебера состоит в том, что он использует тексты Франклина, обращенные к другим лицам, но почти не касается текста, где тот излагает нравственную философию, которую выработал для самого себя. Мы имеем в виду список из 13 добродетелей в его «Автобиографии», написанной им специально для своего сына (см. приложение). Естественно, как и у всякого моралиста, в этом списке находится место и воздержанию, и трудолюбию, и бережливости. Однако комментарии Франклина относительно того, в какой мере он сам преуспел в овладении этими добродетелями, полны самоиронии. Он пишет, что проявлял бережливость только тогда, когда бывал беден, и что ему лучше удавалось создавать видимость скромности, чем быть скромным на самом деле. Что касается целомудрия, то о его достижениях по этой части лучше вообще умолчать. Во всем этом нет абсолютно ничего от «духа капитализма»: мы не обнаруживаем ни отношения к наживе как к самоцели, ни призывов потреблять как можно меньше и сберегать как можно больше, ни предписаний безостановочно накапливать капитал. Но особенно примечателен последний, 13-й, пункт из франклиновского списка, касающийся такой добродетели, как смирение: можно ли вообразить, чтобы веберовский аскето-протестантский капиталист, одержимый погоней за прибылью, когда-нибудь по примеру Франклина сказал себе: «Подражай Сократу»?
Вебер усматривает присутствие «духа капитализма» не только в сочинениях, но также (и это еще удивительнее) в жизненном поведении Франклина. Жизнь Франклина состояла из трех неравных и очень разных частей: в молодости он вел веселую и достаточно безалаберную жизнь, пропадал в театрах, не гнушался спиртного и был весьма охоч до женщин; в зрелые годы он занялся типографским бизнесом, сумев сколотить на нем весьма приличное состояние; став богатым человеком, он полностью отошел от дел, без остатка погрузившись в литературные, научные и общественные занятия. Да, управляя своей типографией, он был экономен, дальновиден, расчетлив, методичен, благодаря чему сумел достичь успеха. Но достаточно ли этого, чтобы объявлять его архетипическим носителем «духа капитализма»? Как мы помним, Вебер сам указывает, что типографский бизнес Франклина был вполне традиционалистским.
На протяжении всей своей долгой и насыщенной событиями жизни Франклин вел себя далеко не так, как предписывают «протестантская этика» и «дух капитализма»: он рано — в 42 года — навсегда оставил бизнес, причем это было его продуманным решением, которое он принял еще в молодости, когда составлял план своей дальнейшей жизни; даже будучи бизнесменом, он едва ли не большую часть времени посвящал литературе, науке и общественной деятельности; он давал в долг крупные суммы своим беспутным друзьям без надежды на то, что эти деньги когда-нибудь к нему вернутся; он никогда не брал патенты на свои изобретения, отказываясь, таким образом, от больших денег, которые доставались другим; он из собственного кармана оплатил свою поездку в Лондон в качестве официального представителя Ассамблеи Пенсильвании; он заводил внебрачных детей; он публиковал достаточно скабрезные произведения, подвергавшиеся цензурным запретам; последние годы он жил если не в роскоши, то с большим комфортом; находясь в Лондоне, он регулярно высылал жене в Филадельфию партии китайского фарфора, собрав коллекцию, которой весьма гордился; всю жизнь он тратил время и средства на всевозможные общественные проекты; наконец, в старости он стал революционером: «Что более всего примечательно в жизни Франклина… так это то, как мало времени и сил он посвящал зарабатыванию денег и насколько широк был круг его интересов» [Dickson, McLachlan, 1989, p. 87]. В конце жизни Франклин признавался, что хотел бы, чтобы после смерти про него говорили не «Он умер богатым», а «Он жил с пользой» [McCloskey, 2010]. Все это никак не вписывается в его портрет, представленный в «Протестантской этике»[48].
Здесь важно подчеркнуть: подобно тому, как оценки Оффенбахера являются единственным статистическим подтверждением тезиса Вебера о большей экономической успешности протестантов, точно так же небольшой контаминированный франклиновский текст — является единственным документальным подтверждением его тезиса о существовании специфического «духа капитализма». Без опоры в виде карикатурного образа Франклина вся концепция «Протестанткой этики» повисает в воздухе: становится непонятно, существовал ли вообще когда-либо где-либо этот «дух» и не был ли он от начала до конца сконструирован самим Вебером.
В то же время Вебер категорически отвергает более ранних, не связанных с протестантизмом кандидатов на роль носителей «духа капитализма», предлагавшихся его критиками. Скажем, банкир Якоб Фуггер (1459–1525) — «креатура» Л. Брентано — полагал, что настоящий деловой человек не должен уходить на покой до последних дней жизни: «Дайте мне наживаться, — будто бы говорил он, — покуда это в моих силах»[49]. В данном отношении Франклин, напомним, демонстрировал совершенно иное, явно «некапиталистическое» поведение, забросив бизнес в 42 года. Тем не менее католик Фуггер не подходит на роль идеально типического капиталиста, потому что его слова никак этически не окрашены [Вебер, 1990, с. 74]. Однако с помощью интерпретационных приемов, используемых Вебером, можно было бы легко и непринужденно придать этим словам требуемую этическую окраску. В. Зомбарт продвигал другого претендента — великого итальянского гуманиста Леона Батиста Альберти (1404–1472). Вебер отводит и эту кандидатуру на том основании, что сочинения Альберти относятся к высокой литературе, а не к популярной, как сочинения Франклина, и поэтому не могли оказать серьезного воздействия на широкие слои населения [Там же]. Но вроде бы сам Вебер занят в «Протестантской этике» изучением нового экономического мышления, как оно отразилось в текстах разных авторов, а не измерением степени воздействия этих текстов на читательскую аудиторию? Еще один аргумент Вебера: у Альберти не было ничего похожего на франклиновское изречение «время — деньги»[50]. Но в «Книгах о семье» Альберти нетрудно отыскать нечто до неотличимости близкое: «Кто умеет не терять времени даром, тот сумеет сделать почти все, а кто умеет использовать время, тот будет повелевать всем, чем захочет» [Альберти, 2008, с. 196].
В том же ряду стоит и французский автор, купец и государственный деятель, советник Кольбера, Ж. Савари (1622–1690). Его советы молодым людям, изложенные в книге «Совершенный негоциант» (1675), которая была в свое время необычайно популярна, кажутся насквозь пропитанными «духом капитализма» [Samuelsson, 1961]. Он рекомендует тому, кто хочет стать коммерсантом, начинать готовить себя к этой профессии с шести-семи лет, изучать математику и современные языки, не тратя время на классические языки, риторику и философию. Будущий негоциант должен обязательно научиться обращению, которое было бы приятно клиентам; чтобы иметь постоянный кредит, он должен соответствовать высоким моральным стандартам, всегда проявлять в сделках честность и пунктуальность. Условием успеха является набожность: коммерсант должен, если позволяют дела, каждый день ходить к мессе. Из заработанной прибыли нужно как можно больше вкладывать обратно в дело; неправильно стремиться к богатству только для того, чтобы достигнув его, сразу же отправляться на покой; крупные предприятия достойнее малых, оптовая торговля достойнее розничной. Трудно не согласиться с К. Самуэльссоном, что рекомендации Савари куда больше соответствуют «духу капитализма», чем все, что было написано Франклином [Ibid.]. Но нет сомнений, что если бы кто-нибудь указал Веберу на эту фигуру, тот нашел бы причины, чтобы отвергнуть и ее[51].
В заключение обратимся к более содержательному вопросу: насколько Вебер был прав в свой трактовке «сущности» современного капитализма? Сразу нужно сказать, что современная экономическая теория и современная экономическая история находятся не на его стороне. Сегодня среди исследователей существует практически консенсусная точка зрения, согласно которой перелом в экономической истории Запада и шире — в экономической истории человечества — произошел благодаря Первой промышленной революции конца XVIII — начала XIX в. В этот период на смену действовавшей на протяжении тысячелетий мальтузианской модели экономического роста, когда его главным результатом оказывалось увеличение численности населения, пришла современная модель экономического роста с устойчивым и быстрым повышением уровня душевых доходов.
Но что запустило механизм современного экономического роста или, в веберовских терминах, в чем специфика «современного капитализма»? Вебер не сомневался, что ключевой функциональной характеристикой такой экономической системы является активное, постоянно возрастающее накопление капитала (точка зрения, типичная для авторов XIX в.). По сути, «Протестантская этика» посвящена поискам ответа на вопрос, как такое непрерывное самовозрастание капитала стало возможно. По мнению Вебера, решающая роль принадлежала здесь протестантской этике: именно она дала мощный исходный «импульс накоплению капитала» [Вебер, 1990, с. 199], поскольку в одно и то же время стимулировала сбережения и дестимулировала потребление[52]. Без этого, полагал он, современный капитализм никогда бы не появился на свет и мы бы продолжали жить в традиционалистском обществе.
В том, что «мотором» современного капитализма является накопление капитала, Вебер был солидарен с Зомбартом [Зомбарт, 1904]. В свою очередь, Зомбарт, скорее всего, воспринял это представление от К. Маркса. В «Капитале» мы встречаем пассажи, поразительно напоминающие рассуждения Вебера о «духе капитализма» как стремлении к приумножению капитала в качестве самоцели: «Накопляйте, накопляйте! В этом Моисей и пророки! „Трудолюбие доставляет тот материал, который накопляется бережливостью“. Итак, сберегайте, сберегайте! …Накопление ради накопления, производство ради производства — этой формулой… [выражено] историческое призвание буржуазного периода» [Маркс, 1960, с. 608][53]. Заметим, что само понятие «капитализм» было в свое время введено в научный лексикон Зомбартом как раз таки для того, чтобы зафиксировать эту идею терминологически[54]. Такого рода концепции, объявляющие главным фактором современного экономического развития накопление капитала, У. Истерли остроумно назвал «капитал-фундаментализмом» [Easterly, 2001].
Однако современная экономическая теория смотрит на это иначе [Барро, Сала-и-Мартин, 2014]. Экономический рост, базирующийся только на накоплении капитала, способен длиться лишь ограниченный промежуток времени: рано или поздно он исчерпывается и рост уровня душевых доходов останавливается. (Это понимали уже экономисты-классики, использовавшие для описания подобной ситуации понятие «стационарное состояние».) Иными словами, само по себе накопление капитала не может обеспечить устойчивый, долгосрочный, «вековой» экономический рост. Источником такого роста может быть только технологический прогресс в форме непрерывного потока технологических, институциональных, организационных и управленческих инноваций. Поэтому, по справедливому замечанию Д. Макклоски, уникальную экономическую систему, возникшую на рубеже XVIII–XIX вв., было бы правильнее называть не «капитализмом», а «инновационизмом» [McCloskey, 2017].
Данные исторической статистики подтверждают, что переход к современному типу экономического роста не был связан ни с каким резким скачком нормы сбережений. В XVIII в. норма сбережений в Англии была ниже, чем в других европейских странах, но это не стало препятствием для развертывания Первой промышленной революции именно в ней. В Англии и странах континента нормы сбережений соотносились как 4 % против 11 % в 1700 г., 6 % против 12 % в 1760 г. и 8 % против 13 % в 1800 г. [McCloskey, 2010, p. 132]. Эти данные интересны не только сами по себе. Они фактически опровергают одну из ключевых идей Вебера о том, что усвоение широкими слоями населения норм протестантской этики неизбежно должно было обеспечить резкую активизацию сбережений: ведь в таком случае в критический период Промышленной революции Англия по уровню сбережений должна была бы находиться далеко впереди, а не далеко позади других европейских стран. Парадоксальный итог: выясняется, что вся веберовская аналитическая конструкция была направлена на объяснение фикции — реально не существовавшего экономического феномена!
СОВРЕМЕННЫЕ ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Как уже упоминалось, веберовский Тезис не имеет ясной и однозначной хронологической привязки. Это открывает возможность для нескольких альтернативных исследовательских стратегий: его можно пытаться тестировать на данных, относящихся к XVII–XVIII вв., относящихся к эпохе Промышленной революции, относящихся к концу XIX в. или даже относящихся к нашему времени.
Среди социологов наибольшей популярностью пользуется вторая из этих опций, предполагающая, что протестантизм был одним из главных или даже самым главным триггером Первой промышленной революции. Строго говоря, это явное домысливание, поскольку в «Протестантской этике», напомним, о Промышленной революции не говорится ни слова. Авторитетный учебник по макросоциологии так описывает предполагаемую причинно-следственную связь: «Ряд новых протестантских доктрин существенно изменил мышление многих членов аграрных обществ. Эти новые доктрины учили, что труд является важной формой служения Богу, и поддерживали усилия купцов и ремесленников по повышению своего статуса, бросая тем самым вызов как взгляду на труд средневековой католической церкви как на наказание за грехи, так и аристократическому взгляду на труд как унижающий и оскорбляющий достоинство джентльмена. Они подрывали веру в магию и в долгосрочном плане стимулировали распространение рационализма. Практика, отрицавшая ценность радостей этого мира и подчеркивавшая ценность бережливой жизни, позволяла тем, кто становился экономически успешным, накапливать капитал. В той мере, в какой люди следовали этим учениям, они вырабатывали новый взгляд на жизнь: более усердно работали, действовали более рационально и жили более экономно. Реформация модифицировала установки, представления и ценности бессчетного множества людей так, что это подрывало традиционную аграрную экономику и стимулировало экономические и технологические инновации. Протестантская Реформация была важным звеном в каузальной цепочке, которая привела к Промышленной революции; пусть даже не критически важным звеном, как полагают многие. Не кажется простым совпадением то, что Промышленная революция началась в преимущественно протестантских странах» [Lenski, Nolan, Lenski, 1995, p. 244–245]. Такова в общих чертах «стилизованная» версия веберовского Тезиса, утвердившаяся в современной социологии.
Новейшие эмпирические исследования различаются не только хронологической привязкой, но также тем, что принимается в них за единицу анализа. Анализ может вестись на индивидуальном, региональном (для чего нужны данные по странам с религиозно неоднородным населением) или национальном уровне. (Так, в приведенном выше высказывании существование связи между протестантизмом и началом Промышленной революции постулируется на уровне целых стран.)
Каузальный механизм, каким он предстает в «стилизованной» версии Тезиса, является многозвенным и может быть схематически представлен так: 1) принадлежность к протестантским деноминациям связана с определенными психологическими установками и диспозициями («протестантской этикой»); 2) эти установки и диспозиции способствовали выработке таких качеств экономического поведения, как трудолюбие, рационализм, бережливость; 3) новые поведенческие паттерны благоприятствовали становлению современного капитализма и, следовательно, должны быть положительно связаны с индикаторами экономической активности на индивидуальном, региональном или социетальном уровнях. В принципе, эмпирическая проверка возможна как для каждого из этих звеньев по отдельности, так и для всей причинно-следственной цепочки в целом. Однако на практике в подавляющем большинстве случаев предметом эмпирического анализа становится ее редуцированная форма, когда промежуточные звенья опускаются, так что в качестве зависимых переменных используются те или иные индикаторы экономического развития, а в качестве независимых — индикаторы конфессиональной принадлежности.
Как ни странно, исследований, где веберовский Тезис проверялся бы на статистических данных с использованием современных методов количественного анализа, насчитывается не так уж много[55].
В работе Ж. Делакруа и Ф. Нильсена на данных по западноевропейским странам проверяется гипотеза о положительном влиянии протестантизма на Первую промышленную революцию [Delacroix, Nielsen, 2001]. Отметим, что на описательном уровне такая связь, вообще говоря, отсутствует: хотя первой страной, откуда началась Промышленная революция, была протестантская Англия, второй стала католическая Бельгия. За ней последовали страны либо с абсолютным преобладанием, либо со значительной долей католического населения: Люксембург, Франция, Швейцария, Нидерланды, Рейнская область Германии. Как в протестантские страны Скандинавии, так и в католические страны Южной Европы индустриализация пришла со значительным запозданием.
Эконометрический анализ подтверждает отсутствие прямых связей между протестантизмом и индустриализацией. Степень успешности процесса индустриализации Делакруа и Нильсен оценивают исходя из большого набора социально-экономических индикаторов: уровень богатства на душу населения; средняя величина банковских депозитов на душу населения; средняя величина сберегательных депозитов на душу населения; год основания фондовой биржи; доля занятых в сельском хозяйстве среди мужской рабочей силы; доля занятых в промышленности среди мужской рабочей силы; максимальная протяженность железных дорог; прирост протяженности железных дорог; уровень детской смертности. Значения всех переменных брались по состоянию на конец XIX в. (тем самым предполагалось, что исходные преимущества стран, раньше других вступивших на путь индустриализации, в это время должны были еще сохраняться).
Значимая положительная связь с протестантизмом была выявлена только для переменной сберегательных депозитов (иными словами, в протестантских странах склонность к сбережениям была, как и предполагает веберовский Тезис, выше), но этот результат обесценивается отсутствием такой связи для переменной уровня богатства. (Получается, что более активные сбережения в протестантских странах не трансформировались в более высокий уровень благосостояния общества.) Значимая отрицательная связь обнаруживается для показателя детской смертности, но только по состоянию на конец XIX в. Поскольку для середины этого столетия она отсутствует, это означает, что более благоприятная ситуация с детской смертностью, сложившаяся в протестантских странах к концу XIX в., была обусловлена не индустриализацией, а какими-то иными факторами, начавшими действовать позднее. В то же время протестантские страны сильно и значимо проигрывали католическим по такому важнейшему показателю экономического прогресса, как рост сети железных дорог. Оценки для всех остальных переменных оказались незначимы. Отсюда следует, что протестантизм не давал каких-либо заметных экономических преимуществ странам, где он являлся господствующей религией. Таким образом, заключают Делакруа и Нильсен, никаких оснований считать протестантизм триггером процесса индустриализации не существует [Delacroix, Nielsen, 2001].
В работе Л. Гуизо и его соавторов предпринята попытка оценить влияние конфессиональной принадлежности не на экономическое поведение, а на экономические установки индивидов [Guiso, Sapienza, Zingales, 2006]. Для этого были использованы данные трех волн Всемирного исследования ценностей за 1981–1997 гг., полученные от респондентов из 66 стран. Анкета включала вопросы о доверии к другим людям, о доверии к государству, об отношении к частной собственности, об отношении к рыночной конкуренции, об отношении к перераспределению доходов с помощью государства, об отношении к бедности, о важности воспитания в детях чувства бережливости. Эти индикаторы, характеризующие субъективные представления индивидов, выступали в качестве зависимых переменных. Объясняющими переменными служили характеристики религиозности, такие как наличие/отсутствие веры в Бога, конфессиональная принадлежность, наличие у индивида религиозного воспитания, частота посещения религиозных служб. Контролировались индивидуальные характеристики респондентов (пол, возраст, образование, доход, принадлежность к определенному социальному классу, гражданство), а также тип господствующей в стране религии. Общее число наблюдений составляло 30–35 тыс.
Опираясь на полученные эконометрические оценки, авторы смогли ранжировать ведущие религии мира по степени благоприятности для экономического развития. Результаты такого ранжирования оказались неоднозначными. Так, согласно полученным оценкам, протестанты, по сравнению с католиками, больше доверяют другим людям и государству (значение фактора доверия для экономического роста подчеркивается во многих современных работах), менее склонны уклоняться от уплаты налогов и давать взятки, а также более терпимо относятся к экономическому неравенству. Однако поддержка частной собственности среди католиков оказывается вдвое выше, чем среди протестантов. Кроме того, католики намного превосходят представителей любых других религий с точки зрения позитивного отношения к конкуренции. Наконец, именно католики придают наибольшее значение бережливости. Авторы приходят к выводу, что на основании полученных ими результатов невозможно сказать, какую из религий следовало бы считать более «дружественной» по отношению к рынку [Ibid.].
Иные результаты, причем практически на том же материале (волны 2–5 Всемирного исследования ценностей), были получены в исследовании Д. Хейуарда и М. Кеммельмейера [Hayward, Kemmelmeier, 2011], в котором также анализировалось влияние религиозности на экономические установки индивидов. Набор из шести установок был близок к тому, что использовали Гуизо и его соавторы: отношение к неравенству; отношение к частной собственности; важность индивидуальной ответственности; отношение к конкуренции; важность усердной работы; отношение к богатству. На индивидуальном уровне контролировались пол, возраст, образование и доход респондентов, на национальном — душевой ВВП. Объясняющими переменными служили три характеристики религиозности: конфессиональная принадлежность, субъективная оценка индивидами важности для них веры в Бога, частота посещения религиозных служб. Наряду с этим учитывались показатели личной и публичной религиозности на страновом уровне (т. е. усредненные по странам показатели важности веры в Бога и частоты посещения религиозных служб), а также принадлежность отдельных стран к той или иной исторической религиозной зоне. Кроме того, авторы включали в оцениваемые модели пересечения между анализируемыми переменными.
Согласно полученным результатам, протестанты являются самой «прокапиталистической» по своим экономическим установкам религиозной группой. В частности, они намного чаще, чем католики, считают, что усердный труд важен для улучшения жизни, положительно относятся к частной собственности и полагают, что люди должны отвечать за себя сами. Различия по трем остальным установкам статистически незначимы.
Но при этом на индивидуальном уровне между протестантами и католиками не обнаруживается каких-либо значимых различий с точки зрения эффектов личной религиозности: и у тех и у других чем крепче вера в Бога, тем сильнее «прокапиталистическая» поведенческая ориентация. Что касается публичной религиозности (частоты посещения религиозных служб), то ее влияние на индивидуальном уровне неоднозначно: с какими-то установками она оказывается связана отрицательно, с какими-то положительно, причем у католиков все эти эффекты проявляются намного сильнее, чем у протестантов.
Усредненные по странам показатели личной религиозности положительно связаны с терпимостью к частной собственности, но отрицательно — с важностью усердного труда и терпимостью к богатству. Усредненные по странам показатели публичной религиозности положительно связаны лишь с одной установкой — отношение к богатству. В то же время важным значимым фактором оказывается принадлежность стран к той или иной исторической религиозной зоне: страны, исторически связанные с протестантизмом, превосходят все остальные по пяти из шести включенных в анализ субъективных показателей. Менее «прокапиталистические» установки, чем у стран, исторически связанных с католицизмом, они демонстрируют только по одному показателю — отношение к богатству.
Отсюда Хейуард и Кеммельмейер делают два общих вывода [Hayward, Kemmelmeier, 2011]. Во-первых, наиболее сильные контрасты в «прокапиталистических» установках между представителями протестантских и непротестантских групп обнаруживаются при сравнении индивидов, чья религиозность является лишь номинальной. Во-вторых, значительные различия в степени приверженности этим установкам между жителями стран, исторически связанных и исторически не связанных с протестантизмом, наблюдаются вне зависимости от того, какую веру исповедуют лично они сами. Иными словами, влияние протестантизма на экономические установки носит не персонально-психологический, а культурно-исторический характер. Это, по мнению авторов, подтверждает идею Вебера об уникальном месте протестантизма среди других мировых религий [Ibid.][56].
Наибольшую известность среди современных исследований, посвященных изучению взаимосвязи религии и экономики, завоевала серия работ Р. Барро и Р. Макклири [Barro, McCleary, 2003; 2006]. В них авторы использовали панельные данные нескольких международных обследований — четырех волн Всемирного исследования ценностей (1981–2000), двух волн Международной программы социальных обследований (1991–2000) и Миллениум-опроса Института Гэллапа (1999). Анализ осуществлялся на страновом уровне (для каждой переменной по каждой стране сначала оценивались усредненные значения, на базе которых затем и производились расчеты). В используемых обследованиях были представлены респонденты из более чем 50 стран; общее число наблюдений по отдельным спецификациям колебалось от 150 до 250.
Барро и Макклири рассматривают широкий набор индикаторов религиозности, характеризующих не только конфессиональную принадлежность индивидов, но также их религиозную активность и их религиозные убеждения. Среди этих индикаторов: вера в Бога; вера в существование рая; вера в существование ада; вера в загробную жизнь; субъективная оценка респондентами собственной религиозности; частота посещения религиозных служб; время, посвящаемое молитвам; уровень религиозной неоднородности (оценивался с помощью индекса Герфиндаля по данным о конфессиональном составе населения различных стран). Учитывались также институциональные характеристики господствующих конфессий, такие как наличие государственной религии и наличие государственного регулирования религий (назначаются ли высшие клирики государством и требуется ли при их назначении одобрение с его стороны).
Ключевая методологическая проблема, которую пытаются решить Барро и Макклири, — это проблема каузальности. Взаимосвязь религии и экономики является двусторонней: с одной стороны, религиозность может влиять на экономический рост (положительно или отрицательно), но, с другой — экономический рост тоже может влиять на религиозность (положительно или отрицательно). Действительно, когда авторы оценивают регрессионные модели, в которых в качестве зависимых переменных выступают характеристики религиозности, то обнаруживают, что экономический рост оказывает значимое и сильное отрицательное влияние на такие переменные, как вера в существование рая, вера в существование ада, частота посещения религиозных служб и др. (Этот результат согласуется с гипотезой секуляризации, в соответствии с которой социальный и экономический прогресс должен сопровождаться постепенным угасанием религии.) Что касается конфессиональных различий, то оказывается, что при прочих равных условиях протестанты гораздо реже, чем католики, посещают церковь, и среди них гораздо ниже доля верящих в существование рая или ада.
Для решения проблемы каузальности авторы используют метод инструментирования. В качестве инструментов выступают несколько показателей: наличие в стране государственной религии, наличие в стране государственного регулирования религий, уровень религиозной неоднородности, доля активно верующих среди представителей крупнейшей в стране религии. Выбор этих показателей на роль инструментов мотивирован тем, что они тесно коррелируют с показателями религиозности, но при этом практически не коррелируют с показателями экономического роста.
При оценивании обратного влияния религиозности на экономический рост в качестве зависимой переменной брались кумулятивные приросты ВВП для трех десятилетних интервалов: 1965–1975; 1975–1985; 1985–1995. Контролировались уровень ВВП на начало каждого периода, среднее число лет образования, общий коэффициент рождаемости, ожидаемая продолжительность жизни, доля инвестиций в ВВП, доля государственного потребления в ВВП, темп инфляции, степень открытости национальной экономики мировому рынку (отношение суммы экспорта и импорта к ВВП), изменения в условиях внешней торговли, рейтинг стран по показателю верховенства закона, рейтинг стран по уровню демократичности.
Оценки, полученные с использованием метода инструментирования, показали, что характеристики как религиозной активности, так и религиозных убеждений значимо связаны с темпами экономического роста. Но если для первых эта связь является отрицательной, то для вторых — положительной. Так, повышение частоты посещения религиозных служб на одно стандартное отклонение ведет к замедлению годовых темпов экономического роста на 1,1 п.п. В то же время увеличение на одно стандартное отклонение распространенности веры в ад способствует их повышению на 1 п.п. (Аналогичный, но более слабый эффект наблюдался также для веры в рай и других религиозных представлений.) Но что лежит в основе подобных эффектов? Барро и Макклири рассуждают следующим образом: чем выше частота посещения религиозных служб, тем больше ресурсов (как временных, так и материальных) направляется в «религиозный» сектор и тем меньше их остается для «рыночного» сектора. Отсюда — отрицательное влияние на экономический рост. В то же время религиозные убеждения воспитывают в индивидах такие ценные с экономической точки зрения качества, как трудолюбие, честность, бережливость. Отсюда — положительное влияние на экономический рост.
Авторы показывают также, что увеличение на одно стандартное отклонение доли протестантов в общей численности населения замедляет годовые темпы экономического роста на 0,6 п.п. [Barro, McCleary, 2003][57]. Впрочем, сам по себе этот результат не обязательно является однозначно «антивеберовским». Дело в том, что он получен при предположении «прочих равных условий». Говоря проще, повышение доли протестантов среди населения будет тормозить темпы экономического роста только при условии, что частота посещения религиозных служб и распространенность веры в ад будут при этом оставаться неизменными. Однако, как упоминалось, протестанты реже, чем католики, ходят в церковь, что должно, наоборот, стимулировать рост. Правда, они меньше, чем католики, верят в рай, ад и загробную жизнь, что должно, напротив, его дополнительно замедлять. Действительно, в спецификации без учета индикаторов религиозной активности и религиозных убеждений коэффициент при переменной протестантизма становится незначимым, хотя и сохраняет отрицательный знак.
Работа Барро и Макклири подверглась критике со стороны C. Дюрлауфа с соавторами [Durlauf, Kourtellos, Tan, 2012]. По их мнению, в расчетах Барро и Макклири не был учтен целый ряд фундаментальных детерминант, которые находятся в центре внимания современной теории роста. Речь идет о таких факторах, как климат и географическое положение, этническая неоднородность, качество институтов. Включив в анализ эти факторы и используя более сложную технику эконометрического оценивания, Дюрлауф и его соавторы показали, что в этом случае и переменные религиозной активности, и переменные религиозных убеждений становятся статистически незначимыми. Таким образом, эмпирические свидетельства в пользу того, чтобы считать религиозность одним из «моторов» экономического роста, отсутствуют. Однако коэффициенты при переменной «протестантизм» и после такой корректировки остаются значимо отрицательными. Отсюда следует, что по отношению к капитализму конца XX — начала XXI в. протестантизм предстает в качестве тормозящего или, в лучшем случае, нейтрального фактора.
Сходное по дизайну исследование было выполнено М. Ноландом, также пытавшимся оценить влияние религиозности на экономический рост [Noland, 2003]. В нем рассматривались два периода: короткий (1970–1990) и более протяженный (1913–1998). В первом случае в качестве регрессоров использовался набор переменных, стандартный для современных исследований по проблеме экономического роста: уровень душевого ВВП на начало периода; доля инвестиций в ВВП; доля государственного потребления в ВВП; открытость национальной экономики мировому рынку; уровень образования. Во втором случае набор переменных был несколько иным: уровень душевого ВВП на начало периода; географическая широта, на которой расположена страна; качество политической системы; число нобелевских лауреатов в расчете на душу населения в 1901–1912 гг. Для 1970–1990 гг. оценивались две спецификации: в первой зависимой переменной выступал кумулятивный прирост душевого ВВП, во второй — кумулятивный прирост совокупной факторной производительности. Число стран, включенных в анализ, варьировало от 30 до 50. Ни в одном из вариантов расчета автору не удалось обнаружить какого-либо значимого положительного влияния протестантизма на экономический рост: во всех спецификациях коэффициенты перед этой переменной были либо незначимыми, либо значимыми, но с отрицательным знаком.
Еще одна широко известная работа принадлежит С. Беккеру и Л. Воссманну [Becker, Woessmann, 2009]. Эмпирическую базу их исследования составили данные по 452 округам Пруссии последний трети XIX в. Две трети населения Пруссии того периода составляли протестанты и треть — католики, причем по конфессиональному составу населения между округами наблюдалась большая вариация — от чисто протестантских до чисто католических. Значительная региональная вариация отмечалась также в показателях социально-экономического развития — в уровне грамотности населения, доле занятых вне сельского хозяйства, уровне дохода (из-за отсутствия прямой информации Беккер и Воссманн использовали в качестве прокси для этой переменной доход учителей мужских начальных школ). При этом явное преимущество по всем этим параметрам было на стороне округов с преобладанием протестантов.
Более высокий уровень грамотности протестантского населения авторы рассматривают как непреднамеренный результат начатой Лютером религиозный реформы. Лютер не только перевел Библию на немецкий язык, но и считал ее чтение долгом каждого верующего. В длительной исторической перспективе его требование обеспечить всеобщую грамотность привело к тому, что в Германии издержки получения образования для протестантов оказались значительно ниже, чем для католиков: в протестантских округах было больше школ, и расположены они были ближе к месту жительства; школы получали субсидии от властей; лютеранами грамотность воспринималась не только как материальное, но и как духовное благо. В результате, к концу XIX в. по уровню грамотности протестанты заметно опережали католиков.
Сначала Беккер и Воссманн оценивают модель, где в качестве зависимых переменных выступают показатели экономического прогресса отдельных округов (доля занятых вне сельского хозяйства и средний уровень дохода), а в качестве объясняющей переменной — доля протестантов в численности населения. Контрольными переменными служили характеристики распределения населения округов по полу и возрасту, доля неместного населения, средний размер домохозяйств, средний размер округов, динамика численности населения в предшествующие десятилетия. Для доли протестантов в численности населения авторы получили значимый положительный коэффициент: при прочих равных условиях в чисто протестантских округах доля занятых вне сельского хозяйства оказалась на 5 п.п. выше, а средний уровень дохода — на 10 п.п. выше, чем в чисто католических. Таким образом, протестантизм действительно выступал фактором экономического прогресса. Однако оценка аналогичной модели для уровня грамотности привела к сходным результатам: его увеличение на 10 п.п. сопровождалось повышением доли занятых вне сельского хозяйства на 5 п.п. и повышением среднего уровня дохода на 6 п.п. Когда же в модель были включены одновременно и доля протестантского населения, и уровень грамотности, то коэффициент при первой переменной оказался неотличимым от нуля, тогда как коэффициент при второй остался положительным и значимым. Иными словами, неравенство в накопленном человеческом капитале полностью объясняло различия в экономических достижениях между протестантами и католиками, ничего не оставляя на долю фактора трудовой этики.
Но здесь возникает проблема каузальности: более высокая грамотность может быть не только причиной экономического прогресса, но и его следствием. Чтобы решить проблему двусторонней зависимости, авторы использовали в качестве инструмента для переменной конфессиональной принадлежности расстояние, отделяющее тот или иной округ от Виттенберга, центра зарождения протестантизма. Оценки, полученные с помощью метода инструментирования, оказываются качественно теми же: уровень грамотности сильно и значимо влияет на показатели экономического развития, тогда как доля протестантов в численности населения остается незначимой.
Впрочем, это еще не означает, что «веберовский» канал влияния не действует: если в процессе школьного обучения детям прививают специфические нормы трудовой этики, то тогда грамотность служит всего лишь передаточным звеном от них к экономическому преуспеянию. Но в таком случае у католиков экономическая отдача от образования должна была бы быть ниже, чем у протестантов. Однако это предположение опровергается эмпирически, что позволяет отклонить веберовский вариант объяснения.
Основные выводы, к которым приходят Беккер и Воссманн, таковы [Ibid.]: 1) Вебер был прав, утверждая, что регионы с преобладанием протестантского населения являлись экономически более процветающи-ми[58]; 2) Вебер не понимал, что главный канал, по которому передавалось положительное влияние протестантизма на экономическую деятельность, был связан с накоплением человеческого капитала; 3) Вебер ошибался, считая, что экономические успехи протестантов объясняются некой особой присущей только им трудовой этикой.
Возможно, ближе всего к исходному Тезису Вебера по постановке проблемы и охвату материала находится работа Д. Кантони [Cantoni, 2013]. Она строится на данных по городам бывшей Священной Римской империи за 600-летний период (1300–1900). В выборку включались города с численностью населения не менее 5 тыс. человек по состоянию на 1800 г. Всего в анализ было включено 272 немецких города (при общем числе наблюдений около 2 тыс.). Зависимой переменной выступал логарифм численности населения в соответствующих городах на ту или иную дату; в качестве объясняющей переменной — конфессиональная принадлежность населения этих городов. Используя более поздние данные по Германии, относящиеся к середине XIX в., автор сначала демонстрирует, что размер города действительно может считаться хорошим индикатором социально-экономического прогресса: он тесно коррелирует с показателями состояния образовательной системы (соотношение между числом учителей и числом учащихся начальных школ), экономической активности (величина поступлений от налогов на бизнес), объема накопленного богатства (сумма взносов в систему страхования от пожаров), качества жилья (доля каменных домов и доля домов с крышами из прочных материалов). Набор контрольных переменных, учитываемых при анализе, включает дамми для годов наблюдения, дамми для каждого из городов, даты основания городов, логарифм численности населения городов по состоянию на 1500 г. (принимаемый за точку отсчета), тренды в изменении численности населения городов за два предшествующих столетия и некоторые другие социально-экономические характеристики. В качестве эконометрической стратегии используется метод разности в разностях. Это означает, что коэффициент регрессии перед объясняющей переменной показывает, насколько разница в численности населения между протестантскими и католическими городами по состоянию на ту или иную дату возросла или уменьшилась по сравнению с тем, какой она была на старте Реформации.
Автор оценивает несколько альтернативных спецификаций, но во всех них результаты для городов с протестантским населением оказываются незначимыми и, как правило, отрицательными. Ничто качественно не меняется, если из всех протестантских городов выделить группу, где господствующей религией был кальвинизм. Помимо простых МНК-оценок, в работе Кантони приводятся также оценки, полученные с использованием метода инструментирования (инструментом, как и в работе Беккера и Воссманна, служило расстояние, отделяющее тот или иной город от Виттенберга). Однако и при таком технически более сложном подходе коэффициенты при переменной конфессиональной принадлежности остаются статистически незначимыми.
Но возможно, что протестантизм положительно влиял на экономическое развитие не всех городов, а только некоторых из них, обладавших специфическими географическими или институциональными характеристиками? Автор отдельно проверяет, не было ли такого влияния для торговых городов; городов, располагавшихся на судоходных реках; городов, находившихся близко к атлантическим морским портам; городов, имевших поблизости залежи каменного угля; городов, близко расположенных к другим протестантским городам; городов, где в ходе Реформации произошла экспроприация крупной монастырской собственности. Однако оценки по всем этим подвыборкам также оказываются незначимыми. Таким образом, не обнаруживается никаких эмпирических свидетельств, которые позволяли бы считать протестантизм источником сколько-нибудь весомых экономических преимуществ: «Несмотря на различия во взглядах протестантов и католиков по религиозным вопросам, — заключает Кантони, — их экономическое поведение могло в конечном счете отличаться не так уж сильно» [Cantoni, 2013, p. 32–33].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подведем итоги. Для ключевой идеи, представленной в «Протестантской этике», они не слишком утешительны. Веберовская экзегеза религиозных текстов является ошибочной как минимум частично и как максимум полностью; представление о намного большей экономической успешности протестантов покоится на арифметической ошибке; концепция «духа» капитализма содержит неустранимые внутренние противоречия; портрет Франклина, нарисованный Вебером, не имеет почти ничего общего с оригиналом; его объяснение сверхбыстрого накопления капитала на родине капитализма — в Англии отсылает к реально не существовавшему феномену; результаты современных эмпирических исследований в целом неблагоприятны для его Тезиса.
Конечно, отсюда не следует, что гипотеза Вебера о рождении «духа капитализма» из протестантской этики обречена на забвение. Это едва ли не самая красивая, самая завораживающая идея из всех, когда-либо высказанных в социальных исследованиях. Возможно, этим объясняется, почему она обладает поистине гипнотической властью над умами людей. Раз узнав о ней, затем уже невозможно избавиться от ее воздействия и смотреть на мир вне внушенной ею оптики: везде и всюду начинают чудиться ее подтверждения.
Нет сомнений, что этот научный миф (увы, это не оксюморон), возрождаясь, как феникс, из пепла, никуда не исчезнет. Он был и будет оставаться источником непрерывного потока опровержений и контропровержений. Есть определенная ирония в том, что подобно тому, как идея предопределения Кальвина не давала спокойно жить его последователям, так и идея протестантской этики Вебера вот уже более века не дает спокойно жить нескольким поколениям исследователей общества — социологам, психологам, историкам, экономистам.
Трудно не согласиться с М. Маккинноном [MacKinnon 1994], что Макс Вебер обладал сверхъестественным социологическим воображением. Силой воображения он создал «вторую» реальность, которая для огромного числа ученых полностью затмила «первую». В социальных науках присутствие созданных им конструктов будет так или иначе ощущаться всегда. Фантомы «протестантской этики» и «духа капитализма» будут еще долго тревожить сознание исследователей и разгуливать по страницам массмедиа. Но как бы ни относиться к плодам уникального социологического воображения Вебера, полезно все же помнить, с использованием каких нетривиальных дискурсивных приемов они были получены.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Тринадцать добродетелей Бенджамина Франклина
Вот названия этих добродетелей с соответствующими наставлениями:
1. Воздержание. Есть не до пресыщения, пить не до опьянения.
2. Молчание. Говорить только то, что может принести пользу мне или другому; избегать пустых разговоров.
3. Порядок. Держать все свои вещи на их местах; для каждого занятия иметь свое время.
4. Решительность. Решаться выполнять то, что должно сделать; неукоснительно выполнять то, что решено.
5. Бережливость. Тратить деньги только на то, что приносит благо мне или другим, т. е. ничего не расточать.
6. Трудолюбие. Не терять времени попусту; быть всегда занятым чем-либо полезным; отказываться от всех ненужных действий.
7. Искренность. Не причинять вредного обмана, иметь чистые и справедливые мысли; в разговоре также придерживаться этого правила.
8. Справедливость. Не причинять никому вреда; не совершать несправедливостей и не опускать добрых дел, которые входят в число твоих обязанностей.
9. Умеренность. Избегать крайностей; сдерживать, насколько ты считаешь это уместным, чувство обиды от несправедливостей.
10. Чистота. Не допускать телесной нечистоты; соблюдать опрятность в одежде и в жилище.
11. Спокойствие. Не волноваться по пустякам и по поводу обычных или неизбежных случаев.
12. Целомудрие. Редко вступать в половые отношения, причем не иначе как для здоровья или обзаведения потомством, и никогда до отупения, потери сил и так, чтобы не вредить душевному покою или репутации твоим собственным или ее.
13. Смирение. Подражать Иисусу и Сократу [Франклин, 2015, с. 48, с исправлениями].
ЛИТЕРАТУРА
Альберти Л. Б. Книги о семье. М.: Языки славянской культуры, 2008.
Барро Р. Дж., Сала-и-Мартин Х. Экономический рост. М.: Бином; Лаборатория знаний, 2014.
Вебер М. История хозяйства. Петроград: Наука и школа, 1924.
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 44–347.
Вебер М. История хозяйства. Город. М.: Канон-Пресс, 2001.
Вебер М. Хозяйство и общество. Социология. М.: Изд. дом ВШЭ, 2016.
Вебер М. Хозяйство и общество. Общности. М.: Изд. дом ВШЭ, 2017.
Зомбарт B. Современный капитализм. М.: Типолитография Т-ва И. Н. Кушнерев и К0, 1904.
Маркс К. Капитал. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1960. Т. 23.
Франклин Б. Необходимые советы тем, кто хотел бы стать богатым // Франклин Б. Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1956.
Франклин Б. Моя автобиография. Совет молодому торговцу. М.: ACT, 2015.
Barro R. J., McCleary R. M. Religion and Economic Growth across Countries // American Sociological Review. 2003. Vol. 68. No. 5. P. 760–781.
Barro R. J., McCleary R. M. Religion and Economy // Journal of Economic Perspectives. 2006. Vol. 20. No. 2. P. 49–72.
Becker G. Replication and Reanalysis of Offenbacher’s School Enrollment Study: Implications for the Weber and Merton Theses // Journal of the Scientific Study of Religion. 1997. Vol. 36. No. 4. P. 483–495.
Becker G. Educational «Preference» of German Protestants and Catholics: The Politics behind Educational Specialization // Review of Religious Research. 2000. Vol. 41. No. 3. P. 311–327.
Becker S., Woessmann L. Was Weber Wrong? A Human Capital Theory of Protestant Economic History // Quarterly Journal of Economics. 2009. Vol. 124. No. 2. P. 531–596.
Cantoni D. The Economic Effects of the Protestant Reformation: Testing the Weber Hypothesis in the German Lands. Munich Discussion Paper 2013–4. Munich: University of Munich, 2013.
Braudel F. Afterthoughts on Material Civilization and Capitalism. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 1977.
Cohen J. Protestantism and Capitalism: The Mechanisms of Influence. N. Y.: Aldine de Gruyter, 2002.
Delacroix J. Review of «Religion and Economic Action», by Kurt Samuelsson // Journal for the Scientific Study of Religion. 1995. Vol. 34. No. 1. P. 126–127.
Delacroix J., Nielsen F. The Beloved Myth: Protestantism and the Rise of Industrial Capitalism in Nineteenth-Century Europe // Social Forces. 2001. Vol. 80. No. 2. P. 509–553.
Dickson T., McLachlan H. V. In Search of «the Spirit of Capitalism»: Weber’s Misinterpretation of Franklin // Sociology. 1989. Vol. 23. No. 1. P. 81–89.
Durlauf S. N., Kourtellos A., Tan C. M. Is God in the Details? A Reexamination of the Role of Religion in Economic Growth // Journal of Applied Econometrics. 2012. Vol. 27. No. 7. P. 1059–1075.
Easterly W. The Elusive Quest for Growth: Economists’ Adventures and Misadventures in the Tropics. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.
Franklin B. The Speech of Miss Polly Baker, 1747. -03-02-0057.
Franklin B. Poor Richard’s Almanack, 1733. %27s_Almanack.
Giddens A. Introduction // Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism / transl. by T. Parsons. L.; N. Y.: Routledge, 2001. P. VII–XXIV.
Gorski Ph. S. The Little Divergence: The Protestant Reformation and Economic Hegemony in Early Modern Europe // The Protestant Ethic Turns 100: Essays on the Centenary of the Weber Thesis / ed. by W. H. Swatos (Jr.), L. Kaelber. L.: Taylor and Francis, 2005. P. 165–190.
Guiso L., Sapienza P., Zingales L. People’s Opium? Religion and Economic Attitudes // Journal of Monetary Economics. 2003. Vol. 50. No. 1. P. 225–282.
Hayward R. D., Kemmelmeier M. Weber Revisited // Journal of Cross-Cultural Psychology. 2011. Vol. 42. No. 8. P. 1406–1420.
Iannaccone L. R. Introduction to the Economics of Religion // Journal of Economic Literature. 1998. Vol. 36. No. 3. P. 1465–1496.
Jacob M. C., Kadane M. Missing, Now Found in the Eighteenth Century: Weber’s Protestant Capitalist // American Historical Review. 2003. Vol. 108. No. 1. P. 20–49.
Kaelber L. Rational Capitalism, Traditionalism, and Adventure Capitalism: New Research on the Weber Thesis // The Protestant Ethic Turns 100: Essays on the Centenary of the Weber Thesis / ed. by W. H. Swatos (Jr.), L. Kaelber. L.: Taylor and Francis, 2005. P. 139–263.
Kalberg S. Introduction to «The Protestant Ethic» // Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Los Angeles: Roxbury Publishing Company, 2002. P. xi — lxxvi.
Lehmann H. Friends and Foes: The Formation and Consolidation of the «Protestant Ethic» Thesis // The Protestant Ethic Turns 100: Essays on the Centenary of the Weber Thesis / ed. by W. H. Swatos (Jr.), L. Kaelber. L.: Taylor and Francis, 2005. P. 1–22.
Lenski G., Nolan P., Lenski J. Human Societies: An Introduction to Macrosociology. 7th ed. N. Y.: McGraw-Hill, 1995.
MacKinnon M. H. Calvinism and the Infallible Assurance of Grace: The Weber Thesis Reconsidered // British Journal of Sociology. 1988a. Vol. 39. No. 2. P. 143–177.
MacKinnon M. H. Weber’s Exploration of Calvinism: The Undiscovered Provenance of Capitalism // British Journal of Sociology. 1988b. Vol. 39. No. 2. P. 178–210.
MacKinnon M. H. Believer Selectivity in Calvin and Calvinism // British Journal of Sociology. 1994. Vol. 45. No. 4. P. 586–595.
MacKinnon M. H. The Longevity of the Thesis: A Critique of the Critics // Weber’s «Protestant Ethic»: Origins, Evidence, Contexts / ed. by H. Lehmann, G. Roth; publ. of the German Historical Institute; rev. ed. Washington, DC: Cambridge University Press, 1995. P. 211–243.
McCloskey D. Bourgeois Dignity. Chicago: University of Chicago Press, 2010.
McCloskey D. The Great Enrichment Was Built on Ideas, Not Capital, 2017. -great-enrichment-was-built-on-ideas-not-capital/.
Munch P. The Thesis before Weber: An Archeology // Weber’s «Protestant Ethic»: Origins, Evidence, Contexts / ed. by H. Lehmann, G. Roth; publ. of the German Historical Institute; rev. ed. Washington, DC: Cambridge University Press, 1995. P. 51–72.
Noland M. Religion, Culture, and Economic Performance. IIE Working Paper Series. WP03–8. Washington: Institute for International Economics, 2003.
Roth G. Introduction // Weber’s «Protestant Ethic»: Origins, Evidence, Contexts / ed. by H. Lehmann, G. Roth; publ. of the German Historical Institute; rev. ed. Washington, DC: Cambridge University Press, 1995. P. 1–26.
Samuelsson K. Religion and Economic Action: The Protestant Ethic, the Rise of Capitalism, and the Abuse of Scholarship. N. Y.: Harper & Row, 1961.
Schumpeter J. A. Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. 2 vols. N. Y.: McGraw-Hill, 1939.
Stark R. Putting an End to Ancestor Worship. SSSR Presidential Address // Journal for the Scientific Study of Religion. 2004. Vol. 43. No. 4. P. 465–475.
Weber M. Social Psychology of the World Religions // From Max Weber: Essays in Sociology / ed. by H. H. Gerth, C. Wright Mills. N. Y.: Oxford University Press, 1946. P. 267–301.
Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism / transl. by T. Parsons. L.; N. Y.: Routledge, 2001.
Weber M. A Final Rebuttal of Rachfahl’s Critique of the «Spirit of Capitalism» // Weber M. The Protestant Ethic and the «Spirit» of Capitalism and Other Writings / ed. by P. Baehr, G. C. Wells. N. Y.: Penguin, 2002. P. 425–494.
Zaret D. Calvin, Covenant Theology, and the Weber Thesis // British Journal of Sociology. 1992. Vol. 43. No. 3. P. 369–391.
Zaret D. The Use and Abuse of Textual Data // Weber’s «Protestant Ethic»: Origins, Evidence, Contexts / ed. by H. Lehmann, G. Roth; publ. of the German Historical Institute; rev. ed. Washington, DC: Cambridge University Press, 1995. P. 245–272.
III Ответ современному не-экономисту (комментарий на комментарий)[59]
С чекистской бдительностью И. В. Забаев указывает в своей критической статье о моей работе «Гипноз Вебера» на крайнюю подозрительность самого факта, что я взялся за Макса Вебера и его «Протестантскую этику»: «Основной вопрос к профессору Капелюшникову: зачем человек, не занимавшийся — насколько можно судить по его публикациям — специально этической теорией и вебероведением [т. е. невежда. — Р. К.], стал делать обзор по фальсификации того, что иногда называют веберовским тезисом?» [Забаев, 2019, с. 46]. И в самом деле — зачем? Подозрительно, очень подозрительно: «современный экономист» — и вдруг про Вебера! За этим наверняка кроется какой-то тайный умысел, потому как «в тексте „Гипноза…“ ответа на этот вопрос не дается» [Там же]. В подобной ситуации мне, наверное, не остается ничего другого, как попытаться развеять подозрения бдительного И. В. Забаева, ответив на волнующий его вопрос.
Ответ первый, короткий: написал, потому что стало интересно.
Ответ второй, пространный: я принадлежу к почти уже исчезнувшему племени тех, кого в советские времена называли «критиками буржуазных экономических теорий», и по старой памяти продолжаю от случая к случаю заниматься этой выморочной деятельностью до сих пор. То напишу о Карле Поланьи [Капелюшников, 2005] (а ведь раньше-то никогда им не занимался!). То о Томасе Карлейле [Капелюшников, 2019] (по странному совпадению, и им никогда раньше не занимался!). А то вообще о драматургии Александра Вампилова [Капелюшников, 2017]…
Еще одно важное уточнение. Перед тем, как приступать к предметному обсуждению, я считаю необходимым сделать официальное заявление: «Сообщаем доценту Забаеву И. В., что Капелюшников Р. И. не является профессором ни НИУ ВШЭ, ни какого-либо другого высшего учебного заведения и поэтому не следует произвольно возводить его в это звание». (Как сказано у поэта, «Не начальник я — печальник…»[60])
Теперь, наконец, можно переходить к разговору по существу. Но чтобы не разочаровывать читателя, хотел бы заранее предупредить, что ничего нового ни о самом Вебере, ни о его «Протестантской этике» сверх того, что уже было сказано в моем «Гипнозе…», я добавить не смогу. Итак, по пунктам.
ОБЩИЙ ПОДХОД
Основной упрек, который адресует мне И. В. Забаев, состоит в том, что я ограничиваюсь обсуждением веберовского Тезиса о связи «современного» рационального капитализма с аскетическим протестантизмом вместо того, чтобы рассматривать «Протестантскую этику» как моральную проповедь или трактат по этике: «„Протестантская этика“ — это произведение про этику» [Забаев, 2019, с. 22]; «всю „Протестантскую этику“ можно увидеть как постановку и решение проблем внутри теории этики» [Там же, с. 24]; «в „Протестантской этике“ он [Вебер. — Р. К.] решил написать про этику» [Там же, с. 22][61]. В такой — этической — аранжировке голос Вебера обретает поистине пророческую мощь и громоподобие: «Вы будете откликаться, — как бы обращается он к своим современникам, а, возможно, и к нам — на зов Божий (призвание), Вы будете искать спасения, полноты жизни, и именно этот поиск сделает вас „приобретаторами“ (Erwerbsmachine) и людьми, не способными видеть ничего за рамками своих профессий (Berufsmensch), вы потеряете и полноту жизни и свободу» [Там же, с. 48][62].
Отсюда становится понятно, почему веберовский Тезис И. В. Забаева практически не интересует (упоминания о нем встречаются в тексте его статьи от силы раз пять). Для него Вебер не столько ученый, сколько моральный авторитет, на чью мудрость он хотел бы опереться при осмыслении судеб нынешнего российского общества, в частности — при выборе между различными нравственными тенденциями, прослеживающимися сейчас в русском православии. Он не скрывает своего замысла приноровить Вебера для собственных практических нужд: «Мне кажется, к веберовской „Протестантской этике“ стоит относиться по большому счету как к инструменту собственного действия, средству для решения своих вопросов» [Там же, с. 46].
Подобно тому, как Вебер поставил нравственный диагноз западному обществу начала XX в., И. В. Забаев хотел бы поставить такой диагноз российскому обществу начала XXI в.: «Нам нужно искать мировоззрение и связанные с ним практики» [Там же, с. 50][63]. Величие Вебера состоит в том, что он выявил доминанту жизни того времени (капитализм) и отыскал ее источник (религия). Сверхзадача, которую ставит перед собой И. В. Забаев, аналогична: повторить интеллектуальный подвиг Вебера применительно к российскому обществу сегодняшнего дня (обнаружить доминанту и определить источник)[64].
Позволю себе несколько замечаний скептического свойства. Все мы знаем, как Вебер относился к вторжению оценочных суждений в научный анализ, так что мне представляется маловероятным, чтобы он одобрил моралистическую интерпретацию «Протестантской этики», предложенную И. В. Забаевым. Что касается моего подхода к ней, то он совершенно не уникален, и если меня можно в чем-то упрекать, так это в его заурядности: подавляющее большинство читателей, комментаторов и критиков в течение более 100 лет воспринимали и продолжают воспринимать работу Вебера в первую очередь как исследование по экономической истории или, если кому-то нравится больше, по исторической социологии и лишь во вторую — как все остальное. Смысловым центром веберовской книги всегда признавался Тезис, да и трудно думать иначе — достаточно вспомнить о ее названии. Таким образом, как раз общий взгляд на нее И. В. Забаева нестандартен, в то время как мой более чем традиционен.
Хотел бы также напомнить И. В. Забаеву и его коллегам-социологам, что когда Вебер писал «Протестантскую этику», то полагал, что занимается не социологией, а социальной экономией: именно так со ссылкой на Ж.-Б. Сэя он определял дисциплинарную принадлежность своего исследования [Weber, 2002]. (Социологом он стал осознавать себя позже.) Но если это так, то тогда, возможно, комментирование «Протестантской этики» «современным экономистом» не является таким уж тяжким прегрешением? Упрекать меня, как это делает И. В. Забаев, в том, что в моей работе нет того-то или того-то, едва ли корректно[65], поскольку я с самого начала четко ограничиваю круг обсуждаемых проблем, предупреждая, что речь пойдет только о дискурсивных приемах, использованных Вебером при обосновании своего Тезиса, и ни о чем другом [Капелюшников, 2018a, с. 27]. То, что моя работа не обзор российской или зарубежной веберианы, не очерк творчества Вебера и даже не целостный «портрет» «Протестантской этики», мне представлялось самоочевидным. Впрочем, я должен быть благодарен И. В. Забаеву за то, что он великодушно прощает мне мое упущение: этической части «Протестантской этики» «вообще можно не заметить (так и получается у профессора Капелюшникова, и винить его тут не в чем)» [Забаев, 2019, с. 38].
Конечно же, я желаю И. В. Забаеву удачи в его дальнейших поисках доминанты и источника, но не вполне уверен в их успешности, потому что нравственный диагноз нашему времени он собирается ставить исходя из жесткой гегелеподобной мыслительной схемы. На каких скрижалях написано, что у нашей современности есть одна доминанта? А не десять? Или нет ни одной? На каких скрижалях написано, что у доминанты есть один-единственный источник? А не 25 или, как красочно выражается сам И. В. Забаев, не целый «словарь переменных»?
Казалось бы, при столь разной исходной оптике, общей территории для дискуссии между И. В. Забаевым и мной практически не остается. Но он все же находит немало конкретных поводов, чтобы продемонстрировать узость и тенденциозность комментариев к «Протестантской этике», которые позволил себе «современный экономист».
Как ни странно, к «Протестантской этике» как научному произведению И. В. Забаев относится гиперкритицистски: «…стиль „Протестантской этики“ и не пахнет научностью»; «…не будут не правы те, кто скажет, что это масскульт от социологии»; «…сочинение не научно» [Там же, с. 21]. Куда уж мне с моим «критическим пафосом» [Там же] до подобных посрамлений классика! (Для меня, не скрою, большой сюрприз, что, оказывается, «Протестантскую этику» можно не признавать глубоким, изощренным и вдохновенно написанным научным произведением.)
Собственно моя фундаментальная ошибка в том и состоит, что я воспринимаю «Протестантскую этику» как научное исследование, тогда как на самом деле она таковым не является: «Профессор Капелюшников думает, что Вебер в „Протестантской этике“ проверяет гипотезу… о связи протестантской этики и экономического роста. Но Вебер в „Протестантской этике“ не занимается проверкой гипотезы» [Там же, с. 22]. Вообще-то непрофессор Капелюшников думает по этому поводу нечто иное. То, что этика аскетического протестантизма проложила дорогу новоевропейскому капитализму, обеспечившему невиданный экономический подъем, для Вебера никакая не гипотеза, а твердо установленный эмпирический факт, оспаривать который способны только обскуранты. Соответственно, в «Протестантской этике» он выступает от имени открывшейся ему абсолютной истины и, как власть имеющий, просто доносит ее до читателя.
Но если в своей работе Вебер занимается не наукой, то чем же? Оказывается, «он создает словарь переменных и показывает, какой характер могла бы иметь связь между двумя из них» [Там же]. Правда, до И. В. Забаева никто не догадывался, что в «Протестантской этике» Вебер составляет «словарь переменных», чтобы им затем могли пользоваться другие, ну а поскольку никто не догадывался, никто и не пользовался. Наконец, «и, возможно, это составляет основную часть „Протестантской этики“, Вебер занят прояснением характера связи между религией и экономикой» [Там же, с. 23]. Вообще говоря, в чем-чем, а в этом ни у кого никогда не было никаких сомнений. Но, видимо, Вебер занимается выявлением связи между религией и экономикой каким-то особым, вненаучным или сверхнаучным способом, что дает И. В. Забаеву основание писать об этом с пафосом первооткрывателя.
Хотя никаких гипотез в «Протестантской этике» Вебер не проверяет, но зато безостановочно генерирует их одну за другой (И. В. Забаев обнаруживает их с десяток). Однако все они настолько сложны, что за их эмпирическую проверку Вебер даже не брался, да и сейчас проверить их на фактических данных практически невозможно: необходимое для этого «регрессионное уравнение довольно сложно построить даже сейчас»; «все имеющиеся современные исследования… не охватывают всю специфичность требуемых Вебером переменных» [Там же, с. 52]. Правда, тогда становится не совсем понятно, какое право они имеют именоваться гипотезами и почему сам И. В. Забаев относится к утверждениям Вебера (например, о существовании в реальности носителей протестантской этики или носителей «духа капитализма») не как к предположениям, а как к непреложным истинам.
По мнению И. В. Забаева, именно потому, что Вебер не был озабочен поиском эмпирических подтверждений своего Тезиса, он поместил таблицу М. Оффенбахера, которая вроде бы такое подтверждение предоставляла, не в основной текст «Протестантской этики», а в примечания (в моей статье анализу этой таблицы посвящен специальный раздел и к этому сюжету нам еще предстоит вернуться позже). Поэтому неправильно придавать оценкам Оффенбахера какое-то особое значение, которое придаю им я, поскольку Вебер «вообще не проверял гипотезу» [Там же, с. 51].
Однако если И. В. Забаев прав, то это, прежде всего, не делает чести самому Веберу, если вспомнить его же собственные методологические декларации о социологии как эмпирической науке. Но допустим даже, что сам Вебер не испытывал потребности в каких-либо эмпирических подтверждениях Тезиса (что, впрочем, более чем сомнительно). Тем не менее несколько поколений его читателей искали в тексте «Протестантской этики» именно их и не находили нигде, кроме как в арифметически дефектной таблице М. Оффенбахера. Собственно с этим и связана ее звездная судьба в истории социологии.
И. В. Забаев высмеивает мою фразу о том, что в богословском споре между М. Маккинноном [MacKinnon, 1988a; 1988b; 1994; 1995] и Д. Заретом [Zaret, 1992; 1995] подход первого выглядит с позиции здравого смысла предпочтительнее, чем подход второго [Капелюшников, 2018a, с. 44]. Какой-такой здравый смысл, когда речь идет о «церковной истории определенной страны в определенное время» [Забаев, 2019, с. 49]? Жаль только, что он при этом не упоминает, что я честно объясняю читателю, почему считаю возможным апеллировать тут к здравому смыслу. Правда, в моем случае, возможно, было бы корректнее говорить не о здравом смысле, а о нехватке воображения. Как я открыто признаю, для меня психологически непредставима ситуация, когда, как это следует из веберовской экзегезы в редакции Зарета, по нечетным числам кальвинистские проповедники рассказывали бы пастве об ужасах Мамоны, а по четным — о том, что только по успеху в мирских делах можно удостовериться, предназначен ты к вечному спасению или нет [Капелюшников, 2018a, с. 43–44]. По-видимому, воображение И. В. Забаева на порядок богаче моего и он не усматривает в подобной шизофренической раздвоенности ничего экстраординарного. Но все-таки я был бы признателен, если бы он растолковал мне с опорой на конкретные тексты, как все это могло уживаться в головах кальвинистских проповедников.
И. В. Забаев утверждает также, что в споре между Маккинноном и Заретом я однозначно встаю на сторону первого [Забаев, 2019, с. 51]. Ничего подобного. Для этого у меня нет необходимых знаний и квалификации. Я вполне допускаю, что прав может быть Зарет и прямо об этом пишу [Капелюшников, 2018a, с. 44]. Но даже и это не спасает веберовскую экзегезу, разве что тогда она оказывается ошибочной не полностью, а «наполовину» [Капелюшников, 2018б, с. 35]. Все дело в том, что смысловым ядром как маккинноновской, так и заретовской реконструкции служит «теология завета», полностью проигнорированная Вебером[66]. Но стоит только сделать ее центром реформатской картины мира, как отношения верующего с Богом предстают в совершенно ином свете, чем изображает их в «Протестантской этике» Вебер [Капелюшников, 2018a, с. 43].
Рассуждения И. В. Забаева на данную тему страдают от непростительного для эксперта по этике смешения понятий. Он, похоже, не видит разницы между анализом этических представлений какой-либо социальной группы или какого-либо мыслителя и этической проповедью от первого лица. В первом случае перед нами наука, во втором — моральная доктрина. Хотя бóльшая часть веберовского текста посвящена разбору религиозных и нравственных представлений различных христианских деноминаций, он не становится от этого богословским или этическим трактатом. С учетом того, какие исследовательские приемы использует Вебер, его работа, конечно же, принадлежит сфере науки. Собственным этическим оценкам он позволяет «прорваться» лишь в нескольких местах в заключительной части «Протестантской этики» («Аскеза и капиталистический дух»). Это едва ли удивительно, если вспомнить, с какой непримиримостью относился Вебер к вторжению оценочных суждений в научный анализ.
И. В. Забаев утверждает, что в моем тексте ничего про этику нет: «В „Гипнозе…“ есть про протестантизм, а про этику там нет»; «Этическая сторона „Протестантской этики“ практически не разбирается в „Гипнозе…“» [Забаев, 2019, с. 22, 33][67]. Странно, а мне казалось, когда я его писал (видимо, ошибочно), что он в значительной мере как раз таки про этику — научную. Например про то, что нехорошо обрезать начала и концы цитируемых текстов, не сообщая об этой операции читателю; нехорошо не оповещать читателя, что цитируемый текст представляет собой частное письмо; нехорошо называть куцый фрагмент текста «трактатом»; нехорошо убежденного деиста записывать в «деятели пуританизма» на том основании, что папа у него был кальвинистом; нехорошо со звериной серьезностью истолковывать юмористические тексты; нехорошо вчитывать в библейское изречение смысл обратный тому, который в нем заложен; нехорошо сидеть одновременно на двух стульях, рассказывая, с одной стороны, что «дух капитализма» не имеет ничего общего с наживой, а с другой — что он представляет собой безудержную погоню за ней[68]; наконец, нехорошо использовать в качестве эмпирического обоснования своих идей арифметически дефектную таблицу. И в дополнение, специально для И. В. Забаева как эксперта по этике: нехорошо подозревать оппонента в задних мыслях и диверсионных намерениях, даже если это «современный экономист» (т. е. представитель чужого племени, забредший на не свою территорию). Мой текст в первую очередь про то, что в научных обсуждениях желательно избегать дискурсивных приемов, подчас применявшихся Вебером, и в этом смысле он, конечно, про этику.
Естественно, что последнее нехорошо из моего списка относится не к М. Веберу и не к М. Оффенбахеру: никто не застрахован от элементарнейших ошибок, как бы по-детски они ни выглядели задним числом. Оно относится к нескольким поколениям социологов, которые сначала на протяжении примерно полувека воспроизводили в своих статьях и учебниках арифметически дефектную таблицу Оффенбахера (причем не в примечаниях, а в основном тексте), а затем, когда ее дефектность была им предъявлена, все равно продолжали держаться за нее еще примерно полвека, пытаясь даже доказывать, что с ней не так уж все и плохо. Напомню, что героическая гипотеза Р. Мертона о происхождении современной европейской науки из протестантской этики базировалась, прежде всего, на таблице Оффенбахера [Merton, 1936; 1938].
Ссылки И. В. Забаева на работы ряда социологов, пытавшихся в свое время оспаривать несуразность таблицы Оффенбахера, лишены смысла, потому что все попытки такого рода предпринимались до появления исследования Г. Беккера, который обратился к первичным данным баденской образовательной статистики [Becker, 1997]. (Характерная деталь: до Г. Беккера на протяжении почти 100 лет это никому в голову не приходило!) Может быть, из моего поля зрения что-то выпало, но, насколько мне известно, пока результаты беккеровских расчетов никем под сомнение не ставились[69]. Его данные демонстрируют настолько крошечные межконфессиональные различия в распределении учащихся Бадена по школам разного типа, что сегодня никто и не подумал бы делать какие-либо обобщения исходя из такой мизерной вариации.
И. В. Забаев считает весомым аргументом против критиков Вебера то, что их опровержения Тезиса нередко противоречат друг другу [Забаев, 2019, с. 51]. Так, из работы Г. Беккера по Бадену следует, что значимых различий в образовательном поведении протестантов и католиков не было [Becker, 1997], тогда как из работы С. Беккера и Л. Воссмана по Пруссии — что они были [Becker, Woessmann, 2009]. Но, согласитесь, Баден и Пруссия — это не одно и то же, и точно так же не одно и то же вопрос о распределении учащихся по образовательным трекам и вопрос об охвате детей средним образованием. Более того, из постановки проблемы у С. Беккера и Л. Воссмана ясно видно, что их исследование тестирует не исходный, а модифицированный Тезис Вебера. Как бы ни выглядели результаты анализа на прусских данных, по отношению к аутентичной объяснительной схеме Вебера они в любом случае будут иррелевантны. Почему? Да потому что прусские протестанты были практически сплошь лютеранами, а лютеранство, как уверяет нас Вебер, является по своему этосу еще более антикапиталистическим, чем даже католичество!
И последнее. Раз уж И. В. Забаев выбрал предметом своего обсуждения этические представления Вебера, то было бы неплохо сообщить читателю, что по их поводу пишут наиболее авторитетные и компетентные комментаторы (например, Р. Арон). А пишут они, что Вебер не разработал никакой системы ценностей, которую мог бы предъявить миру; что у него не было никакой своей этической системы, никакого своего свода правил поведения и никакого своего идеала общества; наконец, что его взгляды отличает глубокая моральная амбивалентность (см.: [MacKinnon, 2001, p. 331]).
ИНТЕРПРЕТАТОР-НОВАТОР
В этой же — «этической» — части статьи И. В. Забаева мы обнаруживаем два совершенно поразительных места, где ключевые идеи «Протестантской этики» трактуются с точностью до наоборот. В обоих случаях источник глухоты к веберовской мысли оказывается одним и тем же: неразличение отдельных этапов эволюции «современного» капитализма и соответствующих этим этапам «этик» или «духов», которые сам Вебер стремился разграничивать.
В своей работе я попытался схематически выделить основные фазы эволюции «современного» (новоевропейского) капитализма в понимании Вебера: 1) подготовительная («героическая») фаза, когда капитализм уже появился, но еще не стал доминирующей формой хозяйства (XVI–XVII вв.); 2) фаза расцвета, когда капитализм превратился в господствующую форму хозяйства (XVIII–XIX вв.); 3) фаза перерождения, когда начал формироваться «пострациональный» капитализм, отличный во многих отношениях от классического «рационального» капитализма (конец XIX — начало XX в.) [Капелюшников, 2018a, с. 35][70]. На всех этапах этой эволюции, если я правильно понимаю Вебера, общая мотивация экономического поведения оставалась той же самой: стремление к мирскому успеху, погоня за наживой («приобретательство»), верность профессиональному призванию. Однако стоявший за этим «дух» всякий раз оказывался иным, поскольку менялось религиозно-этическое обоснование такого поведения. Наверное, точнее всего было бы сказать, что в «Протестантской этике» Вебер прослеживает «приключения» идеи призвания[71].
Инкарнация 1: протестантская этика. Носителями протестантской этики выполнение долга в рамках мирской профессии рассматривалось «как наивысшая задача нравственной жизни» [Вебер, 1990, с. 97]. Их следование профессиональному призванию/стремление к наживе было направлено на обретение высшего (религиозного) блага и, следовательно, не являлось самоцелью. Целью такого поведения было получение сигнала свыше о том, что ты избран и можешь рассчитывать на вечное спасение. Но поскольку этот сигнал всегда оставался «зашумленным», подтверждать свою избранность успехами на мирском поприще приходилось снова и снова. Таким образом, «систематическое и рациональное стремление к законной прибыли в рамках своей профессии» было исполнено религиозного смысла [Там же, с. 85]. С этим же была связана установка на мирскую аскезу: шансы на получение сигнала об избранности были выше, если потребление ограничивалось возможным минимумом, а все высвободившиеся средства шли в дело. На профанном уровне важно было также то, что достижение мирского успеха обеспечивало «психологическую премию»: оно давало временное освобождение (благодаря возросшей надежде на спасение) от неизбывного напряжения, в которое погружала верующих кальвиновская доктрина «двойного декрета».
При ближайшем рассмотрении протестантская этика оказывается этикой героической. Вебер называет ее носителей «представителями героической эпохи капитализма», а также цитирует высказывание Карлейля о том, что отстаивание ими идеалов пуританизма было «последней вспышкой нашего героизма» [Там же, с. 193, 63].
Инкарнация 2: «дух капитализма». В отличие от протестантской этики «дух капитализма» оказывается свободен от какой-либо религиозной направленности. Но хотя религиозное обоснование экономического поведения у его носителей (таких как Франклин) уходит, этическое остается. Так, с одной с стороны, у Франклина связь между «религиозной концепцией» и «призывом к хозяйственности», отличавшая носителей протестантской этики, уже отсутствует [Там же, с. 115]. С другой — в его сочинениях «излагается своеобразная „этика“, отступление от которой рассматривается не только как глупость, но и как своего рода нарушение долга. Речь идет… о выражении некоего этоса» [Там же, с. 73–74]; «в его поучении, обращенном к молодым коммерсантам, безусловно, присутствует этический пафос» [Там же, с. 115].
Внерелигиозность носителей «духа капитализма» приводит к тому, что они не ощущают потребности в получении каких-либо сигналов свыше и не испытывают непреходящего психологического напряжения, которое все время необходимо снимать. Это имеет принципиальное значение, так как без религиозной санкции следование профессиональному призванию/стремление к наживе перестает быть средством и превращается в самоцель. Тем не менее приверженность такому типу поведения продолжает восприниматься как нравственный долг, хотя и непонятно, кем и как установленный. Иными словами, следование профессиональному призванию/стремление к наживе становится чем-то иррациональным (не направленным на достижение какого-либо высшего блага)[72]. Поэтому если и можно говорить о получении носителями «духа капитализма» «психологической премии», то связана она оказывается с «иррациональным ощущением хорошо „исполненного долга в рамках своего призвания“» [Там же, с. 90].
Поскольку у носителей «духа капитализма» сохраняется чувство профессионального долга, они остаются верны и идее мирской аскезы. Как и носители протестантской этики, они стремятся сводить потребление к возможному минимуму, пуская все оставшиеся средства в дело (занимаясь приумножением своих капиталов). Но если спросить носителя «духа капитализма», почему он так себя ведет, тот не сможет дать вразумительного ответа: «Если спросить этих людей о „смысле“ их безудержной погони за наживой, плодами которой они никогда не пользуются и которая именно при посюсторонней жизненной ориентации должна казаться совершенно бессмысленной… они просто сказали бы… что само дело с его неустанными требованиями стало для них „необходимым условием существования“… Это действительно единственная правильная мотивировка, выявляющая к тому же всю иррациональность подобного образа жизни с точки зрения личного счастья, образа жизни, при котором человек существует для дела, а не дело для человека» [Там же, с. 89–90]. В отличие от этого, если бы такой вопрос был задан носителю протестантской этики, тот с легкостью мог бы на него ответить.
Еще одно важное отличие: «дух капитализма» лишен героики, присущей носителям протестантской этики. В условиях, когда новый строй мышления/тип поведения становится массовым, необходимость в противостоянии давлению внешней среды исчезает.
Инкарнация 3: «этика» бездушных профессионалов/бессердечных сластолюбцев. В данном случае слово «этика» приходится брать в кавычки, потому что в строгом смысле никакой этики у «последних людей», каковыми являются бездушные профессионалы/бессердечные сластолюбцы, нет. У них следование профессиональному призванию/стремление к наживе лишается не только религиозного, но и этического содержания: «Капиталистическое хозяйство не нуждается более в санкции того или иного религиозного учения… капитализм, одержав победу, отбрасывает ненужную ему больше опору» [Вебер, 1990, с. 91]. Они не только не испытывают потребности в получении каких-либо сигналов свыше, но и оказываются свободны от каких-либо этических норм. Будучи, по определению Вебера, «профессионалами без души», они чисто механически выполняют свои профессиональные обязанности без внутреннего ощущения, что в этом заключается их нравственный долг.
В результате поведение, связанное со следованием профессиональному призванию/стремлением к наживе, перестает быть как средством подтверждения избранности (как в случае протестантской этики), так и самоцелью (как в случае «духа капитализма»), становясь от начала и до конца вынужденным: оно навязывается «последним людям» внешней средой помимо их воли. Из-за этого выполнение профессионального долга начинает субъективно восприниматься «как непосредственное экономическое принуждение» [Там же, с. 206]. Импульсы к такому экономическому поведению идут уже не изнутри, как раньше, а извне: сегодня «индивид в той мере, в какой он входит в сложное переплетение рыночных отношений, вынужден подчиняться нормам капиталистического хозяйственного поведения» [Там же, с. 76]. Внутреннюю мораль заменяет экономическое принуждение: «преданность делу… служение своему „призванию“, сущность которого заключается в добывании денег, становится неотделима от условий борьбы за экономическое существование» [Там же, с. 91]. Место морали занимает рыночный отбор, место этических принципов — инстинкт выживания: «Капитализм, достигший господства в современной хозяйственной жизни, воспитывает и создает необходимых ему хозяйственных субъектов — предпринимателей и рабочих — посредством экономического отбора» [Там же, с. 76–77]. По словам Вебера, если «пуританин хотел быть профессионалом, мы должны быть таковыми» [Там же, с. 206]).
Как следствие, если раньше функционирование капиталистической системы было невозможно без людей с твердыми этическими установками, то теперь оно может легко обходиться без них: «Еще менее мы склонны… утверждать, что субъективное усвоение… этических положений отдельными носителями капиталистического хозяйства, будь то предприниматель или рабочий современного предприятия, является сегодня необходимым условием дальнейшего существования капитализма» [Там же, с. 76].
В этих условиях экономическая борьба за выживание предстает как «стальной панцирь», надетый на общество и заставляющий всех вести себя строго единообразно независимо от субъективных предпочтений, нравственных установок или религиозных убеждений [Там же, с. 206]. Метафора «стального панциря» обозначает рабское подчинение внешним мирским благам, завоевавшим «такую власть, которую не знала вся предшествующая история человечества» [Там же]. Говоря более конкретно, «последние люди» — это законченные гедонисты (сластолюбцы), ориентированные на безостановочную эскалацию потребления: «В настоящее время дух аскезы — кто знает, навсегда ли? — ушел из этой мирской оболочки. Во всяком случае, победивший капитализм не нуждается более в подобной опоре с тех пор, как он покоится на механической основе. И лишь представление о „профессиональном долге“ бродит по миру, как призрак прежних религиозных идей» [Там же].
У веберовской метафоры «стального панциря» две ключевые коннотации. Во-первых, она предполагает, что от прежней идеи призвания осталась только внешняя оболочка («призрак»), лишенная внутреннего религиозного (протестантская этика) или этического («дух» капитализма) содержания. «Бездушные профессионалы» пусты изнутри, поскольку для них следование профессиональному призванию / стремление к наживе является не актом морального выбора, а всего лишь способом адаптации к внешним условиям — «результатом приспособления» [Там же, с. 91]. Во-вторых, она говорит о том, что эта мирская оболочка отличается сверхжесткостью («панцирь»), поскольку формируется неумолимыми силами экономической борьбы за выживание: фабрикант или рабочий, нарушающие в течение долгого времени нормы капиталистического хозяйственного поведения, «отбраковываются» рынком [Там же, с. 76].
Наверное, к новому типу капитализма, заявившему о себе на рубеже XIX–XX вв., лучше всего подошло бы определение «пострациональный». Хотя в его рамках экономическое поведение вновь обретает рациональность (перестает быть самоцелью), это уже инструментальная, а не ценностная рациональность как у носителей протестантской этики.
Однако И. В. Забаев, похоже, не склонен признавать каких-либо метаморфоз идеи призвания, полагая ее всегда равной себе (во всяком случае, он их нигде не фиксирует). Противопоставляя «этическую» часть аргументации Вебера «протестантской» (как будто их можно разорвать), И. В. Забаев предупреждает, что будет заниматься только этикой «вообще»: «очень легко вместо этической части аргумента погрузиться в протестантскую. Однако делать этого не стоит»; «в чем собственно состояла этическая перемена? (Заметим, не протестантская)» [Забаев, 2019, с. 38–39]. При следовании такому недифференцированному подходу идеи «Протестантской этики» начинают трактоваться шиворот-навыворот, неожиданно приобретая отчетливую антивеберовскую окраску.
Так, И. В. Забаев пишет: «Вспомним, что веберовское „призвание“ не ведет к спасению, оно только позволяет забыть про то, что ты проклят» [Забаев, 2019, с. 42]. Следуя его призыву, я силюсь что-то такое вспомнить, но тщетно. В веберовском тексте не отыскивается ничего, хотя бы отдаленно похожего на идею «забвения проклятия» (т. е. человек точно знает, что проклят, но «призвание» служит ему механизмом фрейдистского вытеснения). Сказать такое о «Протестантской этике», это все равно, что сделать четыре ошибки в слове «еще»: 1) поскольку для носителей протестантской этики решение Бога окутано непроницаемой завесой тайны, они никогда не забывают об угрозе вечного проклятия (все, что им доступно, — это получить в случае успеха в мирских делах кратковременную передышку от невыносимого психологического напряжения, в которое их погружает доктрина «двойного декрета», но полной уверенности в своей избранности это все равно не дает, так как сохраняется реальная опасность, что сигнал ложный и тебя все-таки ждет вечное проклятие); 2) поскольку носителям «духа капитализма» (вроде веберовского Франклина) совершенно чужда сама идея «двойного декрета», «забывать» им попросту не о чем; 3) «последним людям» (веберовским «профессионалам без души») «забывать» тем более нечего по причине их внерелигиозности и внеэтичности. «Отбрасывание» и «передышка», «забвение о проклятии» и «надежда на спасение» — это совсем не одно и то же и не понимать этого — значит не понимать Вебера. Похоже на то, что идея И. В. Забаева представляет собой новое слово в вебериане: ни у одного из комментаторов «Протестантской этики» она мне не встречалась, да, скорее всего, и не могла встретиться. Поэтому я бы просил ее автора привести хотя бы одну выдержку из текста Вебера, где бы тот писал о забвении про то, что ты проклят.
Еще один шедевр интерпетаторского искусства связан с толкованием веберовской метафоры «стального панциря». В своей статье И. В. Забаев рассматривает «Протестантскую этику» «в связи с этическими построениями Ницше» [Там же, с. 43], заходя по этому пути так далеко, что Ницше и Вебер сливаются у него почти до полной неразличимости. Нигде это не проступает с такой отчетливостью, как в его комментариях к метафоре «стального панциря», выдержанных целиком в духе Ницше и имеющих весьма отдаленное отношение к Веберу.
Начнем с того, что «панцирь» — это как бы род «одежды», нечто внешнее, что «объемлет» человека: панцирь снаружи, человек внутри. (Напомню, что образ «панциря» у Вебера имеет своим источником образ «плаща» у Р. Бакстера.) Однако И. В. Забаев неожиданно выворачивает эту метафору наизнанку: панцирь он переносит внутрь человека. Это очень специфичный, никогда не виданный, «овнутренный стальной панцирь», который мистическим образом способен даже превращаться в «скелет» [Там же].
Впрочем, дело не в стилистических нюансах, а в тотальной содержательной несовместимости того, что писал Вебер, с тем, что вменяет ему И. В. Забаев. Текст «Протестантской этики» абсолютно прозрачен: «стальной панцирь» — это власть вещей (внешних мирских благ) над «последними людьми»[73]; ее же имел в виду Бакстер, говоря о «тонком плаще, который ежеминутно можно сбросить». Мысль Вебера ясна: власть вещей из «тонкого плаща», каким она была во времена Бакстера, превратилась в «стальной панцирь», от которого невозможно избавиться, потому что он выкован чудовищным космосом «современного хозяйственного устройства… который в наше время подвергает неодолимому принуждению каждого отдельного человека, формируя его жизненный стиль, причем не только тех людей, которые непосредственно связаны с ним своей деятельностью, а вообще всех ввергнутых в этот механизм с момента рождения» [Вебер, 1990, с. 206].
А что мы читаем у И. В. Забаева? Согласно его толкованию, «стальной панцирь» это… мораль: «В человеке есть стальной панцирь от которого он не может освободиться, — стальной панцирь морали» [Забаев, 2019, с. 43]. Если говорить более конкретно, то, оказывается, корень зла кроется в этике призвания: «Именно Beruf создавал „стальной панцирь“, и этому этосу человек „добровольно“ следовал»; «Веберовская „Протестантская этика“ явилась одним из классических образцов… подозрения: …„А вдруг призвание — это проклятие?“» [Там же].
Здесь буквально все поставлено с ног на голову. Для Вебера носители идеи Beruf (кальвинисты и члены протестантских сект) являлись недосягаемым моральным образцом — героями, чья жизнь была исполнена высшего смысла; он называл своих современников «последними людьми» не из-за их рабского подчинения этическим принципам, а, наоборот, из-за окончательного ухода морали из их жизни; его ключевая метафора отсылает нас не к «овнутренному стальному панцирю долга» [Там же], а к «стальному панцирю» чудовищного космоса борьбы за выживание, где осознание внутреннего нравственного долга оказывается заменено внешним экономическим принуждением.
Представление о том, что свободу можно обрести через отказ от морали, является однозначно ницшеанским («Мы, имморалисты!»). Но И. В. Забаев не колеблясь вменяет его Веберу: «Аргумент Вебера может быть интерпретирован так: …внутри нас будет сидеть каркас… если его снять, то появятся свобода и беззащитность» [Забаев, 2019, с. 43]. В общем, под видом Вебера нам без особых церемоний подсовывают Ницше: «Веберовское истолкование доктрин протестантов, где цель труда — забыть о проклятии, параллельно ницшеанской идее ресентимента и неприглядной роли благословения труда» [Там же]. Можно, наверное, сказать, что для Ницше путь к свободе лежал через преодоление моральных ограничений (морали рабов). Но Вебер, будучи верным кантианцем, связывал свободу с наличием морали и осознанием долга: человек обретает автономию и становится свободен только тогда, когда руководствуется в своих действиях категорическим императивом; в случае отказа от морали он оказывается несвободен, поскольку превращается в игрушку в руках внешних сил.
Таковы неутешительные итоги прочтения идей Вебера через призму идей Ницше. Трудно вообразить что-либо более антивеберовское по смыслу, чем интерпретаторские новации И. В. Забаева.
И. В. Забаев проявляет повышенную сензитивность к смысловым оттенкам слов. Так, он критикует русский перевод «Протестантской этики» за то, что для передачи двух немецких слов «Gewinn» и «Erwerb» в нем употреблено одно и то же русское слово — нажива. По его мнению, Gewinn использовалось Вебером при характеристике алчности как таковой (а поскольку она противна «духу капитализма», то здесь вполне уместен перевод «нажива»), тогда как Erwerb — при характеристике как раз таки особого «духа капитализма». Для более точной передачи Erwerb на русском языке он предлагает использовать такие обороты, как «приобретательство» или «стремление к приобретению денег и все больших денег» [Там же, с. 27].
Опираясь на свой уточненный перевод, И. В. Забаев отвергает мою критику Вебера за карикатурность «портрета» Б. Франклина, представленного в «Протестантской этике». Рассмотрев список из 13 добродетелей, составленный Франклиным в молодости для самого себя, я прихожу к выводу, что в его этических воззрениях не было ничего от веберовского «духа капитализма»: «Мы не обнаруживаем ни отношения к наживе как к самоцели, ни призывов потреблять как можно меньше и сберегать как можно больше, ни предписаний безостановочно накапливать капитал» [Капелюшников, 2018б, с. 23]. Но, возражает И. В. Забаев, если заменить во всех высказываниях Вебера, где речь идет о Erwerb, «наживу» на «приобретательство», то все разночтения между франклиновским списком добродетелей и веберовским «духом капитализма» снимутся.
На мой взгляд, подобные филологические экзерсисы подменяют разговор по существу игрой в слова. Удивительном образом И. В. Забаев не замечает, что в первом же приведенном им отрывке Gewinn и Erwerb стоят у Вебера через запятую, т. е. находятся для него в одном и том же синонимическом ряду. Иначе говоря, жесткое разведение Gewinn и Erwerb является изобретением самого И. В. Забаева, не имеющим опоры в языке «Протестантской этики». Еще забавнее, что в этом веберовском высказывании Erwerb используется для описания как раз той самой алчности вообще, которая, как уверяет И. В. Забаев, этому немецкому слову полностью ортогональна!
Я готов последовать преподанному уроку и выбросить из своего высказывания слово «нажива». Получится вот что: «Во всем этом нет абсолютно ничего от „духа капитализма“: мы не обнаруживаем ни отношения к приобретению денег и все больших денег как к самоцели, ни призывов потреблять как можно меньше и сберегать как можно больше, ни предписаний безостановочно накапливать капитал». Что с точки зрения смысла изменилось после замены? Ровным счетом ничего. Точно так же, как в франклиновском списке добродетелей нет «наживы», нет в нем и ничего похожего на «приобретение денег и все больших денег».
И. В. Забаеву можно было бы посоветовать не вчитывать в тексты цитируемых авторов то, что ему по душе, а вычитывать из них то, что в них реально есть. Как мы помним, Вебер учит нас, что обнаруженный им в «трактате» Франклина «дух капитализма» предполагает полный отказ от «эвдемонистических и гедонистических моментов» и что дух этот трансцендентен «по отношению к „счастью“ или „пользе“ отдельного человека» [Вебер, 1990, с. 75]. А теперь давайте прочтем отрывок из франклиновского эссе «Этика шахмат», который, как уверяет И. В. Забаев, насквозь пропитан «духом капитализма». Вот что пишет Франклин: «А чтобы нам чаще отдаваться этой благотворной забаве [игре в шахматы. — Р. К.], предпочитая ее прочим, не сопряженным с такой же полезностью, необходимо учитывать всякое обстоятельство, увеличивающее наслаждение ею» [Франклин, 2017, с. 323] (Курсив мой. — Р. К.). И что же мы здесь находим? Не только полезность, но и — о ужас! — даже наслаждение, на получение которого, по Франклину, направлена игра в шахматы. Так как насчет полного отказа от «эвдемонистических и гедонистических моментов», без которого, по Веберу, немыслим «дух капитализма»?
И. В. Забаев не обратил внимания на пассаж из моей статьи с итоговой оценкой веберовского «портрета» Франклина: «Тенденциозность Вебера отчетливо проявляется в главном содержательном пункте. По его утверждению, для Франклина стремление к наживе [можно заменить на „к приобретательству“. — Р. К.] являлось самоцелью и было свободно от каких бы то ни было эвдемонических моментов. Но при знакомстве с текстами Франклина любому становится ясно, что и моральные принципы, которые он выработал для себя, и практические советы, которые он давал другим, всегда имели одну и ту же цель — достижение счастья» [Капелюшников, 2018б, с. 24].
В качестве аргумента, подтверждающего правоту Вебера, И. В. Забаев ссылается на то, что тексты Франклина всегда пользовались и продолжают пользоваться большой популярностью среди бизнесменов и бизнесвуменш. Но этот аргумент мог бы иметь силу лишь при одном условии: если было бы достоверно известно, что деловые люди, читавшие Франклина, все до одного являлись носителями веберовского «духа капитализма». Никаких свидетельств, что это так, И. В. Забаев, естественно, не приводит. В то же время в «Протестантской этике» Вебер сам вполне недвусмысленно заявляет, что уже к началу XX столетия подобный психотип среди представителей бизнеса почти исчез, так как на авансцену вышли свободные от каких-либо этических ограничений «бессердечные сластолюбцы», мало чем напоминающие носителей «духа капитализма» предшествующей эпохи.
И. В. Забаев считает также важным напомнить, что «Франклин был одним из тех, кто активно участвовал в создании „американской мечты“» и «был одним из тех, кто создал идеал self-made man» [Забаев, 2019, с. 29]. Все это так, только он забывает добавить, что Франклин был еще и родоначальником специфического американского юмора, недоступного восприятию не только М. Вебера, но, похоже, и И. В. Забаева [Капелюшников, 2018б, с. 22–23]. По поводу моих слов о том, что «ни у кого из позднейших исследователей, специально занимавшихся изучением творчества Франклина, веберовская трактовка не получила признания», И. В. Забаев замечает, что это утверждение «тяжело доказать логически» [Забаев, 2019, с. 29]. Да, но его очень легко опровергнуть эмпирически: достаточно найти хотя бы одного франклиновского биографа или историка американской литературы, который бы признавал адекватность веберовского «портрета» Франклина. Странно: если И. В. Забаев так сильно озабочен этой проблемой, то почему бы ему самому не привести таких опровержений? При этом должно быть понятно, что когда я говорю об исследователях творчества Франклина, то имею в виду не социологов и не профессоров бизнес-школ, а литературоведов — специалистов по истории американской литературы. На оценку одного из них (см.: [Roth, 1995]), племянника Вебера Э. Баумгартена, я ссылаюсь в своей статье.
И. В. Забаев последовательно продолжает линию Вебера на окарикатуривание Франклина, доводя ее до логического предела. Для него, как и для Вебера, Франклин — архетипический представитель «духа капитализма»: «Франклин борется с подагрой, играет в шахматы, ходит гулять, заведует типографией, изобретает громоотвод — и везде им движет этот дух. Он спит, ест, воюет, шутит, ругается, советует и… продолжает считать и подводить баланс. Продолжает приобретать. Это приобретательство, стремление к приобретательству… везде. Это способ жизни. В противовес, например, расточительству, разбазариванию, раздариванию, дару» [Забаев, 2019, с. 30–31]. Зная образ жизни и образ мыслей Франклина, на это можно сказать только одно: если дары и раздаривание несовместимы с «духом капитализма», то он однозначно не был его носителем!
И. В. Забаев мог бы повнимательнее отнестись в тому разделу моего текста, где я воспроизвожу перипетии франклиновской жизни: «Он рано — в 42 года — навсегда оставил бизнес, причем это было его продуманным решением, которое он принял еще в молодости, когда составлял план своей дальнейшей жизни; даже будучи бизнесменом, он едва ли не большую часть времени посвящал литературе, науке и общественной деятельности; он давал в долг крупные суммы своим беспутным друзьям без надежды на то, что эти деньги когда-нибудь к нему вернутся; он никогда не брал патенты на свои изобретения, отказываясь таким образом от больших денег, которые доставались другим; он из собственного кармана оплатил свою поездку в Лондон в качестве официального представителя Ассамблеи Пенсильвании; он заводил внебрачных детей; он публиковал достаточно скабрезные произведения, подвергавшиеся цензурным запретам; последние годы он жил если не в роскоши, то с большим комфортом; находясь в Лондоне, он регулярно высылал жене в Филадельфию партии китайского фарфора, собрав коллекцию, которой весьма гордился; всю жизнь он тратил время и средства на всевозможные общественные проекты» [Капелюшников, 2018б, 24].
Но, впрочем, это еще не пик окарикатуривания. Пик достигается тогда, когда «рассмотрение в связи с этическими построениями Ницше» позволяет И. В. Забаеву «увидеть франклиновскую мораль в несколько ином свете» [Забаев, 2019, с. 43]. Это рассмотрение оказывается настолько продуктивным, что Франклин превращается ни много ни мало как в носителя ницшеанской морали рабов (!): «Ресентимент — это этика слабых, боящихся жизни людей, этика людей, не способных навязывать свою игру, тех, кто не имеет возможности ответить ударом на удар. Это этика маленького человека, скрытого действия. Не слышится ли уже здесь молоток Франклина? Если каждый день потихоньку стучать своим маленьким молоточком, то однажды ты будешь стоять перед царями. Так прочитать эти тезисы можно» [Там же, с. 41][74]. Мораль Франклина — это воплощение «мещанского духа»; в ней «вся жизнь редуцируется к подведению баланса»; она ориентирована на «машинальную деятельность, тренинг, абсолютную регулярность, единожды и навсегда адаптированный образ жизни» [Там же, с. 41, 33, 42][75].
А теперь попробуем сравнить эти описания (пропитанные, прошу прощения, ресентиментом) с фигурой Франклина, какой она вырисовывается из его литературных текстов и его биографии. Маленький человек? Существо, охваченное завистью и чувством мести? Слабак, неспособный навязать свою игру? Боязнь ответить ударом на удар? Машинальность и навсегда адаптированный образ жизни? Более или менее реалистичный «портрет» Франклина удастся получить, только если поменять все эти характеристики на их негативы: большой человек; всегда исполненный великодушия; добивавшийся всего сам; навязавший Англии в дипломатическом противостоянии с ней свою игру; выходивший из множества жизненных конфликтов победителем; несколько раз кардинально менявший свою жизнь; популярный писатель; автор выдающихся научных и технических открытий; революционер. Не правда ли, перед нами описание типичного носителя морали рабов?
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
И. В. Забаев информирует меня о том, что Вебер «в ряде случаев солидаризировался с позицией К. Менгера, несмотря на то, что вышел из исторической школы» [Забаев, 2019, с. 32]. Спасибо. В ответ могу проинформировать И. В. Забаева о том, что в методологическом споре между К. Менгером и Г. Шмоллером (т. е. между австрийской и исторической экономическими школами) Вебер пытался занять позицию над схваткой и это ему, насколько я понимаю, в значительной мере удалось; что, когда Вебер читал курсы по теоретической экономике, то излагал теорию предельной полезности австрийской школы; что в краткий период преподавания в Венском университете он близко сошелся с Л. Мизесом и они часто вели беседы на научные темы; что Вебер одновременно с Мизесом предсказал провал социалистического проекта из-за невозможности рациональных экономических расчетов при социализме; что представители австрийской школы (см., например: [Lahmann, 1971]) всегда относились к Веберу с огромным уважением, считая его идеи во многом созвучными их собственным — вспомним хотя бы о принципе методологического индивидуализма; что веберовские идеи через философов Ф. Кауфмана и А. Шюца, входивших в кружок Мизеса, оказали сильнейшее влияние на эволюцию представлений австрийцев о научном методе; что благодаря публикациям австрийцев на английском языке в 1930–1940-е годы веберовская методология «идеальных типов» стала достоянием также и англо-американской экономической мысли. Вообще тема «Вебер и австрийская школа» заслуживает отдельного исследования.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Верный своей стратегии подменять разговор по существу игрой в слова, И. В. Забаев решает прочесть мне мини-лекцию о том, что нельзя ставить знак равенства между экономическим ростом и капитализмом (как будто кто-то его ставит) и что ни Маркс, ни Зомбарт, ни Вебер никогда проблематикой экономического роста не занимались и всерьез о нем никогда не думали: «Тексты Маркса исполнены надеждой на то, что ситуацию можно изменить, и эта надежда напрямую не связана с уровнем экономического развития общества» [Забаев, 2019, с. 37]; «Мы должны отдавать себе отчет в том, что Вебер (как и Зомбарт, и как Маркс) писал не про экономический рост» [Там же]; «Сам по себе экономический рост им был не важен» [Там же, с. 36]. Да неужели?
Конечно, никто из них не пользовался термином «экономический рост», но о явлении, которое мы так сегодня обозначаем, они очень даже думали. Как насчет развития производительных сил (центрального понятия марксистской теории), т. е. сил, позволяющих производить все больше и больше? И разве Вебер не связывал «современный» капитализм с «эскалацией приобретательства», если использовать так полюбившееся И. В. Забаеву выражение, иначе говоря, с непрерывно возрастающим приобретением все большего и большего объема благ[76]? Что касается Зомбарта, то достаточно сказать, что именно ему принадлежит авторство выражения «созидательное разрушение» (чаще всего оно ошибочно приписывается Й. Шумпетеру). Пусть И. В. Забаев заменит понятие «экономический рост» любым термином-близнецом, который не вызывает у него отторжения, — «развитие капитализма», «экономический подъем» (выражение Вебера), «экономическое развитие», «экономический прогресс», «развитие производительных сил», «эскалация приобретательства» — от этого смысл моих комментариев не изменится ни на йоту.
И. В. Забаев много рассуждает о том, что было важно для Маркса, Зомбарта или Вебера, но я-то писал не о том, что для них было важно или неважно, а о том, что они считали главной движущей силой капитализма как экономической системы. Для них существовал единственный ответ — конечно же, накопление капитала. Именно поэтому Маркс назвал свой главный экономический труд «Капитал» и именно поэтому Зомбарт позднее ввел в научный лексикон термин «капитализм». Высказывания Вебера на этот счет вполне однозначны: протестантская этика подготовила плацдарм для взрывного ускорения темпов накопления капитала. С экономической точки зрения в этом заключается главное отличие новоевропейского капитализма от всех предшествующих его формаций, где накопление капитала стояло практически на месте: «Если… ограничение потребления соединяется с высвобождением стремления к наживе, то объективным результатом этого будет накопление капитала посредством принуждения к аскетической бережливости. Препятствия на пути к потреблению нажитого богатства неминуемо должны были служить его производительному использованию в качестве инвестируемого капитала… Действительное господство кальвинизма привело к ярко выраженному импульсу накопления капитала» [Вебер, 1990, с. 198–199]. И. В. Забаев цитирует слова Вебера про «приумножение своего капитала как самоцель» [Там же, с. 72], но, видимо, считает, что это просто фигура речи, а не иное обозначение процесса накопления капитала.
Замечание И. В. Забаева о том, что будто бы я критикую «Вебера в отношении того, что сбережения не обеспечили высоких темпов экономического роста» [Забаев, 2019, с. 37], свидетельствует лишь о смутности его представлений о предмете обсуждения. Я писал не о том, что накопление капитала не стимулировало рост, а о том, что вопреки утверждениям Вебера, при рождении современного капитализма никакого ускорения темпов накопления капитала вообще не было [Капелюшников, 2018б, с. 26–27]. Иными словами, экономический феномен, который он стремился объяснять, — это фикция, иллюзия, которую он разделял с большей частью ученых — своих современников. Историческая статистика свидетельствует, что, несмотря на пуританство, мирской аскетизм, протестантскую этику и т. д., в Англии, родине современного капитализма, накопление капитала устойчиво поддерживалось на гораздо более низкой отметке, чем в странах континентальной Европы [McCloskey, 2010]. Однако это не помешало ей стать первопроходцем индустриализации.
Капитал-фундаментализм, которому были привержены Маркс, Зомбарт, Вебер и которому продолжают сохранять приверженность многие современные экономисты, мало что дает для понимания сущности современного капитализма как экономической системы, чьей отличительной чертой является способность к экспоненциальному росту душевых доходов. Капитализм и накопление капитала стары как мир (этого не понимали Маркс и Зомбарт, но понимал Вебер). Поэтому никакими изменениями в темпах накопления капитала невозможно объяснить появление экономик новоевропейского типа[77]. В то же время самоподдерживающийся поток инноваций — это нечто небывалое в человеческой истории, никогда и нигде до середины XVIII в. не наблюдавшееся. Именно это, а не фантомное ускорение темпов накопления капитала под влиянием протестантской этики привело к рождению уникальной экономической системы, которую по привычке продолжают обозначать пейоративным термином «капитализм», но которую было бы куда правильнее называть инновационизмом.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Чтобы закончить свой комментарий на позитивной ноте, замечу, что если уж искать влияние религии на рождение «современного» капитализма, то не там и не так, где и как его ищут Вебер и веберианцы. Малоизвестный факт состоит в том, что когда И. Ньютон предложил новую физическую картину мира, ее отвергла не только католическая церковь, что было вполне ожидаемо, но также лютеранская церковь в Германии и пресвитерианская церковь в Нидерландах. В отличие от них англиканская церковь сразу же признала ньютоновские идеи и ввела их в свое учение [Goldstone, 2002]. Значение этого переворота трудно переоценить: вследствие его молодые люди в Англии уже со школьной скамьи стали приобщаться к новейшей научной картине мира и новейшему научному способу мышления. Этот фактор, несомненно, сыграл громадную роль в подготовке того цунами изобретательства, которое охватило Англию в XVIII в. и которое стало триггером Промышленной революции, т. е. перехода от мальтузианского к шумпетерианскому типу экономического роста[78].
ЛИТЕРАТУРА
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 44–347.
Забаев И. В. Ницшеанский взгляд на стодолларовую купюру: чтение веберовской «Протестантской этики» в связи с замечаниями современного экономиста // Экономическая социология. 2019. Т. 20. № 1. С. 20–71. -20-1.html.
Капелюшников Р. И. Деконструируя Поланьи (заметки на полях «Великой трансформации») // Социологический журнал. 2005. № 3. С. 5–36.
Капелюшников Р. И. Казус Карлейля, или Кто рассорил экономическую науку с другими социальными и гуманитарными дисциплинами // Истоки. Экономика — мрачная наука? Вып. 9 / под ред. В. С. Автономова и др. М.: Изд. дом ВШЭ, 2019. С. 126–166.
Капелюшников Р. И. Игра, игре, игрой… // Сцена. 2017. № 6. С. 58–63.
Капелюшников Р. И. Гипноз Вебера. Заметки о «Протестантской этике и духе капитализма». Часть I // Экономическая социология. 2018a. Т. 19. № 3. С. 25–49. -19-3.html.
Капелюшников Р. И. Гипноз Вебера. Заметки о «Протестантской этике и духе капитализма». Часть II // Экономическая социология. 2018б. Т. 19. № 4. С. 12–42. -19-4.html.
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс, 1978.
Франклин Б. Этика шахмат // Франклин Б. Путь к богатству. Автобиография. М.: Изд-во «Э», 2017. С. 320–323.
Becker G. Replication and Reanalysis of Offenbacher’s School Enrollment Study: Implications for the Weber and Merton Theses // Journal of the Scientific Study of Religion. 1997. Vol. 36. No. 4. P. 483–495.
Becker S., Woessmann L. Was Weber Wrong? A Human Capital Theory of Protestant Economic History // Quarterly Journal of Economics. 2009. Vol. 124. No. 2. P. 531–596.
Goldstone J. A. Efflorescences and Economic Growth in World History: Rethinking the «Rise of the West» and the Industrial Revolution // Journal of World History. 2002. Vol. 13. No. 2. P. 323–389.
Lachmann L. M. The Legacy of Max Weber. Berkeley: The Glendessary Press, 1971.
MacKinnon M. H. Calvinism and the Infallible Assurance of Grace: The Weber Thesis Reconsidered // British Journal of Sociology. 1988a. Vol. 39. No. 2. P. 143–177.
MacKinnon M. H. Weber’s Exploration of Calvinism: The Undiscovered Provenance of Capitalism // British Journal of Sociology. 1988b. Vol. 39. No. 2. P. 178–210.
MacKinnon M. H. Believer Selectivity in Calvin and Calvinism // British Journal of Sociology. 1994. Vol. 45. No. 4. P. 586–595.
MacKinnon M. H. The Longevity of the Thesis: A Critique of the Critics // Weber’s «Protestant Ethic»: Origins, Evidence, Contexts / ed. by H Lehmann, G. Roth; publ. of the German Historical Institute; rev. ed. Washington, DC: Cambridge University Press, 1995. P. 211–243.
MacKinnon M. H. Max Weber’s Disenchantment. Lineages of Kant and Channing // Journal of Classical Sociology. 2001. Vol. 1. No. 3. P. 329–351.
McCloskey D. Bourgeois Dignity. Chicago: University of Chicago Press, 2010.
Merton R. K. Puritanism, Pietism, and Science // Sociological Review. 1936. Vol. 28. No. 1. P. 1–30.
Merton R. K. Science, Technology and Society in Seventeenth Century England // Osiris. 1938. Vol. 4. No. 2. P. 360–632.
Roth G. Introduction // Weber’s «Protestant Ethic»: Origins, Evidence, Contexts / ed. by H. Lehmann, G. Roth; publ. of the German Historical Institute; rev. ed. Washington, DC: Cambridge University Press, 1995. P. 1–26.
Weber M. The Protestant Ethic and the «Spirit» of Capitalism and Other Writings / ed. by P. Baehr, G. C. Wells. N. Y.: Penguin, 2002.
Zaret D. Calvin, Covenant Theology, and the Weber Thesis // British Journal of Sociology. 1992. Vol. 43. No. 3. P. 369–391.
Zaret D. The Use and Abuse of Textual Data // Weber’s «Protestant Ethic»: Origins, Evidence, Contexts / ed. by H. Lehmann, G. Roth; publ. of the German Historical Institute; rev. ed. Washington, DC: Cambridge University Press, 1995. P. 245–272.
IV Расширенный порядок и пределы неоклассического мышления[79]
Статья академика В. М. Полтеровича «Пределы расширенного порядка», приуроченная к 100-летнему юбилею Ф. А. Хайека, побудила меня высказаться по поводу ставшего распространенным представления о едва ли не тождественности идей Хайека принципам, которые определили вектор реформ в посткоммунистических странах, а в связи с этим остановиться на некоторых фундаментальных понятиях хайековской теоретической системы.
Итак, В. М. Полтерович утверждает: основой так называемого Вашингтонского консенсуса послужила хайековская концепция расширенного порядка; идеи Вашингтонского консенсуса были навязаны западными экспертами переходным экономикам; провал рыночных реформ в России продемонстрировал несостоятельность этих идей и, следовательно, ограниченность концепции расширенного порядка; на смену Вашингтонскому консенсусу пришел Поствашингтонский консенсус, отражающий новейшие достижения экономической науки и способный направить реформы в бывших социалистических странах по более верному пути [Полтерович, 2004].
Смею полагать, что эта аргументация должна была бы сильно удивить: а) самого Ф. Хайека; б) сторонников Вашингтонского консенсуса; в) представителей международных экономических организаций, которые оказывали финансовую и экспертную поддержку реформируемым экономикам; г) приверженцев Поствашингтонского консенсуса (таких как Дж. Стиглиц); д) любого читателя, более или менее знакомого с историей развития экономической мысли XX в.
Начну с того, что идеи как Вашингтонского, так и Поствашингтонского «консенсусов» разрабатывали и пропагандировали ведущие представители экономического мейнстрима. Спор между ними — это внутреннее выяснение отношений в пределах господствующей неоклассической парадигмы, не имеющее прямого отношения ни к Ф. Хайеку, ни к неоавстрийской школе в целом. Характерно, что в статье В. М. Полтеровича не приводится никаких документальных свидетельств, подтверждающих влияние концепции расширенного порядка на стратегию реформ в странах Восточной Европы или в России. Да и странно было бы, если, вырабатывая рекомендации реформируемым экономикам, международные финансовые организации вдруг решили бы взять за основу концепцию такого «гетеродоксального экономиста» (если воспользоваться выражением В. М. Полтеровича), как Фридрих Хайек. Нелишне заметить, что автор идеи о «двух консенсусах» — Дж. Стиглиц — расходится в оценках с автором «Пределов расширенного порядка». Он сожалеет, что при разработке первоначальной программы реформ была полностью проигнорирована интеллектуальная традиция, идущая от Ф. Хайека, обращение к которой могло бы уберечь Россию и страны Восточной Европы от многих просчетов [Стиглиц, 1999, с. 7].
В мои задачи не входит оценивать вклад различных направлений теоретической мысли в разработку программ рыночной трансформации, описывать их сильные и слабые стороны, выступать в защиту той или иной стратегии реформ. Мне просто хотелось бы воспользоваться случаем и подробнее поговорить о хайековской концепции культурной эволюции. В конце концов, наше обсуждение посвящено не десятилетию Вашингтонского консенсуса, а 100-летию со дня рождения Фридриха Хайека.
И вот какой портрет Хайека-теоретика вырисовывается из статьи В. М. Полтеровича: 1) он был сторонником концепции невмешательства; 2) в его теории расширенного порядка недооценивается роль институтов, так как из нее следует вывод, что для успеха реформ достаточно освободить систему от ограничений и предоставленный самому себе рынок автоматически решит все проблемы; 3) подход Хайека подразумевает (несмотря на его попытки доказать обратное), что в процессе эволюционного отбора всегда выживают самые лучшие институты; 4) он не понимал значения «механизмов координации», из-за действия которых система может находиться в устойчиво неэффективном состоянии; 5) концепция расширенного порядка не дает ответа, как сочетать требования эффективности с требованиями социальной справедливости; 6) Хайек не замечал, что реальные рынки не соответствуют модели совершенной конкуренции и что их эффективность невозможно обеспечить без государственного регулирования; 7) в его теории не нашлось места для такой проблемы как ограниченный горизонт планирования при принятии инвестиционных решений; 8) ему была чужда идея о динамической неэффективности рынка, который при отсутствии информации о будущих ценах и будущих технологиях неспособен генерировать оптимальные траектории роста [Полтерович, 2004].
В этом описании Ф. Хайек предстает не как принципиальный критик и оппонент экономического мейнстрима, а как не слишком квалифицированный экономист-неоклассик. В одних случаях ему фактически приписывается незнание тех положений стандартной теории, которые он считал несостоятельными и в явном виде отвергал; в других — ему переадресовываются те возражения, которые он сам против нее же и выдвигал. Неудивительно, что у препарированных таким образом хайековских идей обнаруживаются жесткие «пределы». Но прежде чем обсуждать предполагаемые границы концепции расширенного порядка, имеет смысл представить ее в более полном и развернутом виде.
КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ
По определению Ф. Хайека, порядок — это положение, «при котором множество элементов разного рода связаны между собой так, что познакомившись с каким-либо пространственным или временным фрагментом целого, мы можем относительно всего остального выстраивать правильные ожидания или по меньшей мере ожидания с хорошими шансами на то, что они окажутся правильными» [Hayek, 1973, p. 36].
Под расширенным порядком человеческого взаимодействия он понимал современную цивилизацию, основанную на сотрудничестве миллионов незнакомых друг другу людей. Расширенному, или макро-, порядку в его работах противопоставляется микропорядок, который формируется в малых группах (первобытных племенах, семьях, фирмах) и который строится на личных связях их членов. Концепция культурной эволюции пытается объяснить: как стал возможен расширенный порядок и что обеспечивает его устойчивость?
Для всякой эволюционной теории критическими являются два вопроса — о механизме генерирования изменений и о принципах их отбора. На первый призван ответить хайековский анализ формирования спонтанных, самоорганизующихся структур, ответ на второй связан с выдвижением идеи метаинституциональной конкуренции.
Как отмечает Хайек, порядок может навязываться извне или возникать изнутри системы. Соответственно с точки зрения происхождения порядки могут быть подразделены на спонтанные и сознательно сконструированные («сделанные»). Спонтанные порядки не являются воплощением чьего-то замысла. Они образуются эволюционным путем как непреднамеренный результат сознательных действий множества людей, преследующих свои частные цели. В этом смысле их можно назвать «продуктом человеческого действия, но не продуктом человеческого замысла» (выражение шотландского философа XVIII столетия А. Фергюсона). Язык, мораль, право, рынок — все это примеры самоорганизующихся и саморегулирующихся систем. Упорядоченность в них достигается не управлением из центра, а регулярностью во взаимоотношениях между отдельными элементами структуры. Такие институты занимают как бы промежуточное положение между миром природных объектов, существующих независимо от человека, и миром искусственных объектов, рожденных его волей и интеллектом. (Они находятся между инстинктом и разумом.) По замечанию Хайека, теоретические общественные дисциплины возникли, когда было осознано, что могут существовать порядки, не имеющие персонального творца.
В отличие от сознательно устанавливаемого порядка, ориентированного на решение строго определенных задач, спонтанный порядок не подчинен какой-либо явной цели, хотя и помогает индивидуумам реализовывать их частные устремления. Если первый поддерживается конкретными приказами-командами, то второй — абстрактными правилами поведения (отсюда еще одно обозначение расширенного порядка — «абстрактное общество»): «Осознание того, что люди могут ко всеобщему благу жить в мире и согласии друг с другом и что для этого не обязательно достигать единства мнений по поводу каких-либо конкретных совместных целей, а достаточно всего лишь соблюдать абстрактные правила поведения, явилось, вероятно, величайшим открытием из всех, когда-либо совершенных человечеством» [Hayek, 1976, p. 136].
Правила поведения могут воплощаться как в неформальных традициях, обычаях, привычках, так и в формализованных законах, судебных прецедентах, требованиях этикета[80]. Однако с точки зрения поддержания расширенного порядка важнейшими оказываются правила, которые никем сознательно не конструировались и возникали непредумышленно. Лишь много позднее некоторые из них кодифицируются в виде законов и начинают охраняться государством. Конечно, далеко не все институты возникали спонтанно, многие из них «изобретены», т. е. изначально проектировались и конструировались сознательно, по определенному плану. Но и они, чтобы успешно работать, должны вписываться в общую рамку, которую задают более фундаментальные правила поведения, не являющиеся продуктом чьего бы то ни было замысла. Основные отличительные признаки спонтанных и сознательных порядков схематически представлены в табл. IV.1.
Современную цивилизацию Хайек рассматривает как сложное переплетение множества правил — явных и неявных, сознательных и спонтанных. Поскольку возникновение именно такой комбинации правил не было никем запланировано, постольку расширенный порядок как целое также можно считать спонтанным.
Таблица IV.1
Типы порядков
Впрочем, противоположность между запланированными и непредумышленными результатами человеческой деятельности не следует преувеличивать. Во-первых, целенаправленные действия невозможны без опоры на определенные правила, которые самим человеком по большей части не осознаются. Во-вторых, без человеческих действий, устремленных к той или иной сознательно избранной цели, не возникало бы спонтанного порядка как их побочного, непреднамеренного результата. В-третьих, далеко не всегда непредвиденные последствия человеческой активности складываются в устойчивые «отношенческие» структуры, т. е. ведут к формированию порядков. В-четвертых, любая организация, чья деятельность подчинена достижению строго определенных целей, оказывается встроена в систему правил более высокого уровня, многие из которых имеют спонтанное происхождение (предприниматель может отдавать работнику приказы-команды, но только если они не противоречат действующим законам и существующим нормам морали). В-пятых, в промежутках между указаниями, которые поступают из руководящего центра, сознательный порядок нередко начинает функционировать наподобие спонтанного, по своим стихийно сложившимся неформальным правилам.
Сгруппированные тем или иным образом правила образуют культурные традиции, или «кодексы поведения», по терминологии Хайека. Культурная эволюция (а ее он рассматривает как непосредственное продолжение биологической эволюции) протекает в форме конкуренции между различными традициями, обычаями и институтами. Подобно тому, как обычный рынок отбирает более прибыльные фирмы, культурная эволюция производит селекцию более жизнеспособных традиций и институтов. Фильтр институциональной метаконкуренции выдерживают те правила поведения, которые дают применяющим их группам лучшие шансы на выживание. Институты, не прошедшие сквозь эволюционный фильтр (от религий до способов организации производства), подвергаются отсеву.
Однако в отличие от биологической культурная эволюция, по мысли Хайека, действует не через индивидуальный, а через групповой отбор. В ходе ее развертывания вперед выходят группы, сумевшие в длительном процессе социального экспериментирования открыть правила с лучшими адаптивными характеристиками. Но это не предполагает, что сообщества, оказавшиеся менее успешными, обречены на исчезновение. Культурная эволюция действует не по-дарвиновски, а по-ламаркистски: она допускает наследование приобретенных признаков. Обучение и подражание — вот два канала, по которым правила, подтвердившие свою жизнеспособность, распространяются во времени и пространстве. Речь, таким образом, идет не столько о физическом выживании тех или иных групп, сколько о выживании и взаимообогащении конкурирующих культурных традиций, которые как бы «соревнуются» за привлечение максимального числа сторонников. Кроме того, передача следующим поколениям правил поведения — в отличие от передачи им генов — осуществляется не только от родителей, но от гораздо более широкого круга членов общества. Двумя этими обстоятельствами — наследованием приобретенных признаков и множественностью каналов передачи — объясняется, почему культурная эволюция протекает гораздо быстрее, чем биологическая.
Все это, однако, не предполагает, что культурная эволюция движется по оптимальной траектории, обеспечивая выживание только самых эффективных институтов. Более того, как полагал Хайек, подобная постановка вопроса в принципе бессмысленна: человеческий разум ограничен и не в состоянии определить, какой именно набор институтов является оптимальным и насколько существующее положение вещей отклоняется от этого глобального оптимума. Он выступал также последовательным противником историцизма — установки, согласно которой история человечества жестко запрограммирована на прохождение через строго определенную последовательность эпох или стадий развития. (Одним из самых откровенных историцистов был, как известно, К. Маркс.)
Путь культурной эволюции — это цепь непрерывных проб и ошибок. Любая традиция отражает опыт приспособления к условиям определенной «экологической ниши» и вне ее может оказываться контрпродуктивной. Институты, которые обеспечивали успешную адаптацию вчера, завтра могут превратиться в преграду на ее пути. Эффективное правило может не выдержать теста на выживаемость и исчезнуть без следа, если оно было встроено в относительно нежизнеспособную культурную традицию. Малые и большие сообщества бывают обречены на стагнацию, когда оказываются «заперты» в сети неэффективных институтов, подрывающих их жизненные перспективы. Одним словом, в том, что возникла современная цивилизация, не было никакой предопределенности, и нет никаких оснований считать ее наилучшей из всех теоретически возможных.
По Хайеку, самое большее, что мы можем утверждать, — это то, что в процессе эволюционного отбора институты с лучшими адаптивными характеристиками обладают в среднем более высокими шансами на выживание, чем институты с худшими адаптивными характеристиками. В этом направлении работает несколько механизмов. Группы, открывшие лучшие институты, получают возможность поддерживать свою численность на более высоком уровне. Кроме того, они оказываются привлекательными для менее успешных групп, что дает толчок процессам миграции и ассимиляции. Наконец, убедившись в преимуществах кодексов поведения, выработанных лидерами, аутсайдеры начинают прибегать к их заимствованию.
Благотворное влияние многих правил поведения на жизнь группы обнаруживается лишь по прошествии достаточно длительного времени, причем в некоторых случаях так и остается неосознанным. Поэтому исключительно важная роль в развертывании культурной эволюции принадлежит религиям: их Хайек называл «стражами традиций» [Хайек, 1992б]. Мировые религии помогли сохранению традиций, которые стали основой расширенного порядка и которые без такой защиты могли бы быть отброшены, поскольку шли вразрез и с врожденными человеческими инстинктами и с требованиями человеческого разума.
Все это, однако, не объясняет, с чем именно связаны адаптивные преимущества институтов, прошедших конкурентный отбор. Или, быть может, справедлив упрек, что само понятие эффективности остается у Хайека не разъясненным? Чтобы проверить, так ли это, нам придется обратиться к его концепции человеческого знания.
КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Концепция культурной эволюции вырастает из выдвинутой Хайеком трактовки проблемы человеческого знания. В наиболее полном виде она изложена в его работе по теоретической психологии «Сенсорный порядок» [Hayek, 1952].
По Хайеку, не только общество и ведущие социальные институты, но и само человеческое сознание принадлежит к разряду самоорганизующихся структур и является одним из примеров спонтанного порядка. В его понимании оно предстает как набор правил по классифицированию внешних стимулов. Благодаря наличию таких правил человеческие ощущения, восприятия и представления складываются в определенную согласованную систему — «сенсорный порядок», по его терминологии. Этот классификационный аппарат не дается человеку в готовом виде, а формируется и совершенствуется методом проб и ошибок по ходу адаптации к окружающей среде. Этим, в частности, объясняется, почему субъективные картины мира, имеющиеся у разных людей, могут так сильно отличаться друг от друга. Бόльшая часть правил, задействованных в работе человеческого восприятия и мышления, усваивается бессознательно, через приобщение к традициям и культурным образцам, унаследованным от предшествующих поколений.
Из представления о человеческом разуме как несовершенном аппарате по классификации внешних событий, действующем по спонтанно выработанным и чаще всего неосознанным правилам, следует вывод, которому принадлежит центральное место во всей аргументации Хайека. Это вывод о принципиальной ограниченности человеческого знания (constitutional ignorance).
Во-первых, оно всегда остается неполным, поскольку сенсорный порядок — лишь часть более общего и сложного порядка, существующего вне него. Во-вторых, оно рассредоточено среди огромного числа «индивидуальных умов». В-третьих, это по преимуществу локальное знание, которое отражает специфические обстоятельства времени, места и образа действий и которое открывается только тем, кто непосредственно в эти обстоятельства погружен. В-четвертых, оно представляет ценность в той мере, в какой имеется возможность использовать его здесь и сейчас, для приспособления к непрерывно меняющимся условиям окружающего мира. Наконец, бóльшая часть человеческих знаний носит неявный характер, воплощаясь в разнообразных практических навыках, умениях и привычках. Они остаются неформализованными, не поддаются переводу в слова или иные символы и передаются (если это вообще возможно) только опытным путем [Хайек, 2000в].
Как следствие, каждый отдельный человек оказывается бесконечно зависим от знаний, имеющихся у других, поскольку по сравнению с общим массивом информации его индивидуальные познания ничтожно малы. Любому крупному сообществу приходится сталкивается с проблемой, от решения которой зависит его выживание и процветание: какой набор институтов способен обеспечить наиболее полное использование неявного личностного знания, рассеянного среди множества индивидов, не имеющих подчас ни малейшего представления друг о друге?
Как показывает Хайек, ее успешное решение невозможно без института рыночной конкуренции. В его понимании конкуренция представляет собой процедуру открытия [Хайек, 1989]. Это социальный процесс, способствующий выявлению и исправлению ошибок: благодаря ему индивиды узнают, совместимы ли их цели как с имеющимися у них средствами, так и с целями других людей, и получают возможность корректировать свои решения. В ходе конкуренции производители открывают новые потребности, прежде никем не замечавшиеся, а потребители — новые способы их удовлетворения, ранее им неизвестные. Не менее важно, что конкуренция позволяет индивидуальным агентам узнавать нечто новое и о самих себе: получать более полное представление о собственных возможностях и предпочтениях.
Хайековский подход далек от стандартной неоклассической модели Homo oeconomicus, где человек выступает как всеведущее рациональное существо. Отмечая этот контраст, А. Е. Шаститко считает возможным говорить о перекличке хайековских идей с принципом ограниченной рациональности, одним из основополагающих для новой институциональной экономики [Шаститко, 2004][81]. Мне такое сближение не представляется убедительным. Неоинституционализм признает ограниченность имеющейся у экономических агентов информации о внешнем мире, однако неявно предполагает, что о самих себе им известно абсолютно все (по такой же логике строятся модели с асимметричной информацией).
Хайек занимает намного более радикальную (и реалистическую) позицию. Будучи решительным противником любых «данностей», он распространяет принцип ограниченности знания и на знания человека о себе самом. Он отвергает истину, кажущуюся самоочевидной, что лучше всех свои интересы знает сам человек. По Хайеку, никому не дано знать, в чем состоят истинные интересы того или иного человека (включая и его самого) [Хайек, 2000a]. Люди не обладают совершенной информацией о том, что же они на самом деле знают и чего же они на самом деле хотят. Другими словами, они имеют неполное и искаженное представление о собственных знаниях и предпочтениях. Лучше узнать самих себя им помогает конкуренция: благодаря ей они открывают в себе новые знания, присутствия которых не предполагали, и новые предпочтения, о которых не подозревали.
Редко замечают, что в стандартных моделях рационального выбора предпочтения принимаются не просто как нечто данное, но и как нечто внерациональное, обусловленное биологически (ср. постоянные отсылки к социобиологии Г. Беккера [Becker, 1976]). Хайековский подход в этом смысле шире. Он предполагает, что рациональность человека может проявляться не только в отборе средств, лучше других подходящих для удовлетворения его потребностей, но также в открытии и упорядочении самих потребностей.
С точки зрения Хайека, упорядоченная шкала предпочтений с ее замечательными математическими свойствами не дается индивидуальным агентам в готовом виде. Методом проб и ошибок они могут лишь постепенно приближаться к ней: «Большинство потребностей, побуждающих нас действовать, являются потребностями в вещах, о существовании которых мы узнаем только благодаря цивилизация, и мы желаем эти вещи потому, что они вызывают ощущения и эмоции, которые были бы нам неведомы без нашего культурного наследия» [Hayek, 1967a, p. 314].
В рациональное существо человека превращают институты, научая его определенным правилам поведения, создавая условия для сотрудничества с другими людьми и открывая доступ к огромному массиву информации, который он был бы не в силах аккумулировать и переработать сам[82]. Если для неоклассиков рациональное поведение — это исходная предпосылка анализа, то для австрийцев — продукт определенной институциональной среды [Caldwell, 1997, p. 1885].
Естественно, разные системы неравноценны в этом отношении. Так, австрийская школа отрицала возможность рационального экономического расчета в условиях плановой экономики. В свете представлений Хайека о природе человеческого знания становятся понятны и особенности его подхода к оценке альтернативных моделей общественного устройства.
Он отказывался сравнивать различные институциональные режимы исходя из максимизации каких бы то ни было «функций социального благосостояния». Так, использование при оценке институциональных систем привычных критериев эффективности (Парето-улучшения или Калдора — Хикса) неявно предполагало бы инвариантность структуры предпочтений индивидов по отношению к альтернативным «правилам игры». Но, как мы видели, Хайек не принимал стандартной модели Homo oeconomicus, в которой человек рассматривается как калькуляционная машина с фиксированной структурой предпочтений. Судить о достоинствах тех или иных наборов «правил игры» по тому, насколько полно они удовлетворяют человеческие потребности, невозможно, поскольку в разной институциональной среде у людей будут формироваться разные шкалы предпочтений. (Достаточно напомнить, как поколения, выросшие при коммунистическом режиме, относятся к новой «рыночной» действительности и насколько это отношение отличается от восприятия более молодых поколений.)
Но это не значит, что Хайеку нечего сказать об эффективности альтернативных институциональных систем. В эволюционной перспективе ключевая проблема, встающая перед любым обществом, — приспособление к случайным изменениям, которые невозможно предвидеть заранее. Приспособление тем успешнее, чем большим объемом информации располагают индивидуальные агенты, чем меньше препятствий они встречают при ее использовании и чем легче им координировать свои усилия. С этой точки зрения эффективность любой системы институтов определяется тем, насколько благоприятные условия она создает для генерирования, координации, использования и сохранения знаний, рассеянных среди множества индивидов.
Критерий для оценки альтернативных институциональных моделей оказывается не утилитаристским и не «вэлферистским», а эпистемологическим: «Австрийцы задаются вопросом: какой набор институтов мог бы вернее помогать несовершенным индивидуумам принимать более правильные решения и полнее использовать их знания?» [Caldwell, 1997, p. 1885]. Можно сказать и так, что во главу угла Хайек ставит не статическую (аллокационную), а динамическую (адаптационную) эффективность.
По его оценке, из всех известных моделей наилучшими «знаньевыми» характеристиками обладает система конкурентных рынков со стабильными, надежно охраняемыми и свободно передаваемыми правами собственности, либерально-демократическим политическим строем и сильной конституцией. Раздвигая границы частной сферы, где каждый может свободно экспериментировать, не опасаясь вмешательства извне, такая система дает мощные стимулы к поиску и накоплению знаний, а обеспечивая условия для добровольного сотрудничества, она позволяет использовать и координировать их в максимально возможной степени[83]. Она оказывается эффективной не потому, что обеспечивает «наивысшее счастье наибольшему числу людей» или ведет к оптимуму по Парето, а потому что альтернативным институциональным режимам с худшими «знаньевыми» характеристиками не удается столь же успешно преодолевать ограниченность человеческого знания. Красноречивый пример — судьба многочисленных социалистических проектов.
Показателем лучших адаптивных свойств институциональной системы оказывается ее способность к поддержанию большего числа человеческих жизней [Хайек, 1992б]. Это не значит, что чем больше численность того или иного сообщества, тем оно «благополучнее» или «эффективнее». Для Хайека способность к сохранению большего числа человеческих жизней — не критерий эффективности институционального устройства, а следствие успешного решения проблемы рассеянного знания. Он считал самоочевидным, что достичь и поддерживать нынешнюю численность населения Земли стало возможно только благодаря утверждению и распространению традиций и институтов либерально-рыночного порядка[84].
XX век не знал недостатка в радикальных проектах, направленных на замену спонтанно сложившихся институтов их усовершенствованными, более рациональными конструкциями: рынка — «централизованно управляемой экономикой», традиционной морали — «научной этикой», естественных языков — искусственными. Согласно Хайеку, степень сложности расширенного порядка превосходит ограниченные возможности человеческого разума, который сам является его частью. Отказ от традиций и институтов, составляющих основу расширенного порядка, подорвал бы возможность поддерживать численность человечества на его нынешнем уровне, обрек бы множество людей на гибель, а оставшихся на нищету[85]. Поэтому он был последовательным противником любых проектов тотального переустройства современного сложноорганизованного общества по заранее вычерченным схемам.
Но это не значит, что Хайек отвергал любые сознательные попытки по усовершенствованию институционального обрамления расширенного порядка. Напомним, что он сам выступал с весьма радикальными предложениями по реформированию существующей денежной системы и существующей формы парламентского правления[86]. Именно потому, что действующие институты являются результатом эволюционного процесса, нет никаких оснований считать их наилучшими из всех возможных (ситуация усугубляется еще и тем, что многие из них формировались под искажающим воздействием государства). По Хайеку, ни один институт не должен быть закрыт для рациональной критики и попыток по его усовершенствованию. Однако экспериментируя с любым из ныне действующих институтов, мы не должны пытаться переделать их все разом, к чему призывали (и что пытались осуществить на практике) сторонники социалистической идеи. Это означало бы конец современной цивилизации.
ХАЙЕК И РЕФОРМЫ
Нет сомнений, что Ф. Хайек счел бы абсолютно необходимым решение всех тех задач, которые вошли в первоначальный пакет реформ в бывших социалистических странах. Без свободных цен, частной собственности, сбалансированного бюджета, устойчивости денежной единицы невозможно нормальное функционирование рыночной экономики.
В то же время было бы напрасно искать в хайековских работах точные предписания, как и в какой последовательности надлежит возвращаться к рыночному порядку. Вопросы его восстановления после того, как он подвергся разрушениям в ходе социалистического эксперимента, не были предметом размышлений Хайека (да и едва ли он счел бы себя достаточно компетентным, чтобы давать конкретные рекомендации). Строго говоря, он посвятил свою жизнь решению обратной задачи: как не допустить разрушения спонтанно сложившегося рыночного порядка под напором бесчисленных проектов социалистического и интервенционистского толка.
С точки зрения стратегии рыночных реформ самое большее, что можно вывести из хайековских работ, — это лишь некоторые, самые общие ориентиры и предостережения:
● поскольку формирование институтов — сложный эволюционный процесс, новое институциональное устройство невозможно создать за один день. Чтобы реформы оказались успешными, их нельзя начинать с тотальной ломки прежней институциональной рамки, ее реорганизация должна быть по возможности постепенной. Игра по «плохим» правилам может быть лучше, чем игра без правил. Другими словами, в споре «градуалистов» и «шокотерапевтов» австрийцы оказываются на стороне первых [Boettke, 1994];
● из хайековского подхода следует, что реформируемым экономикам следовало бы сделать куда больший упор на «выращивание» новых институтов — при резком сокращении масштабов прямого присутствия государства в экономике;
● ясно также, что начинать эту работу следовало бы с фундамента — с простейших, самых ходовых, базовых институциональных форм. Поучительный пример дает переходная экономика России. Удивительно, как много сил и внимания было уделено в ней внедрению и освоению институтов, необходимых для ведения сложных форм бизнеса, — при том, что необеспеченными оставались права собственности на самые элементарные объекты и незащищенными самые тривиальные типы контрактов;
● учитывая, какое место в австрийской теории занимает фигура предпринимателя, естественно предположить, что ее духу больше отвечал бы акцент на создании условий для динамичного развития нового частного сектора, а не на приватизации предприятий, находившихся в государственной собственности;
● любые формальные «правила игры» погружены в сложную сеть неформальных отношений. Неявное личностное знание о разнообразных неформальных традициях и нормах поведения доступно только тем, кому реально приходится иметь с ними дело в своей каждодневной практике. Клонирование формальных институтов, взятых из других систем, строго говоря, невозможно: при погружении в иные наборы неформальных норм и конвенций они неизбежно подвергаются изменениям. Конечно, значение общих принципов, лежащих в основании всех успешно действующих институциональных систем, трудно переоценить. Однако в деле «выращивания» новых институтов Хайек, скорее всего, приветствовал бы более экспериментальный и инновационный — «неподражательный» — подход;
● в конечном счете его подход к оценке государственного вмешательства был предельно практичным. В отличие от малых групп члены больших сообществ преследуют множество разнообразных и несовместимых целей. Их невозможно интегрировать в какую-то единую общезначимую шкалу ценностей, руководствуясь которой государство могло бы вырабатывать конкретные приказы-рекомендации. Однако в чрезвычайных ситуациях (скажем, в периоды войн) индивидуальные шкалы ценностей сближаются, что открывает возможности для более активной роли государства. Не исключено (хотя это только догадка), что применительно к переходным экономикам Хайек признал бы временно допустимыми некоторые формы государственного вмешательства, которые он считал абсолютно неприемлемыми для зрелых рыночных экономик.
Однако все это не значит, что с точки зрения австрийской теории исходный радикализм российских реформ был заведомо ошибочен и заслуживает осуждения. Как известно, Хайек восхищался весьма радикальной реформой Л. Эрхарда в послевоенной Германии. Политика — искусство возможного, и вопрос о том, какими степенями свободы обладали российские реформаторы на рубеже 1991–1992 гг., остается дискуссионным.
Но в более общем смысле опыт реформ в восточноевропейских странах подтвердил правоту Хайека: никакая глобальная перестройка, меняющая весь институциональный каркас общества сверху донизу (даже когда это движение в правильном направлении), не может развиваться по плану и неизбежно отклоняется от первоначально поставленных целей, порождая массу побочных эффектов, которые никем не прогнозировались и не могли прогнозироваться. В результате система сдвигается совсем не в ту точку, которую имели в виду реформаторы[87].
ГРАНИЦЫ ХАЙЕКОВСКОГО ПОДХОДА?
Обратимся теперь к обсуждению тех «пределов», которые В. М. Полтерович вменяет концепции расширенного порядка.
1. . Ф. Хайек не был сторонником принципа laissez faire (невмешательства государства), который предполагает, что рынок — самодостаточная система, не нуждающаяся ни в каком институциональном подкреплении [Хайек, 2000д][88]. Уместно будет напомнить, что именно неоклассическая теория долгое время развивалась в полном институциональном вакууме и попытки выйти из него начались относительно недавно[89].
Этого никак нельзя сказать об экономистах австрийской школы: институциональные факторы всегда находились в фокусе их внимания. Начиная с 1930-х годов Хайек тщетно пытался убедить представителей мейнстрима в том, что рынок не существует сам по себе, что он встроен в определенную институциональную рамку и вне ее неспособен эффективно работать: «Проблемы перехода в странах Восточной Европы сделали эти идеи самоочевидными, хотя они стары как мир. Но Хайек подчеркивал их значение задолго до того, как они обрели (точнее вернули себе) популярность» [Caldwell, 1997, p. 1871].
Дело не в том, должно или не должно государство играть какую-либо роль в условиях рыночного общества, а в том, что именно должно входить в сферу его компетенции, и решать этот вопрос, согласно Хайеку, нужно исходя не из количественных (каковы масштабы государственного вмешательства), а из качественных критериев (каков характер этого вмешательства). Именно поэтому он отвергал принцип laissez faire, слепое следование которому, по его мнению, нанесло делу либерализма немало вреда, выдвигая на первый план другой принцип — the rule of law (правления права). Правление права понималось им как метаправовая концепция, устанавливающая, какими формальными характеристиками (всеобщность, определенность, равенство в применении и т. д.) должен обладать любой законодательный акт, чтобы иметь право называться настоящим законом. Хайек отвергал только те формы государственного вмешательства, которые противоречат принципу the rule of law — такие как регулирование цен, промышленная политика, прогрессивное налогообложение, программы перераспределения доходов, — поскольку они ставят людей в неравное положение, создавая преимущества одним за счет других. В то же время многие виды государственного активизма он считал вполне совместимыми с правлением права, выступая, например, за организацию социальной страховочной сетки, которая обеспечивала бы любому гарантированный минимум средств существования.
С точки зрения Хайека, государство призвано защищать, поддерживать и совершенствовать институциональный каркас конкурентной экономики, не участвуя напрямую в ее работе. Подменяя контроль за общими «правилами игры» прямыми приказами-командами, превращаясь из арбитра в игрока, оно подрывает ее успешное функционирование. Ведь такое совмещение функций арбитра и игрока будет явным нарушением правил «честной игры».
2. . Экономисты неоавстрийского направления никогда не рассматривали рынок как некий безличный механизм, автоматически расставляющий все по своим местам. Подобный взгляд — отличительная черта неоклассического подхода. Сошлюсь на признание известного американского экономиста Ш. Розена (самого себя он относил к неоклассической традиции): «Среди современных польских экономистов ходит такая шутка. Вопрос: сколько нужно людей, чтобы ввернуть электрическую лампочку? Ответ: ни одного, рынок все сделает сам. Эта шутка — щелчок по носу экономистов-неоклассиков, но она никак не задевает представителей австрийской школы. В австрийской теории мир не населен одними только оптимизирующими автоматами, пассивно потребляющими или производящими по равновесно-рыночным ценам свои равновесно-рыночные квоты товаров и услуг. Подлинные движители экономики и нарушители спокойствия в ней — предприниматели. Это те люди, которые реально действуют, конкурируют друг с другом и совершенствуют рынки» [Rosen, 1997, p. 148].
Возможно, первоначальные программы рыночных реформ в переходных экономиках действительно были инфицированы идеей «рынок все сделает сам». Но занесена она была именно неоклассической ортодоксией, а уж никак не хайековской концепцией расширенного порядка.
3. . В предыдущих разделах уже говорилось, что концепция культурной эволюции не расценивает существующие институты как наилучшие из всех возможных и не исключает рациональной критики результатов спонтанного упорядочивания. Складывается впечатление, что автор «Пределов расширенного порядка» смешивает хайековский подход с оптимистической картиной экономического развития из ранних работ Д. Норта, где вытеснение менее совершенных институтов более совершенными трактуется как линейный однонаправленный процесс [North, 1981].
Примечательно, что сам Д. Норт характеризовал свою исходную модель экономической истории как неоклассическую. И это не случайно. В действительности именно неоклассическому подходу не удается избежать рассуждений по принципу «все существующее эффективно» — если только не останавливаться на полдороге и последовательно придерживаться его логики. Имплицитно в нем заложена тенденция к оправданию статус-кво, любого фактически сложившегося положения вещей.
Этот парадокс был выявлен экономистами неоинституционального направления [Furubotn, 1990]. В самом деле, в рамках неоклассической парадигмы любая, казалось бы, неэффективная или нерациональная деловая практика легко может быть представлена как эффективная и рациональная при помощи ссылок на невидимые невооруженным глазом издержки — трансакционные, информационные и т. д. Всегда ведь можно сказать, что в момент принятия решений у экономических агентов не было достаточной информации, что задача заведомо превосходила их счетные и интеллектуальные способности, что сказался недостаток времени и т. д. Но стоит только дополнить традиционный набор ограничений такого рода препятствиями и издержками, как окажется, что в экономической реальности вообще нет и не может быть ничего неэффективного.
В. М. Полтеровича эта аргументация не убеждает. По его мнению, идея принципиальной невозможности неэффективных равновесий была бы справедлива лишь в том случае, если бы «существовал совершенный рынок услуг по координации» [Полтерович, 2004, с. 512][90]. При отсутствии такого рынка те, кто выигрывали бы от институционального улучшения, не могут «купить» согласия на него у тех, кого больше устраивает сохранение статус-кво.
Однако данное возражение всего лишь отодвигает проблему еще на шаг. Вопрос: а почему отсутствует рынок услуг по координации? Ответ: из-за запретительно высоких издержек по его созданию. Вывод: существующее положение дел эффективно, если принять во внимание все потенциальные издержки — включая те, которые потребовались бы для его формирования. Так, последовательно проводимый неоклассический подход лишается нормативных критериев для разграничения «эффективных» и «неэффективных» ситуаций.
4. . С «механизмом координации» австрийская школа давно и хорошо знакома. В известном смысле она вообще родилась из анализа подобного рода эффектов. Так, родоначальник австрийской теории К. Менгер объяснял спонтанное происхождение института денег действием механизма положительной обратной связи [Menger, 1892]. Когда какой-то предмет используется в тех или иных разовых сделках в качестве средства обмена, их участники думают только о своем удобстве. Но чем больше находится людей, готовых принять этот предмет в обмен на свой товар, тем выше оказываются выгоды от его применения и тем быстрее начинает расти число его «пользователей». С какого-то момента процесс принимает лавинообразный характер, так что использование этого предмета в актах обмена становится практически универсальным: он превращается в «деньги».
Верно, конечно, что австрийцев больше интересовали ситуации, где действует принцип «невидимой руки» и где спонтанное взаимодействие ведет к общему выигрышу, не входившему ни в чьи планы. Меньше внимания они обращали на ситуации, в которых начинает работать принцип «невидимой ноги» (выражение британского философа Дж. Грея), когда результатом спонтанного взаимодействия оказывается «плохое равновесие», идущее вразрез с интересами всех и каждого из участников процесса [Grey, 1984].
Причины такого предпочтения отчасти объяснимы: ведь в долгосрочной перспективе институциональная метаконкуренция должна «отбраковывать» наборы правил, генерирующие устойчиво плохие состояния. Однако нельзя утверждать, что ситуации, управляемые принципом «невидимой ноги», выпадали из поля зрения Хайека. По его убеждению, в условиях расширенного порядка процесс кумулятивного ухудшения чаще всего провоцируется попытками государства поставить под свой сознательный контроль силы спонтанного упорядочивания. Он продемонстрировал это в «Дороге к рабству», где проследил, как отказ от рынка в пользу плановой системы запускает процесс последовательного исчезновения всех остальных институтов демократического общества — вопреки исходным благим намерениям сторонников идеи планирования [Хайек, 1992a]. В более поздних работах он показал, что та же логика определяет безостановочное разрастание «государства благосостояния»[91].
Односторонность хайековского подхода В. М. Полтерович иллюстрирует примерами спонтанного формирования «институциональных ловушек» (бартера, неплатежей, коррупции), которыми так богата переходная российская экономика и выход из которых, по его мнению, невозможен без государственного вмешательства [Полтерович, 2004]. Любопытно, что он описывает эти явления так, как если бы государство было просто сторонним наблюдателем и не имело никакого отношения к их появлению и распространению. Однако прежде, чем выводить из «ловушек» других, было бы неплохо, если бы оно выбралось из них само и попыталось навести порядок в собственном доме: перестало задерживать выплаты заработной платы, пенсий и пособий, прибегать к бартеру, мириться с использованием бюджетных средств не по назначению и т. п.
По Хайеку, отличительным признаком подлинных законов — «правил справедливого поведения» в его терминологии — является их универсальность. В том-то и дело, что в современной России государство не считает себя связанным правилами, соблюдения которых оно требует от всех остальных.
5. . Под «социальной справедливостью» Ф. Хайек понимал такую модель организации общества, при которой «становится возможно приписывать определенные доли общественного продукта различным индивидам или различным группам» [Hayek, 1976, p. 64]. Идею «социальной справедливости» он считал атавизмом — пережитком тех времен, когда человечество жило в небольших замкнутых группах [Hayek, 1967c, p. 57–68].
В современном сложноорганизованном обществе эта цель недостижима и является «миражом». В нем невозможно достичь морального консенсуса в том, какая конечная структура распределения дохода заслуживает названия справедливой. Разные индивиды и группы имеют несогласующиеся концепции справедливого распределения общественного продукта. Одни считают, что он должен распределяться в соответствии с «нуждами» людей, другие — в соответствии с их «заслугами», при этом существует множество несовместимых представлений о том, в чем именно должны заключаться «нужды» или «заслуги».
С точки зрения Хайека, справедливыми или несправедливыми могут быть правила поведения, а не конечные результаты деятельности, осуществляемой по этим правилам. В рамках такого процедурного подхода проблемы выбора между справедливостью и эффективностью просто не возникает: какой бы ни оказалась конечная структура распределения дохода, мы должны принимать ее, если она появилась в ходе взаимодействия, не нарушавшего установленных правил справедливого поведения[92].
Потери в эффективности становятся неизбежными, когда при помощи государства обществу навязывается та или иная концепция распределительной справедливости. Поскольку никакое всеобщее согласие здесь недостижимо, группы, почувствовавшие себя обделенными, начинают требовать увеличения своей доли «общественного пирога». Конкуренция в сфере экономики все больше вытесняется перераспределительным торгом в сфере политики. Результат оказывается совсем не тем, на который рассчитывают сторонники «социальной справедливости»: общественный продукт начинает распределяться не «по справедливости» в соответствии с чьими-то нуждами или заслугами, а в зависимости от мощи и политического влияния различных групп со специальными интересами.
6. . Австрийские экономисты придерживаются традиционного понимания конкуренции, выработанного классической политической экономией и резко отличного от неоклассической трактовки. Для них это не определенный тип рыночной структуры, а соревновательный процесс. Парадоксально, но условия совершенной конкуренции фактически исключают всякую конкурентную деятельность.
С хайековской точки зрения, реальные рынки никогда не бывают рынками совершенной конкуренции и, более того, им незачем таковыми быть. Поскольку конкуренция — это процедура открытия, с помощью которой добываются новые знания, постольку для несовершенных рынков она оказывается важнее, чем для рынков, приближающихся к модели совершенной конкуренции, где бόльшая часть необходимой информации почти все время «дана» экономическим агентам. По наблюдению Хайека, чем «несовершеннее» объективные условия, существующие на том или ином рынке (речь не идет об искусственных ограничениях, вводимых государством), тем напряженнее оказывается на нем конкурентная деятельность — такая как реклама, дифференциация продукции и т. д.
Помимо того, что теория совершенной конкуренции далека от реальности, зачастую она становится источником пагубных практических рекомендаций: «Энтузиазм по поводу совершенной конкуренции в теории, — отмечал Хайек, — на удивление часто совмещается с поддержкой монополии на практике» [Хайек, 2000 г, с. 110]. Поэтому он, как и другие австрийцы, отказывался считать модель совершенной конкуренции эталоном, пригодным для нормативной оценки реально существующих рынков. Недостижимый идеал не может и не должен служить руководством для политики.
7. . Австрийским экономистам принадлежит приоритет в разработке проблемы временнόго горизонта планирования при принятии экономических решений. Эта проблема занимает центральное место в их теории капитала [Yeager, 1997, p. 154].
В более общем смысле долгосрочные экономические решения становятся возможны лишь в рамках стабильной и работоспособной системы правил. По мнению Л. Мизеса и Ф. Хайека, именно опора на институты частной собственности и контракта позволяет экономическим агентам планировать свою деятельность на длительную перспективу, приучает их к дальновидности, заставляет принимать во внимание долговременные последствия предпринимаемых действий.
Не удивительно, что при том состоянии, в каком пребывают эти институты в современной России, долгосрочные инвестиционные решения оказываются предельно затруднены и искажены. И если считать важнейшей обязанностью государства защиту прав собственности и обеспечение исполнения контрактов, то следует говорить не о несостоятельности рынка, а о несостоятельности государства. Дело не в наличии или отсутствии агентов, способных принимать долгосрочные решения, а в наличии или отсутствии институциональных условий, при которых агенты становились бы заинтересованы в выработке и принятии таких решений.
8. . Убеждать экономистов австрийской школы, что пути экономического развития могут быть неоптимальными — значит ломиться в открытую дверь. Австрийская теория содержит даже более сильное утверждение, согласно которому реальные траектории роста никогда и не могут быть оптимальными.
Возможно, с формальной точки зрения разработка моделей с неоптимальными траекториями роста представляет значительный шаг вперед. Но содержательно они воспринимаются как конкретизация хайековских идей. Аргумент, связывающий неоптимальность с незнанием будущих цен и будущих технологий, выглядит очень «по-австрийски». По Хайеку, неспособность экономических агентов к совершенному предвидению как раз и объясняется тем, что информация о будущих ценах и других значимых будущих фактах никогда не бывает им «дана» [Хайек, 2000б]. В его формулировке это звучит примерно так: движение по равновесной траектории заведомо невозможно, поскольку нам не дано знать наших будущих знаний. Отсюда следует, что попытки «оптимизировать» траектории роста с помощью сознательного контроля обречены на провал.
На протяжении своей долгой творческой жизни Ф. Хайеку пришлось противостоять едва ли не всем господствующим течениям, определившим облик минувшего столетия: социализму, кейнсианству, идеологии «государства благосостояния». Его усилия по возрождению наследия классического либерализма во многом способствовали формированию интеллектуального климата, в котором только и стал возможен переход к рынку и демократии бывших коммунистических стран, и, пожалуй, именно в этом состоит его главный вклад — идейный и моральный — в их обновление и реформирование. Надеюсь, что предпринятого мною весьма схематичного изложения хайековской концепции расширенного порядка достаточно, чтобы убедиться, что замечания, высказанные по ее поводу В. М. Полтеровичем, по справедливости следовало бы переадресовать мейнстриму современной экономической науки.
Действительно: статья В. М. Полтеровича свидетельствует не столько о пределах концепции расширенного порядка, сколько о пределах неоклассического мышления, не готового выходить за рамки привычной системы координат. Любого «внешнего» оппонента оно превращает во «внутреннего», любой альтернативный подход — в устаревшую или ухудшенную версию неоклассической теории. Фридриху Хайеку довелось столкнуться с подобной установкой, когда он вступил в полемику с экономистами-неоклассиками, защищавшими идеи рыночного социализма[93]. Но, честное слово, едва ли эта неоклассическая «традиция» настолько «эффективна», чтобы имело смысл сохранять ее и дальше.
ЛИТЕРАТУРА
Полтерович В. М. Пределы расширенного порядка // Истоки. Экономика в контексте истории и культуры. Вып. 5 / под ред. Я. И. Кузьминова, В. С. Автономова и др. М.: ГУ ВШЭ, 2004. С. 501–512.
Стиглиц Дж. Куда ведут реформы? // Вопросы экономики. 1999. № 7. С. 4–30.
Хайек Ф. А. Конкуренция как процедура открытия // Мировая экономика и международные отношения. 1989. № 12. С. 6–14.
Хайек Ф. А. Дорога к рабству. М.: Экономика, 1992a.
Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. М.: Новости, 1992б.
Хайек Ф. А. Индивидуализм: истинный и ложный // Хайек Ф. А. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф, 2000a.
Хайек Ф. А. Экономика и знание // Хайек Ф. А. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф, 2000б.
Хайек Ф. А. Использование знания в обществе // Хайек Ф. А. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф, 2000в.
Хайек Ф. А. Смысл конкуренции // Хайек Ф. А. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф, 2000 г.
Хайек Ф. А. «Свободное предпринимательство» и конкурентный порядок // Хайек Ф. А. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф, 2000д.
Шаститко А. Е. Экономические воззрения Хайека в контексте соотношения неоавстрийской и неоинституциональной исследовательских программ // Истоки. Экономика в контексте истории и культуры. Вып. 5 / под ред. Я. И. Кузьминова, В. С. Автономова и др. М.: ГУ ВШЭ, 2004. С. 541–566.
Bator F. M. The Simple Analytics of Welfare Maximization // American Economic Review. 1957. Vol. 47. No. 1. P. 22–59.
Becker G. S. Altruism, Egoism, and Genetic Fitness: Economics and Sociobiology // Journal of Economic Literature. 1976. Vol. 14. No. 3. P. 817–826.
Boettke P. J. The Reform Trap in Economics and Politics in the Former Communist Countries // Journal des Economistes et des Etudes Humaines. 1994. Vol. 5. No. 2–3. P. 1–28.
Caldwell B. J. Hayek and Socialism // Journal of Economic Literature. 1997. Vol. 35. No. 4. P. 1856–1890.
Furubotn E. G. Different Approaches to the Economic Analysis of Institutions: Some Concluding Remarks // Journal of Institutional and Theoretical Economics. 1990. Vol. 146. No. 1. P. 226–232.
Grey J. N. Hayek on Liberty. Oxford: Basil Blackwell, 1984.
Hayek F. A. Sensory Order. Chicago: University of Chicago Press, 1952.
Hayek F. A. The Constitution of Liberty. Chicago: University of Chicago Press, 1960.
Hayek F. A. Studies in Philosophy, Politics and Economics. L.: Routledge & Kagan Paul, 1967a.
Hayek F. A. History and Politics // Hayek F. A. Studies in Philosophy, Politics and Economics. L.: Routledge & Kagan Paul, 1967b.
Hayek F. A. The Atavism of Social Justice // Hayek F. A. Studies in Philosophy, Politics and Economics. L.: Routledge & Kagan Paul, 1967c.
Hayek F. A. Rules and Order. L.: Routledge & Kegan Paul, 1973.
Hayek F. A. The Mirage of Social Justice. L.: Routledge & Kegan Paul, 1976.
Hayek F. A. New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas. L.: Routledge & Kegan, 1978.
Lachmann L. M. The Legacy of Max Weber. L.: Heinmann, 1970.
Menger K. On the Origin of Money // The Economic Journal. 1892. Vol. 2. No. 6. P. 239–255.
North D. C. Structure and Change in Economic History. N. Y.: Norton, 1981.
Paying the Price: The Wage Crises in Central and Eastern Europe / ed. by D. Vaughan-Whitehead. L.: MacMillan, 1998.
Rosen Sh. Austrian and Neoclassical Economics: Any Gain From Trade? // Journal of Economic Perspectives. 1997. Vol. 11. No. 4. P. 139–152.
Yeager L. B. Austrian Economics, Neoclassicism, and the Market Test // Journal of Economic Perspectives. 1997. Vol. 11. No. 4. P. 153–65.
V Российский либерализм: быть или не быть?[94]
«Либерализм — тот правовой политический принцип, согласно которому общественная власть, несмотря на свое всемогущество, сама себя ограничивает и старается, даже в ущерб своим интересам, предоставить в государстве, которым она управляет, место и тем, кто думает и говорит иначе, чем она сама, т. е. иначе, чем большинство. Либерализм — следует напомнить сегодня — проявляет небывалое великодушие: свои права, права большинства, он добровольно делит с меньшинством; это самый благородный жест, когда-либо виданный в истории. Либерализм провозглашает свое решение жить одной семьей с врагами, даже со слабыми врагами. Прямо невероятно, что государство могло создать такой чудесный аппарат, такую парадоксальную, утонченную, замысловатую, неестественную систему».
Вопрос о будущем либерализма в России, несмотря на его кажущуюся академичность, имеет принципиальное значение в сегодняшней (начало 1990-х годов) ситуации выбора.
Диапазон возможных ответов на него чрезвычайно широк. Свидетельство тому — разнообразные «за» и «против», которые выдвигаются (или могут быть выдвинуты) при обсуждении перспектив либерализма в России. Анализ этих аргументов pro и contra позволяет увидеть проблему как бы в отраженном свете — через призму тех взглядов и оценок, которые бытуют в общественном сознании и выражаются исследователями, политиками, публицистами самой разной ориентации.
Такой «окольный» подход, естественно, требует, чтобы соответствующие доводы «за» и «против» были вразумительно сформулированы и так или иначе сведены воедино. Другими словами, первое, что необходимо сделать, — это попытаться «каталогизировать» идеи, лежащие в основе как пессимистических, так и оптимистических прогнозов о будущем либерализма в России. Можно надеяться, что подобная классификация, какой бы беглой и избирательной она ни оказалась, поможет структурировать саму обсуждаемую проблему, очертить ее границы.
Понятно, что при отборе аргументов pro и contra приходится руководствоваться не только их фактической обоснованностью, но и степенью их распространенности, уже имеющейся у них популярности. Некоторые из этих идеологем не получили пока явного выражения и лишь подразумеваются тем или иным ви́дением ситуации, другие превратились в своего рода клише и кочуют из публикации в публикацию.
Сначала я попытаюсь взять на себя роль «адвоката дьявола» и привести перечень аргументов contra, предрекающих либерализму в России незавидную будущность. При этом сам термин «либерализм» будет пониматься широко — и как определенное политическое движение, и как система определенных мировоззренческих установок и принципов, и как определенный набор социальных институтов, отвечающих этим принципам.
1. . История либерализма в России предстает как полоса «невстреч», фатальных разминовений. Все попытки обеспечить ей либеральную прививку заканчивались трагически. Либерализм приживался плохо и рано или поздно отторгался. Пусть даже истоки подобной несовместимости не вполне ясны — то ли дело в глубоко укоренившейся коллективистской психологии, то ли в традиционно авторитарном характере власти, то ли в специфике геополитических условий — в любом случае наивно полагать, что на рубеже XXI в. результат может оказаться иным.
2. . Органическое усвоение либеральных идей и принципов происходило при условии их включенности в определенную систему религиозных ценностей (свидетельство тому — опыт Великобритании или США). Либеральные представления могли войти в плоть и кровь общества, лишь получив религиозное подкрепление. Сейчас другое время, да и сам либерализм далеко не тот, чтобы искать поддержки религии. (Не говоря уже о том, что многим ведущим конфессиям в России присуща ощутимая антилиберальная направленность.) Но без религиозной санкции либеральные идеи обречены скользить по поверхности политической жизни, так и не переходя на уровень непосредственных жизненных реакций и привычек. Кроме того, отсутствие укорененности в глубинах человеческой личности лишает либерализм мобилизующего потенциала — он оказывается не в состоянии побудить к защите своих идеалов сколько-нибудь значительную часть общества. В итоге ему суждено оставаться явлением сугубо «камерным».
3. . В России отсутствуют институты и традиции гражданского общества. Ее правовая культура пребывает в плачевном состоянии. Правовой нигилизм — извечная для России болезнь. На вопрос героя Островского: «Ну, как тебя судить: по закону или по душе, как мне Бог на сердце положит?» — все мы, как и полтора века тому назад, ожидаем услышать привычное: «По душе».
Совместными усилиями всех трех ветвей государственной власти ее авторитет низведен сейчас до отметки, близкой к нулевой. Государству не верят и ждут от него только подвохов. Надеяться, что в этих условиях может быть выработан и внедрен свод безличных, универсальных, пользующихся всеобщим уважением правил, как того требует либеральная доктрина, попросту нереально.
Оборотная сторона недоверия к «правилам» — ориентация на конкретные личности. В течение обозримого будущего фактор харизматичности по-прежнему будет иметь ключевое значение. Можно поэтому прогнозировать отчетливо выраженный авторитарный характер системы власти. Даже если внешне демократические атрибуты сохранятся, это будет господство массовой (плебисцитарной), а не либеральной демократии.
4. . Россия — страна с традиционно мощной вовлеченностью государства в хозяйственную жизнь. При каком угодно варианте развития, государственный сектор будет в ней на порядок больше, чем это нормально по стандартам западных экономик. «Двухсекторная модель» с сохранением доминирующего положения за государством практически не оставляет пространства для развития либеральных тенденций. Дискриминация частного сектора грозит превратиться в последовательно проводимый принцип экономической политики.
5. . Как среди российских, так и среди зарубежных экономистов все более популярным становится представление, согласно которому если в «отлаженной» рыночной экономике государству надлежит занимать относительно скромное место, то это еще не значит, что в переходной экономике его роль должна быть столь же ограниченной. Напротив, возможно, что именно в переходный период оно и призвано проявлять особую активность. (Эта схема, как нетрудно заметить, забавным образом напоминает тезис об отмирании государства путем его усиления.) Парадокс этот вполне реален: так, приватизация приводит к усилению (как минимум — временному) вовлеченности государства в экономику. Опасность в том, что конца переходного периода при этом можно вообще не дождаться — «переход к рынку» так и будет длиться вечно. Подобный климат, разумеется, не слишком благоприятствует распространению в обществе ценностей либерализма.
6. . На Западе утверждение либеральных институтов происходило задолго до рождения «государства благосостояния», т. е. разветвленной сети социальных программ, поддержка которых требует перераспределения через бюджет весомой (а подчас даже преобладающей) доли национального дохода. Исторически сложилось так, что российская экономика начинает движение к рынку, обремененная огромным грузом социальных обязательств. Необходимость финансирования программ социальной защиты закрепляет патерналистскую роль государства, от которого, как и прежде, еще долго будет ощутимо зависеть жизнь практически каждой семьи. Понятно, что это менее всего может способствовать искоренению в обществе иждивенческой психологии.
Идеология «социальной справедливости», материализованная в программах «государства благосостояния», — одно из главных препятствий на пути либеральной переориентации современного общества. Наличие уже в переходный период громоздкого «государства благосостояния» (точнее — его недооформленного, неуклюжего прототипа) оставляет либеральной перспективе немного шансов.
7. . Все указывает на то, что в посткоммунистической России процесс формирования групп со специальными интересами опережает процесс разгосударствления экономики. Присутствие государства при этом увековечивается, хотя и в иных чем прежде формах: в новых условиях оно присваивает себе функции продавца административных льгот и привилегий. Это чревато складыванием не либеральной рыночной системы, а так называемой экономики организованных групп (другие названия — «политическая экономика», «меркантилистическая экономика»). Главными действующими лицами выступают в ней группы со специальными интересами — отраслевые и территориальные кланы, крупные корпорации, профессиональные союзы. Лоббизм становится основной сферой приложения их сил. По природе своей это глубоко антилиберальное, раздираемое распределительными конфликтами общество.
8. . В России отсутствует «средний класс» в западном смысле этого понятия. В то же время социальная группа, бывшая проводником либеральной идеологии, — интеллигенция — деморализована. Коммунистическое общество было идеократическим, и потому спрос на услуги интеллектуалов поддерживался на искусственно высоком уровне. Сами того не сознавая, представители интеллектуальных профессий находились в особом, выделенном положении. Крушение идеократии сразу же сказалось на экономическом и социальном статусе интеллигенции. Выявился во многом головной характер ее либеральных устремлений. «Нырок» в рынок, когда надежды интеллигенции на выживание оказались обращены в основном к государству, выявил ее действительные ориентации и предпочтения. Как следствие, либерализм лишился едва ли не главной социальной опоры.
9. . Не приходится рассчитывать и на сколько-нибудь значимый либеральный импульс из-за рубежа. Дело не только в нарастании изоляционистских тенденций во внешней политике западных держав. Не менее важно, что там уже давно восторжествовала модернизированная версия либерализма, страдающая шизофренической раздвоенностью в восприятии рынка товаров, с одной стороны, и рынка идей — с другой. «Либералы» этой формации с одинаковой убежденностью отстаивают и необходимость свободной конкуренции на рынке идей (т. е. свободы слова, печати и др.), и благотворность ограничения конкуренции на рынке товаров. По словам одного замечательного американского экономиста (Р. Коуза), «свобода слова и печати является последней областью, где принцип laissez faire еще пользуется уважением». (Нетрудно, однако, показать, что все аргументы, выдвигаемые в пользу государственного регулирования рынка товаров, с еще большим основанием приложимы к рынку идей.)
От такого усеченного либерализма, символом веры которого является скорее идея равенства, чем идея свободы (а именно он считается «хорошим тоном» среди современной западной элиты), едва ли можно ждать действенной помощи в либерализации российской экономики, российского общества. Что же касается возможного влияния «классического либерализма», то круг его сторонников весьма ограничен, что делает их малоавторитетными в глазах российского политического истеблишмента.
10. . В России судьба понятий «либерализм», «либерал», «либеральный» была на редкость злосчастной. За ними издавна тянется шлейф негативных оценочных ассоциаций. Либерал, как известно, бывает либо «гнилым», либо «мягкотелым». В массовом сознании «либерализм» оказался сейчас намертво сцеплен с «либерализацией цен». Подобная эмоциональная аура отнюдь не способствует тому, чтобы термин «либерализм» смог когда-нибудь выдвинуться на авансцену политической жизни России.
11. . В посткоммунистической России идея свободы оказалась в тени идей демократии и национального самоопределения, с которыми она чаще всего и ассоциируется — иногда вплоть до полного неразличения. У всех на виду трагические примеры того, к чему ведет поиск национальной идентичности в пределах бывшего Союза; достойным образцом демократии в действии может считаться как работа российских Съездов народных депутатов, с одной стороны, так и образование «демономенклатуры» — с другой. Разочарование, порожденное этим опытом, охладило симпатии не только к лозунгам демократии и национального самоопределения, но косвенным образом сказалось и на репутации либеральной идеи. Либерализм оказался обесцененным еще до того, как смог заявить о себе, как о самостоятельной политической силе.
12. . Обилие горячих точек в ближнем зарубежье (а теперь уже и в самой России) объективно предполагает повышение роли силовых структур, силовых методов в политике. Но, как нетрудно понять, обстановка военного лагеря менее всего созвучна либеральным институтам и принципам.
13. . Либеральное движение в России разобщено и перспективы его консолидации туманны. Оно распадается на небольшие партии, возникшие вокруг лидеров с более или менее громкими именами. Отношения между лидерами складываются непросто; многие из них вполне авторитарны по способам деятельности, что плохо вяжется с декларируемой приверженностью либеральному кредо. Таким образом, надежды на формирование в России влиятельного либерального движения крайне невелики.
Приведенный перечень доводов contra было бы нетрудно продолжить, но, по-видимому, чертова дюжина — самое подходящее число для «адвоката дьявола». Поэтому здесь можно сделать остановку и, переменив фронт, представить аргументы pro, из которых следует, что ставить крест на перспективах либерализма в России было бы все-таки опрометчиво.
1. . В качестве фундаментального факта либерализм признает наличие в большом, технологически сложном современном обществе множества разнообразных культурных традиций, мировоззренческих установок, стилей жизни, форм деловой практики. Либеральная перспектива выступает как ответ на глубинную неоднородность, «моральный плюрализм» современного общества. Она задает минимальную правовую и ценностную рамку, в пределах которой противоположные культурные традиции, нестыкующиеся картины мира, эксцентричные или, наоборот, привычные стили поведения, разнообразные экономические структуры могут свободно развиваться, мирно сосуществовать и продуктивно взаимодействовать. С точки зрения либеральной философии этот ценностный плюрализм, это многообразие индивидуальных целей и предпочтений, не сводимое ни к какому общему знаменателю, не только непреодолимы, но и служат источником социального динамизма. Как показывает практика тоталитарных режимов, попытки строить современное сложное общество на иных, антилиберальных принципах, по каким-то архаическим моделям, ведут в никуда.
На пространствах бывшего Союза разнобой традиций, интересов, ценностных ориентаций, поведенческих норм оказался больше, чем можно было бы ожидать. Страна с такой территорией и с такой численностью населения, как Россия, нуждается хотя бы в минимальном наборе либеральных институтов, гарантирующих ненасильственный характер индивидуального и группового взаимодействия. Иначе общество может быть взорвано изнутри.
Дело, таким образом, не столько даже в возможности, сколько в необходимости обращения к ценностям либерализма. В этом смысле вопрос «Есть ли у либерализма в России будущее?» можно было бы переформулировать, повернув его другой стороной: «А есть ли у России будущее вне либерализма?».
2. . История либерализма в России едва ли дает основания для вывода об их врожденной несовместимости. Либерализм — естественный спутник модернизации общества. Если в России он приживался плохо, так это потому, что процесс модернизации неизменно принимал здесь усеченные, полунасильственные формы: его подстегивание в одних сферах сочеталось с возрождением традиционалистских, архаических образцов в других. Другими словами, будущее либерализма в России следует поставить в прямую зависимость от перспектив полноценной модернизации российского общества.
3. . Укорененность в вере (веберовская «протестантская этика») действительно была необходима, когда новаторскому меньшинству — носителю новых ценностей и поведенческих образцов — приходилось бороться за существование в условиях враждебно настроенного традиционалистского окружения. В XX в., если верить опыту многих стран, успешно осуществивших модернизацию, это уже нельзя считать обязательным условием. Важную роль начинает играть демонстрационный эффект: новые образцы усваиваются не по причине их санкционированности свыше, а по более приземленным мотивам — потому что они, как становится ясно из примера носителей иного опыта, расширяют возможности для социальной мобильности. Показательно, что, согласно данным социологических обследований, наибольшую расположенность к «демократическим ценностям», толерантности и открытости проявляют не убежденные атеисты и не приверженцы традиционных конфессий, а представители расплывчатой категории «внеконфессионально» верующих.
4. . В российском обществе действуют психологические ограничители на применение насилия. Сохраняется чрезвычайно низкий — если принять во внимание практически полное бездействие правоохранительных органов — уровень насилия. Агрессия отторгается массовым сознанием. По меньшей мере, это говорит о том, что общество располагает эффективными каналами для отвода отрицательной социальной энергии, существует достаточно возможностей для вертикальной мобильности. Слабость агрессивной составляющей создает естественную для либеральных ориентаций среду (вспомним, что сохранение социального мира — одна из основополагающих ценностей либерализма).
5. . Существует широко распространенное заблуждение, ставящее знак равенства между «сильным государством» и «большим государством». Согласно либеральной трактовке, провалы государства при отправлении им минимально необходимых «отрицательных» функций неизбежны, когда оно — исходя из патерналистских установок по отношению к обществу — присваивает себе непомерно много «положительных» функций. Именно этим можно объяснить неэффективность российских государственных институтов в выполнении своих прямых задач — защите прав и свобод, безопасности и достоинства граждан, гарантировании прав собственности и добровольных договоров. Уход государства из тех сфер, где его несостоятельность была многократно подтверждена, повысил бы эффективность его деятельности в оставшихся. Иначе говоря, условием строительства «сильного» государства как раз и является резкое сужение границ его вмешательства в жизнь общества, сдвиг в направлении либерального идеала «ограниченного правления».
6. . Россия находится сейчас в достаточно уникальной ситуации с точки зрения свободы экономической и социальной деятельности. Прежний административный корсет распался, а новый еще не сложился. Во многих отношениях российская экономика сейчас либеральнее, чем западная. Именно тотальная неэффективность государственной власти создает беспрецедентные по меркам XX в. возможности для утверждения либеральных ценностей и институтов. Государство «уходит» не по доброй воле, а из-за своей полной несостоятельности. Уходя, оно открывает огромное поле для складывания снизу новых поведенческих норм, хозяйственных связей, типов взаимодействия. Спонтанно вырабатываются элементы этики честного бизнеса, неформальные арбитражные процедуры, нестандартные организационные формы. Трудно даже было предвидеть, что посткоммунистическое общество обладает такими адаптивным и инновационным потенциалом. Процесс спонтанной ценностной и институциональной перестройки идет с поразительным размахом и энергией, но взгляду, притерпевшемуся к пене политических баталий, он просто-напросто не виден.
Таким образом, проникновение в жизнь российского общества либеральных рыночных ценностей и норм — явление сегодняшнего дня, а не какая-то отдаленная перспектива. Эти глубинные, органические процессы какое-то время могут не получать формального выражения, но рано или поздно они выйдут и на политический уровень.
7. . Действительно, после того, как социалистическая модель, строившаяся на принципах централизованного планирования и общественной собственности, потерпела крушение (как это и предсказывалось теоретиками либерализма), перед либеральной мыслью во весь рост встала проблема «государства благосостояния», воплощающего перераспределительные идеалы социальной справедливости. Его существование — серьезное ограничение, с которым невозможно не считаться.
Важно, однако, учесть, что это проблема общая, в равной мере критическая для будущего и западного, и российского общества. Отвечать на нее — так или иначе — предстоит всем. Не случайно, что на Западе появилось уже немало проектов децентрализации, дебюрократизации, приватизации «государства благосостояния», подключения частного сектора к оказанию социальных услуг. Как ни парадоксально, но в этом отношении Россия обладает определенным преимуществом: ведь ей предстоит начинать строительство современной системы социального обеспечения практически с самого основания, так что у нее есть возможность подойти к этому по-иному, не сталкиваясь с мощным сопротивлением организованных групп и не перенастраивая отлаженных бюрократических механизмов.
В принципе социальная политика может быть ориентирована либо на поддержание некоего абсолютного минимума уровня жизни, либо на сокращение относительного экономического неравенства, разрыва между более и менее состоятельными слоями общества. Первый вариант больше соответствует представлениям классического либерализма, второй — идеологии современного западного «государства благосостояния». Понятно, что во втором случае социальная политика оказывается значительно амбициозней и агрессивней. Насколько можно судить, понимание социальной ответственности государства в российском обществе склоняется скорее к первой, несравненно более умеренной модели.
Конечно, причина этого, прежде всего, в намного более низком, по сравнению с развитыми странами, среднем уровне жизни. Но не только. Дело еще и в высокой степени толерантности к неравенству в доходах, проявляемой сейчас общественным сознанием. Отсюда можно предположить, что будущее российское «государство благосостояния» окажется, вероятно, значительно более консервативным — и по масштабам, и по организационным принципам, — чем его западные аналоги.
8. . Естественную базу российского либерализма может составить слой новых частных предпринимателей. Именно они более всего заинтересованы в утверждении эффективных либеральных институтов, гарантирующих честные «правила игры» в экономической сфере. Существенно, что общественное мнение стало относиться к российскому частному бизнесу с гораздо большей симпатией, чем прежде (по результатам опроса ВЦИОМ в середине 1992 г., более трети населения связывают с новыми предпринимателями надежды на возрождение России).
Предпринимательский слой уже осознал себя в качестве новой элиты. Начался процесс его социально-политической самоидентификации. Среди предпринимателей растет понимание необходимости открытого политического влияния на процесс государственного строительства. В течение 1992 г. ими было создано несколько партий и политических объединений либеральной ориентации.
Поскольку же новые предприниматели едва ли не единственный социальный слой, находящийся в процесс статусного возвышения, постольку будущее российского либерализма внушает определенный оптимизм.
9. . Началось формирование еще одной новой социальной группы — управляющих-собственников приватизированных предприятий, — занимающей промежуточное положение между директорами государственного сектора и частным предпринимателями. Этот слой особенно уязвим, во-первых, потому что он не застрахован от угрозы ренационализаций, во-вторых, потому что устойчивость его положения зависит от продолжения приватизационных процессов. Но при достижении приватизированным сектором определенной критической массы он может стать важным источником социальной переориентации общества.
10. . Занятые в частном и приватизированном секторах могут составить основу будущего среднего класса. Постепенно вырабатываются иные ценностные установки, жизненные стили, стандарты потребления. Именно эти группы способны образовать со временем достаточно широкую социальную базу для политических движений либерального плана.
11. . Частная собственность стала несомненной положительной ценностью для подавляющего большинства россиян. Важно учесть, что если в России действительно начнется процесс образования достаточно многочисленного слоя частных собственников, то это будут собственники в первом поколении. Они, как можно предположить, станут относиться к активизму государственной власти с гораздо меньшей терпимостью, чем те, для кого обладание собственностью является чем-то привычным, нормальным, переходящим из поколения в поколение. В этом случае на пути этатистских тенденций могут возникнуть трудно преодолимые препятствия и либерализм получит дополнительный шанс.
12. . Высокая степень остаточной индоктринированности, идеологизированности общества, недавно расставшегося с официальным марксизмом, может, как ни странно, благоприятствовать распространению либеральных идей. В России еще не атрофировались вкус и привычка к решению «общих», «принципиальных» вопросов социального бытия, чего нельзя сказать о среднем деидеологизированном западном человеке. Это создает известную предрасположенность к восприятию идей либерализма, поскольку он занимает принципиальные, непрагматические позиции по ключевым проблемам жизнеустройства общества. У него действительно есть принципы, которыми он не может поступиться. Либерализм предлагает целостное осмысление происходящего в обществе и с обществом, в чем, как кажется, сейчас ощущается настоятельная потребность.
13. . Похоже, что перипетии политической жизни в России не подтверждают вывода о том, что термин «либерализм» уже выработал свой ресурс. Скорее, наоборот. Своего рода моральный износ лозунгов «демократии» и «национального самоопределения» трудно отрицать. Конечно, они по-прежнему способны собирать под свои знамена массы сторонников, но тем не менее всем стали очевидны и сопряженные с ними издержки. Тем примечательнее на этом фоне попытки присвоения термина «либерализм» силами, имеющими к нему, строго говоря, весьма отдаленное отношение. Дело уже не ограничивается одними только эксцентричными политическими фигурами. Тот факт, что на «либерализм» вдруг заявляют права и лидеры «Гражданского союза»[95], ясно показывает, что активно идет поиск не дискредитированных в массовом сознании политических терминов и что либеральная идея не утратила возможности стать действенным фактором общественного процесса.
Разумеется, приведенный перечень аргументов «за» и «против» достаточно условен. Очевидна также их неравноценность. Многие из этих идеологем являются, вероятно, не более чем выражением бытующих в обществе фобий и предрассудков. Но и этот беглый смотр аргументов pro и contra позволяет сделать некоторые предварительные обобщения.
Первое: судьбы политического термина «либерализм» и комплекса идей и принципов, традиционно им обозначаемых, могут, как не раз уже бывало, разойтись. Сегодня это вполне вероятно, что служит серьезным предостережением для нарождающегося российского либерального движения.
Второе: в текущей политической борьбе позиции либеральных общественных сил несравненно слабее, чем у их основных конкурентов.
Третье: трудно избавиться от впечатления, что речь часто идет о двух «либерализмах» — одном, нисходящем сверху от государства-цивилизатора, государства-просветителя, и другом, рождающемся снизу, в процессе свободного взаимодействия индивидуальных агентов. Это заставляет вспомнить пушкинские слова о правительстве, как главном европейце в России, и задаться вопросом: так ли это или оно скорее «псевдоевропеец», имитирующий внешний цивилизованный антураж, а на деле сковывающий силы спонтанного развития? (Конкретный пример — как относиться к деятельности гайдаровского кабинета? Что это было — дискредитация либеральных идей, перекрывшая им дорогу в общество, или продуктивная, пусть и не во всем удачная, попытка их воплощения?)
Четвертое: в западных обществах обретение экономической свободы предшествовало завоеванию политических прав, а так называемые социальные права получили признание лишь в XX в. В постсоциалистических странах эта последовательность была инверсирована. Когда вера в марксистскую идеологию была подорвана и лояльность идее была заменена на лояльность государству, сложился своего рода социальный контракт, в рамках которого населению предоставлялся определенный набор социальных услуг и гарантий. Можно сказать, что социальные права были получены первыми, за ними последовали (в период кризиса коммунистических режимов) политические и лишь затем наступила очередь экономических свобод (с началом перехода к рынку). Вот почему экономические реформы неизбежно наносят удар по социальной страховочной сетке, что создает чрезвычайно запутанную и смещенную систему координат для политического самоопределения, действительно затрудняет выработку последовательной либеральной перспективы.
Пятое: аргументы против по большей части обнаруживают отсутствие почвы, необходимой для утверждения либеральных ценностей, принципов социального устройства, политических движений: не сформированы гражданское общество, правовое государство, средний класс и т. п. Но ведь становление самих этих социальных институтов происходило одновременно и во многом благодаря либерализму. Либерализм как раз и призван способствовать их развитию и не может быть отложен до «лучших времен».
И последнее: аргументы за, как правило, отсылают к действию тех или иных долговременных факторов, требуют выполнения каких-то более общих условий. Можно усмотреть в этом их слабость, но в этом же, как ни странно, и их сила. Они показывают, что либеральная перспектива в наибольшей мере соответствует глубинным, спонтанным общественным процессам, уже обретшим достаточную независимость от политической конъюнктуры. Объективный вектор развития — во всяком случае пока — развернут в сторону расширения ареала свободы. Именно это вселяет надежду на то, что у либерализма есть будущее в обновленной России.
ПОСТСКРИПТУМ: ОТМАТЫВАЯ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НАЗАД…
Дело было в далеком 1992 г. И была тогда такая партия — Партия экономической свободы (Константин Боровой, Ирина Хакамада). И решила эта партия провести форум под названием «Россия: есть ли у либерализма шанс?» И позвали меня. И я выступил. А потом превратил свое выступление в текст (вскоре он был опубликован в небольшом сборнике «Либерализм в России»).
Следуя правилу на прямые вопросы давать прямые ответы, я решил построить свой текст так: сначала перебрать все мыслимые аргументы «против» (из которых следовало, что в России либерализм ждет незавидная судьба), а потом все мыслимые аргументы «за» (из которых следовало, что все совсем не так уж плохо и шансы у него есть). А в самом конце добавить, что хотя будущее российского либерализма смутно и темно, потому что невозможно понять, какие аргументы — «за» или «против» — окажутся весомее, надежды в любом случае терять не нужно: жизнь разнообразна и все может быть.
Прошло много лет и, когда этот текст недавно попался мне на глаза, у меня возникло странное ощущение, что за четверть века он не утратил занимательности и все еще может быть кому-то интересен.
Во-первых, почему-то сегодня либерализм вновь начали склонять на всех углах. Во-вторых, любопытно ведь окунуться в прошлое, сравнив предсказания четвертьвековой давности с реальным ходом событий: какие из выдвинутых тогда аргументов «за» и «против» сработали, а какие — нет? В-третьих, либерализм принадлежит к числу тех вечных сюжетов, размышлять про которые никогда нелишне: в конце концов, мы продолжаем жить в мире, во многом (если не в основном) сформированном его идеями.
Что бы теперь, в 2019 г., я добавил к тому, что было сказано тогда?
С высоты сегодняшнего дня очевидно, что мои аргументы «против» попали в цель, тогда как мои аргументы «за» были, увы, во многом головными и прекраснодушными. В качестве Кассандры я угадал почти все, а в качестве Жюля Верна почти ничего. На российской почве судьба как самого понятия «либерализм», так и набора идей и институтов, которые традиционно с ним ассоциируются, оказалась гораздо печальнее, чем можно было надеяться.
Почему так получилось? За последние десятилетия многое изменилось в мире, многое изменилось в России и по большей части это были изменения, неблагоприятные для либеральных идей и либеральных институтов. Откат, принявший множество самых разных форм, начался приблизительно с середины 1990-х годов и затем шел по нарастающей. (Так, для российского либерализма, похоже, роковой оказалась его сцепленность с тем сценарием экономических реформ, который был реализован в 1990-е годы.)
Однако в самое последнее время у меня появилось и стало крепнуть ощущение каких-то едва слышимых подземных толчков, как будто в мире снова что-то начало сдвигаться и либерализм начал пусть по крупицам, но возвращать свои позиции (я имею в виду как идеологические, так и институциональные подвижки). Будет ли этот наметившийся разворот иметь продолжение, сказать, конечно, невозможно.
Но здесь, по-видимому, необходимо сделать одно терминологическое пояснение. «Либерализм» уже давно перестал быть строгим понятием с четко очерченными семантическими гранями, превратившись в пучок разномастных ассоциаций, зачастую не имеющих между собой ничего общего. (Скорее всего, такова судьба любого общеупотребительного термина.) Его было бы уместно сравнить с гигантским кораблем, к днищу которого за долгие века плавания налипло невообразимое количество всякой всячины. Поэтому во избежание недоразумений я уточню, что говоря о либерализме, я имею в виду классический либерализм и никакой другой. Надеюсь, что с такой оговоркой мои высказывания станут более понятными.
И последнее. Если говорить об отношении к будущему, то я назвал бы либерализм не оптимистическим и не пессимистическим, а стоическим учением. Исходя из этого мне остается только повторить то, что уже было сказано в моем тексте 1993 г.: не стоит терять надежд на то, что у либерализма в России все-таки есть будущее…
Методология
VI Кто такой Homo oeconomicus?[96]
Какие представления о природе человека лежат в основе экономической теории и как они появились? Экономика меняется — но меняется ли вместе с ней человек? Существуют ли универсальные закономерности, которым подчинено экономическое поведение? В конечном счете все эти вопросы сводятся к одному более общему: какова модель человека, из которой исходит экономическая наука? Попытка ответить на него и будет предметом последующего обсуждения.
Должен признаться, что в своих работах я обращался к этой проблеме лишь эпизодически [Капелюшников, 1989; 2013a; 2013б; 2017; 2018], и какие-то новые подходы, появившиеся в самое последнее время, могли пройти мимо моего внимания. На русском языке по теме «Человек в зеркале экономической теории» существуют замечательные «панорамные» исследования, так что тех, кто захочет узнать обо всем этом подробнее, я отсылаю к ним [Автономов, 1993; 1998; Шаститко, 2006]. Моя цель скромнее — попытаться представить пусть схематичный, но все же целостный «портрет» человека, каким его видит современная экономическая наука.
Начать, наверное, следует с расшифровки названия, которое я решил дать своему сообщению, — «Кто такой Homo oeconomicus?». Неявно оно отсылает к чрезвычайно важному историко-методологическому факту: дело в том, что экономическая наука — единственная социальная дисциплина, в которой у главного действу ющего лица есть имя собственное — Homo oeconomicus. Не трудно догадаться, по какой языковой модели оно было образовано: это, конечно же, Homo sapiens. Хотя в других социальных дисциплинах аналогичные конструкции от случая к случаю тоже встречаются, но там они чаще всего используются в риторических целях (для красоты слога, так сказать). Нигде, кроме экономической науки, такого рода латинизмы не прижились настолько, чтобы стать общеупотребительными терминами. Но стоит нам только произнести термин «человек экономический», как всем без каких-либо дополнительных пояснений становится понятно, о чем (вернее — о ком) идет речь.
Познакомимся поближе с этим джентльменом. Почему джентльменом? Потому что само это словосочетание появилось в последней четверти XIX в. в Великобритании как реакция на идеи Джона Стюарта Милля (1806–1873), считавшегося в то время экономистом номер один [Mill, 1967]. Исходно оно было задумано как издевательская кличка с тем, чтобы на терминологическом уровне зафиксировать карикатурность и вопиющую нереалистичность того, каким человек предстает в исследованиях экономистов. (Историкам экономической мысли так и не удалось установить, какая из версий этой конструкции — латинская (Homo oeconomicus) или английская (Economic man) — появилась первой.) Критики описывали этого джентльмена как одномерное существо, движимое в своем поведении единственным мотивом — стремлением к богатству [Persky, 1995]. По ироничному замечанию известного историка экономики К. Инграма, политическая экономия имеет дело «не с реальными, а с воображаемыми людьми — „экономическими человеками“, которые рассматриваются ею просто как „животные по деланию денег“» [Ingram, 1967, p. 218]. Она, вторил ему главный методолог той эпохи Дж. Н. Кейнс, занята изучением «„экономического человека“, чья деятельность определяется одним только желанием богатства» [Keynes, 1963, р. 14].
Некоторые высказывания Дж. С. Милля в самом деле дают основание для таких пейоративных оценок и суждений: «Политическая экономия, — писал он, определяя ее предмет, — не занимается изучением человеческой природы во всей ее полноте (с учетом того, как она модифицируется социальным положением человека) или изучением человеческого поведения во всей его полноте (с учетом того, как оно протекает в обществе). Она интересуется человеком только как существом, желающим обладать богатством и способным судить об относительной эффективности средств для достижения этой цели» [Mill, 1967, p. 131]. И все же приписывать Миллю такое сверхузкое понимание человеческого поведения, какое вменяли ему критики, было бы не вполне корректно. По мнению Милля, политическая экономия должна учитывать значительно более широкий спектр человеческих побуждений: помимо стремления к накоплению богатства, это еще стремление к досугу и стремление к роскоши, а также склонность к размножению (предполагающая, кстати сказать, что человека нельзя считать полностью рациональным существом!)[97]. Если бы не эти противодействующие желанию богатства страсти, люди поголовно вели бы себя как законченные трудоголики; достаточно, однако, оглянуться вокруг, чтобы убедиться, насколько несовместима такая маниакальная зацикленность на накоплении богатства с образом жизни большинства из них. Милль рассматривал набор из четырех выделенных им базовых мотивов в качестве универсального (присущего всему человеческому роду). Отсюда следовало, что ссылками на психологические факторы невозможно объяснить все то огромное разнообразие результатов экономической деятельности, которое можно наблюдать в разных странах и разных исторических эпохах: источником этой вариации могут выступать только различия в экономических институтах, изучение которых и составляет, по мысли Милля, предмет науки «политическая экономия» [Persky, 1995].
Повторю: исходно выражение «человек экономический» имело однозначно пейоративную направленность, выступая эффективным риторическим оружием в руках противников экономической теории. Однако реакция экономистов на его появление была парадоксальной: они достаточно быстро апроприировали этот концепт, сделав его оценочно нейтральным и начав использовать в аналитических целях. (Впрочем, это не отменяет того факта, что у множества комментаторов стоящие за ним идеи и представления вызывали и продолжают вызывать резкое отторжение.)
То, что у главного действующего лица экономической науки есть имя собственное, может показаться исторической случайностью. Ну, мало ли какими причудливыми путями происходило формирование рабочей терминологии в той или иной области социального знания! Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что это не просто игра случая. Дело в том, что экономическая наука была по сути единственной, где с самого момента ее рождения базовой единицей анализа признавался индивид (т. е. отдельный человек). Как следствие, на всех этапах ее эволюции экономисты не переставали рефлексировать на тему: какова модель человека, из которой мы исходим? к каким формам человеческого поведения она приложима? каким набором мотивов и каким объемом знаний наделяются в ней экономические агенты? В других социальных дисциплинах ничего похожего не происходило. Почему? Потому что в них на вполне законных основаниях могли существовать и действовать разнообразные надындивидуальные (коллективные) сущности, такие как «общество», «государство», «класс», «культура», «нация», «национальный дух» и т. д., уподоблявшиеся живым существам. Соответственно, рефлексия по поводу используемых моделей человека оказывалась в них спорадической, а если почему-либо и возникала, то, как правило, с оглядкой на опыт экономической науки. Не будет большой ошибкой сказать, что если в смежных социальных дисциплинах те или иные модели человека присутствовали лишь имплицитно (куда же без них?), то экономическая наука практически с первых же шагов была занята эксплицитной разработкой некоторой специфической модели человеческого поведения.
Рискну также утверждать, что из противостояния с альтернативными концепциями, принятыми в других социальных дисциплинах, Homo oeconomicus вышел безусловным победителем. Свидетельство тому — мощный междисциплинарный тренд в изучении общества, известный под названием «экономический империализм». С определенного момента представители сестринских дисциплин начали активно заимствовать модель человека, принятую в экономической науке, с тем, чтобы решать свои собственные исследовательские задачи. Такой «колонизации» — с разной степенью успешности — подверглись социология, политология, правоведение, история, демография, антропология, криминология, религиоведение. Но, как проницательно заметил по этому поводу великий американский экономист Армен Алчиан, «империалистической является не экономическая наука сама по себе, а лежащая в ее основе модель человека» [Economic Imperialism, 1987].
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Во избежание возможных недоразумений нужно сразу же оговориться: экономисты никогда не занимались изучением «природы» человека в прямом смысле слова (это предметная область других научных дисциплин). Закладывая методологический фундамент своего анализа, они действовали иначе: из множества присущих человеку свойств отбирали лишь несколько, принимая их как данность и абстрагируясь от всех остальных; выстраивали из них некую связную конструкцию и затем использовали ее при изучении разнообразных форм человеческого поведения. Естественно, возникает вопрос: если экономическая наука осознает себя наукой поведенческой, то какой именно пласт человеческого поведения является объектом ее интереса?
Если говорить совсем кратко — тот, что связан с совершением людьми актов выбора или, что то же самое, с принятием ими решений. Иными словами, Homo oeconomicus — это прежде всего decision maker! Отсюда академическое название базовой модели человека, используемой в экономической науке: «модель рационального выбора». Здесь важно все: что это модель, т. е. некая абстрактная схема; что это рациональное, т. е. последовательное, согласованное во времени и пространстве поведение; наконец, что это выбор, т. е. активность, ориентированная на достижение определенной цели.
В первом приближении можно выделить два больших класса человеческих действий: рефлекторные (причинно-обусловленные), с одной стороны, и целенаправленные — с другой. Возможно, лучшей иллюстрацией рефлекторного поведения служит известное изречение Козьмы Пруткова: «Щелкни кобылу в нос — она махнет хвостом». Если перефразировать этот афоризм для целенаправленного поведения, получится что-то вроде: «Поднеси кобыле ладонь с сахаром, она потянется к нему губами». Мы имеем здесь как бы инверсию причин и следствий во времени: если в случае причинно-обусловленного поведения причина располагается в прошлом, а действие — в настоящем, то в случае целенаправленного поведения причина располагается в будущем, а действие — в настоящем. Отсюда, однако, не следует, что целенаправленное поведение может быть только сознательным и никаким другим.
Для того чтобы Homo oeconomicus принял решение, направленное на достижение определенной цели, ему вовсе не обязательно всякий раз садиться и начинать детально взвешивать выгоды и издержки. Вспомним главного героя фильма «Человек дождя», обладавшего уникальной способностью «считать карты» (мгновенно просчитывать в уме карточные комбинации). Так вот, Homo oeconomicus устроен иначе: он совершенно не склонен по любому сколь угодно ничтожному поводу приниматься «считать карты»! Поскольку сам процесс принятия решений также сопряжен с немалыми издержками, он стремится экономить (недаром же он, в конце концов, oeconomicus!) также и на них. Обдумывание решения требует времени, умственных усилий, затрат психической энергии. Если оно уже приносило успех в прошлом, есть все основания повторять его затем «на автомате». Великий английский философ Альфред Уайтхед как-то сказал, что прогресс цивилизации выражается в том, что мы научаемся все больше и больше действий совершать автоматически. Однако если прежнее решение перестало работать или на горизонте появилась новая проблема, человек экономический всегда готов сесть и начать «считать карты», т. е. сознательно взвешивать выгоды и издержки.
Еще один принципиально важный методологический момент, который часто упускают из вида, связан с тем, что традиционно модель Homo oeconomicus использовалась экономистами для объяснения не индивидуального, а усредненного, типического, массовидного поведения больших групп — для объяснения результирующей, которая возникает из переплетения множества решений, принимаемых отдельными людьми. Возьмем в качестве примера закон спроса, гласящий, что при повышении цены объем спроса на любое благо уменьшается. Это универсальная закономерность, которая работает не только при наличии явных (денежных) цен. Предположим, что средняя продолжительность стояния в очередях на избирательных участках для получения бюллетеня почему-то увеличилась с получаса до двух часов. Исходя из закона спроса мы можем уверенно предсказать, что явка на выборы (при прочих равных условиях) упадет. Представим: чтобы оказать помощь голодающим жителям Африки, раньше туда нужно было приезжать, а теперь появились посреднические благотворительные организации, которые собирают средства на месте и затем переправляют их в Африку сами. Исходя из закона спроса мы можем опять-таки уверенно предсказать, что объем пожертвований (при прочих равных условиях) возрастет. Обратите внимание: делая эти предсказания, нам не приходит в голову опрашивать миллионы людей или строить какие-либо регрессии. Мы всего лишь пытаемся представить, как, очутившись в той или иной ситуации, повел бы себя Homo oeconomicus, и таким путем выводим закономерность, работающую и для древнего китайца, и для средневекового француза, и для современного американца, экономя на этом гигантский объем информации. Изначально цель экономической науки заключалась именно в этом — в том, чтобы в хаосе множества индивидуальных решений отыскивать какие-то общие закономерности (сегодня ситуация выглядит уже во многом иначе, но об этом позже).
При этом экономисты с самого начала понимали, что Homo oeconomicus — это не более чем абстрактная аналитическая схема (вспомним хотя бы, что по этому поводу писал Милль). Они никогда не претендовали на то, что этой абстрактной схеме присущ дескриптивный реализм и что она адекватно описывает поведение живых людей из плоти и крови. Все дело в том, что выражение «модель человека» может использоваться (и часто используется) в двух разных смыслах. Во-первых, для обозначения некого «аналитического конструкта». Во-вторых, для обозначения некого «антропологического типа», реально существовавшего в определенном месте в определенных условиях в определенную историческую эпоху. Скажем, «русский дворянин начала XIX в.», или «американские бароны-разбойники конца XIX в.», или «советские функционеры периода застоя». Но эти два понятия служат решению разных исследовательских задач.
Масса недоразумений, возникавших по поводу Homo oeconomicus’а, была связана с тем, что практически все неэкономисты, а также изрядное число экономистов путали эти вещи, принимая аналитический конструкт за описание определенного «антропологического типа». Критики типа Карла Поланьи или Пьера Бурдьё вовсю «костерили» Homo oeconomicus’а, либо считая его злостной карикатурой на живых людей, либо ужасаясь тому, как экономистам удалось запустить этого монстра в реальную жизнь, и призывая к его скорейшему изничтожению. Но ничего подобного аналитический конструкт Homo oeconomicus не подразумевает. Его можно представить в виде безразмерного балахона, из которого в принципе для любого «антропологического типа» можно при желании скроить костюм по фигуре. Для этого было бы достаточно наполнить его конкретным содержанием, введя дополнительные уточнения и ограничения. (Естественно, реальная исследовательская практика далека от такого подхода: при описании любого «антропологического типа» намного разумнее отталкиваться от фактического материала, который предоставляет та или иная историческая эпоха.)
Когда задачей является описание некоего «антропологического типа», нереалистичность оказывается серьезным недостатком (мы упускаем какие-то его важные поведенческие характеристики). Но для аналитического конструкта это не так или по меньшей мере не вполне так: чем больше контраст между скупостью, бедностью, лаконизмом исходных поведенческих предпосылок и обширностью того пласта реальности, который описывает и объясняет наша теория, тем она лучше, продуктивнее и эффективнее. Из-за этой ошибки — смешения понятий «аналитический конструкт» и «антропологический тип» — на Homo oeconomicus’а были вылиты ушаты грязи. Многими абстрактность этой модели принималась за ее эмпирическую несостоятельность, но аналитическая схема и должна быть абстрактной. Закон спроса — очевидная абстракция, но он в обобщенном виде отражает поведение миллиардов людей, об обстоятельствах жизни которых мы ничего не знаем и знать не можем.
Впрочем, в последние десятилетия положение дел в экономической науке резко усложнилась: если раньше ее представления о человеческом поведении были компактны, однозначны и легко обозримы, то про современный этап ее развития такого сказать уже нельзя. Она настолько разрослась вширь, что сегодня в разных ее ответвлениях «природа» человека может пониматься по-своему. Еще недавно экономическая наука представляла собой монопарадигмальную дисциплину (существовал мейнстрим и где-то на периферии копошились небольшие неортодоксальные школы), но в настоящее время ситуация в ней стала все больше напоминать ситуацию в такой мультипарадигмальной науке, как психология, где разные исследовательские программы могут на протяжении длительного времени жить бок о бок, практически не замечая существования друг друга (что общего, скажем, у психоанализа с физиологической психологией)?
В немалой степени этот сдвиг в пользу мультипарадигмальности был обусловлен тем, что современная экономическая наука стала глубоко оппортунистической. Сегодняшним экономистам по большому счету не важно, насколько результаты их анализа вписываются или не вписываются в какую-либо целостную систему представлений о поведении человека. Главное для них — обнаружить новый пласт количественных данных с тем, чтобы побыстрее начать включать их в свои регрессии. Скажем, в самое последнее время обозначились контуры нового раздела экономического анализа — геноэкономики [Benjamin et al., 2007; 2012]. Ее появление стало возможно после того, как биологи научились достаточно дешево расшифровывать геномы конкретных людей и на основании этих расшифровок приписывать каждому из нас некий полигенетический индекс, показывающий, у кого гены «лучше», а у кого «хуже». Как только экономисты это обнаружили, они начали немедля вставлять полигенетический индекс в свои эконометрические расчеты. И похоже, у геноэкономики есть все шансы на то, чтобы в ближайшие годы стать наимоднейшим направлением экономического анализа; если же такое случится, нас наверняка ждет вал публикаций по этой тематике.
Повторю: еще несколько десятилетий назад Homo oeconomicus был одиночкой в том смысле, что экономическая наука имела дело только с ним и ни с кем больше. Да, он был не по душе различным неортодоксальным (анти-неоклассическим) школам экономической мысли, но несмотря на все их усилия предложить свой операциональный и работоспособный вариант модели человека, сделать им это никак не удавалось. Все сводилось к критике традиционной модели рационального выбора за то, что она нереалистична, излишне абстрактна, внеисторична, учитывает чрезмерно узкий набор мотивов и т. д. В поисках альтернатив они обращались за концептуальной поддержкой к другим социальным дисциплинам — социологии, психологии, антропологии, но результаты подобных попыток неизменно оказывались разочаровывающими: реальных конкурентов у Homo oeconomicus’а не возникало.
Однако после того, как в 1980–1990-е годы экономическая наука пережила методологический переворот, в ней, как в Греции, теперь уже «есть всё»: помимо нашего старого доброго знакомого конвенционального Homo oeconomicus’a сегодня по страницам академических экономических журналов разгуливает множество новых персонажей, как состоящих, так и не состоящих с ним в кровном родстве. На рис. VI.1 я попытался представить его новоявленных родственников визуально.
На этом рисунке конвенциональный Homo oeconomicus, воплощающий исходную («узкую») модель рационального выбора, изображен в виде ожившей скульптуры Аполлона Бельведерского, но только с неподвижной головой, всегда обращенной в одну и ту же сторону — в сторону корыстных материальных интересов. Однако рядом с ним мы обнаруживаем Супер-Аполлона, у которого голова может беспрепятственно поворачиваться во все стороны. Он может преследовать не только материальные, но и нематериальные цели и вести себя не только эгоистически, но и альтруистически. (На рис. VI.1 он представлен в виде скульптуры Аполлона с черным поясом и татуировкой «СУПЕР»). Единственное требование к его поведению — оно должно оставаться рациональным (иными словами, последовательным и внутренне непротиворечивым). Своим рождением Супер-Аполлон обязан упоминавшемуся ранее «экономическому империализму», выступившему с претензией на унифицированное объяснение любых возможных форм человеческого поведения исходя из расширенной модели рационального выбора.
Рис. VI.1. Homo oeconomicus и Ko
Параллельно с этим экспериментальная экономика приступила к анализу условий, при которых недостаточно рациональные и недостаточно информированные индивиды (скажем, подростки) могут тем не менее вести себя так, как если бы они были полностью рациональны и обладали совершенной информацией. (На рис. VI.1 этой модели человека соответствует скульптура «недоделанного» Аполлона с булыжником вместо головы.) Речь может идти о действии таких факторов, как накопление опыта, усиление мощности стимулов, особенности институциональной среды и т. д. (Как отмечал в свое время Ф. Хайек, в определенных институциональных условиях — прежде всего рыночных — люди начинают действовать более рационально, чем они могли бы действовать автономно, предоставленные самим себе.) Но в то же самое время поведенческая экономика начала поставлять в промышленных масштабах Homo oeconomicus’ов со всевозможными встроенными дефектами — разнообразными отклонениями (biases) от идеала совершенной рациональности. Это, если воспользоваться выражением из лесковской повести «Левша», Аболоны Полведерские — кривые, косые, лысые, одноногие, однорукие, беззубые, горбатые и т. д., неспособные по каким-то причинам принимать рациональные решения, которые более всего соответствовали бы их же собственным интересам. Поведенческой экономикой была разработана специальная политика «наджа» (подталкивания), имеющая целью снабжать этих уродцев костылями, инвалидными колясками, слуховыми аппаратами и т. д. с тем, чтобы компенсировать их «природные» изъяны.
Но и это еще не все. Представим, что от удара кувалдой скульптура Аполлона разлетелась на куски и после этого самостоятельной жизнью зажили большой палец левой руки, правый глаз, левая ноздря, кусок затылка, шестой позвонок и т. д. В их изучение сегодня плотно погружена нейроэкономика, в которой базовой единицей анализа оказываются уже не индивиды, а те или иные составляющие их нервной системы — нейронные цепи, участки мозга и т. д. (См. на рис. VI.1 скульптуру Аполлона, превращенную в груду обломков.) Наконец, если дело дойдет до оформления в качестве нового самостоятельного раздела геноэкономики, так что место людей в экономическом анализе займут их геномы, то на арене может появиться еще одна новая фигура (на рис. VI.1 ей соответствует Аполлон, сплетенный из мотков проволоки). Очевидно, что от традиционного Homo oeconomicus’а все эти персонажи уже достаточно далеки.
Надеюсь, мне удалось дать примерное представление о том, с какими разными инкарнациями человека экономического (сильно отличающимися как от своего прародителя, так и друг от друга) приходится иметь сегодня дело современным экономистам. Правда, в последующем изложении я ограничусь более или менее подробным обсуждением только двух из тех персонажей, что изображены на рис. VI.1, — Аполлона канонического и Супер-Аполлона. Речь, таким образом, пойдет не столько о сегодняшнем, сколько о вчерашнем или даже позавчерашнем дне экономической науки. Но охватить в одном рассказе все существующее в ней на данный момент скопление Аполлонов, полу-Аполлонов и четверть-Аполлонов, увы, нереально. В любом случае мне представляется совсем не лишним еще раз обратиться к тому набору идей, который исторически составлял «твердое ядро» экономического подхода к человеческому поведению.
ФОРМАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ
Концептуальное осмысление модель Homo oeconomicus получает в рамках теории полезности, с конца XIX в. образующей фундамент экономического анализа. Каждый индивид наделяется в ней упорядоченной шкалой предпочтений, отражающей то, что ему нравится или не нравится. Удовлетворяя свои предпочтения, человек извлекает «полезность». Полезность — это все, что он оценивает как благо для себя (все, от чего ему «хорошо»). Ее источником может выступать все что угодно: еда, одежда, знания, богатство, благополучие близких, алкоголь, наркотики, погода и т. д. (С точки зрения теории полезности даже наркоманы ведут себя полностью рационально, если их поведение удовлетворяет формальным критериям последовательности и внутренней непротиворечивости.)
В формализованном виде связь между количеством потребляемых нами благ и общей величиной «хорошести», которую мы от них получаем, описывается функцией полезности:
U = U(X1, X2, …, Xi, …, Xm),
где Xi — количество того или иного блага.
Ключевым в этом контексте оказывается понятие предельной полезности. «Предельной» называется полезность, которую человек получает от последней единицы любого потребленного им блага. Например, если вы съели 10 яблок, то предельная полезность яблок для вас — это та дополнительная «хорошесть», которую вам дало съедение 10-го яблока; если вы съели 20 груш, то предельная полезность груш для вас — это та дополнительная «хорошесть», которую вам дало съедение 20-й груши и т. д. (Если сегодня вы почему-либо съели только 9 яблок вместо обычных 10, то тогда предельной полезностью яблок для вас окажется полезность уже не 10-го, а 9-го яблока!)
В основу понимания любых форм человеческого поведения теория полезности кладет три очень простые регулярности, которые легко выразить формально.
Первая: функция полезности является возрастающей, т. е. чем больше количество потребляемого блага, тем выше общий уровень полезности. Так, 12 яблок лучше, чем 11; 20 груш лучше, чем 19; и т. д. Словом, большее всегда лучше меньшего:
U(X + 1) > U(X).
Ту же идею можно выразить иначе, сказав, что предельная полезность любого блага есть величина положительная, т. е. потребление еще одной дополнительной единицы блага всегда обеспечивает сколько-то добавочной «хорошести». Говоря техническим языком, первая производная у функции полезности положительна:
∂U/∂X = MU > 0.
Вторая: каждая следующая единица любого блага дает меньшую прибавку полезности, чем предыдущая. Это знаменитый закон убывающей полезности: от первого яблока мы получаем, больше полезности, чем от второго; от второго — больше, чем от третьего; от третьего — больше, чем от четвертого и т. д. В формальной записи:
MU1x > MU2x > MU3x … > MUnx.
Таким образом, хотя функция полезности является возрастающей (чем больше объем потребляемого блага, тем выше общий уровень полезности), ее возрастание идет затухающим темпом. Говоря техническим языком, вторая производная у функции полезности отрицательна:
∂2U/∂X2 < 0.
Третья: люди ищут не просто, где им лучше, а где им лучше всего. Говоря иначе, они стремятся к максимизации полезности. Целью для них является достижение самого высокого уровня благосостояния из всех возможных (при данных ресурсных ограничениях):
max U(X1, X2, …, Xm).
Нетрудно убедиться, что условием максимизации общего уровня полезности является равенство предельных полезностей у всех потребляемых благ:
MU(X1) = MU(X2) = MU(X3) = … = MU(Xm).
Интуитивно этот вывод достаточно очевиден. Будем рассуждать от противного, предположив, что предельные полезности потребляемых нами благ не равны. Скажем, последняя частичка груш приносит вам меньшую полезность, чем последняя частичка яблок. Как вы должны поступить в таком случае, если стремитесь максимизировать полезность? Очевидно, что нам следует отказаться от последней частички груш и перебросить высвободившиеся средства на дополнительную частичку яблок. Мы должны действовать так до тех пор, пока предельная полезность, получаемая нами от груш, не сравняется с предельной полезностью, получаемой нами от яблок. Когда это случится, мы достигнем самого лучшего из всех возможных состояний и вам уже не нужно будет перебрасывать средства ни от груш к яблокам, ни от яблок к грушам.
Отсюда вытекает критически важная поведенческая характеристика Homo oeconomicus’a: он постоянно озабочен замещением (субституцией, «разменом») одних благ на другие. Ни одно из них не обладает для него абсолютным приоритетом, от любого он способен отказаться ради какого-то другого. Замещение идет по всем азимутам (он всегда, так сказать, готов поменять шило на мыло), поскольку у любого его решения есть издержки в виде упущенных возможностей (это то, что мы могли бы иметь, но не имеем, потому что приняли другое решение). Ведь выбор чего-то одного автоматически предполагает отказ от чего-то другого. Один Homo oeconomicus предпочтет сдать кровь в качестве донора вместо того, чтобы пойти на модную презентацию с последующим фуршетом, другой — просидеть лишний час за видеоигрой вместо того, чтобы пойти погулять с ребенком, и т. д. Все эти виды поведения укладываются в описанную схему. В результате максимизирующий полезность Homo oeconomicus будет пытаться распределять свои ограниченные ресурсы таким образом, чтобы последние потребленные им единицы всех благ приносили ему одинаковую полезность (в противном случае он сразу же начнет замещать то, что для него менее ценно, тем, что более ценно).
В проблемном поле экономической теории именно этот вопрос — об оптимальном размещении ресурсов — является центральным: как распределить имеющийся у нас доход между благами A и B так, чтобы достичь максимума благосостояния (чтобы последний доллар, потраченный на покупку A, приносил нам такую же полезность, как последний доллар, потраченный на покупку В)? Знаменитое определение, сформулированное английским экономистом Л. Роббинсом, гласит, что экономическая наука занимается изучением размещения ограниченных ресурсов между конкурирующими целями [Роббинс, 1993].
Ситуация усложняется тем, что в вероятностном мире, в котором мы живем, большинство наших решений могут иметь несколько исходов. С учетом этого люди будут стремиться максимизировать не просто полезность, а ожидаемую полезность (expected utility), т. е. полезность, взвешенную с учетом вероятностей различных возможных исходов. Если возможных исходов всего два, то ожидаемую полезность (EU) можно выразить так:
EU = p × U(A) + (1 — p) × U(B),
где p — вероятность наступления исхода A, а (1 — p) — вероятность наступления исхода B. Соответственно, в вероятностном мире Homo oeconomicus должен не только уметь сравнивать полезности, но и уметь оценивать вероятности (иначе его поведение перестанет быть рациональным).
Пусть перед нами развилка двух дорог. На дороге, идущей налево, через километр есть камень, под которым лежит купюра в 50 долл., и про это нам известно с абсолютной достоверностью. На дороге, идущей направо, через километр тоже есть камень, но под ним с 90-процентной вероятностью лежит купюра в 10 долл. и с 10-процентной вероятностью купюра в 100 долл. По какой дороге пойдет Homo oeconomicus, стремящийся максимизировать ожидаемую полезность? Правильный ответ: по левой, потому что решая, куда пойти, он будет взвешивать вероятности получения купюр разного достоинства. Умножив 50 долл. на 100 %, получаем для левой дороги выигрыш в 50 долл. Умножение 10 долл. на 90 % дает 9 долл., а умножение 100 долл. на 10 % дает 10 долл.; сложив эти суммы, получаем для правой дороги выигрыш лишь в 19 долл. А раз так, то человек экономический, конечно же, пойдет налево! Хотя приведенный пример предельно упрощенный (в работах по теории ожидаемой полезности часто бывает задействована зубодробительная математика), тем не менее он дает представление о базовых интуициях, направляющих наше экономическое мышление.
Итак, теория полезности исходит из того, что человеческое поведение подчинено трем простейшим закономерностям: больше — лучше, чем меньше; каждая следующая единичка любого блага приносит меньше удовлетворения, чем предыдущая (закон убывающей полезности); людям свойственно стремиться к максимуму «хорошести», который они способны достичь. Перед нами крайне экономная, непритязательная, стройная и задействующая минимум «природных» человеческих свойств аналитическая конструкция, отвечающая здравому смыслу и элементарному житейскому опыту.
Эта конструкция включает несколько опорных строительных блоков, причем для каждого из них существуют облегченные версии, упрощающие анализ. Схематически они представлены на рис. VI.2.
Шкала предпочтений. Homo oeconomicus стремится максимизировать сумму «хорошестей», которые доставляют ему различные блага, исходя из имеющейся у него шкалы предпочтений. Чтобы ее можно было назвать рациональной, она должна удовлетворять определенным формальным требованиям: быть полной, транзитивной (если благо A предпочтительнее блага B, а благо B предпочтительнее блага C, то благо A должно быть предпочтительнее блага C), независимой от контекста и т. д. В упрощенной версии предпочтения предстают как экзогенно заданные и стабильные (не меняющиеся во времени). Другое широко распространенное упрощение: если предположить, что человек движим только корыстными интересами и озабочен получением только материальных благ, мы получаем конвенционального Homo oeconomicus’a (т. е. первого Аполлона на рис. VI.1 с головой, всегда обращенной в одну и ту же сторону).
Рис. VI.2. Анатомия модели Homo oeconomicus
Способности. Способности определяют нашу сравнительную производительность в разных видах деятельности. Они могут быть как врожденными, так и благоприобретенными. С одной стороны, они подвержены естественному процессу физического и морального износа. С другой — мы можем развивать их, накапливая опыт и инвестируя в свой человеческий капитал. В упрощенной версии Homo oeconomicus оказывается наделен сверхчеловеческими способностями — бездонной памятью и неограниченными счетными возможностями, позволяющими принимать решения любой степени сложности за миллиардные доли секунды. По сути, это предполагает, что издержки принятия решений для него отсутствуют.
Информация. При выработке индивидом решений критическое значение может иметь любая доступная информация — о ценах, доходах, технологиях, своих способностях, своих предпочтениях и т. д. В реальности знания человека всегда «кусочны». Соответственно поиск дополнительной информации оказывается для него важнейшим направлением деятельности. Работники ищут на рынке труда лучше оплачиваемые рабочие места; потребители ищут магазины, где цены ниже, и т. д. В упрощенной версии Homo oeconomicus наделяется совершенной информацией, т. е. знанием обо всем и обо всех.
Представления. Homo oeconomicus строит субъективные оценки вероятности наступления значимых для него будущих событий. При поступлении новой информации он сразу приступает к их пересмотру. Иначе говоря, его представления о том, какой вариант действий обеспечивает максимизацию ожидаемой полезности, меняются. В упрощенной версии предполагается, что он с точностью знает объективные вероятности наступления всех значимых для него будущих событий.
Ограничения. Ограничения определяют открытый перед нами набор возможностей. Он задается существующими ценами, имеющимся у нас доходом, доступностью ресурсов (в том числе временны́х и информационных), институциональной средой, особенностями психологии. В упрощенной версии учитывается лишь один класс ограничений — денежных.
Суммируя: предпочтения говорят о том, что мы хотим, способности — что умеем, информация — что знаем, представления — что предвидим, ограничения — что нас окружает и нам мешает. По каждому из этих пунктов существуют облегченные версии, упрощающие и схематизирующие человеческое поведение настолько, насколько это необходимо, чтобы стало возможно прилагать к нему имеющиеся в нашем распоряжении аналитические инструменты. В случае предпочтений — это предположение, что они отличаются стабильностью во времени, а также являются эгоистическими и материалистическими; в случае способностей — что индивиды обладают идеальной памятью и безграничными счетными возможностями; в случае информации — что она является совершенной; в случае представлений — что индивиды наделены даром абсолютного предвидения будущего; в случае ограничений — что они носят исключительно денежный характер. Существует много проблем, при анализе которых подобного рода упрощения оказываются полезными и оправданными, но есть также проблемы, при анализе которых они становятся контрпродуктивными. Расширенный вариант модели рационального выбора (Супер-Аполлон на рис. VI.1) предполагает отказ, по крайней мере, от части этих упрощающих предпосылок. Поэтому некорректно, как это нередко делают, ставить знак равенства между конструктом Homo oeconomicus как таковым и его облегченной канонической версией: на самом деле его аналитические возможности значительно шире, чем кажется на первый взгляд.
Традиционно экономисты исходили из предположения о стабильности индивидуальных предпочтений, потому что если это так, то тогда любые изменения в нашем поведении будут обусловливаться изменениями в ограничениях, в которых нам приходится действовать. По большей части шкала предпочтений воспринималась ими как «черный ящик», внутрь которого они старались не заглядывать, поскольку объяснения, апеллирующие к особенностям устройства этого «ящика», открывали широкое поле для исследовательского произвола. Отказ от объяснений через сдвиги в структуре предпочтений дисциплинирует анализ, требуя искать причины любых поведенческих изменений в изменениях набора ограничений (нижний блок на рис. VI.2), а не в изменениях шкалы ценностей индивидов (верхний блок на рис. VI.2).
И все же некоторые типы предпочтений учитывала и изучала даже традиционная экономическая наука. Во-первых, это выбор между трудом и досугом: кому-то больше по душе бить баклуши, а кому-то упорно трудиться, получая за это больше денег и имея поэтому больше возможностей для потребления. Во-вторых, это отношение к риску: одни избегают рискованных решений, другие любят их, третьи к ним нейтральны. В-третьих, это предпочтение времени: одни люди терпеливы, другие нетерпеливы; кто-то готов поместить на банковский счет крупную сумму даже под 1 %, а кто-то только мелкую и только под 20 %. (Отсюда видно, что второй индивид гораздо сильнее, чем первый, ценит текущие блага по сравнению с будущими.) В-четвертых, это соотношение между альтруизмом и эгоизмом.
Исходно Homo oeconomicus’у вменялся абсолютный эгоизм. Но на деле ничто не мешает ему быть и чистым альтруистом. Ведь альтруизм — это не что иное, как положительная взаимосвязь между функциями полезности двух людей. С формальной точки зрения это означает лишь то, что уровень благосостояния другого человека входит в качестве еще одного дополнительного аргумента в мою функцию полезности (скажем, родители радуются, когда радуется их ребенок). Но возможна также и отрицательная взаимосвязь: садизм — мне хорошо, когда другому плохо; зависть — мне плохо, когда другому хорошо. Разные агенты обладают неодинаковыми запасами альтруизма и эти различия необходимо учитывать.
В свете такого понимания чисто эгоистическое поведение предстает как точка абсолютного морального нуля (рис. VI.3). Оно означает отсутствие какой-либо связи (как положительной, так и отрицательной) между моей функцией полезности и функциями полезности других людей: мне полностью безразлично, плохо им или хорошо. Стоит также отметить, что если общество, состоящее из одних только чистых эгоистов, по крайней мере гипотетически представимо, то общество, состоящее из одних только чистых альтруистов, являет собой очевидный нонсенс: ведь альтруист получает удовлетворение от эгоистического поведения тех, чье благосостояние ему небезразлично и кому он направляет свои дарения с целью их «поедания»! В сообществе, не знающем эгоизма, альтруистам было бы просто-напросто нечему радоваться: ведь в нем были бы исключены все случаи эгоистического поведения, по поводу которых они могли бы испытывать альтруистические чувства (см. выше пример с родителями и ребенком).
Впрочем, в последние десятилетия экономическая наука стала все больше выходить за традиционные рамки, включая в сферу своего анализа все новые и новые типы предпочтений. Де-факто, современные экономисты перестали относиться к шкале предпочтений как к «черному ящику»: из экзогенного они стали превращать ее в эндогенный фактор.
В качестве итоговой характеристики Homo oeconomicus’а приведу высказывание главного поборника и проводника «экономического империализма», лауреата Нобелевской премии Гэри Беккера, которое показывает, насколько широки аналитические возможности этой, на первый взгляд, столь незамысловатой конструкции: «Индивиды максимизируют свое благосостояние таким, каким они его себе представляют, независимо от того, являются ли они эгоистами или альтруистами, лояльными людьми, недоброжелательными или мазохистами. Их поведение устремлено в будущее (forward-looking), так что предполагается, что оно отличается согласованностью во времени. В частности, они стараются, насколько это возможно, предвидеть неопределенные последствия своих действий. Вместе с тем такое ориентированное на будущее поведение может уходить своими корнями в прошлое, ибо прошлое способно отбрасывать длинную тень на установки и ценности человека. Действия индивидов ограничиваются размерами дохода, имеющимся у них временем, несовершенством памяти и счетных способностей, доступностью других ресурсов, а также возможностями, открывающимися в экономике и иных сферах. …В различных ситуациях решающее значение приобретают разные ограничения, но наиболее фундаментальным из них является недостаток времени» [Беккер, 2003, с. 583].
Рис. VI.3. Эгоизм как точка морального нуля
НЕФОРМАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ: ЧЕЛОВЕК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ЕГО АНТИПОДЫ
Перейдем от формального к неформальному портрету Homo oeconomicus’а, сравнив его с его антиподами — альтернативными концепциями человека, имплицитно или эксплицитно присутствующими в других социальных дисциплинах. В свое время развернутое сопоставление такого рода было преставлено в серии статей двух замечательных американских экономистов К. Бруннера и У. Меклинга [Meckling, 1976; Brunner, Meckling, 1977; Бруннер, 1993]. Модель человека экономического они обозначили акронимом REMM — Resourceful, Evaluating, Maximizing Man (изобретательный, оценивающий, максимизирующий человек) [Meckling, 1976]. Каковы же его отличительные поведенческие черты?
REMM не безразличен к альтернативным состояниям мира: имея согласованную и внутренне непротиворечивую шкалу предпочтений, он все на свете оценивает, ранжирует, упорядочивает. При этом его нельзя считать 100-процентным материалистом или эгоистом: в систему его предпочтений входят как материальные, так и нематериальные блага. Он непассивен, изобретателен и креативен: встречая на своем пути ограничения, он не принимает их как данность, а начинает думать о том, как бы их обойти, чтобы добиться лучшего результата (говоря иначе, он включается в поисковую активность и принимается экспериментировать с целью их преодоления). Степень его изобретательности во многом определяется тем, насколько значимой для себя он считает ту или иную проблему. Он способен к обучению и накоплению новых знаний (обучение, подражание, экспериментирование, инновативность, нащупывание предпочтительных решений путем проб и ошибок — все это проявления его изобретательности).
REMM сознает ограниченность имеющихся у него ресурсов (в том числе временны́х) и старается экономить на всем, на чем только можно (включая сами издержки принятия решений). Он максимизатор: в любой ситуации он стремится к тому, чтобы занять наилучшую — в его субъективном восприятии! — позицию из всех возможных. С этой целью он непрерывно занимается замещением («разменом») по всем направлениям, жертвуя тем, что для него менее ценно, ради того, что для него более ценно. Он ориентирован на будущее, приписывая предстоящим ожидаемым событиям субъективные вероятности. (Это означает, что REMM стремится к максимизации своего благосостояния не на данный момент, а на всем интервале предстоящей жизни.) При столкновении с разными типами ограничений (например, в разных институциональных контекстах) он демонстрирует разные типы поведения: «Человек является оценивателем. Он не безразличен к окружающему его миру. Он дифференцирует, сортирует и упорядочивает состояния мира и в процессе этого упорядочивания сводит все объекты, с которыми сталкивается, к сравнимым величинам. Вещи, которые оцениваются им положительно, он предпочитает иметь в бо́льших количествах. Более того, то, как он их оценивает, зависит от контекста. Любая данная добавка положительно оцениваемого блага оценивается индивидом все ниже и ниже по мере того, как растет общее количество блага, которое ему доступно. Человек стремится вступать в „размены“ (trade-offs) по всем направлениям. Он всегда готов поступиться некоторым количеством любого имеющего ценность предмета ради некоторого количества другого предмета, который он ценит выше. Его оценки тяготеют к тому, чтобы быть транзитивными, что служит выражением непротиворечивости его системы ценностей» [Brunner, Meckling, 1977, p. 71–72].
Важнейшая («онтологическая») особенность модели REMM состоит в том, что источником ценностей выступает в ней сам человек: его оценки формируются в соответствии с его собственными субъективными суждениями, представлениями и интерпретациями. Он отказывается делегировать право выбора, когда речь идет о его благосостоянии, каким-либо третьим лицам, предпочитая сохранять контроль над решениями, затрагивающими лично его, за собой. При этом признание его рациональным агентом вовсе не предполагает «рациональности» преследуемых им целей. В данном пункте экономическая наука воздерживается от каких бы то ни было оценочных суждений. Рациональность понимается ею чисто формально: как согласованность между имеющимися у человека целями, а также между его целями и используемыми им средствами.
Обратимся теперь к главному антиподу Homo oeconomicus’а — «человеку социологическому». Ключевая характеристика традиционного социологического подхода — перенос акцента с интересов индивида на интересы общества [Бруннер, 1993]. При таком подходе человек предстает как продукт культурной среды (традиций, табу, нравов, обычаев), в которой он вырос и функционирует [Meckling, 1976]. Но если все решает она, то понятия целей, адаптивного поведения, индивидуального выбора, фундаментальные для модели REMM, отпадают по причине их полной ненадобности (де-факто все за человека решает среда).
Человек социологический не принимает самостоятельных решений, поскольку разделяемые им ценности «имплантируются» ему социумом (имеющаяся у него шкала предпочтений формируется внешними по отношению к нему силами, без его прямого участия). Любые ценности, присутствующие в головах людей, задаются извне: они находятся за пределами инициативы и решений индивидов [Durkheim, 1961]. Хотя у каждого человека имеются определенные предпочтения (вкусы), они диктуются социумом и с точки зрения выявления причинно-следственных связей выступают, таким образом, как излишнее промежуточное звено, которым при научном анализе можно безболезненно пренебречь.
По сути человек социологический представляет собой пассивную игрушку в руках безличных социальных сил: он не адаптивен, не креативен и не способен ничего оценивать. Он либо имитирует то, что видит вокруг себя, либо делает то, что скажут ему другие. По замечанию У. Меклинга, его можно считать оценивателем «не в большей мере, чем муравьев, пчел или термитов» [Meckling, 1976, p. 552]. В этом контексте само понятие индивидуального благосостояния (сверх удовлетворения физиологических потребностей) лишается смысла.
Базовую версию человека социологического удобно обозначить акронимом SRSM — Socialized, Role-playing, Sanctioned Man (социализированный, играющий роли, подлежащий санкциям человек) [Lindenberg, 1985]. SRSM с рождения запрограммирован социальным окружением. Предполагается, что общество структурировано в виде множества ролей и что в процессе социализации люди обучаются конкретным ролям с вмененными им обязанностями и характеристиками. Система ролевого поведения формирует у членов общества стабильные ожидания, так что благодаря ей они становятся способны предвидеть реакции друг друга. Однако социализация не всегда проходит успешно. В случае неудачной социализации человек начинает демонстрировать девиантное поведение, отклоняясь от принятых в обществе норм. Соответственно, в целях контроля за таким поведением процесс социализации дополняется/подкрепляется санкциями — как положительными так и отрицательными. В ходе социализации индивид научается хотеть делать то, что он должен делать: при расхождениях в дело вступают санкции, восстанавливающие соответствие между желаемым и должным [Ibid., p. 101]. Благодаря этому девиации купируются, и люди в своем большинстве начинают вести себя так, как предписано социумом.
SRSM ничего не оценивает и ничего не изобретает: он слепо подчиняется ограничениям, порождаемым санкциями и ролевыми ожиданиями. В этом смысле он выступает как конформист и блюститель условностей (он и сам их блюдет и готов наказывать за их несоблюдение других) [Meckling, 1976]. В процессе социализации он лишь интериоризирует предписываемые ему нормы и ценности, не принимая сам прямого участия в формировании собственных предпочтений. (Можно сказать, что SRSM предстает как чистый лист, на котором общество записывает все, что сочтет нужным [Lindenberg, 1985].) Он всегда действует исходя из ситуационных ролевых ожиданий, оценивая любые события исключительно в терминах соответствия/несоответствия предписанным ролям. Естественно, что в подобных условиях ни о какой максимизации (т. е. выборе наилучшего варианта из имеющихся) вопроса не возникает: возможности замещения исключаются и ничто не максимизируется. При этом SRSM парадоксальным образом оказывается свободен от любых иных типов ограничений («несоциальных»): согласно традиционному социологическому подходу, ограниченность временны́х или физических ресурсов никак не будет влиять на его поведение.
Альтернативная версия человека социологического обозначается акронимом OSAM — Opinionated, Sensitive, Acting Man (высказывающий мнения, сенситивный, действующий человек) [Ibid.]. Примерно по такой схеме ведут себя реальные люди, когда принимают участие в опросах общественного мнения. Хотя OSAM формирует представления о событиях окружающего мира, он делает это по большому счету не сам, так как очень податлив (сенситивен) к влияниям извне. Говоря иначе, его оценки находятся в прямой зависимости от преобладающих в обществе мнений и меняются вместе с ними. При этом высказывая свои мнения, он не чувствует себя скованным какими-либо ограничениями (временны́ми или ресурсными), поскольку их выражение не налагает на него в будущем никаких издержек [Ibid.]. Отсюда такая отличительная черта поведения, как безответственность: из-за отсутствия издержек, которые могли бы быть следствием высказываемых им суждений, ничто не мешает ему придерживаться одновременно взаимоисключающих точек зрения или выдвигать заведомо нереалистичные, астрономически затратные предложения. Понятно также, что в мире без ограничений нет необходимости заниматься замещением (менять шило на мыло), поскольку в нем возможно все (чтобы получить шило, не обязательно отказываться от мыла). Этим в конечном счете объясняется та легкость, с какой OSAM готов менять свои мнения по любому вопросу. По той же причине ему не свойственна изобретательность: ведь при отсутствии ресурсных ограничений заниматься поиском и экспериментированием попросту незачем [Ibid.].
Итак, модель OSAM предполагает, что индивиды действуют напрямую исходя из имеющихся у них мнений без учета выгод и издержек, которые могут за этим последовать. Соответственно, их ожидания и оценки оказываются никак не связаны ни с актами выбора, ни с процессом максимизации [Lindenberg, 1985]. В подобных условиях социальные изменения будут полностью определяться изменениями в ценностях (мнениях) людей (верхний блок на рис. VI.2), тогда как изменения в окружающих их ограничениях (нижний блок на рис. VI.2) не будут иметь никакого значения.
Парадоксально, но при определенных условиях REMM может начать вести себя неотличимо от OSAM или SRSM [Ibid.]. Будучи освобожденным от всех ограничений, он станет действовать как социологический человек № 2, а будучи помещенным в малые, стабильные и слабо дифференцированные общества (составляющие основной предмет интереса антропологов) — как социологический человек № 1.
В таких обществах практически все значимые ограничения оказываются уже прочно закреплены в санкциях и ролевых ожиданиях. Как следствие, максимизирующее поведение совпадает в них с конформным, поскольку именно последнее обеспечивает максимально высокий уровень благосостояния. Во-первых, в малых стабильных обществах интериоризированные моральные нормы и санкции задают такое соотношение выгод/издержек, при котором индивиды оказываются заинтересованы в максимально точном исполнении предписанных ролей. Во-вторых, в малых стабильных обществах индивиды оказываются невосприимчивы к колебаниям в соотношении выгод/издержек, порождаемым изменениями в окружающей среде, поскольку знают по опыту, что эти колебания носят краткосрочный характер и что рано или поздно все вернется на круги своя. В результате REMM начинает вести себя так, как если бы он был SRSM!
Но стоит только стационарному обществу выйти из состояния стационарности, как модель SRSM — в отличие от модели REMM — теряет объяснительную силу. Тогда поведение, максимизирующее разность между выгодами и издержками, перестает совпадать с конформным поведением и на авансцену выходит REMM, «дремавший» за спиной SRSM: «Есть все основания полагать, что в очень стабильных обществах большинство значимых ограничений (если не все они) окажутся воплощены в ролевых ожиданиях и санкциях. В подобных ситуациях модель SRSM будет представлять собой сжатую стенографическую запись взаимодействия институтов, структурных ограничений и социального поведения, взятых как единое целое. Все сведется к ситуациям, в которых ожидаемое поведение будет всегда принадлежать к множеству доступных альтернатив и в которых способ поведения, предписываемый ролевыми ожиданиями, всегда будет обеспечивать наибольшую разность между ожидаемыми выгодами и ожидаемыми издержками. Представим себе организацию, в которой все ведут себя так, как им сказано. Тогда все, что нам потребуется, чтобы предсказать поведение любого индивида, занимающего ту или иную позицию, — это ознакомиться с внутренним распорядком данной организации (т. е. описать взаимосвязь ролевых ожиданий). Не удивительно, что антропологи часто следовали такому „стенографическому“ подходу при изучении малых стабильных обществ, используя SRSM в качестве своей модели человека. Важно, однако, отметить, что в подобных ограничениях REMM будет вести себя так, как если бы он был SRSM. Но как только эти ограничительные условия перестанут действовать, SRSM уже не сможет дать нам никакого ключа к пониманию того, как станет меняться поведение людей» [Ibid., p. 102].
Примером модели «человека психологического» может служить тип поведения, который подразумевается знаменитой пирамидой потребностей А. Маслоу [Maslow, 1954][98]. Это существо, во многом похожее на REMM: оно также движимо потребностями, которые стремится удовлетворять, и также действует в условиях ограниченности ресурсов [Meckling, 1976]. Однако хотя его желания и побуждения четко структурированы (делясь на низшие и высшие), они всегда остаются несоизмеримыми. В отличие от шкалы предпочтений REMM потребности человека Маслоу располагаются в жестком иерархическом порядке: пока полностью не удовлетворены потребности низшего порядка, он не переходит к удовлетворению потребностей высшего порядка (рис. VI.4). В экономической литературе подобную структуру предпочтений принято называть лексикографической, поскольку в ней потребности располагаются в строгой последовательности подобно буквам алфавита. В этих условиях проблема максимизации тривиализуется: весь дополнительный доход человек Маслоу будет направлять на удовлетворение потребностей более низкого порядка, остававшихся еще не до конца удовлетворенными [Ibid.].
Принципиальное отличие человека психологического от человека экономического заключается в том, что поведение первого исключает возможности замещения («размена») одних благ на другие: он не готов пожертвовать даже крошкой хлеба ради достижения сколь угодно высокой степени безопасности! Пока он голоден, он не начнет заботиться о безопасности; пока он не почувствует себя в полной безопасности, он не станет обзаводиться социальными связями; пока не будут удовлетворены его потребности в любви и принадлежности, он не станет стремиться к признанию и уважению; пока он не добьется признания и уважения, он не займется самоактуализацией. (Грубо говоря: о смысле жизни он станет задумываться только после полного удовлетворения своих сексуальных влечений…) Отсюда следует, что человек Маслоу не изобретателен и по сути действует как автомат: все его оценки уже сформированы за него чисто биологическими факторами. Стоит также отметить, что эмпирические предсказания, следующие из пирамиды Маслоу, настолько противоречат элементарному житейскому опыту, что даже странно, как такая искусственная конструкция могла завоевать всемирную известность и на протяжении многих десятилетий оставаться предметом обязательного изучения в школах бизнеса.
Рис. VI.4. Пирамида потребностей Маслоу
Последний персонаж из нашей галереи — «человек политический». Это главное действующее лицо «классической» политической теории, традиционно строившейся вокруг понятия общественного интереса. Подобно человеку экономическому, человек политический также изобретателен и также подвергает все оцениванию и упорядочиванию, но максимизация осуществляется им исходя из коллективных, а не индивидуальных целей [Brunner, Meckling, 1977]. Это альтруист, стремящийся к наибольшему благу для всего общества. Проблематичность подобной конструкции связана с тем, что неявно она вменяет человеческому поведению шизофреническую раздвоенность: получается, что пребывая в экономической сфере, люди руководствуются эгоистическими соображениями, но стоит им переместиться в политическую сферу, как они мгновенно преображаются в альтруистов, думающих только о благе общества. Картина странная и интуитивно малоправдоподобная.
Школа public choice, связанная с именами таких выдающихся экономистов, как Дж. Бьюкенен, Г. Таллок и др., поставила своей целью преодолеть это шизофреническое раздвоение. Она исходит из базового представления о том, что на политических рынках люди движимы теми же мотивами, что и на экономических. Эта идея получила широкое признание в современной политологии, которая сегодня уже не склонна описывать избирателей, регуляторов, бюрократов, законодателей и политиков как стопроцентных альтруистов. (В самом деле, хорошо известно, что едва ли не худшие проявления эгоистического поведения, такие как коррупция, характерны как раз таки для сферы политики.) Гораздо естественнее полагать, что у политических агентов также имеются корыстные частные интересы и что, принимая решения, они будут исходить из полного набора предпочтений, включающего также и их[99].
Как ни странно, но этот концептуальный поворот прошел практически незамеченным для мейнстрима современной экономической теории — точнее, для его нормативной составляющей. Здесь, как и до появления школы public choice, доминирует «классическое» представление о человеке политическом, ставящем превыше всего благо общества. В государстве представители экономического мейнстрима продолжают по умолчанию видеть благожелательного диктатора (своего рода deus ex machina), вмешательство которого необходимо везде, где рынок терпит «провалы», не справляясь с задачей оптимального размещения ресурсов. Исправляя их, оно, как предполагается, всегда будет действовать в интересах общества. Нельзя, однако, не заметить, что в тех случаях, когда «провалы» терпит само государство, современная нормативная экономическая теория не склонна призывать к ослаблению государственного вмешательства и предоставлению большей свободы рынку. Вместо этого она, как правило, поступает наоборот, призывая к замене менее жесткой формы регулирования, продемонстрировавшей свою несостоятельность, более жесткой, которая и решит все проблемы. При такой интеллектуальной игре в одни ворота не нужно удивляться, если в ближайшие десятилетия мы станем свидетелями нарастающей эскалации государственного интервенционизма.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: ЭТАП ДЕКОНСТРУКЦИИ
С конца 1980-х — начала 1990-х годов теория рационального выбора стала объектом активной деконструкции (об этом уже упоминалось в разделе, посвященном методологическим особенностям экономического подхода к человеческому поведению). Однако этот процесс не означал отказа от модели человека, выработанной экономической наукой, в пользу альтернативных моделей, предлагавшихся другими социальными дисциплинами: из той междисциплинарной «схватки» человек экономический, напомню, вышел несомненным победителем[100]. Сегодня о его былых конкурентах — человеке социологическом, человеке психологическом, человеке политическом — уже мало кто вспоминает.
Дело в том, что радикальная деконструкция стандартной модели рационального выбора была предпринята не извне, а изнутри экономической науки: силами самих экономистов в союзе с психологами. Ее основной посыл сводился к тому, что в действительности человеческое поведение значительно менее рационально, чем был готов допускать традиционный экономический анализ. К настоящему времени накоплено уже несколько сотен поведенческих аномалий, свидетельствующих о том, что человек далеко не всегда действует в собственных интересах, принимая наилучшие для себя решения: реальные люди непоследовательны, недальновидны, невнимательны, иллогичны, подвержены эмоциям, зависимы от контекста, неверно оценивают вероятности наступления будущих событий, страдают от недостатка самоконтроля и т. д. и т. п.
И все же списывать на этом основании каноническую («узкую») модель Homo oeconomicus в архив было бы преждевременно — не говоря уже о ее более полной («расширенной») версии.
Во-первых, основной поток экономических исследований продолжает использовать ее в качестве полезной аппроксимации при решении множества конкретных задач.
Во-вторых, если раньше экономисты занимались объяснением и описанием усредненного рыночного поведения, то сейчас в тандеме с психологами они активно включились в исследование индивидуального поведения. По поводу этой переориентации, символом которой можно считать рождение поведенческой экономики, замечательный американский экономист, лауреат Нобелевской премии Вернон Смит заметил: «Это не экономика, это — психология». Но кто сказал, что междисциплинарные границы высечены в камне? В последние десятилетия экономисты начали в массовом порядке пересекать эти традиционные границы, обращаясь к темам, относящимся скорее к области психологии, причем сегодня это воспринимается как самый передний край экономической науки. И, наверное, нет ничего удивительного в том, что из-за переключения с проблем рыночного на проблемы индивидуального поведения от некоторых прежних элементов конструкта Homo oeconomicus пришлось отказываться и вводить вместо них новые. Однако распространенное мнение, что поведенческая экономика «похоронила» модель рационального выбора, ошибочно. Вместо того чтобы перестать ею пользоваться, поведенческие экономисты начали ее модифицировать и усложнять за счет включения в нее разнообразных когнитивных «поломок». В результате никакой целостной альтернативной модели человека ими предложено не было (если, конечно, такая цель ими вообще ставилась).
В-третьих, Homo oeconomicus сохраняет свое значение в качестве нормативного идеала рационального поведения. Даже критики, которые отвергают модель рационального выбора в качестве эмпирически адекватного описания процесса принятия решений реальными людьми, сохраняют ее в качестве целевого ориентира для государственной политики. Государство, по их мнению, должно направлять поведение недостаточно рациональных индивидов в рациональное русло, защищая их тем самым от самих себя.
Так что пусть в «снятом» виде, но концепт «Homo oeconomicus» остается точкой отсчета даже для новейших экономических и психологических исследований, в которых он подвергается разнообразным формам деконструкции.
ЛИТЕРАТУРА
Автономов В. С. Человек в зеркале экономической теории. М.: Наука, 1993.
Автономов В. С. Модель человека в экономической науке. СПб.: Экономическая школа, 1998.
Беккер Г. С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
Бруннер К. Представление о человеке и концепция социума: два подхода к пониманию общества // THESIS. 1993. Вып. 3. С. 51–72.
Капелюшников Р. И. В наступлении Homo oeconomicus! // Мировая экономика и международные отношения. 1989. № 4. С. 142–148.
Капелюшников Р. И. Поведенческая экономика и «новый» патернализм. Ч. I // Вопросы экономики. 2013a. № 9. С. 66–90.
Капелюшников Р. И. Поведенческая экономика и «новый» патернализм. Ч. II // Вопросы экономики. 2013б. № 10. С. 1–19.
Капелюшников Р. И. Статус принципа рациональности в экономической теории: прошлое и настоящее // Журнал Новой экономической ассоциации. 2017. № 2. С. 162–166.
Капелюшников Р. И. Вокруг поведенческой экономики: несколько комментариев о рациональности и иррациональности // Журнал экономической теории. 2018. Т. 15. № 3. С. 359–376.
Роббинс Л. Предмет экономической науки // THESIS. 1993. Вып. 1. С. 10–23.
Шаститко А. Е. Модели человека в экономической теории. М.: ИНФРА-М, 2006.
Benjamin D. J., Chabris C. F., Glaeser E. L. et al. Genoeconomics // Biosocial Surveys. Committee on Population, Division of Behavioral and Social Sciences and Education / ed. by M. Weinstein, J. W. Vaupel, K. W. Wachter. Washington: The National Academies Press, 2007. P. 304–335.
Benjamin D. J., Cesarini D., Chabris C. F. et al. The Promises and Pitfalls of Genoeconomics // Annual Review of Economics. 2012. Vol. 4. P. 627–662.
Brunner K., Meckling W. H. The Perception of Man and the Conception of Government // Journal of Money, Credit and Banking. 1977. Vol. 9. No. 1. P. 1. P. 70–85.
Durkheim E. Moral Education: A Study in the Theory and Application of the Sociology of Education. N. Y.: Free Press, 1961.
Economic Imperialism: The Economic Approach Applied Outside the Field of Economics / ed. by G. Radnitzky, P. Bernholtz. N. Y.: Paragon House Publishers, 1987.
Ingram J. K. A History of Political Economy. N. Y.: Augustus M. Kelley, 1967.
Keynes J. N. The Scope and Method of Political Economy. N. Y.: Augustus M. Kelley, 1963.
Lindenberg S. An Assessment of the New Political Economy: Its Potential for the Social Sciences and for Sociology in Particular // Sociological Theory. 1985. Vol. 3. No. 1. P. 99–114.
Maslow A. H. Motivation and Personality. N. Y.: Harper & Row, Publishers, 1954.
Meckling W. H. Values and the Choice of the Model of the Individual in the Social Sciences (REMM) // Schweizerische Zeitschrift fur Volkswirtschaft und Statistik. 1976. Vol. 112. No. 4. P. 545–560.
Mill J. S. On the Definition of Political Economy; and on the Method of Investigation Proper to It // Mill J. S. Collected Works. Toronto: University of Toronto Press, 1967. Vol. 4. P. 120–164. [1836].
Persky J. The Ethology of Homo Economicus // Journal of Economic Perspectives. 1995. Vol. 9. No. 2. P. 221–231.
VII Статус принципа рациональности в экономической теории: прошлое и настоящее[101]
Я воспринял вопрос, давший название нашему Круглому столу — «Рациональность и иррациональность в экономической теории», буквально и поэтому попытаюсь дать на него буквальный ответ.
Как хорошо известно, понятие рациональности в том виде, в каком оно закрепилось в экономической теории, является не содержательным, а формальным. Оно характеризует не содержание целей, которые преследует экономический агент (они, строго говоря, могут быть любыми), а всего лишь их соотношение друг с другом, а также соотношение между ними и используемыми для их достижения средствами.
Если попытаться дать минималистское, нетехническое определение рационального поведения, то оно, как мне кажется, может быть сведено к двум пунктам:
● предполагается, что экономические агенты обладают согласованной, внутренне непротиворечивой шкалой предпочтений;
● предполагается, что при принятии решения экономические агенты используют всю доступную релевантную информацию (релевантную именно для данного конкретного решения).
Исходно в экономической теории основной акцент делался на первом пункте, второй начал активно разрабатываться относительно недавно. Однако это не значит, что «старые» экономисты не осознавали его важности: например, когда Л. фон Мизес пишет, что рациональное поведение предполагает, что экономический агент быстро, насколько это возможно, адаптируется к изменившимся условиям [Мизес, 2000], то это, по существу, та же самая идея, только выраженная иначе.
Если принять такое минималистское определение рациональности, то естественно спросить: что с этим определением можно делать и что с ним реально делают экономисты? А делать с ним можно очень разные вещи.
1. . Прежде всего, можно задаться вопросом, рационально ли поведение «эмпирических» индивидов. Вопреки традиционным обвинениям со стороны философов, социологов, психологов, «старые» экономисты никогда не настаивали на том, что люди всегда и во всех случаях ведут себя рационально. Они открыто утверждали обратное, описывая человека как невежественное, недалекое существо, не любящее прислушиваться к голосу разума. Исходя из соображений здравого смысла и элементарного житейского опыта, они полагали нерациональность индивидуального поведения самоочевидным фактом, но не считали, что сама эта проблема относится к предмету их науки.
Ситуация изменилась с появлением теории игр, когда в экономическую науку хлынула волна математиков. Ими идея рациональности (в форме предположения о максимизации ожидаемой полезности) была воспринята буквально — как утверждение о рациональности любого индивидуального акта выбора. Отсюда был всего лишь один шаг до попыток проверить его эмпирически: соответствует ли оно реальности или нет? Достаточно быстро такие попытки последовали, и из них выяснилось, что эмпирически оно не подтверждается. Кульминацией этого тренда можно считать поведенческую экономику, показавшую, что во множестве самых различных ситуаций, по крайней мере у значительной части людей, поведение оказывается весьма далеким от канонов рациональности [Капелюшников, 2016].
Итак, можно, по-видимому, считать твердо установленным, что в общем случае индивидуальное поведение не является рациональным в том смысле, в каком это подразумевает предложенное минималистское определение. Однако здесь будет уместно напомнить одно высказывание В. Смита [Smith, 2003]. По поводу поведенческой экономики он выразился так: поведенческая экономика — это уже не экономика, а психология. Думаю, «старые» экономисты с готовностью подписались бы под такой оценкой, поскольку они не считали, что объяснение индивидуального поведения входит в задачи их науки, и никоим образом не претендовали на подобного рода объяснение[102].
2. . Экономисты прошлого считали своей задачей объяснение не индивидуального, а группового, массового, рыночного поведения — поведения, которое является результирующей большого числа актов выбора, совершаемых множеством экономических агентов. Такие авторы, как А. Алчиан или Г. Беккер [Alchian, 1950; Becker, 1962], прямо указывали: в экономической науке рациональным предполагается не индивидуальное, а рыночное поведение. В пользу этой идеи могли выдвигаться самые разные аргументы. Например, в ход могли идти ссылки на существование особой сферы — назовем ее «экономика», которая активирует рациональную сторону человеческой натуры. Могло также утверждаться, что рынок действует как эффективный фильтр, отсекающий наиболее явные случаи отклонения от результатов, к которым привело бы рациональное поведение, так что формирование рыночных феноменов (например, цен) оказывается свободным от влияния подобных отклоняющихся решений. В этом смысле то, как субъективно строится поведение тех или иных участников, не имеет значения (скажем, выбор может делаться ими чисто случайным образом); главное, что общий результат их действий оказывается таким, как если бы они вели себя рационально. И так далее.
Идея рациональности рыночного поведения получила эмпирическую разработку в экспериментальной экономике, где, в частности, было показано, что, будучи погружены в реальную рыночную среду, даже мало информированные, не имеющие обменного опыта, нерациональные индивиды (например, подростки 10–12 лет) после двух-трех раундов эксперимента научаются вести себя как абсолютно рациональные агенты и достигают результатов, которые предполагаются моделями совершенной конкуренции. Если это так, то тогда рациональность следует рассматривать не столько как индивидуальный, сколько как социальный феномен. Мы видим, что попадая в определенную институциональную среду, индивиды начинают действовать более рационально, чем они были бы способны действовать вне нее.
В методологическом плане это предполагает, что при построении экономических моделей между их институциональной плотностью и предполагаемым в них уровнем индивидуальной рациональности существует своего рода trade-off: чем институционально «стерильнее» модель, тем выше требования, предъявляемые к рациональности и всеведению экономических агентов; чем она институционально насыщеннее, тем они ниже. В этом смысле институты («правила игры») представляют собой своего рода субституты индивидуальной рациональности. Однако из-за большей простоты выбор экономистов практически всегда склоняется в пользу моделей, сочетающих максимум индивидуальной рациональности с минимумом институциональной плотности.
3. . Вопросы, которые обсуждались в двух предыдущих пунктах, имели эмпирический характер и были связаны с тестированием предположения о рациональности человеческого поведения — либо на индивидуальном, либо на рыночном уровне. Однако в подавляющем большинстве случаев идея рациональности используется экономистами в ином качестве — не в качестве гипотезы, подлежащей проверке, а в качестве одной из базовых предпосылок, которые они принимают по умолчанию при объяснении множества самых разных экономических явлений.
Возникает вопрос: на каком основании они используют в качестве исходной предпосылки положение, про которое заведомо известно, что оно не соответствует действительности (является эмпирически опровергнутым)? Я думаю, если бы нам удалось спросить об этом какого-нибудь представителя мейнстрима, то ответ мог бы быть примерно таким же, какой в свое время дал Р. Лукас на вопрос о том, почему экономисты никак не хотят расставаться с вальрасианскими моделями общего равновесия [Lucas, 1986]. В самом деле, с институциональной точки зрения эмпирически наблюдаемая рыночная экономика является не чем иным, как сочетанием системы частной собственности с децентрализованным механизмом ценообразования. В то же время вальрасианская модель с вымышленной фигурой аукциониста, опосредующего все сделки, представляет собой сочетание системы частной собственности с централизованным механизмом установления цен (образно говоря, это частная собственность плюс Госкомцен). Как заведомо не существующий персонаж — вальрасианский аукционист — может привлекаться для описания и объяснения функционирования реальной рыночной экономики, где, как мы знаем, формирование цен происходит без его участия (по большей части индивидуальные агенты контактируют друг с другом напрямую)? Что вальрасианская конструкция с ее специфическим институциональным каркасом может дать для понимания системы, которая строится на противоположных институциональных принципах? На этот вопрос Р. Лукас отвечает апелляцией к идее, которую М. де Врой характеризует как benign neglect — что можно перевести как «благотворное (или плодотворное) пренебрежение» [De Vroey, 1998]. Суть ее сводится к следующему: мы вправе игнорировать это фундаментальное расхождение в базовых институциональных принципах, потому что несмотря на него модели с централизованным механизмом координации позволяют многое понять в функционировании реальной рыночной экономики с децентрализованным механизмом координации; как это становится возможно, вопреки столь явной институциональной асимметрии, нас, по большому счету, не должно волновать; достаточно того, что это так, и, значит, экономисты поступают правильно, не отказываясь от моделей с имплицитно присутствующим в них вальрасианским аукционистом.
В оправдание допущения о рациональности человеческого поведения представители мейнстрима точно так же могли бы сослаться на идею benign neglect. Да, мы знаем, что реальное поведение людей очень часто бывает нерациональным, но несмотря на это не отказываемся от предпосылки рациональности, потому что она позволяет строить операциональные модели и получать с их помощью неплохое описание того, что мы наблюдаем в действительности. Иными словами, как и в случае с вальрасианским аукционистом, «пренебрежение» реальным положением вещей срабатывает и приносит пользу.
Отсюда хорошо видно, что приверженность современных экономистов идее рационального поведения — это не дело принципа, а чистая прагматика. Поэтому, если мы, скажем, способны построить операциональную модель, где одна часть индивидов рациональна, а другая — нет (например, первые исходят из рациональных, а вторые — из адаптивных ожиданий), и если такая модель дает лучшие результаты, то предпочтение будет отдано именно ей.
4. . Каноническая модель рационального выбора может использоваться для целей не только позитивного, но и нормативного анализа. Так, в поведенческой экономике она выступает в качестве нормативного идеала, приближение к которому рассматривается как безусловное благо [Thaler, Sunstein, 2008].
В этом смысле ситуация с идеей рациональности напоминает ситуацию с другой базовой идеей мейнстримной экономической теории — совершенной конкуренции [Капелюшников, 2016]. Современные экономисты склонны отвергать модель совершенной конкуренции в качестве адекватного описания экономической реальности, но одновременно склонны принимать ее в качестве нормативного стандарта — из-за ее предполагаемых welfare implications, т. е. следствий с точки зрения благосостояния общества. Поэтому когда они обнаруживают в реальной жизни отклонения от идеала совершенной конкуренции, то обращают свои взоры к государству, призывая его вмешаться, чтобы приблизить фактически существующую ситуацию к гипотетической идеальной.
Точно так же сторонники поведенческой экономики отвергают стандартную модель рационального выбора в качестве адекватной теории, объясняющей принятие решений реальными индивидами, но при этом усматривают в ней нормативный идеал, к которому надлежит стремиться. Соответственно когда в чьем-либо поведении они обнаруживают серьезные отклонения от стандарта полной рациональности, то также устремляют свои взоры к государству в надежде, что оно вмешается и приблизит фактически существующую ситуацию к гипотетической идеальной [Там же].
5. . Хотя представители других социальных дисциплин традиционно критикуют экономистов за догматическую приверженность принципу рациональности, при ближайшем рассмотрении это обвинение оказывается фикцией. В истории экономической науки были целые периоды, когда мейнстримом становились теории, исходившие из представления о глубинной иррациональности человеческой натуры. Яркий пример — старое кейнсианство. У самого Дж. М. Кейнса буквально все категории экономических агентов предстают как существа, иррациональные по своей природе: рабочие страдают от денежной иллюзии; потребители движимы склонностью к потреблению, которая не имеет никакого отношения к оптимизирующему поведению; инвесторы подвержены частой смене иррациональных волн оптимизма и пессимизма и т. д. В этом океане иррациональностей единственным оплотом рацио оказывается эксперт-экономист, взявший на вооружение кейнсианскую теорию: только ему с помощью надлежащих советов государству под силу навести в этом всеобщем хаосе разумный порядок. Сходным образом классический монетаризм с его идеей адаптивных ожиданий также допускал, что участники рынка неспособны учиться на своих ошибках и обречены повторять их снова и снова.
В результате на протяжении многих десятилетий ХХ в. экономическая наука пребывала в состоянии шизофренической раздвоенности: если в микроэкономике действующими лицами выступали рациональные, то в макроэкономике — нерациональные экономические агенты.
6. . Вопрос о том, какое место в экономической теории занимает принцип рациональности, интересовал не только экономистов, но и философов. Пожалуй, особо здесь следует выделить оригинальную трактовку, предложенную в свое время К. Поппером [Popper, 1985].
Он полагал, что в основе не только экономической теории, но и всех прочих социальных дисциплин лежит принцип рациональности, и именно приверженность этому принципу делает их непохожими (в определенных отношениях) на естественные науки. Рациональное поведение понималось Поппером как действия, адекватные (сообразные) ситуации. Отсюда — попперовский термин «ситуационный анализ». Он не отрицал, что в качестве универсального закона принцип рациональности является эмпирически ложным (фальсифицированным): как показывает опыт, люди не всегда действуют так, как того требует ситуация. Тем не менее он считал этот принцип достаточно близким к тому, чтобы быть истинным, поскольку чаще всего люди действуют в соответствии с ним.
Согласно К. Попперу, в естественных дисциплинах научное объяснение строится следующим образом: если подлежащий объяснению феномен (explanandum) удается вывести, наложив на типичные исходные условия некий универсальный закон (или одновременно несколько универсальных законов) (explanans), то он считается прошедшим тест на фальсификацию и в этом смысле — объясненным [Caldwell, 1991]. В социальных дисциплинах ситуация выглядит иначе: в них объяснение строится путем наложения на типичные исходные условия (а к ним в этих дисциплинах относятся цели и знания индивидов) принципа рациональности. При этом сам он рассматривается не в качестве эмпирической теории, подлежащей проверке, а в качестве «нулевого принципа», отправной точки анализа. Даже если исходная гипотеза не находит подтверждения, принцип рациональности никогда не отвергается и считается все равно остающимся в силе: в том случае, если гипотеза оказалась фальсифицированной, ответственность за это возлагается не на него, а на другие элементы теории, составляющие специфику той или иной конкретной модели. Поппер обосновывал эту асимметрию тем, что остальные элементы теории более информативны и интересны, а также легче тестируемы, чем предположение об адекватности (сообразности) наших действий. В результате принцип рациональности оказывается тем обязательным общим элементом, который содержится в любых конкурирующих теориях, пытающихся объяснять социальные явления.
Как мы видим, исторически отношение экономической науки к принципу рациональности было достаточно амбивалентным. Амбивалентным оно остается и сейчас. С одной стороны, это предположение всегда воспринималось в качестве важнейшей составляющей «твердого ядра» экономической теории. С другой — экономисты никогда не приписывали ему статуса универсального эмпирического закона. Скорее, оно рассматривалось ими как особая методологическая установка, отличающая собственно экономический подход от других возможных подходов к изучению общества.
Тем парадоксальнее выглядит ситуация, сложившаяся в экономической науке во второй половине ХХ в., когда в макроэкономике доминировало представление о нерациональности (пусть частичной) экономических агентов, а микроэкономика оставалась верной модели рационального выбора, причем поле приложения этой модели непрерывно расширялось. В последние десятилетия роли в каком-то смысле поменялись: макроэкономический анализ предпочитает иметь дело с рациональными экономическими агентами, а в микроэкономическом анализе все более заметен интерес к различным формам нерационального поведения.
Хотя в последние десятилетия позиции принципа рациональности как в теоретических, так и в эмпирических исследованиях оказались подорваны, маловероятно, что это приведет к утрате им его традиционного статуса в качестве базового методологического ориентира для экономического анализа. Причина достаточно проста: трудно представить, как могла бы выглядеть общая теория иррационального поведения, сравнимая по широте, полноте и степени структурированности с моделью рационального выбора. Как показывает пример поведенческой экономики, исследование когнитивных аномалий неизбежно распадается на анализ множества никак не связанных между собой частных кейсов. Можно поэтому ожидать, что и в будущем методологический фундамент экономической науки будет состоять из центра, в виде принципа рациональности, и периферии, в виде многочисленных отступлений от него.
ЛИТЕРАТУРА
Капелюшников Р. И. Экономические очерки: методология, институты, человеческий капитал. М.: Изд. дом ВШЭ, 2016.
Мизес Л. Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории. М.: Экономика, 2000.
Alchian A. A. Uncertainty, Evolution, and Economic Theory // Journal of Political Economy. 1950. Vol. 58. No. 3. P. 211–221.
Becker G. S. Irrational Behavior and Economic Theory // Journal of Political Economy. 1962. Vol. 70. No. 1. P. 1–14.
Caldwell B. J. Clarifying Popper // Journal of Economic Literature. 1991. Vol. 29. No. 1. P. 1–33.
De Vroey M. Is the Tâtonnement Hypothesis a Good Caricature of Market Forces? // Journal of Economic Methodology. 1998. Vol. 5. No. 2. P. 201–221.
Lucas R. J. Adaptive Behavior and Economic Theory // Journal of Business. 1986. Vol. 59. Р. 401–426.
Popper K. The Rationality Principle // Popper K. Popper Selections / ed. by D. Miller. Princeton: Princeton University Press, 1985. P. 357–365.
Smith V. Constructivist and Ecological Rationality in Economics // American Economic Review. 2003. Vol. 93. No. 3. P. 465–508.
Thaler R. H., Sunstein C. R. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness. New Haven; L.: Yale University Press, 2008.
VIII Вокруг поведенческой экономики: несколько комментариев о рациональности и иррациональности[103]
Настоящее исследование является продолжением серии ранее опубликованных работ, где был представлен схематический портрет современной поведенческой, или бихевиористской, экономики и проанализированы ее главные отличительные черты [Капелюшников 2013a; 2013б; 2015; 2017]. Здесь мы попытаемся добавить к этому портрету лишь несколько дополнительных, но важных штрихов. Обсуждение строится как набор комментариев, касающихся отдельных аспектов поведенческого подхода. Каждый из этих сюжетов более или менее самостоятелен и не связан напрямую с остальными. Наша главная цель состоит в том, чтобы показать, что поведенческая экономика не единственный и, возможно, не самый продуктивный подход к описанию и объяснению процессов принятия решений индивидами, а также, что ее нормативные предписания (политику «наджа», или подталкивания) не следует некритически принимать на веру.
МНОГОЛИКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
В современной экономической и психологической литературе выражения «рациональный выбор», «рациональное поведение», «рациональные агенты» используются обычно так, как если бы у понятия рациональности имелся единственный, твердо закрепленный за ним смысл и оно везде и всегда употреблялось в одном и том же неизменном значении. В действительности в данном случае мы сталкиваемся с очевидной полисемией: разные авторы трактуют это понятие по-разному и, более того, нередки случаи, когда один и тот же автор оперирует, не сознавая этого, сразу несколькими концепциями рациональности, произвольно перескакивая от одной к другой.
В принципе выбор терминологии — это вопрос не истинности, а целесообразности. В самом по себе факте существования нескольких альтернативных трактовок «рационального» нет ничего необычного или одиозного: такова судьба любых широко употребительных понятий. Однако подобная многозначность может становиться источником недоразумений и делать невозможным продуктивный научный диалог, если исследователи ее не осознают и рассуждают каждый о своем. Похоже, в современных социальных дисциплинах ситуация с понятием рациональности обстоит именно таким образом, так что его рефлексия, по нашему мнению, была и остается актуальной задачей.
Известный немецкий экономический социолог К.-Д. Опп выделяет пять наиболее распространенных пониманий рационального [Opp, 2017]:
1) рациональное = наличие у кого-то консистентных (транзитивных, полных, не зависимых от контекста) предпочтений;
2) рациональное = максимизация кем-то объективной полезности («объективной» в данном случае означает «полезности, с точки зрения внешнего наблюдателя»);
3) рациональное = максимизация кем-то субъективной полезности («субъективной» в данном случае означает «полезности, с точки зрения самого агента»);
4) рациональное = сознательное продумывание кем-то своих действий перед их началом;
5) рациональное = наличие у кого-то полной информации о последствиях своего поведения.
Наиболее распространенным и широко используемым следует, наверное, признать определение (1), связывающее рациональность с внутренней согласованностью (консистентностью) предпочтений индивида. С известной долей условности этот тип рациональности можно назвать «неоклассическим», поскольку Homo oeconomicus (главное действующее лицо экономической теории) принято наделять именно таким набором предпочтений — полных, транзитивных, не зависящих от контекста и т. д.
В безрисковой среде наличие у индивида хорошо упорядоченной шкалы предпочтений гарантирует максимизацию субъективной полезности, так что определения (1) и (3) оказываются эквивалентны. Однако в рисковой среде к требованию согласованности предпочтений добавляется еще одно, без выполнения которого максимизация субъективной полезности становится неосуществимой: это — практическое владение базовыми принципами теории вероятностей. Даже если индивид обладает полностью упорядоченными предпочтениями, но при этом не умеет правильно оперировать оценками вероятности наступления будущих событий, он окажется не в состоянии максимизировать свою ожидаемую полезность.
В самых первых работах отцов-основателей поведенческой экономики, Д. Канемана и А. Тверски, акцент делался как раз на врожденном статистическом невежестве человеческого рода [Kahneman, Tversky, 1979]. Если в ранней литературе по теории принятия решений человек чаще всего изображался «природным статистиком» (предполагалось, что он интуитивно правильно взвешивает вероятности), то затем под влиянием идей Д. Канемана и А. Тверски доминирующей стала прямо противоположная точка зрения: в качестве «природного статистика» человек фатально несостоятелен и при подсчете вероятностей неизбежно впадает в систематические грубые ошибки [Lopes, 1991]. Хотя позднее интерес поведенческих экономистов начал все больше смещаться в сторону аномалий, связанных с разнообразными дефектами шкалы предпочтений, это вовсе не означает, что ошибки, возникающие при подсчетах вероятностей, ушли из поля их зрения. Представление о том, что существуют два главных источника нерациональности — недостаточная упорядоченность предпочтений и невладение начатками теории вероятностей, — принимается сегодня подавляющим большинством исследователей[104].
Серьезной концептуальной ошибкой, присутствующей во многих работах современных авторов, является отождествление рациональности в смысле определений (1) — (3) с рациональностью в смысле определения (4). Если в первом случае рациональным признается все, что является отражением внутренней согласованности наших предпочтений, то во втором — все, что является продуктом деятельности нашего рацио (размышлений, логических умозаключений, подсчетов, взвешивания выгод и издержек и т. д.). В частности, исходя из такого произвольного отождествления строится вся аргументация в известной книге Д. Канемана «Мыслить быстро… решать медленно», где автор, сам того не замечая, без конца перепрыгивает от одного понимания рациональности к другому и затем обратно [Kahneman, 2011].
По мнению Д. Канемана и других бихевиористов, бессознательная часть нашей психики (Система-1 в их терминологии) мешает сознательной части (Системе-2 в их терминологии) действовать рационально, и именно из-за этого решения, которые мы принимаем, часто оказываются далеко не лучшими и плохо совместимыми друг с другом [Ibid.]. Но это позиция достаточно странная и не имеющая под собой сколько-нибудь убедительных оснований — ни логических, ни эмпирических. Ниоткуда не следует, что решения, принимаемые автоматически, заведомо нерациональны, тогда как решения, принимаемые после долгих размышлений, — непременно рациональны [Infante et al., 2016]. Согласованность/несогласованность предпочтений и сознательность/бессознательность механизмов принятия решений — это два разных вопроса. Решения, направляемые интуицией и эвристиками, вполне могут складываться во внутренне непротиворечивую систему (если бы это было не так, то в процессе естественного отбора человечество вообще едва ли смогло бы сохраниться и выжить), тогда как сознательные решения могут быть плохо упорядоченными и иллогичными.
Что касается определения (5), в котором понятие рациональности выступает синонимом обладания совершенной информацией, то ретроспективно такая привязка вполне объяснима, поскольку изначально теория рационального выбора строилась исходя из предположения о полной информированности экономических агентов. Однако сегодня подобная терминологическая практика уже не кажется ни оправданной ни целесообразной. Во-первых, она ведет к ненужному удвоению понятий: одно и то же явление обозначается двумя разными терминами. Во-вторых, неявно из нее следует контринтуитивный вывод о том, что в условиях ограниченной информации принятие решений в принципе не может быть рациональным. Более естественно было бы считать, что рациональные решения могут приниматься агентами даже при наличии у них неполной информации, хотя, конечно же, нельзя исключить, что эти решения будут заметно отличаться от тех, что стали бы приниматься ими при отсутствии каких бы то ни было информационных ограничений[105].
Вопрос, ответить на который, пожалуй, труднее всего: каково соотношение между субъективистской (определения (1)/(3)) и объективистской (определение (2)) концепциями рациональности. Приверженность экономической теории субъективистскому подходу хорошо известна: полезность — это субъективный феномен, исключающий какие-либо объективные измерения; индивидуальные полезности несопоставимы; лучшими судьями при оценке своего благосостояния выступают сами индивиды; о вкусах не спорят; предпочтения непосредственно не наблюдаемы и судить о них можно только по фактическим актам выбора, которые совершают индивиды (принцип выявленных предпочтений); и т. д. Строго говоря, именно потому, что индивидуальные полезности непосредственно не наблюдаемы и объективно не измеримы, об оптимальности/неоптимальности принимаемых людьми решений приходится судить не по их прямым результатам, а по косвенным признакам — по тому, насколько согласованными или несогласованными являются предпочтения, лежащие в их основе. Отсюда — центральное место, которое в современных социальных дисциплинах принадлежит представлению о рациональности как о внутренней согласованности предпочтений (определение (1)).
Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что этот доминирующий подход не так последователен и непротиворечив, как могло бы показаться на первый взгляд. Так, оказывается, что он не может обойтись без апелляции к иным («объективным») нормативным критериям рациональности сверх и помимо критерия внутренней согласованности предпочтений. Чтобы показать это, обратимся к классическому примеру так называемого денежного насоса, демонстрирующему, как считается, несовместимость рационального поведения с нетранзитивностью предпочтений. Речь в этом примере идет о том, что при наличии у агента нетранзитивных предпочтений из него с легкостью можно будет выкачать все деньги.
Допустим, некто А предпочитает яблоки апельсинам, апельсины бананам, а бананы яблокам. В таком случае ради получения яблока он будет готов отдать с доплатой некоторой денежной суммы апельсин; затем ради получения банана — отдать опять-таки с доплатой некоторой суммы яблоко; затем ради получения обратно апельсина — отдать с доплатой некоторой суммы банан; и т. д. Если продолжать серию таких круговых сделок достаточно долго, из А в конце концов будут выкачаны все деньги. По замыслу пример с «денежным насосом» призван иллюстрировать явную нерациональность предпочтений, не удовлетворяющих требованию транзитивности. Однако де-факто в нем имплицитно вводится альтернативный нормативный критерий рациональности (причем вполне объективный!), а именно — величина достигнутого индивидом богатства.
Впрочем, по-настоящему патовая ситуация возникает, когда субъективные и объективные критерии рациональности указывают не в одном и том же направлении, как в случае с «денежным насосом», а в противоположном. Скажем, в определенных классах игр игрокам с нетранзитивными предпочтениями удается добиваться более высоких денежных платежей, чем игрокам с транзитивными предпочтениями. Вроде бы интуиция подсказывает нам, что в подобных случаях «рациональными агентами» следовало бы признавать первых, а не вторых. Но что остается тогда от консистентности предпочтений в качестве универсального критерия рациональности?
Похоже, представление о безраздельном господстве в современных социальных дисциплинах чисто субъективистского понимания рациональности является все же преувеличением. На практике, как мы пытались показать, современные исследователи достаточно часто используют «микс» из нескольких разнородных субъективных и объективных критериев, причем сам факт этого смешения ими, как правило, даже не осознается[106].
Со времени работ Г. Саймона [Simon, 1955; 1957] любые виды отклонений от канонической модели рационального выбора стали обозначаться терминами «ограниченная рациональность» или «иррациональность»[107]. Но если мы соглашаемся с таким словоупотреблением, то тогда нам не следует питать иллюзий относительно создания когда-либо в будущем некой единой «теории нерациональности»: сколько существует видов отклонений, столько же будет существовать различных автономных форм ограниченной рациональности. Фактически под зонтичным обозначением «ограниченная рациональность» скрывается обширное семейство разнородных моделей: замена транзитивных предпочтений нетранзитивными будет порождать один тип ограниченно рационального поведения; замена не зависящих от контекста предпочтений предпочтениями, от него зависящими, — другой; замена экспоненциального дисконтирования квазигиперболическим — третий; замена максимизирующих стратегий стратегиями, ориентированными на получение всего лишь удовлетворительных результатов, — четвертый и т. д.
Здесь, по-видимому, стоит сделать небольшое отступление, чтобы устранить одно достаточно распространенное недоразумение, с завидной регулярностью воспроизводящееся при обсуждении идей поведенческой экономики. Речь идет о якобы произошедшем в ней отказе от базового для канонической теории рационального выбора принципа максимизации полезности. Это очевидное заблуждение: начиная с Д. Канемана и А. Тверски, никто из поведенческих экономистов никогда не утверждал, что в условиях ограниченной рациональности индивиды не максимизируют имеющуюся у них функцию полезности, а действуют как-то иначе. (В этом отношении их подход принципиально отличается от подхода Г. Саймона.) Разница только в том, что реальные люди, как предполагается, максимизируют не стандартную, а «дефектную» функцию полезности с встроенными в нее многочисленными изъянами [Grüne-Yanoff et al., 2014]. Максимизирующее поведение, таким образом, сохраняется, но ему придается иная функциональная форма — точнее, иные функциональные формы в зависимости от того, какие дополнительные психологические дефекты и ограничения ему вменяются.
Скажем, в теории перспектив Д. Канемана и А. Тверски целевая функция, которую максимизируют агенты, характеризуется четырьмя главными отличиями от стандартной функции полезности [Kahneman, Tversky, 1979]: 1) зависимостью от референтной точки (имеющаяся у каждого агента функция ценности зависит не просто от суммы выигрыша, но также от того, насколько эта сумма отличается от некой референтной величины, принимаемой им за базу для сравнения); 2) неприятием потерь (функция ценности имеет перегиб в референтной точке, будучи более крутой для проигрышей (отрицательных исходов), чем для выигрышей (положительных исходов)); 3) убывающей чувствительностью (функция ценности является вогнутой по отношению к выигрышам и выпуклой по отношению к проигрышам, так что ее чувствительность по отношению к тем и другим убывает по мере удаления от референтной точки); 4) перевзвешиванием вероятностей (агенты перевзвешивают вероятности таким образом, что переоценивают шансы маловероятных и недооценивают шансы высоковероятных исходов) [Капелюшников, 2013a]. (Стоит отметить, что, для того чтобы подчеркнуть нестандартность целевой функции, к максимизации которой стремятся агенты, подверженные поведенческим патологиям, Д. Канеман и А. Тверски даже именуют ее не «функцией полезности», а «функцией ценности», хотя, конечно же, речь идет просто-напросто о модифицированной неким специфическим образом функции полезности.)
С технической точки зрения модели с совершенной и несовершенной рациональностью отличаются друг от друга только тем, что в первых параметры функции полезности жестко зафиксированы на неком строго определенном уровне, тогда как во вторых они могут свободно меняться, варьируя в достаточно широком диапазоне. Так, при нулевых значениях четырех переменных, выделенных Д. Канеманом и А. Тверски, теория перспектив сводится к стандартной теории ожидаемой полезности. При фиксации некоторых других параметров квазигиперболическое дисконтирование (к которому, как предполагается, прибегают нетерпеливые агенты, страдающие от недостатка силы воли) становится неотличимым от обычного экспоненциального дисконтирования. Аналогичным образом стандартная «неоклассическая» шкала предпочтений входит в качестве одного из элементов в более широкий класс, включающий помимо нее разнообразные случаи нетранзитивности. В этом смысле совершенная рациональность предстает просто как частный случай несовершенной рациональности: наложив соответствующие количественные ограничения, вторую всегда можно редуцировать к первой или, напротив, ослабив их, расширить первую до второй [Katsikopoulos, 2014].
Если же говорить о соотношении между различными моделями ограниченной рациональности, то они могут отличаться друг от друга не только тем, какие формы «аномального» поведения описывает та или иная модель, но также и тем, как много отклонений от «неоклассического» эталона согласованности предпочтений каждая из них в себя включает. Степень консистентности актов выбора — величина переменная, способная варьировать в широких пределах. Чем она ниже, тем менее рационален данный тип поведения. В результате различные виды рациональности поддаются выстраиванию в строго иерархическом порядке: наверху — полностью рациональное поведение; на средних ступенях — разнообразные случаи ограниченно рационального поведения; внизу — полностью иррациональное поведение [Manzini, Mariotti, 2007; 2010; 2012]. Совершенной рациональности соответствует максимальная, ограниченной рациональности — умеренная, иррациональности — нулевая степень согласованности актов выбора, совершаемых индивидами.
При таком подходе более рациональным будет признаваться поведение, которое удовлетворяет более строгим требованиям к его связности и упорядоченности (или, в зеркальной формулировке, которое в меньшей степени противоречит хрестоматийным аксиомам рационального выбора.) Скажем, поведение, описываемое теорией перспектив, отклоняется от стандартной модели рационального выбора в четырех пунктах. Соответственно, поведение только с тремя девиациями будет квалифицироваться как более рациональное; только с двумя — как еще более рациональное; наконец, только с одной — как почти рациональное. Абсолютная неупорядоченность актов выбора, не поддающаяся никакой рационализации исходя из даже самых минималистских критериев консистентности, будет свидетельствовать о том, что достигнута граница, за которой начинается зона непроницаемой иррациональности.
Такая таксономия позволяет избежать смешения понятий «ограниченная рациональность» и «иррациональность», которым заражена значительная часть современной литературы по поведенческой экономике. Из нее также следует, что чем выше степень «рациональности» той или иной модели, тем меньший пласт наблюдаемого человеческого поведения она способна описывать и объяснять. (Так, теория перспектив совместима с намного более широким кругом наблюдаемых психологических феноменов, чем каноническая теория рационального выбора.)
Интерпретация поведенческими экономистами понятий совершенной и несовершенной рациональности имеет еще одно важное измерение. Дело в том, что их отношение к конвенциональной модели рационального выбора является глубоко двойственным: в качестве дескриптивной теории они ее отвергают, однако в качестве нормативного идеала, приближение к которому рассматривается ими как безусловное благо, — сохраняют [Капелюшников, 2013a]. В этом смысле никакого разрыва с привычными представлениями о рациональности в поведенческой экономике не происходит; напротив, она призывает к максимально последовательной реализации их на практике. Хотя при принятии решений большинство людей демонстрируют ограниченную рациональность или даже явную иррациональность, идеалом, к которому надлежит стремиться, было и остается полностью рациональное поведение. Почему? Потому что это отвечало бы «истинным» интересам индивидов: избавившись от потерь, связанных с когнитивными ошибками, они достигали бы максимума благосостояния: «Ирония заключается в том, что атакуя Homo oeconomicus как эмпирически ложное описание процесса выбора, поведенческий подход преподносит его же в качестве образца, к которому следует стремиться людям» [Leonard, 2009, p. 359].
Но признание людей ограниченно рациональными существами предполагает также, что они не в состоянии избавляться от имеющихся у них когнитивных ошибок сами, собственными силами. Помочь им в этом призвана специфическая политика «наджа», или подталкивания, разработанная и активно пропагандируемая поведенческими экономистами [Thaler, Sunstein, 2008]. Это политика, с помощью которой они надеются приблизить эмпирически наблюдаемое поведение ограниченно рациональных индивидов к теоретическому идеалу полной рациональности — превратить их (насколько это вообще достижимо) из ограниченно в неограниченно рациональных [Капелюшников, 2013a].
ПОЛИТИКА ПОДТАЛКИВАНИЯ ИЛИ ИСКУССТВО МАНИПУЛИРОВАНИЯ?
Несколько неожиданно, но одна из тем, активно обсуждаемых в работах по поведенческой экономике, связана с проблематикой оптических, или визуальных, иллюзий [Felin et al., 2017]. Оптическим иллюзиям, когда наш глаз неверно отражает увиденное, посвящена огромная литература по психологии зрительного восприятия. Казалось бы, изучение механизмов зрительного восприятия выходит далеко за рамки поведенческой экономики, сфокусированной на изучении процессов выработки и принятия решений. Однако в работах ведущих бихевиористов, таких как Д. Канеман, А. Тверски, Р. Талер и многих других, мы обнаруживаем постоянные отсылки к оптическим иллюзиям, причем не только в популярных изданиях, рассчитанных на широкую публику, но и в академических публикациях [Kahneman, 1965; 2003а; 2003b; 2011; Tversky, Kahneman, 1986; Thaler, 1991; Thaler, Sunstein, 2008]. Так, в программном тексте Д. Канемана, написанном в связи с присуждением ему Нобелевской премии по экономике, подробно разбираются пять (!) оптических иллюзий разного типа [Kahneman, 2003a; 2003b]. Такое пристрастие едва ли может быть случайным. И действительно, как специально подчеркивает сам Д. Канеман, в своих исходных представлениях поведенческая экономика опирается «на визуальные аналогии» [Kahneman, 2003a, p. 1450][108].
При знакомстве с дискурсивной практикой поведенческих экономистов в самом деле трудно не заметить, что она сплошь и рядом строится с привлечением визуальных метафор, оптических иллюзий, провалов зрительного восприятия. Случаи расхождения между тем, что нам видится, и тем, что есть на самом деле, используются ими в качестве аргументов, позволяющих описывать человеческое сознание как фундаментально нерациональное и систематически искажающее реальность. Обсуждение оптических иллюзий служит своего рода вводкой в проблематику собственно когнитивных искажений: если даже зрительное восприятие регулярно промахивается и дает ложную картину реальности, то как можно ожидать «рациональности» от более сложных психологических феноменов, таких, например, как процедуры выбора? Существование здесь многочисленных смещений и ошибок кажется совершенно неизбежным. (Это исходное ожидание подтверждается затем многочисленными фактами, полученными в ходе экспериментальных исследований уже самими поведенческими экономистами.)
На рис. VIII.1 представлена одна из классических оптических иллюзий, предложенная в начале XX в. итальянским психологом М. Понцо [Ponzo, 1912]. Испытуемых просят оценить, как соотносятся по длине два белых прямоугольника, наложенных на изображение участка железной дороги. Большинство оценивают верхний прямоугольник как имеющий бо́льшую длину, чем нижний. Однако это иллюзия: достаточно взять линейку, чтобы удостовериться, что прямоугольники имеют одинаковую длину. Данная ошибка зрительного восприятия носит не случайный, а систематический, повторяющийся характер. Но если подобным ошибкам подвержена даже деятельность органов чувств, то было бы крайне наивно ожидать, что иммунитетом от них могут обладать механизмы человеческого мышления.
Почему же поведенческая экономика питает такое сильное пристрастие к визуальным аналогиям? По нескольким причинам. Во-первых, отсылки к ним заставляют нас предполагать, что когнитивные ошибки не просто возможны, но что они должны встречаться даже чаще, чем перцептивные: по словам Р. Талера, «ментальные иллюзии следует рассматривать как правило, а не как исключение» [Thaler, 1991, p. 4]. Во-вторых, они подводят нас к мысли, что используемые поведенческими экономистами методы идентификации когнитивных искажений являются такими же точными и строго объективными, как и методы идентификации визуальных искажений (см. выше про измерения с помощью линейки). В-третьих, таким образом нам внушается идея, что окончательно отучиться от когнитивных ошибок невозможно — точно так же, как это невозможно в случае оптических иллюзий. Даже если сообщить человеку, что белые прямоугольники на рис. VIII.1 имеют одинаковую длину, при повторном взгляде на них ему все равно будет казаться, что верхний длиннее нижнего. Если же ситуация с когнитивными ошибками выглядит симметричным образом, то это означает, что избавиться от них невозможно ни с помощью обучения, ни с помощью накопления практического опыта [Bond, 2009]. Для этого нужны принципиально иные методы, такие как политика «наджа», которые обращаются не к сознанию, а к подсознанию людей.
Наконец, нам наглядно демонстрируют, что с точки зрения качества перцептивной и когнитивной деятельности эксперты и неэксперты находятся в неравном положении. Экономисты-бихевиористы, свободные как от оптических иллюзий, так и от когнитивных ошибок, выступают живым воплощением рациональности, тогда как обычные люди, в равной мере подверженные как тем, так и другим, — живым воплощением иррациональности. Но если это так, то первые могут и даже должны (поскольку они всевидящи и всеведущи) направлять деятельность вторых [Felin et al., 2017][109]. Статус «избранности», которым поведенческая экономика наделяет своих приверженцев, несомненно, должен сильно льстить их самолюбию, обеспечивая, по остроумному выражению Л. Лопес, «массаж их профессионального эго» [Lopes, 1991, p. 79]. Это, вероятно, в немалой степени поспособствовало тому, что поведенческий подход очень быстро завоевал популярность и сделался сегодня интеллектуальной модой.
Рис. VIII.1. Иллюзия Понцо
Источник: [Felin et al., 2017, p. 1046].
Анализ «железнодорожной» иллюзии, представленной на рис. VIII.1, обычно завершается признанием несовершенств («нерациональностей») человеческого перцептивного аппарата. Попробуем, однако, продолжить обсуждение, предположив, что испытуемым задается еще один вопрос: «Скажите, пожалуйста, как, по Вашему мнению, соотносится длина двух железнодорожных шпал — той, что примыкает к нижнему, и той, что примыкает к верхнему прямоугольникам?». Строго говоря, однозначно ответить на него невозможно, если предварительно не уточнить, о чем именно идет речь — о двухмерной плоскости бумажного листа или об условной репрезантации на этом листе некоторой совокупности трехмерных объектов? В первом случае мы должны будем сказать, что шпала, примыкающая к нижнему прямоугольнику, длиннее, чем шпала, примыкающая к верхнему (доказать это можно с помощью линейки), во втором — что они имеют одинаковую длину (правда, тут уже линейка не поможет).
Но тогда, рассуждая по аналогии, нам придется признать, что однозначный ответ на первый вопрос — о соотношении длин нижнего и верхнего прямоугольников — точно так же невозможен. В двухмерном мире они будут одинаковыми, но в трехмерном верхний будет, конечно же, длиннее нижнего. Иллюзорность, которую Д. Канеман, Р. Талер и др. приписывают человеческому восприятию, возникает здесь только потому, что один из возможных вариантов ответа произвольно назначается «рациональным», а другой — «иррациональным». Но по большому счету они равнозначны, поскольку исходный вопрос неполон и не содержит информации о том, с пространством какого типа должен быть увязан наш ответ — двухмерным или трехмерным? Соответственно, достраивать заданный вопрос, пытаясь понять, какой из вариантов имел в виду спрашивающий, можно как одним способом, так и другим.
Мы можем усложнить наш мысленный эксперимент, спросив себя, как выглядела бы ситуация, если бы перед испытуемыми находился реальный (трехмерный), а не условный (сфотографированный) участок железной дороги вместе с двумя наложенными на него блоками [Felin et al., 2017]. В этом случае вариант ответа «верхний прямоугольник длиннее нижнего», к которому склоняются неэксперты, оказался бы «рациональным», тогда как вариант ответа «у обоих прямоугольников длина одинакова», на котором настаивают эксперты, — однозначно «иррациональным». Чью интерпретацию увиденного нам следовало бы тогда признать «правильной» (соответствующей реальности)? Поведенческие экономисты не считаются с тем, что воспроизведение трехмерных объектов в двухмерном пространстве по определению невозможно без искажений и приписывают эти искажения человеческому перцептивному аппарату вместо того, чтобы приписывать их условностям самого способа репрезентации.
Пример с «железнодорожной» оптической иллюзией можно рассматривать как своего рода «эпиграф» к исследовательской практике поведенческих экономистов вообще. Он наглядно показывает, с помощью каких приемов им удается создавать впечатление ограниченной рациональности или даже иррациональности большей части человеческого поведения. Во-первых, они, как правило, помещают испытуемых в незнакомую среду и дают им непривычные задания — задания, реальный опыт выполнения которых у тех отсутствует. Во-вторых, они не предоставляют испытуемым полной информации, так что тем приходится достраивать полученные задания самим, пытаясь тем или иным способом реконструировать интенции экспериментатора[110]. В-третьих, испытуемых заставляют принимать решения в двусмысленных, не поддающихся однозначной интерпретации ситуациях, при встрече с которыми наше восприятие и наше мышление встают, так сказать, «враскоряку». (Так, разобранная нами «железнодорожная» оптическая иллюзия строится на том, что индивиды получают противоречивые визуальные сигналы — одни указывают на то, что перед ними двухмерное, а другие — на то, что перед ними трехмерное изображение.) В-четвертых, одна из возможных интерпретаций произвольно объявляется «рациональной», тогда как другая — «иррациональной», и если выбор испытуемых не совпадает с выбором экспериментаторов, из этого делается вывод о расхождении действий большинства людей с канонами рациональности.
Конечно, далеко не все эксперименты, проводимые в рамках поведенческой экономики, строятся с использованием подобных манипулятивных приемов. В то же время трудно не признать, что такого рода случаи представлены в ней весьма и весьма широко [Gigerenzer, 2015]. Как показывает пример «железнодорожной» оптической иллюзии, ограниченная рациональность испытуемых становится зачастую не столько объектом изучения, сколько объектом интеллектуальной эксплуатации со стороны поведенческих экономистов.
Еще более отчетливо эта установка просматривается в их работах, посвященных выработке рекомендаций для экономической политики. Ограничимся обсуждением лишь одного примера. Он относится к области добровольного пенсионного страхования, где политике подталкивания, по общему признанию, удалось добиться крупнейшего практического успеха. Речь идет о наиболее распространенной в США форме личных накопительных пенсионных счетов, известных как пенсионный план 401(k) (назван по номеру соответствующей статьи американского налогового кодекса).
Налоговое законодательство США разрешает работникам вносить на свои личные накопительные пенсионные счета часть заработной платы до уплаты подоходного налога в рамках организуемых их компаниями пенсионных планов: «Присоединение работников к плану 401(k) может осуществляться по-разному. Одни компании записывают в него своих работников „по умолчанию“, но с сохранением за ними права на выход из него. Другие поступают обратным образом — „по умолчанию“ не включают работников в план, но предоставляют им право в любой момент к нему присоединиться. (Иными словами, они не начинают автоматически перечислять часть заработной платы работников на их пенсионные сберегательные счета, пока те в явной форме не выскажут подобного желания.) В первом случае с заработной платы работника сразу же начинают делаться отчисления на его сберегательный пенсионный счет, но если он захочет их прекратить, то должен написать специальное заявление; во втором — перечисление части заработной платы работника на его пенсионный сберегательный счет не начинается, пока он документально не заявит об этом» [Капелюшников, 2013a, с. 78–79][111].
С точки зрения стандартной модели рационального выбора эти схемы абсолютно эквивалентны и должны приводить к одинаковым результатам [Там же]. В первом случае ничто не мешает работникам, которые не желают участвовать в плане 401(k), из него выйти; точно так же во втором — ничто не мешает работникам, которые хотели бы в нем участвовать, к нему присоединиться. В обоих случаях соотношение между участвующими и неучаствующими должно быть примерно одинаковым. Но в реальности это оказывается не так. Согласно результатам целого ряда исследований, в компаниях, где зачисление работников происходило по их заявлениям, доля охваченных планом 401(k) оказывалась намного меньше, чем в компаниях, где оно производилось «по умолчанию». Анализ также показывает, что при переходе компаний от системы зачисления по заявлениям к системе автоматического зачисления охват работников планом 401(k) возрастал в разы.
Почему так происходит? По мнению поведенческих экономистов, все дело опять-таки в ограниченной рациональности. В данном случае она выражается в так называемой ошибке статус-кво, когда вопреки собственным интересам индивиды довольствуются существующим на данный момент времени положением дел и не испытывают желания его менять. Приверженность ошибке статус-кво может вызываться многими психологическими механизмами — силой инерции; склонностью к прокрастинации (привычкой откладывать принятие решений на будущее); склонностью к избеганию потерь (поскольку для уплаты пенсионных взносов приходится жертвовать частью текущей заработной платы); предпочтением «ничегонеделанья» перед любыми возможными формами активности; квазигиперболическим дисконтированием, при котором сегодняшние блага получают неоправданно завышенную оценку по сравнению с завтрашними, и т. д.
Под влиянием ошибки статус-кво ограниченно рациональные индивиды могут принимать прямо противоположн ые решения в зависимости от того, какие из доступных опций предлагаются им в качестве вариантов «по умолчанию». В обсуждаемом нами случае ее результатом оказывается то, что большинство работников довольствуются тем, что предлагают им «по умолчанию» их компании: если их автоматически не зачислят в план 401(k), они так и не станут его участниками; если зачислят — они так ими и останутся. В условиях подобной пассивности со стороны работников компаниям не остается ничего другого как делать выбор наилучшего варианта за них и вместо них, раз уж из-за когнитивных и поведенческих ограничений те не в состоянии справляться с этой задачей сами.
Поведенческие экономисты полагают самоочевидным, что таким вариантом (наилучшим, с точки зрения работников) является автоматическое включение в план 401(k): именно оно должно выступать в качестве опции «по умолчанию». Будучи ограниченно рациональными, многие работники становятся жертвами недосбережения: они накапливают недостаточно средств на старость, что идет вразрез с их собственными долгосрочными интересами и снижает общий уровень их благосостояния. Автоматическое зачисление в планы добровольного пенсионного страхования незаметно подталкивает их к более дальновидным и рациональным решениям, нейтрализуя потенциальные ошибки, связанные с инерцией, слабостью воли, склонностью к избеганию потерь, квазигиперболическим дисконтированием и т. п.
Такой подход соответствует нормативной программе «либертарианского патернализма», разработанной сторонниками поведенческой экономики [Sunstein, Thaler, 2003a; 2003b]. С одной стороны, он подталкивает ограниченно рациональных индивидов, страдающих от ошибки статус-кво, к более активным накоплениям на старость — накоплениям, которые они стали бы делать сами, если бы были полностью рациональными. С другой стороны, он никак не ограничивает свободу выбора рациональных индивидов: ведь если кто-то из работников посчитает, что издержки участия в плане 401(k) перевешивают для него связанные с этим выгоды, то он может в любой момент написать заявление о выходе. Получается, что политика подталкивания, рекомендуемая поведенческими экономистами, ведет к Парето-улучшению: благосостояние одной части работников (ограниченно рациональных) возрастает, благосостояние другой части (полностью рациональных) не уменьшается. Широкая пропагандистская компания в пользу автоматического зачисления работников в план 401(k), развернутая в США Р. Талером и его единомышленниками, стала одним из факторов, способствовавших массовому переходу к нему американских компаний. По имеющимся оценкам, в США количество застрахованных по плану 401(k) достигло к настоящему времени почти 75 млн человек, причем если в 2000 г. его участниками «по умолчанию» являлись менее 10 %, то в 2015 г. уже около 60 % занятых.
На первый взгляд аргументация поведенческих экономистов логически безупречна, а следующие из нее практические выводы неоспоримы. Но это только на первый взгляд. Правда, манипулятивные приемы, к которым они в данном случае прибегают, настолько умело замаскированы, что ускользают от внимания даже большинства критиков.
Присмотримся к рассуждениям сторонников политики «наджа» поближе. В них де-факто выделяются три группы агентов: 1) рациональные агенты, чьим интересам отвечает участие в плане 401(k); 2) рациональные агенты, чьим интересам отвечает неучастие в плане 401(k); 3) нерациональные агенты, «истинным» интересам которых отвечает участие в плане 401(k), но которые неспособны принять решение об этом самостоятельно и становятся его участниками, только если подтолкнуть их к этому посредством соответствующей опции «по умолчанию». Вроде бы все логично: переход от системы зачисления по заявлениям работников к системе автоматического зачисления действительно никак не должен отразиться на благосостоянии двух первых групп рациональных агентов (при любом возможном раскладе они станут принимать оптимальные для себя решения), но в то же самое время должен повысить благосостояние последней, третьей группы.
Однако из этой картины загадочным образом выпадает еще одна, четвертая группа — нерациональных агентов, «истинным» интересам которых отвечает неучастие в плане 401(k) и которые при переходе на систему автоматического зачисления будут нести потери в благосостоянии, так как станут подталкиваться ею к избыточным сбережениям (под действием все тех же факторов — инерции, прокрастинации, предпочтения «ничегонеделанья» и т. д.). Если же учесть и эту группу, то становится ясно, что никакого Парето-улучшения политика «наджа» не обеспечивает и обеспечить не может: выигрыш для группы (3) оборачивается проигрышем для группы (4), и наоборот. (Заметим в скобках, что поведенческая экономика не проявляет при этом ни малейшего интереса к тому, чтобы попытаться оценить, насколько малы или велики сами эти группы, а также к тому, насколько малы или велики их возможные потери в благосостоянии при выборе разных опций «по умолчанию».) В результате практические рецепты Р. Талера и его единомышленников повисают в воздухе: трудно понять, почему интересы людей, страдающих от недосбережения, должны ставиться выше интересов людей, страдающих от сверхсбережения? С нормативной точки зрения опция, связанная с практикой автоматического зачисления, оказывается ничем не лучше опции, связанной с практикой зачисления по заявлениям работников.
Дополнительно выясняется, что никаким «либертарианством» здесь и не пахнет: перед нами типичный пример, когда под видом заботы об общем благе эксперты стремятся навязать обществу свои собственные нормативные предпочтения (в данном случае — о недопустимости жить только сегодняшним днем и необходимости постоянно думать о старости). Фактически мы имеем здесь дело с очередной попыткой эксплуатации наших ограниченных когнитивных способностей (добавим — попыткой, оказавшейся на редкость успешной).
Последнее замечание. Рассуждая о неизбежности «наджа» при выборе опций «по умолчанию», поведенческие экономисты почему-то никогда не рассматривают (хотя бы гипотетически) вариант, который подталкивал бы работников к самостоятельному принятию решений относительно участия или неучастия в схемах добровольного пенсионного страхования. Для этого было бы достаточно, чтобы при приеме на работу им давалась специальная форма, заполняя которую они должны были бы определиться, какая линия поведения больше всего соответствует их планам на будущее. Такой подход, во-первых, сделал бы ненужным сам выбор опций «по умолчанию» и, во-вторых, позволил бы нейтрализовать по меньшей мере часть поведенческих ошибок, порождаемых фактором ограниченной рациональности.
ЭВРИСТИКИ: ДВА ПОДХОДА
В современной экономической науке доминирование идей поведенческой экономики, связанной с именами Д. Канемана, А. Тверски и Р. Талера при изучении процессов принятия решений индивидами, является практически абсолютным. Но в современной психологической науке наблюдается во многом иная ситуация. Там существует вполне конкурентоспособный альтернативный подход, который резко критичен по отношению к поведенческой экономике, но о существовании которого мало кому из экономистов известно. Признанный лидер этого направления — выдающийся немецкий психолог Г. Гигеренцер [Gigerenzer, Goldstein, 1996; Bounded Rationality, 2001; Heuristics, 2011; Gigerenzer, 2008]. Среди известных экономистов сторонником этого подхода был лауреат Нобелевской премии Р. Зельтен [Selten, 2001]. В этом же русле работают такие исследователи, как Н. Берг, Д. Голдстейн, К. Кацикопулос, П. Тодд, Р. Хертвиг и др.
Наиболее отчетливо концептуальное противостояние двух школ проявляется в их отношении к эвристикам — психологическому феномену, находящемуся в центре внимания как той, так и другой[112]. Под эвристиками понимаются упрощенные правила принятия решений, к которым в сложных ситуациях обращаются люди. Но если одними они рассматриваются как источник слабости, то другими — как источник силы.
Поведенческой экономикой использование эвристических приемов оценивается однозначно негативно: именно замена оптимизационных процедур эвристиками, к которой склонны прибегать ограниченно рациональные индивиды, выступает причиной многочисленных когнитивных ошибок и искажений. Отсюда альтернативное обозначение поведенческой экономики — «исследовательская программа искажений и эвристик» (the bias-and-heuristics (B&H) program). Как замечают Р. Талер и К. Санстейн, люди «используют эвристики, которые заставляют их впадать в систематические грубые ошибки» [Thaler, Sunstein, 2008, p. 176]. Для поведенческих экономистов любые упрощенные правила принятия решений являются лишь «плохими суррогатами оптимизационных процедур» [Goldstein, Gigerenzer, 2002, p. 75]. С нормативной точки зрения это предполагает, что от эвристик один только вред и поэтому их необходимо заменять оптимизационными процедурами, а если это оказывается невозможным (ведь люди — ограниченно рациональные существа), то заменять их хотя бы некими подобиями оптимизационных процедур, на что собственно и нацелена вся политика «наджа».
Г. Гигеренцер и его соавторы оценивают роль эвристик иначе. Они не отрицают, что выбор неудачных эвристик может вести к потерям в благосостоянии. Однако в сложных ситуациях именно простые и доступные эвристики, не требующие ни большого умственного напряжения, ни больших затрат времени, служат теми «подпорками», или «протезами», которые позволяют ограниченно рациональным индивидам принимать достаточно хорошие решения и достигать вполне удовлетворительных (хотя и не обязательно лучших) результатов. Отсюда обозначение этой исследовательской программы — «программа быстрых и доступных эвристик» (the fast-and-frugal-heuristics (FFH) program). По замечанию Г. Гигеренцера, сами по себе эвристики не бывают ни плохими (иррациональными), ни хорошими (рациональными): все зависит от их адаптированности к характеристикам среды (environment), в которой они применяются [Gigerenzer, 2008, p. 13].
Как видим, обе конкурирующие школы оперируют понятием ограниченной рациональности и, таким образом, выступают оппонентами стандартной теории рационального выбора, критикуя ее за оторванность от реальности. Обе признают, что «эмпирические» индивиды ведут себя иначе, чем предполагает модель оптимизирующего поведения, используя при принятии решений разнообразные эвристики. Можно сказать, что вместо стандартной модели Homo oeconomicus они предлагают более сложную и менее однозначную модель Homo heuristicus [Hands, 2014]. Однако в данном пункте школа FFH более последовательна и идет намного дальше школы B&H: она отвергает концепцию неограниченной рациональности не только в качестве дескриптивной теории, способной адекватно описывать реальное поведение людей, но и в качестве нормативного идеала, к которому нужно безоговорочно стремиться везде и всегда. Методологическая половинчатость поведенческой экономики, таким образом, преодолевается: в программе FFH внутренняя согласованность актов выбора перестает быть не только аналитическим, как в программе B&H, но также и нормативным стандартом.
В основе отмеченных расхождений лежат разные подходы к концептуализации самого понятия «рациональность». В поведенческой экономике речь идет о логической рациональности: рациональным признается поведение, не нарушающее законов логики и базовых принципов теории вероятностей. В работах Г. Гигеренцера и его соавторов речь идет об экологической рациональности: рациональным признается поведение, позволяющее добиваться успеха в той или иной институциональной среде (в той или иной экологической нише)[113].
Как в стандартной теории рационального выбора, так и в поведенческой экономике универсальным критерием рациональности признается внутренняя согласованность предпочтений или актов выбора (см. выше). Он является универсальным в том смысле, что приложим к любым формам поведения и не зависит от специфики среды, в которой индивидам приходится принимать решения. В отличие от этого школа FFH отвергает саму идею существования какого-либо универсального стандарта рациональности: критерии рациональности, во-первых, множественны и, во-вторых, локальны, поскольку задаются структурными особенностями среды, в которой протекает деятельность человека. Для одних типов ситуаций они одни, для других — другие. Общее у них только то, что они выступают свидетельствами успеха: «В самом общем смысле экологическая рациональность определяется в терминах успеха и тем самым предполагает подыскивание средств, пригодных для достижения определенных целей» [Gigerenzer, Sturm, 2012, р. 255][114]. При таком подходе набор нормативных критериев оказывается привязан к конкретным специфическим ситуациям.
Существование множественных метрик рациональности объясняется тем, что человеческое благосостояние также имеет множество измерений и, следовательно, в разных ситуациях наиболее подходящими для его оценки будут оказываться разные критерии. Мерилом успеха может быть величина денежного дохода, продолжительность жизни, состояние здоровья, субъективное ощущение благополучия, степень близости субъективных оценок вероятностей объективным и т. д. (Отметим в скобках, что критерий логической консистентности, вообще говоря, не требует, чтобы субъективные вероятности, которыми руководствуется индивид, совпадали с объективными вероятностями или хотя бы тесно к ним приближались.) Таким образом, если поведенческая экономика (вслед за стандартной теорией рационального выбора) исходит из критериев рациональности, которые являются, во-первых, внутренними по отношению к процедуре принятия решений и, во-вторых, независимыми от контекста, то концепция экологической рациональности — наоборот, из критериев, которые являются, во-первых, внешними по отношению к процедуре принятия решений и, во-вторых, зависимыми от контекста.
Как мы упоминали, поведенческая экономика, не отказывается от принципа максимизирующего поведения, сохраняя его, хотя и в несколько иной редакции(ях). В отличие от этого концепция экологической рациональности отбрасывает его полностью: «При описании того, как действуют люди, когда адаптивными способами пытаются улучшать свое благосостояние, не требуются никакие отсылки к принципу оптимизации. Нарушения гипотезы максимизирующего поведения вполне ожидаемы для адаптивных агентов, которые пытаются: больше узнать о своих собственных целях; прилагать требующие издержек усилия с тем, чтобы видоизменять свои цели и предпочтения; выяснять, какие способы действия им доступны, делая иногда при этом важные открытия, которые сдвигают наблюдаемые паттерны совершаемых ими выборов; добывать новую информацию относительно вознаграждений, на получение которых можно рассчитывать в фундаментально нестатичной среде» [Berg, 2014, p. 378]. Можно сказать, что концепция экологической рациональности возрождает принцип удовлетворительного поведения, предложенный в свое время Г. Саймоном [Simon, 1955; 1957]. Однако на вопрос, который для Г. Саймона всегда оставался камнем преткновения, — какой уровень будет выбираться или должен выбираться агентами в качестве «удовлетворительного»? — она дает простой ответ: тот, который имплицитно встроен в «тело» самих используемых эвристик[115]. Экологическая рациональность требует не максимизации, а непрерывной адаптации и экспериментирования [Berg, 2014, p. 378].
Сторонники школы FFH обращают внимание на отсутствие каких-либо эмпирических свидетельств, которые указывали бы на существование однозначной положительной связи между благосостоянием людей (в широком смысле) и консистентностью совершаемых ими актов выбора. Нет никаких оснований утверждать, что индивиды, чье поведение строится по канонам модели рационального выбора, выигрывают по сравнению с индивидами, чье поведение заметно от них отклоняется. «Ни одно из известных нам исследований, — замечают Н. Берг и Г. Гигеренцер, — не показывает, что лица, чье поведение отклоняется от принципов рационального выбора, зарабатывают меньше денег, имеют более короткую продолжительность жизни или менее счастливы» [Berg, Gigerenzer, 2010, p. 148]. Вопреки тому, что заявляют поведенческие экономисты, несогласованность принимаемых индивидами решений не предполагает автоматически их патологичности. Как показывает опыт, в определенных ситуациях индивиды с нетранзитивной шкалой предпочтений принимают более разумные решения и добиваются лучших результатов, чем индивиды с транзитивной шкалой (см. об этом также выше, первую часть работы). В нестатичной среде интранзитивность может помогать им быстрее получать новую информацию и открывать для себя новые возможности, точнее идентифицировать шоки и эффективнее диверсифицировать риски [Berg, 2014, p. 381][116].
Это, конечно, не значит, что сторонники программы FFH полностью отрицают значение критерия внутренней согласованности предпочтений. Здесь вновь вступает в действие принцип экологической рациональности: в каких-то ситуациях логическая консистентность вознаграждается, но в каких-то нет. Вопрос стоит так: в каких институциональных условиях использование эвристических процедур будет давать лучшие результаты, чем использование оптимизационных стратегий, а в каких все будет наоборот [Gigerenzer, Sturm, 2012, p. 246]? Как указывает Г. Гигеренцер, строгое следование законам логики и базовым принципам теории вероятности может быть вполне оправдано в ситуациях риска, но не в ситуациях неопределенности [Gigerenzer, 2015]. В малоинформативной среде с сильно ограниченными калькуляционными возможностями установка на то, чтобы ничего не предпринимать, пока не будет выработана оптимальная стратегия, чревата серьезными потерями и в этом смысле — нерациональна.
В качестве иллюстрации того, как на практике работают эвристики, приведем описание схемы выбора, к которой при покупке мобильных телефонов через Интернет прибегают многие потребители. В реально описанном случае речь шла о выборе из 100 моделей, различавшихся по 16 гедонистическим характеристикам, таким как вес, размер, цвет, производитель, объем памяти, цена и т. д. [Yee et al., 2007]. В общей сложности это дает 79 200 возможных парных сравнений. Но вместо того, чтобы идти по этому пути, потребители могут использовать эвристику пошагового отбора, резко сокращающую как интеллектуальные, так и временные затраты при совершении покупки.
Схема дерева решений для упрощенной ситуации, когда имеется только четыре альтернативные модели мобильных телефонов, приведена на рис. VIII.2 [Berg, 2014, p. 390]. Их ранжирование по двум признакам — весу и цене — представлено в табл. VIII.1. При пошаговом отборе потребитель исходит из двух ограничений, располагающихся в лексикографическом порядке: первое касается веса (если модель тяжелее 10 унций, она исключается из рассмотрения и все остальные ее характеристики вообще не принимаются во внимание), второе касается цены (если модель дороже 200 долл., она также отвергается). Модель в первой строке табл. VIII.1 очень легкая (2 унции), но слишком дорогая (250 долл.), так что принимается решение «не покупать». Модель во второй строке достаточно легкая (9 унций) и достаточно недорогая (199 долл.), так что принимается решение «покупать». Хотя модели в третьей и четвертой строках гораздо дешевле, это не играет абсолютно никакой роли, поскольку они слишком тяжелые и поэтому оказываются исключены еще на первой стадии принятия решения. Если теперь на основе данных табл. VIII.1 попытаться эконометрически оценить влияние факторов веса и цены на вероятность покупки, то получим следующее уравнение:
Рис. VIII.2. Дерево решений при покупке мобильного телефона (сведение исходного большого набора альтернатив к конечному меньшему набору, подлежащему рассмотрению)
Источник: [Berg, 2014, p. 390].
Таблица VIII.1
Эвристика выбора из четырех моделей мобильного телефона с разными гедонистическими характеристиками (условный пример)
Источник: [Berg, 2014, p. 390].
вероятность покупки = –2,509 + 0,201 × вес + 0,008 × цена.
Результат совершенно неправдоподобный: получается, что вероятность покупки тем выше, чем больше вес и выше цена! Объясняется это тем, что решение, принятое без использования эвристики пошагового отбора, моделируется так, как если бы оно принималось с использованием оптимизационной процедуры (если бы вместо ступенчатых сравнений исходя из лексикографических критериев использовалось единовременное сравнение всех со всеми)[117].
Следует обратить внимание, что при совершении выбора в соответствии с деревом решений на рис. VIII.2 потребитель игнорирует значительный массив информации (о ценах моделей 3 и 4). В этом смысле он действует явно неоптимизационно. Но хотя Homo heuristicus «имеет замутненное (biased) сознание и пренебрегает частью доступной информации, такое сознание может справляться с неопределенностью надежнее и эффективнее, чем незамутненное сознание, полагающееся на более ресурсоемкие и ориентированные на достижение более амбициозных целей стратегии обработки данных» [Gigerenzer, Brighton, 2009, p. 107].
Исследовательская программа FFH включает три основных блока [Hands, 2014; Lee, 2011]. Первый связан с позитивным анализом: изучение разнообразных эвристик, реально используемых людьми. Второй связан с нормативным анализом: оценка соответствия между различными эвристиками, с одной стороны, и различными экологическими нишами — с другой. Ключевым здесь является вопрос о качестве мэтчинга между определенными типами эвристик и определенными типами институтов. В какой институциональной среде данная эвристика работает хорошо, а в какой плохо? Как уже упоминалось, об экологической рациональности можно говорить, когда эвристика и институциональная среда оказываются хорошо «пригнаны» друг к другу. Третий связан с прескриптивным анализом: выработка практических рекомендаций, направленных на улучшение мэтчинга. Понятно, что это процесс двусторонний — можно проектировать эвристики, которые лучше подходят к определенной институциональной среде (когнитивный инжиниринг), а можно проектировать институты, которые лучше подходят к определенной эвристике (средовой, или институциональный, инжиниринг).
Основной формой политических интервенций, которые следуют из концепции экологической рациональности и к использованию которых призывают ее сторонники, являются различные образовательные программы. В этом смысле школа FFH сохраняет верность идеалам Просвещения. Г. Гигеренцер и его единомышленники выступают оптимистами, будучи убеждены, что «людей можно научить лучшим навыкам принятия решений» [Bond, 2009, p. 1189]. Они предлагают разнообразные просветительские меры, направленные на распространение в обществе понятной и прозрачной информации, которая помогала бы индивидам принимать более взвешенные и разумные решения. (В частности, важнейшей задачей они считают повышение статистической грамотности населения.) Имплицитно это предполагает, что люди в своей массе достаточно обучаемы и принимаемые ими решения можно сделать намного более рациональными, обращаясь к их интеллекту и практическому опыту[118].
Школа B&H, развивающая идеи поведенческой экономики, стоит на диаметрально противоположных позициях. Она рисует предельно мрачную картину человеческой натуры: «Когнитивные ошибки настолько же стабильны, продолжительны и универсальны, насколько это характерно для <биологических> рефлексов» [Trout, 2005, p. 396–397]. Но люди не просто нерациональны. В действительности все гораздо хуже, поскольку они к тому же почти что необучаемы: их физически невозможно отучить от систематических когнитивных ошибок, которые они готовы совершать на каждом шагу (см. об этом выше в контексте обсуждения проблемы оптических иллюзий). Говоря иначе, поведенческие аномалии укоренены в природе нашего сознания, а не в природе окружающих нас институтов. Попытки отучить людей от когнитивных искажений с помощью образовательных программ, как это предлагает школа FFH, обречены на провал: чтобы перекроить нашу интуицию, потребовалась бы гигантская по объему практика, обеспечить которую никто не в состоянии [Bond, 2009].
Идеалы Просвещения, настаивает школа B&H, несостоятельны по той простой причине, что люди практически не поддаются обучению и, значит, неспособны изживать свои ошибки: враг окопался и находится внутри нас. Чтобы защитить нас от самих себя, нужны интервенции, которые обращались бы не к сознательным, а к бессознательным механизмам человеческой психики, причем обеспечить их может только технократия экспертов, которые лучше нас знают, что в конечном счете для нас хорошо, а что плохо. Как мы уже отмечали, именно этим комплексом идей вдохновляется политика «наджа», или подталкивания, которую поведенческие экономисты пытаются, причем с несомненным успехом, «продавать» публике[119].
Но такой подход — подталкивание без просвещения — грозит прогрессирующей инфантилизацией общества: «Он возлагает вину за проблемы общества исключительно на сознание отдельного человека, отвлекая наше внимание от институтов, которые направляют поведение индивидов в русло, выгодное определенным группам со специальными интересами, а также ошибочно предполагает, что наиболее действенное и прочное решение, связанное с обучением людей, представляет собой совершенно безнадежное предприятие» [Gigerenzer, 2015, p. 363].
Как нетрудно видеть, контраст в политических установках школ B&H и FFH (подталкивание против просвещения, элитизм против эгалитаризма) прямо вытекает из различий в их исходных концептуальных представлениях о природе рациональности.
Как следует из нашего анализа, в современных экономических и психологических исследованиях используется несколько расходящихся интерпретаций понятий «рациональность» и «рациональное поведение». Наиболее авторитетен подход, сводящий рациональность к упорядоченности шкалы индивидуальных предпочтений. Однако, во-первых, он является неединственным и, во-вторых, сам по иронии отличается внутренней неконсистентностью, так как вынужден апеллировать к альтернативным нормативным критериям рациональности. Смешение различных трактовок рациональности, так и не становящееся предметом рефлексии, — бич многих современных исследований на эту тему. Это тем более удивительно, что, как мы попытались показать, простой логический анализ позволяет эффективно разграничивать существующие в современной литературе альтернативные подходы.
Господствующее положение в данной области исследований безусловно занимает поведенческая экономика. Своей важнейшей задачей она провозглашает избавление индивидов от многочисленных поведенческих аномалий, порождаемых их ограниченной рациональностью. Трудно, однако, избежать вывода, что ограниченная рациональность обычных людей зачастую становится не столько предметом изучения, сколько предметом интеллектуальной эксплуатации со стороны поведенческих экономистов, не останавливающихся перед использованием всевозможных манипулятивных техник.
Серьезная конкуренция поведенческой экономике, базирующейся на идеях Д. Канемана, А. Тверски и Р. Талера, исходит от концепции экологической рациональности, связанной с работами Г. Гигеренцера и его соавторов. Этот альтернативный подход характеризуется отказом от выдвижения логической консистентности на роль единственного и универсального критерия рационального поведения и признанием множественности нормативных метрик рациональности. К сожалению, и научному сообществу и широкой публике концепция экологической рациональности известна гораздо меньше, чем поведенческая экономика. Однако их сравнительный анализ свидетельствует скорее в пользу первой, чем второй. Он, как нам представляется, позволяет сделать вывод о сильной переоцененности того, что было сделано поведенческими экономистами, и сильной недооцененности того, чего удалось достичь представителям школы экологической рациональности.
ЛИТЕРАТУРА
Капелюшников Р. И. Поведенческая экономика и «новый» патернализм. Часть I // Вопросы экономики. 2013a. № 9. С. 66–90.
Капелюшников Р. И. Поведенческая экономика и «новый» патернализм. Часть II // Вопросы экономики. 2013б. № 10. С. 1–19.
Капелюшников Р. И. Стратегии поведенческой экономики // Науки о человеке. История дисциплин / под ред. А. Н. Дмитриева, И. М. Савельевой. М.: Изд. дом ВШЭ, 2015.
Капелюшников Р. И. Статус принципа рациональности в экономической теории: прошлое и настоящее // Журнал Новой экономической ассоциации. 2017. № 2. С. 162–166.
Berg N. The Consistency and Ecological Rationality Approaches to Normative Bounded Rationality // Journal of Economic Methodology. 2014. Vol. 21. No. 4. P. 375–395.
Berg N., Gigerenzer G. As-if Behavioral Economics: Neoclassical Economics in Disguise? // History of Economic Ideas. 2010. Vol. 18. No. 2. P. 133–166.
Bond M. Risk School // Nature. 2009. Vol. 461. No. 7268. P. 1189–1192.
Bounded Rationality and the Adaptive Toolbox / ed. by G. Gigerenzer, R. Selten. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.
Demsetz G. Rationality, Evolution, and Acquisitiveness // Economic Inquiry. 1996. Vol. 34. No. 3. P. 484–495.
Felin T., Koenderink J., Krueger J. I. Rationality, Perception, and the All-Seeing Eye // Psychonomic Bulletin and Review. 2017. Vol. 24. No. 4. P. 1040–1059.
Gigerenzer G. Rationality for Mortals: How People Cope with Uncertainty. N. Y.: Oxford University Press, 2008.
Gigerenzer G. On the Supposed Evidence for Libertarian Paternalism // Review of Philosophy and Psychology. 2015. Vol. 6. No. 3. P. 361–383.
Gigerenzer G., Goldstein D. G. Reasoning the Fast- and the Frugal Way: Models of Bounded Rationality // Psychological Review. 1996. Vol. 103. No. 4. P. 650–669.
Gigerenzer G., Brighton H. Homo Heuristicus: Why Biased Make Better Inferences // Topics in Cognitive Science. 2009. Vol. 1. No. 1. P. 107–143.
Gigerenzer G., Sturm Th. How (Far) Can Rationality Be Naturalized? // Synthese. 2012. Vol. 187. No. 1. P. 243–268.
Gigerenzer G., Todd P. M. & the ABC Research Group. Simple Heuristics That Make Us Smart. Oxford: Oxford University Press, 1999.
Goldstein D., Gigerenzer G. Models оf Ecological Rationality: The Recognition Heuristic // Psychological Review. 2002. Vol. 109. No. 1. P. 75–90.
Grüne-Yanoff T., Marchionni C., Moscati I. Introduction: Methodologies of Bounded Rationality // Journal of Economic Methodology. 2014. Vol. 21. No. 4. P. 325–342.
Hands D. W. Normative Ecological Rationality: Normative Rationality in the Fast-and-Frugal-Heuristics Research Program // Journal of Economic Methodology. 2014. Vol. 21. No. 4. P. 396–410.
Heuristics: The Foundations of Adaptive Behavior / ed. by G. Gigerenzer, R. Hertwig, Th. Pachur. N. Y.: Oxford University Press, 2011.
Infante G., Lecouteux G., Sugden R. Preference Purification and the Inner Rational Agent: A Critique of the Conventional Wisdom of Behavioural Welfare Economics // Journal of Economic Methodology. 2016. Vol. 23. No. 1. P. 1–25.
Kahneman D. Exposure Duration and Effective Figure-Ground Contrast // Quarterly Journal of Experimental Psychology. 1965. Vol. 17. No. 4. P. 308–314.
Kahneman D. Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics // American Economics Review. 2003a. Vol. 93. No. 5. P. 1449–1475.
Kahneman D. A Perspective on Judgment and Choice: Mapping Bounded Rationality // American Psychologist. 2003b. Vol. 58. No. 9. P. 697–720.
Kahneman D. Thinking, Fast and Slow. N. Y.: Farrar, Strauss and Giroux, 2011 (рус. пер.: Канеман Д. Думай медленно… решай быстро. М.: АСТ, 2014).
Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk // Econometrica. 1979. Vol. 47. No. 2. P. 263–291.
Katsikopoulos K. V. Bounded Rationality: The Two Cultures// Journal of Economic Methodology. 2014. Vol. 21. No. 4. P. 361–374.
Lee K. S. Three Ways of Linking Laboratory Endeavors to the Realm of Policies // European Journal of the History of Economic Thought. 2011. Vol. 18. No. 5. P. 755–776.
Leonard T. C. Review of «Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein, Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness» // Constitutional Political Economy. 2008. Vol. 19. No. 4. P. 356–360.
Lopes L. L. The Rhetoric of Irrationality // Theory and Psychology. 1991. Vol. 1. No. 1. P. 65–82.
Loewenstein G., Haisley E. The Economist as Therapist: Methodological Ramifications of «Light» Paternalism // Perspectives on the Future of Economics: Positive and Normative Foundations / ed. by A. Caplin, A. Schotter. The Handbook of Economic Methodologies. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press, 2006.
Manzini P., Mariotti M. Sequentially Rationalizable Choice // The American Economic Review. 2007. Vol. 97. No. 5. P. 1824–1839.
Manzini P., Mariotti M. Revealed Preferences and Boundedly Rational Choice Procedures: An Experiment / Working Paper. L.: University College, 2010.
Manzini P., Mariotti M. Categorize the Choose: Boundedly Rational Choice and Welfare // Journal of the European Economic Association. 2012. Vol. 10. No. 5. P. 1141–1165.
Opp K.-D. Dump the Concept of Rationality into Deep Ocean // Economic Ideas You Should Forget / ed. by B. S. Frey, D. Iselin. Berlin: Springer International Publishing AG, 2017.
Ponzo M. Rapports entre quelques illusions visuelles de contraste angulaire et l’appréciation de grandeur des astres à l’horizon // Archives Italiennes de Biologie. 1912. Vol. 58. P. 327–329.
Simon H. A. A Behavioral Model of Rational Choice // Quarterly Journal of Economics. 1955. Vol. 69. No. 1. P. 99–118.
Simon H. A. Models of Man. N. Y.: Wiley, 1957.
Selten R. What Is Bounded Rationality? // Bounded Rationality: The Adaptive Toolbox / ed. by G. Gigerenzer, R. Selten. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.
Smith V. L. Constructivist and Ecological Rationality in Economics // American Economic Review. 2003. Vol. 93. No. 3. P. 465–508.
Sunstein C., Thaler R. Libertarian Paternalism // American Economic Review. 2003a. Vol. 93. No. 2. P. 175–179.
Sunstein C., Thaler R. Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron // University of Chicago Law Review. 2003b. Vol. 70. No. 4. P. 1159–1202.
Thaler R. H. Quasi Rational Economics. N. Y.: Russell Sage Foundation, 1991.
Thaler R. H., Sunstein C. R. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness. New Haven; L.: Yale University Press, 2008 (рус. пер.: Талер Р., Санстейн К. Nudge. Архитектура выбора. М.: МИФ, 2017).
Tversky A., Kahneman D. Rational Choice and the Framing of Decisions // Journal of Business. 1986. Vol. 59. No. 4. P. 251–278.
Trout J. D. Paternalism and Cognitive Bias // Law and Philosophy. 2005. Vol. 24. No. 4. P. 393–434.
Yee M. et al. Greedoid-Based Noncompensatory Inference // Marketing Science. 2007. Vol. 26. No. 4. P. 532–549.
IX Contra панинституционализм[120]
«Панинституционализмом» я буду называть подход, объясняющий ход мировой экономической истории изменениями в формальных экономических и формальных политических институтах[121]. Добавление приставки «пан» призвано подчеркнуть, что согласно этому подходу формальные институты не просто имеют значение: де-факто только они и имеют значение. Рассеянные по работам панинституционалистов эпизодические отсылки к иным факторам (географическим, культурным и др.) носят по преимуществу ритуальный характер. В их объяснительных схемах эти факторы присутствуют лишь номинально, так что формальные институты оказываются не просто главной, но, по сути, единственной движущей силой исторического процесса.
Наиболее полные и развернутые версии этого подхода были представлены в двух книгах, получивших широкую известность во всем мире, — «Насилие и социальные порядки» Д. Норта, Дж. Уоллиса и Б. Вайнгаста (2009) и «Почему одни страны богатые, а другие бедные» Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона (2012). Такое «двоение» создает определенные технические трудности, так как эти альтернативные версии используют отличную терминологию и несколько по-иному расставляют акценты. Однако концептуальное ядро у них общее: идеи Дугласа Норта (1920–2015). В обоих случаях мы имеем дело с конкретизацией и детализацией исходных интуиций, представленных Нортом в его более ранних работах. Поэтому помимо термина «панинституционализм» в качестве равнозначных я буду также использовать выражения «нортианская экономика» и «программа Норта/Аджемоглу».
Сверхзадача обоих исследований — дать объяснение необозримому многообразию экономических режимов, возникавших в мировой истории: почему в те или иные эпохи одни общества оказывались богатыми, а другие бедными, почему одни процветали, а другие стагнировали и, наконец, почему менее успешным так плохо удавалось перенимать опыт более успешных? И в том и в другом случае ответ звучит одинаково: в конечном счете все дело в качестве формальных экономических и формальных политических институтов, задающих траектории развития любых обществ. В обеих книгах все множество существовавших ранее и существующих сегодня институтов подразделяется на «плохие» и «хорошие»: Норт с соавторами противопоставляют «порядки ограниченного доступа» «порядкам открытого доступа», а Аджемоглу и Робинсон «экстрактивные» институциональные режимы «инклюзивным» институциональным режимам. «Хорошие» институты задают правильные стимулы, обеспечивая процветание и рост; «плохие» — неправильные стимулы, порождая бедность и стагнацию. Обе на конкретных исторических кейсах стремятся продемонстрировать универсальность этой закономерности.
Конечно, в таком подходе нет ничего уникального: каузальная схема «формальные институты ⇨ структура стимолов ⇨ рост/отсутствие роста» принимается сегодня подавляющим большинством мейнстримных экономистов, так что в этом смысле едва ли не всех их можно считать «институционалистами». Однако в «Насилии и социальных порядках» Норта, Уоллиса и Вайнгаста и «Почему одни страны богатые, а другие бедные» Аджемоглу и Робинсона отличительные черты панинституционализма как исследовательской программы проступают рельефнее и полнее, чем где-либо еще. Этим и объясняется их выбор в качестве фокуса последующего обсуждения.
Российским академическим сообществом книги Норта/Уоллиса/Вайнгаста и Аджемоглу/Робинсона были восприняты как последнее слово современной экономической и политологической мысли [Заостровцев, 2013; Натхов, Полищук, 2017a; 2017б; Расков, 2011][122]. Многими предложенный в них понятийный аппарат был сразу же взят на вооружение и в их терминах начали активно осмысляться проблемы не только вчерашнего или позавчерашнего, но и сегодняшнего дня, в том числе касающиеся российской экономики. Попытка более трезвого взгляда на методологические установки и объяснительные схемы панинституционализма может послужить полезным противовесом его некритическому восприятию, характерному, насколько можно судить, для значительной части отечественных исследователей.
ПАНИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА
В современных исследованиях, посвященных проблемам экономического роста, выделяются два уровня анализа: первый — это «стандартная» теория роста, изучающая его проксимальные (ближайшие) причины; второй — это метатеория роста, изучающая его ультимальные (конечные) причины[123]. Непосредственные источники экономической динамики давно и хорошо известны: физический капитал, человеческий капитал, разделение труда, реаллокация ресурсов, экономия на масштабе, технологический прогресс. Однако если двигаться дальше вглубь, то возникает более фундаментальный вопрос: почему одни общества способны успешно накапливать физический и человеческий капитал, расширять разделение труда, разрабатывать и внедрять новые технологии, в то время как другим это удается плохо или не удается совсем? Ответ на него требует выявления глубинных источников экономического роста. Среди кандидатов, которых прочат на эту роль чаще всего: география (природные и климатические условия), институты, культура, стохастические шоки (случайные исторические события, направляющие последующее развитие по определенному руслу). В последние десятилетия исследовательские интересы все большего числа экономистов начали отчетливо сдвигаться от «стандартной» теории роста к метатеории, воспринимаемой сегодня как передний край современной экономической мысли.
Если говорить о традиционном анализе факторов экономического роста, то здесь среди экономистов существует полное согласие: «мотором» современного (шумпетерианского) роста единодушно признаются идеи, дающие жизнь новым более совершенным технологиям и инициирующие таким образом процесс «созидательного разрушения» [Jones, 2005]. В то же время в понимании глубинных источников экономического роста никакого консенсуса не наблюдается: здесь противостоят друг другу несколько конкурирующих подходов, ставящих во главу угла разные факторы. Однако наиболее популярным из них, несомненно, является подход, придающий ключевое значение институтам (прежде всего формальным — таким как права собственности). С этой точки зрения панинституционализм предстает как одна из версий метатеории экономического роста, причем версия, явно доминирующая в сегодняшнем экономическом дискурсе.
В результате мы сталкиваемся с достаточно парадоксальной объяснительной асимметрией: если в конвенциональной теории роста главной движущей силой экономического развития признаются идеи, то в метатеории роста упоминания о них, как правило, редки и случайны. С одной стороны, нас убеждают, что ключом к пониманию современного экономического роста являются новые технологические и организационные идеи, но, с другой — утверждают, что складывающиеся в разных человеческих сообществах представления о предпочтительном устройстве социума — в отличие от «технологических» назовем их «социетальными» идеями (скажем, о том, как следует относиться к инновациям и инноваторам) — не являются сколько-нибудь значимым самостоятельным фактором. Это тем более странно, что в жизни человеческих сообществ самым распространенным источником стохастических шоков, или «социальных мутаций», выступают именно идеи — хотя бы потому, что они возникают гораздо чаще, чем любые другие случайные события, будь то войны, эпидемии, землетрясения, наводнения или изменения климата. Но факт остается фактом: в метатеории роста идеям в качестве ультимальной причины экономического развития придается в лучшем случае лишь фоновое значение.
Конечно, работы Норта и его последователей включают немало отсылок к иным фундаментальным источникам экономического роста помимо формальных институтов. Однако при ближайшем рассмотрении все они оказываются чисто декоративными, поскольку на деле нортианские объяснительные схемы прекрасно обходятся без привлечения каких бы то ни было дополнительных факторов[124].
В итоге панинституционализм предстает как монокаузальная конструкция, где единственной конечной причиной экономического роста провозглашаются формальные институты. Можно даже выразиться резче, сказав, что это не просто монокаузальная, а ультрамонокаузальная объяснительная схема: из всего множества формальных экономических институтов в качестве объясняющей переменной выбирается лишь один — права собственности, а из всего множества характеристик прав собственности тоже лишь одна — степень их защищенности (security): «Институт — это по существу система или набор экономических прав собственности» [Allen, 2011, p. 226]; «Защищенные права частной собственности являются… центральным элементом потому, что только те, чьи права собственности защищены, будут готовы инвестировать и повышать производительность труда» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 105]. В работах Аджемоглу и его соавторов можно даже обнаружить специальную мини-концепцию, из которой следует, что с экономической точки зрения важна только защищенность прав собственности, тогда как, скажем, защищенность контрактов практически не важна [Acemoglu, Johnson, 2005][125].
По-видимому, не будет преувеличением сказать, что в панинституционализме глубинным источником экономического развития выступают не институты вообще и даже не права частной собственности вообще, а единственно их защищенность от разного рода рисков. Есть защищенность — есть рост, нет защищенности — нет роста: «В качестве ключа к экономическому росту определяющее значение [в нортианстве. — Р. К.] придается такой характеристике прав собственности, как их защищенность» [Ogilvie, Carus, 2014, p. 406].
Существует еще одна, не менее любопытная — на сей раз дисциплинарная — асимметрия, касающаяся рецепции нортианских построений. Если «чистые» экономисты их практически единодушно принимают, то специалисты по экономической истории почти столь же единодушно отвергают. Причины того и другого достаточно прозрачны.
Несмотря на то что работы Норта буквально переполнены инвективами по адресу неоклассики (за ее институциональную стерильность), большинством экономистов его ключевые идеи были приняты «на ура», почти сразу же став неотъемлемой частью современного мейнстрима. Сегодня их дальнейшей разработкой заняты крупнейшие мейнстримные экономисты (достаточно назвать имя Дарона Аджемоглу). С чем связан такой парадокс? Все дело в том, что исходное нортовское понимание институтов как «правил игры» идеально вписывается в базовую концептуальную схему, принятую в современном экономическом анализе, а именно — в схему максимизирующего поведения индивидов в заданных ограничениях. В нортианской перспективе институты предстают как всего лишь еще один, дополнительный, класс ограничений, с которыми, принимая решения, приходится иметь дело индивидам. Учет институтов в качестве ограничений, задающих тот или иной специфический набор стимулов, не требует серьезного пересмотра утвердившегося теоретического канона, не говоря уже об отказе от него.
Вот лишь небольшая подборка высказываний ведущих исследователей-институционалистов, иллюстрирующая, как удачно монтируются друг с другом нортианство и неоклассика:
«Институты — это правила игры в обществе или, выражаясь более формально, разработанные людьми правила, которые упорядочивают их взаимодействия друг с другом. Как следствие, они задают структуру стимулов при любых человеческих взаимоотношениях — политических, социальных, экономических» [North, 1990, p. 3];
«Если какое-либо общество не растет, так это только потому, что оно не обеспечивает никаких стимулов для экономической инициативы» [North, Thomas, 1973, p. 2];
«Институты задают структуру стимулов, действующих в обществе, поэтому политические и экономические институты определяют собой характер функционирования экономики» [Норт, 2004, с. 89];
«Экономические институты важны, потому что они влияют на структуру экономических стимулов в обществе. Без прав собственности индивиды не будут иметь стимулов инвестировать в физический или человеческий капитал или осваивать более эффективные технологии» [Acemoglu et al., 2005a, p. 389];
«Наиболее распространенное представление об институтах заключается в том, чтобы рассматривать их как ограничения поведения индивидов как индивидов» [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 59];
«Институты важны постольку, поскольку они структурируют стимулы индивидов и сдерживают их» [Там же, с. 425];
«Политические институты — это совокупность правил, которые формируют систему стимулов для различных политических игроков» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 112];
«Достоинство [нортианства. — Р. К.] заключается в инкорпорировании институциональных характеристик в неоклассическую теорию даже без нарушения центральных для нее предпосылок о рациональности и преследовании собственных интересов» [Greif, Mokyr, 2016, p. 30];
«По сути институты являются стимулами и ограничениями, налагаемыми обществом на индивидуальное поведение. Институты по определению во многом подобны ценам на конкурентном рынке: индивиды могут на них реагировать, но не могут их менять. …В этом смысле трактовка институтов по аналогии с бюджетными ограничениями (которые задаются относительными ценами) действительно оказывается чрезвычайно продуктивной» [Mokyr, 2010, p. 1–2][126].
Как легко убедиться, в представленном перечне все дефиниции «институтов» апеллируют к базовым категориям неоклассического аналитического аппарата — таким как «стимулы», «бюджетные ограничения», «относительные цены». Не удивительно поэтому, что у подавляющего большинства мейнстримных экономистов нортианские идеи встретили самый радушный прием: открывая новое предметное поле для исследовательской активности, они в то же время позволяли ничего не менять в базовых концептуальных представлениях, традиционных для современной экономической науки.
Гораздо менее благожелательная реакция со стороны значительной части профессиональных историков тоже не удивительна, если принять во внимание столь характерную для нортианцев склонность к фантазированию на историческом материале (в последующих разделах нам предстоит еще не раз возвращаться к этому сюжету).
Если говорить об интеллектуальной родословной панинституционализма, то она восходит как минимум к XVIII в., когда среди социальных мыслителей начал активно дебатироваться вопрос, что же в конечном счете правит миром: интересы или мнения? стимулы или идеи? В этом противостоянии по одну сторону баррикад оказываются К. Маркс, экономисты-неоклассики, Д. Норт, по другую — А. Токвиль, Дж. М. Кейнс, Ф. А. Хайек, Д. Макклоски. Панинституционализм можно рассматривать как крайнее выражение интеллектуальной традиции, постулирующей, что в конечном счете как отдельными людьми, так и целыми обществами движут одни только интересы или, если говорить более современным языком, стимулы. Стимулы — это альфа и омега, они объясняют все: поменяйте сегодня стимулы, завтра жизнь станет другой.
Неявно это предполагает, что картины мира, которые выстраивали для себя люди разных эпох и разных культур, были идентичны или почти идентичны: «Люди, принадлежащие к любым обществам, в принципе обладают одинаковыми желаниями и действуют одинаково разумно: все — и крестьянин из средневековой Европы, и индийский кули, и член племени яномамо из тропических джунглей, и тасманийский абориген — разделяют единый набор чаяний и в равной мере способны на рациональные поступки с целью их осуществления» [Кларк, 2012, с. 296]. Говоря иначе, индивиды всегда и везде одинаковым образом понимали и структурировали собственные интересы.
Но такой подход был бы оправдан только в том случае, если бы интересы людей целиком определялись общим для них биологическим субстратом. Отказ от биологического детерминизма резко усложняет ситуацию. Тогда объяснения через стимулы без учета различий в субъективных картинах мира могут оказываться вполне работоспособными, когда анализ ограничивается теми или иными локальными точками во времени и пространстве, но явно недостаточными тогда, когда речь заходит о «долгом» историческом времени или широком кросскультурном контексте.
Основной контраргумент тех, кто представлял иную интеллектуальную традицию, сводился к тому, что сами интересы поддаются переструктурированию посредством идей. Пусть каждый из нас движим стремлением к собственной выгоде, но понять, в чем она состоит, невозможно без «теории» — вне рамок выстроенной тем или иным способом общей картины мира. Дело не только в том, что идеи могут выступать детерминантами человеческого поведения сверх и помимо интересов (как показывает опыт, люди нередко предпринимают те или иные действия не потому, что ожидают от них большой отдачи, а потому, что считают их «правильными», поступая так, а не иначе, исходя из идейных соображений). Еще более важно, что именно идеи задают общую когнитивную рамку, в которой сами интересы наполняются тем или иным конкретным содержанием: принятие определенной «картины мира» создает потенциальные группы выигравших и проигравших, после чего на авансцену выходят уже стимулы и интересы. Новые идеи могут: 1) открывать в людях способности и предпочтения, о которых сами они даже не подозревали; 2) по-иному выстраивать причинно-следственные связи в окружающем мире; 3) превращать некооперативные игры в кооперативные при социальных взаимодействиях (и наоборот)[127].
Как следствие, эффекты идей могут оказываться не менее, а в каких-то случаях даже более сильными, чем эффекты стимулов и институтов: «Я согласен признавать за институтами, — писал Токвилль, — лишь второстепенное влияние на судьбы людей. …Политические общества оказываются не такими, какими их делают законы, а такими, какими их делают чувства, верования, идеи, привычки сердца и человеческий дух. …Одни только чувства, идеи, нравы способны приводить общества к процветанию и свободе. Я бы хотел попытаться ввести идеи и моральные чувства в качестве элементов процветания и счастья» (цит. по: [Swedberg, 2009, p. 280]).
Еще более категоричен был Кейнс: «Люди практики, которые считают себя совершенно неподверженными интеллектуальным влияниям, обычно являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого. Безумцы, стоящие у власти, которые слышат голоса с неба, извлекают свои сумасбродные идеи из творений какого-нибудь академического писаки, сочинявшего несколько лет назад. Я уверен, что сила корыстных интересов значительно преувеличивается по сравнению с постепенным усилением влияния идей. Правда, это происходит не сразу, а по истечении некоторого периода времени. В области экономической и политической философии не так уж много людей, поддающихся влиянию новых теорий, после того как они достигли 25- или 30-летнего возраста, и поэтому идеи, которые государственные служащие, политические деятели и даже агитаторы используют в текущих событиях, по большей части не являются новейшими. Но рано или поздно именно идеи, а не корыстные интересы становятся опасными и для добра, и для зла» [Кейнс, 1978, с. 458].
О том же писал Хайек: «Новые идеи возникают у немногих и постепенно распространяются, пока не становятся достоянием большинства. …Наши представления как о будущих последствиях наших действий, так и о том, к чему мы должны стремиться, — главные заповеди, доставшиеся нам как часть культурного наследия общества. …Именно идеи, а значит и люди, которые запускают новые идеи в оборот, направляют эволюцию. …Люди редко знают, да и не интересуются, откуда пришли распространенные в их время идеи — от Аристотеля или Локка, Руссо или Маркса, или от какого-нибудь профессора, взгляды которого были модны среди интеллектуалов лет двадцать назад. …Когда… идеи — через работы историков и публицистов, учителей, писателей и интеллектуалов в целом — становятся общим достоянием, они фактически направляют развитие» [Хайек, 2018, с. 145–147].
Но здесь возникает опасность смешения понятий. «Идеи» большинство панинституционалистов склонны подводить под рубрику «культуры», рассматривая их как ее составную часть. Однако такая терминологическая практика больше затемняет, чем проясняет: согласимся ли мы считать примерами влияния «культуры», скажем, влияние идей Маркса или влияние идей Кейнса? Едва ли случайно и то, что многие современные исследователи, ставящие во главу угла фактор идей, скептически относятся к объяснениям, где «мотором» экономического развития провозглашается культура [McCloskey, 2016b].
Идеологии и культура — разные феномены с разными механизмами функционирования. Человек выбирает идеологию, но культура выбирает человека. Идеологические пристрастия способны меняться практически мгновенно, культурные привычки — только медленно и постепенно. (По образному выражению Ш. Берман, идейные убеждения могут сохраняться годами, а могут меняться при первом же «дуновении ветра» [Berman, 2013].) Соотношение между идеями и культурой подобно соотношению между литературой (с индивидуальным авторством) и фольклором (с безличным modus operandi). Идеология — это осознанное, вербализованное, дискурсивное знание, тогда как культура — это чаще всего бессознательные, невербализованные, принимаемые по умолчанию, логически слабо связанные ценности и представления. Конечно, никакой непроходимой стены здесь нет: с течением времени идеи могут проникать в культуру, закрепляясь в ней и меняя ее состав. Но, строго говоря, это всего лишь финальная стадия их жизненного цикла (когда они оказываются успешными)[128].
Отсюда становится понятно, почему рассуждения многих нортианцев оказываются пронизаны полемикой (как явной, так и скрытой) с идеологическим, или лучше сказать, «идеационным» подходом[129]. В нем они видят опасного конкурента, посвящая немало усилий его ниспровержению.
Норт и соавторы. Казалось бы, идеи, или «убеждения» (где под «убеждениями» понимаются идеи, уже получившие признание и укоренившиеся в обществе), — один из сквозных сюжетов «Насилия и социальных порядков». Однако при более внимательном чтении это впечатление быстро рассеивается: на самом деле Норт и его соавторы совершенно не склонны приписывать фактору идей какого-либо самостоятельного значения.
Во-первых, все переходы от одного институционального режима к другому описываются ими исключительно в терминах интересов/стимулов без каких-либо отсылок к идеям/убеждениям. Как уже упоминалось, они различают «порядки открытого доступа» и «порядки ограниченного доступа» с делением последних на «хрупкие», «базисные» и «зрелые». Когда из «хрупкого» естественного государства возникает «базисное»? Когда для этого появляются необходимые стимулы [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 130–131]. Когда на смену «базисному» естественному государству приходит «зрелое»? Когда это становится выгодно представителям господствующей коалиции [Там же, с. 143–144]. Когда «зрелое» естественное государство уступает место порядку открытого доступа? Когда элиты сочтут, что это в их интересах [Там же, с. 75, 77, 95, 101, 113, 323, 401]. Вся цепочка институциональных метаморфоз выводится напрямую из интересов элитных групп без какого-либо прямого или косвенного участия идей[130].
Во-вторых, Норт, Уоллис и Вайнгаст в явном виде отрицают какую-либо роль идей при переходе от ограниченного доступа к открытому: «Вовсе не… идеи стали тем, что позволило данным странам [Великобритании, Франции и США. — Р. К.] осуществить действительный переход. Описывать изменения середины XIX в.… как реализацию идей Просвещения — значит препятствовать любым усилиям понять эти изменения» [Там же, с. 407–408].
В-третьих, вслед за А. Грейфом [Greif, 2006] они описывают идеи/убеждения как нечто вторичное — полностью производное от институциональной среды и автоматически меняющееся вслед за изменениями в ней. Зависимость убеждений от институтов и создаваемых на их основе организаций — один из лейтмотивов «Насилия и социальных порядков»: «индивиды в различных социальных порядках формируют различные представления»; «институты… структурируют способ формирования у индивидов убеждений и мнений»; «у членов большинства организаций развиваются общие убеждения»; «поведение, вызываемое созданными институтами стимулами, должно привести к согласующимся с поведением убеждениям»; «общественные институты… санкционируют формирование… общих убеждений»; «порядки открытого доступа подкрепляют… убеждения при помощи ряда общественных благ и услуг»; «представления… зависят от природы тех организаций, в которых люди действуют»; «убеждения людей должны сочетаться с реальным поведением индивидов, относящихся к тем институтам и организациям, с которыми они взаимодействуют»; «представления… вытекают из структуры организаций и институтов» [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 46, 59, 60, 80, 103, 214, 425, 430, 433][131].
Да, идеи/убеждения присутствуют в объяснительной схеме Норта/Уоллиса/Вайнгаста, но выступают в ней как зависимая, а не как независимая переменная. По большому счету им приписывается одна-единственная функция — «охранная»: восстанавливать устойчивость системы после возмущений, вызванных сменой институтов. Сначала институты выводят систему из равновесия, затем идеи/убеждения возвращают ее в него обратно: если институты — агент изменений, то идеи — агент стабилизации. По сути, это всего лишь пассивный рефлекс институциональной и организационной динамики[132].
В этой трактовке практически все поставлено с ног на голову. История дает нам бесчисленное множество примеров обратного, когда источником перемен выступали новые идеи, тогда как институты и культура, напротив, служили средством консервации статус-кво. Конечно, было бы странно отрицать, что идеи могут использоваться для легитимации и тем самым для продления жизни существующих порядков, но точно так же они могут выступать детонатором изменений. Однако авторы «Насилия и социальных порядков» предпочитают игнорировать этот очевидный факт. Трудно избавиться от впечатления, что их подход — это не более чем подновленная редакция марксистского учения о базисе и надстройке.
Аджемоглу и соавторы. В программной статье Д. Аджемоглу, С. Джонсона и Дж. Робинсона «Институты и экономический рост» несколько разделов посвящено полемике с подходом, который обозначается ими как «идеологический»: «Мы не отрицаем, что различия в идеологии часто играют важную роль, но мы не верим, что удовлетворительная теория институциональных различий может быть основана на различиях в идеологии» [Acemoglu et al., 2005a, p. 425]. Но иногда они все же проговариваются, невольно признавая потенциальную объяснительную силу этого альтернативного подхода.
Так, в книге Аджемоглу и Робинсона пересказывается история про то, как в классическом учебнике П. Самуэльсона «Экономика» на протяжении многих десятилетий повторялся тезис о том, что Советский Союз в скором времени обгонит США по объему ВВП [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 177]. (Правда, сроки, когда это произойдет, с каждым переизданием «Экономики» отодвигались все дальше и дальше.) Трудно заподозрить, чтобы Самуэльсон выдвигал свой тезис только потому, что был в нем «материально» заинтересован. Очевидно, он просто считал плановую систему более эффективной с динамической точки зрения, чем рыночную (и с ним, напомним, был абсолютно солидарен мейнстрим экономической науки того времени). Но точно так же могли думать и те, кто в XX в. разрабатывал и реализовывал на практике социалистические и коммунистические проекты в разных частях света. Они точно так же могли исходить из определенной картины мира, которую считали истинной, и верить, что предлагаемая ими экономическая система лучше и способна обеспечить более высокий уровень благосостояния общества[133].
Для программы Норта/Аджемоглу идеационный подход оказывается серьезным вызовом, потому что он способен объяснять многие случаи расхождения в траекториях экономического развития, которые не поддаются объяснению в терминах географии, культуры или истории. Излюбленный кейс панинституционалистов — Северная и Южная Корея. География? Она у них одинаковая. Культура? Она у них единая. История? Она у них общая. Что же остается после отсечения всех этих факторов? Только институты. Отсюда вердикт: все дело в институциональных различиях — инклюзивные институты обеспечили процветание южнокорейской экономики, тогда как экстрактивные вызвали крах северокорейской.
Но даже нортианцам приходится признать, что для идеационного подхода данный кейс не создает ни малейших затруднений [Acemoglu et al., 2005a, p. 425]. Очевидно, что расхождение в траекториях экономического развития между Южной и Северной Кореями было вызвано тем, что в первой восторжествовали идеи либеральной демократии, тогда как во второй — идеи марксизма. Согласно Аджемоглу и его соавторам, такое объяснение действительно пригодно применительно к начальному периоду после раздела Корейского полуострова, когда было неясно, кто же в развернувшемся экономическом соревновании выйдет победителем. Но сейчас, когда крах социалистической экономики стал свершившимся фактом, оно, по их мнению, уже не работает. Начиная с 1980-х годов сохранение в Северной Корее социалистической системы может объясняться только корыстными интересами правящей верхушки[134].
Но это внерациональный аргумент, свидетельствующий либо о недостатке воображения у авторов книги «Почему одни страны богатые, а другие бедные» либо о наивности их представлений о человеческой природе. (Они, по-видимому, не допускают, что человек может свято верить в то, что одновременно приносит ему немалые выгоды.) По-моему, куда труднее вообразить, чтобы Сталин, Мао или Кастро сами не верили в торжество коммунистических идей — даже в наиболее катастрофические периоды в истории стран, которыми они правили. (Возможно, все дело в отсутствии у Аджемоглу и Робинсона личного опыта жизни при социализме?) Позволю себе высказаться еще резче: если правитель и его окружение сами не верят в идеи, которые транслируют другим, это верный пролог к крушению режима. Как говорил Й. Шумпетер, идеология ничто, если она не искренна [Schumpeter, 1949].
В результате единственное преимущество институционального, или, как они еще выражаются, «социально-конфликтного», подхода перед идеационным Аджемоглу и его соавторы усматривают в том, что «социальные конфликты могут приводить к экономическим институтам, вызывающим отставание в развитии, даже тогда, когда всем агентам хорошо про это известно» [Acemoglu et al., 2005a, p. 428]. Правда, убедительных исторических примеров сохранения «плохих» институтов, чья неэффективность была бы безусловно ясна всем без исключения членам общества, они не приводят. Откуда, например, известно, что все граждане Северной Кореи осознают провальное экономическое состояние своей страны и понимают, что при ином политическом строе оно стало бы лучше? И более того: почему нужно считать, что все общества, известные истории, всегда ставили своей главной целью достижение высокого уровня благосостояния? А стремление к славе? К военному могуществу? К исполнению Божьих заповедей? Идея экономического роста достаточно молода (ей от силы 150–200 лет), так что вкладывание ее в головы людей далекого прошлого (к чему питают пристрастие нортианцы) выглядит по меньшей мере анахронично. Наконец, на вопрос, почему «плохие» институты могут сохраняться даже тогда, когда про их отвратительное качество всем всё давно понятно, имеется очень простой ответ: из-за несовпадения мнений, какие альтернативные институты лучше и как их лучше устанавливать[135].
БАЗОВАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ СХЕМА
В построениях панинституционалистов можно выделить два аспекта — нормативный и позитивный. В первом случае речь идет о том, какой тип формальных экономических институтов следует считать «хорошим» (т. е. обеспечивающим устойчивый экономический рост), во втором — о том, каким образом такие институты возникают, а если этого не происходит, то почему.
Несмотря на различия в акцентах, нормативные представления у Норта, Уоллиса и Вайнгаста и у Аджемоглу и Робинсона полностью совпадают (в чем, впрочем, нет ничего неожиданного). И те и другие исходят из того, что ядро «хороших» экономических институтов составляют надежно защищенные права частной собственности: это необходимое и достаточное условие для успешного экономического развития. Связь здесь вполне очевидная: только защищенные права собственности способны обеспечить стимулы к инвестициям и технологическим нововведениям, поскольку никто никогда не будет вкладывать свои средства ни в какие проекты, если знает, что другие — государство, организованные группы, частные лица — смогут присвоить всю отдачу от них себе. Идея защищенности прав собственности может представать в разной терминологической оболочке[136], но несмотря на смысловые оттенки речь во всех случаях идет об одном и том же базовом условии: о том, что собственник свободен распоряжаться принадлежащими ему ресурсами по своему усмотрению и никто не вправе ему в этом помешать.
Строго говоря, в таком наборе нормативных представлений нет ничего нового или уникального: в явном виде он был сформирован еще классическим либерализмом (Д. Юм, А. Смит, Дж. С. Милль), а позднее получил развернутое обоснование в теории прав собственности (Р. Коуз, А. Алчиан, Г. Демсец). (С некоторой долей иронии можно сказать, что нортианство — это как бы «либерализм под прикрытием».)
Оригинальный вклад панинституционализма связан с его позитивной исследовательской повесткой.
Базовая нортианская схема предполагает, что «хорошие» формальные экономические институты не возникают автоматически, спонтанно, сами по себе — только потому, что они способны обеспечить более высокий уровень благосостояния общества (в более строгих терминах — только потому, что они Парето-эффективны). Для того чтобы они появились, необходимы «хорошие» политические институты: «Хотя от экономических институтов зависит, будет страна бедной или богатой, именно политика и политические институты определяют выбор этих экономических институтов» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 65].
Связано это с тем, что надежной защита прав собственности может стать только тогда, когда ее осуществляет третейская сторона, имеющая монополию на легитимное насилие, т. е. государство. Его роль в качестве гаранта прав собственности является решающей: «Государство — главный участник всего этого исторического процесса» [North, 1991, p. 107]. Плохо оно справляется с функциями гаранта прав собственности — роста нет, хорошо — рост есть.
Угроза правам собственности может исходить с двух сторон — во-первых, от частных лиц и, во-вторых, от самого государства. Чтобы обезопасить их от риска частного насилия, требуется сильное централизованное государство, но чтобы обезопасить их от риска государственного насилия, само государство должно строиться на принципах демократии. В этом контексте Аджемоглу и Робинсон пишут о двух условиях, необходимых для обеспечения инклюзивности: централизме и плюрализме [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 114]. Только сильное централизованное государство с рассредоточением политической власти среди широкого круга участников способно обеспечить эффективную защиту прав собственности[137].
Как следствие, в панинституционализме экономические институты выступают в роли объясняемой, тогда как политические — в роли объясняющей переменной: «Выработка экономических институтов и правил происходит в ходе политического процесса, особенности которого, в свою очередь, зависят от институтов политических» [Там же, с. 63]. Хотя это не исключает обратного влияния экономики на политику, все же главный каузальный вектор ориентирован именно так: изменения «правил игры» в экономической сфере следуют за изменениями «правил игры» в политической сфере, а не предшествуют им[138].
Вместе с тем они не отрицают, что устойчивость любой политической системы во многом зависит от характера действующих экономических институтов. В этом контексте Норт и его соавторы выдвигают концепцию «двойного баланса интересов»: речь идет о том, что структура распределения потенциала насилия должна соответствовать структуре распределения экономических рент [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 67]. Когда баланс нарушен, наступает период нестабильности с активной борьбой за политическую власть и перераспределение экономических ресурсов. Порядки ограниченного доступа в экономике и политике взаимно поддерживают друг друга; порядки открытого доступа в экономике и политике действуют так же [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 74]. В отличие от этого сочетания открытого экономического доступа с ограниченным политическим доступом либо ограниченного экономического доступа с открытым политическим доступом нежизнеспособны и рано или поздно мутируют в режимы либо полностью ограниченного, либо полностью открытого доступа.
Эту же идею, только с использованием еще более красочных формулировок — «порочный круг экстрактивности» и «добродетельный круг инклюзивности», — развивают Аджемоглу и Робинсон: «Экстрактивные экономические институты естественным образом возникают в условиях экстрактивных политических институтов», тогда как «инклюзивные экономические институты поддерживают соответствующие политические институты и сами же, в свою очередь, опираются на них» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 114, 567]. Напротив, «гибридные» системы — экстрактивные экономические институты в сочетании с инклюзивными политическими институтами или инклюзивные экономические институты в сочетании с экстрактивными политическими институтами — неустойчивы и недолговечны [Там же, с. 116]. Стимулы, которые от них исходят, толкают в разные стороны, так что рано или поздно они трансформируются в один из двух «чистых» типов.
Почему «однородные» режимы внутренне стабильны, тогда как «смешанные» — нет? Экстрактивные политические институты позволяют элитам устанавливать экономические институты, становящиеся для них источником получения рент. Но чем больше ресурсов благодаря «плохим» экономическим институтам оказывается сконцентрировано в их руках, тем прочнее их политическая власть. Отсюда — «порочный круг экстрактивности»: «Те, кто выигрывает от сохранения статус-кво, лучше организованы и располагают более значительными ресурсами, что позволяет им блокировать любые важные изменения, угрожающие их экономическим привилегиям и доступу к власти» [Там же, с. 148–149]. Сходным образом инклюзивные политические институты открывают дорогу «хорошим» экономическим институтам, способствующим рассредоточению благ среди различных групп населения. Но чем меньше ресурсов достается элитам, тем труднее им захватить политический контроль. Отсюда — «добродетельный круг инклюзивности»: «Мощный процесс позитивной обратной связи… предохраняет институты от попыток демонтажа и фактически приводит в действие силы, действующие в направлении дальнейшего развития инклюзивности» [Там же, с. 412].
Итак, появлению «хороших» экономических институтов мешают «плохие» политические институты, а отсутствие «хороших» экономических институтов делает невозможным устойчивый рост. Но это только общая схема. Чтобы она стала полноценной теорией, необходимо ответить еще на три вопроса: почему «плохие» политические институты не исчезают, если они неэффективны; при каких условиях «хорошие» политические институты все-таки могут вытеснять «плохие»; как при переходе от «плохих» политических институтов к «хорошим» меняется сама механика экономического роста.
Почему все «плохое» так устойчиво? Ответ на первый вопрос прост: «плохие» политические институты существуют, потому что выгодны тем, в чьих руках находится политическая власть, — элитам и правителям, даже если они невыгодны всему обществу. Элиты всегда выбирают институты, которые, как они ожидают, будут способствовать максимизации их рент [Acemoglu et al., 2005а, p. 427]. Это позиция, общая для всех нортианцев: хотя «плохие» институты «всегда негативным образом сказываются на выпуске в целом, они могут приносить и приносят выгоды отдельным индивидам» [Кларк, 2012, с. 307]. В конечном счете судьбы институтов, а значит, и возможности экономического роста определяются интересами правящих классов и ничем иным.
Именно поэтому Аджемоглу и его соавторы квалифицируют свой подход как «социально-конфликтный» (см. выше). Исходным для них является представление о том, что конфликты из-за ресурсов и власти представляют собой борьбу за контроль над институтами и что в любых обществах эта борьба никогда не прекращается [Acemoglu et al., 2005а]. Определяя масштабы и направления экономической деятельности, институты в то же самое время задают и структуру распределения ее плодов [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 121]. Какие группы будут в выигрыше, а какие в проигрыше, кто окажется в числе бенефициаров, а кто в числе «лузеров» — в конечном счете решают они.
В результате вопросы эффективности (о «размере пирога») оказываются неотделимы от вопросов распределения (о «дележе пирога»): одни институты способствуют росту, но при этом не дают выгод политически влиятельным группам; другие порождают стагнацию, но при этом способствуют обогащению таких групп. Но поскольку выбор институтов осуществляется не всем обществом, а только теми, в чьих в руках находится политическая власть, он, естественно, производится в интересах элит, а не основной части населения. Среди прочего это предполагает, что, например, институциональный выбор в пользу экономической недоразвитости всегда является сознательным: если бы правящие классы, контролирующие государство, захотели, им бы не составило труда вывести экономику на траекторию роста, но они не делают этого, потому что не хотят, а не хотят, потому что опасаются понести в результате этого серьезные потери.
Это предполагает также, что демиургом институтов может выступать только государство. Недаром же, напомним, Норт называет его «главным участником всего процесса»![139] В данном отношении панинституционализм предстает прямым антиподом интеллектуальной традиции (А. Фергюсон, К. Менгер, Ф. Хайек), полагающей, что институты могут возникать спонтанно как непредумышленный результат взаимодействия множества индивидов (подробнее об этом концептуальном противостоянии см.: [Murrell, 2017]). Для него появление нового института всегда есть плод осознанного выбора, тщательного взвешивания выгод и издержек. Но поскольку, во-первых, люди могут расходиться во мнениях относительно того, какой институт «хороший», а какой «плохой», и, во-вторых, один институт может быть выгоден одним группам, а другой — другим, конечное решение всегда остается за элитой. Говоря более конкретно, в руках какой элитной группы находятся рычаги государственного управления, та и выбирает институты: «Именно политические элиты (т. е. те, у кого в руках власть) определяют, по каким правилам будет жить общество» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 66].
Почему так трудно рождается все «хорошее»? На второй вопрос все нортианцы опять-таки отвечают одинаково: «плохие» политические институты, господствовавшие на протяжении большей части человеческой истории, могли смениться «хорошими» только как результат исторической случайности — при уникальном стечении обстоятельств в определенном месте в определенное время.
Такой уникальной точкой во времени и пространстве стала Англия конца XVII в., в которой сложилась исторически беспрецедентная ситуация примерного баланса сил всех политически значимых групп. Вследствие этого все они оказались заинтересованы в переходе сначала к «хорошим» политическим, а затем и к «хорошим» экономическим институтам. Не случись такого невероятного совпадения интересов, не было бы и никакого перехода от «экстрактивности» к «инклюзивности». Однако алгоритм замены «плохих» (авторитарных) политических институтов «хорошими» (демократическими) может пониматься по-разному.
Аджемоглу и Робинсон описывают переход от авторитаризма к демократии как отказ элит от политической власти в пользу неэлит, так что центральным для них оказывается вопрос, когда и почему такой отказ происходит. Ответ на него, как и следовало ожидать, опять отсылает нас к всемогуществу стимулов: элиты уступают власть неэлитам, когда осознают, что так им будет лучше. Если из-за угрозы революции они полагают, что лишатся власти в любом случае, то могут посчитать, что отдав ее добровольно, они потеряют меньше, чем если бы им пришлось уступать ее вынужденно. Иными словами, отказ от власти выбирается ими как меньшее из возможных зол. Без давления со стороны неэлит переход к «инклюзивным» политическим, а значит, и к «инклюзивным» экономическим институтам был бы невозможен. Конфликты между элитами и неэлитами — двигатель институциональной эволюции, почти как в марксистской теории классовой борьбы.
У Норта, Уоллиса и Вайнгаста позиция иная. Они рассматривают переход от «плохих» политических институтов к «хорошим» не как разрешение конфликта между элитами и неэлитами, а как разрешение внутреннего конфликта между различными группировками самой элиты. В их понимании наибольшую угрозу для элит представляют не неэлиты с их революционными порывами, а конкурирующие элитные группы, всегда нацеленные на захват богатства и привилегий, принадлежащих другим. Демократия обеспечивает надежную защиту от таких захватов, так что от ее установления элиты выигрывают, а не проигрывают, как думают Аджемоглу и Робинсон. В этом контексте Норт, Уоллис и Вайнгаст обращают внимание на то, что переход к демократии чаще всего осуществлялся по инициативе тех или иных фракций самой элиты [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 263].
Почему рост при «плохих» и «хороших» институтах разный? В этом вопросе нортианцы также едины. «Хорошие» политические институты прокладывают дорогу «хорошим» экономическим институтам, а возникающие благодаря этому надежно защищенные права собственности на идеи (патентное право, авторское право и т. д.) становятся катализатором шумпетерианского «созидательного разрушения». Самоподдерживающийся поток инноваций делает экономический рост устойчивым и непрерывным (подробнее об этом см. приложение).
Экономический рост возможен и при «плохих» политических институтах, но только при соблюдении двух непременных условий: первое — централизация политической власти; второе — заинтересованность в росте элит, когда они начинают видеть в нем не угрозу, а источник обогащения и упрочения своих позиций. Но даже тогда рост все равно остается неустойчивым в краткосрочной и нежизнеспособным в долгосрочной перспективе. В конечном счете он обречен на затухание, хотя и может быть успешным на каких-то ограниченных интервалах времени. Почему?
Неустойчивый рост при «плохих» политических институтах нортианцы связывают с действием нескольких факторов. Во-первых, рост требует инноваций, т. е. «созидательного разрушения», но оно чревато дестабилизацией политической системы, так что у элит есть веские причины его бояться и ограничивать[140]. Во-вторых, переход к «хорошим» институтам может грозить им потерей рент [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 568]. В-третьих, колоссальные богатства, накапливаемые элитами благодаря «плохим» институтам, создают для конкурирующих группировок мощные стимулы к перехвату политической власти, что провоцирует государственные перевороты, вооруженные конфликты, гражданские войны [Там же, с. 208][141].
Не менее важно, что при «плохих» политических институтах рост рано или поздно упирается в потолок. Пока он остается догоняющим, то может строиться на технологических заимствованиях из стран-лидеров (как это наблюдается, например, в современном Китае). Однако при приближении к фронтиру технологического прогресса он, как показывает пример СССР, замирает, так как страны с такими институтами неспособны генерировать новые идеи сами. Причина все та же: отсутствие «хороших» политических институтов делает права собственности на идеи недостаточно защищенными, а это, в свою очередь, — из-за отсутствия необходимых стимулов — делает невозможными прорывные инновации на фронтире технологического прогресса.
Итоговый вывод: ключ к экономическому успеху — в «хороших» политических институтах, создаваемых заинтересованными в них элитами. Без таких институтов даже при самых благоприятных условиях рост всегда будет оставаться неустойчивым и конечным во времени.
Что можно сказать о таком аналитическом ви́дении исторического процесса?
Нортианское представление о том, что появлению «хороших» экономических институтов всегда и везде предшествует появление «хороших» политических институтов, опровергается историческим опытом многих стран. Тайвань, Чили, Южная Корея сначала добивались экономического успеха и лишь затем реформировали свои политические системы. Непохоже, чтобы здесь существовала какая-либо универсальная закономерность. Разнообразие путей исторического развития слишком велико, чтобы укладываться в какую-либо унифицированную логическую схему[142].
Рассуждениям нортианцев о нежизнеспособности «гибридных» институциональных режимов, сочетающих «плохое» с «хорошим», присуща странная хронологическая размытость. Каков количественный критерий, отделяющий жизнеспособные системы от нежизнеспособных? Об этом ничего не сообщается. Сосуществование в независимой Индии «хороших» политических институтов с «плохими» экономическими институтами в течение примерно полувека — это свидетельство устойчивости или свидетельство неустойчивости «гибридных» систем? А сосуществование в современном Китае «плохих» политических институтов с «хорошими» экономическими институтами, тоже длящееся уже почти полстолетия? Непонятно также, как тезис о нежизнеспособности «гибридных» систем сочетается с признанием Аджемоглу и Робинсоном того факта, что в реальной жизни мы никогда не наблюдаем ничего однотонно черного или однотонно белого, но всегда имеем дело с разными оттенками серого, т. е. с различными конгломератами из «экстрактивных» и «инклюзивных» институтов.
Не очевидно и то, что низкий, но устойчивый рост всегда предпочтительнее высокого, но неустойчивого. Все зависит от конкретных количественных параметров того и другого. Норт и его соавторы предлагают судить о неустойчивости роста по доле лет, когда в той или иной стране наблюдались отрицательные темпы прироста ВВП [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 45–47]. По их подсчетам, в бедных странах она заметно выше, чем в богатых. Однако даже из их собственных выкладок следует, что несмотря на это кумулятивный прирост ВВП в бедных странах на протяжении второй половины XX в. был намного больше, чем в богатых. Этот разрыв был бы еще внушительнее, если бы деление стран на бедные и богатые производилось по состоянию на начало, а не на конец рассматриваемого ими периода (1950–2004).
Наконец, нет оснований полагать, что страны с «плохими» политическими институтами органически неспособны генерировать новые научные и технологические идеи и поэтому, достигнув технологического фронтира, перестают расти. С середины XIX по середину XX в. Германия процветала при «плохих» политических институтах и пережила экономический коллапс при «хороших» (Веймарская республика). В конечном счете она рухнула не под грузом собственных проблем, а из-за военного поражения от другой «экстрактивной» системы — сталинского СССР. Германия (тогда — Пруссия) с середины XVIII в. имела сильное централизованное государство, одной из первых ввела всеобщее обязательное образование, создала самую эффективную бюрократическую систему, первой в мире приступила к разработке программ социального страхования [Boldrin et al., 2012]. Еще важнее, что и при Бисмарке, и при Гитлере она оставалась одним из лидеров мирового научно-технического прогресса, во многом опережая страны с «хорошими» политическими институтами. Сходным образом СССР в целом ряде областей науки и техники лидировал либо шел наравне со странами Запада. Заявление Аджемоглу и Робинсона, что экономический рост в СССР никак не был связан с технологическим прогрессом, выглядит, мягко говоря, эксцентрично [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 183]. На наших глазах Китай все активнее переходит от заимствований к созданию новых оригинальных технологий и именно с этим многие исследователи связывают сегодня надежды на ускорение темпов мирового технологического прогресса, резко замедлившихся в последние десятилетия [Cowen, 2011].
С методологической точки зрения серьезный дефект нортианской объяснительной схемы связан с неразличением альтернативных паттернов экономического роста. В современной литературе помимо мальтузианского (основанного на росте населения) и шумпетерианского (основанного на непрерывном потоке инноваций) принято выделять еще один тип роста — смитианский. Он называется так, потому что его механизмы были подробно разобраны еще А. Смитом в «Богатстве народов»: разделение труда, расширение рынка, реаллокация ресурсов, накопление капитала. Упрощая, можно сказать, что если смитианский рост связан с приближением экономики к границе технологических возможностей, то шумпетерианский — со сдвигом самой этой границы.
Экономическая история доиндустриального мира представляет собой чередование периодов мальтузианского и смитианского роста. «Смитианские» периоды Дж. Голдстоун обозначил термином «расцветы» (efflorescences)[143] [Goldstone, 2002]. Конечно, рост в периоды «расцвета» никогда не оставался чисто смитианским, но всегда включал отдельные шумпетерианские «вкрапления». Расширение рынка и углубление специализации стимулировали инновации, но их поток оставался слишком слабым и слишком непрочным, чтобы уровень жизни мог повышаться непрерывно. При отсутствии притока новых идей рост мог продолжаться только за счет дальнейшего распространения уже имевшихся «наилучших практик». Через несколько поколений, когда в действие вступали мальтузианские ограничители, он неизбежно «съедался» ростом населения[144]. Смитианский рост, таким образом, был конечен во времени, но это не значит, что его исчерпание вызывалось вытеснением «хороших» политических институтов «плохими».
Хотя в периоды «расцвета» рост ВВП заметно ускорялся, он все равно оставался слабым — с годовыми темпами не выше 0,5–1 % (в расчете на душу населения еще меньше — 0,2–0,3 %) и длился ограниченный отрезок времени (не более одного-двух столетий). После исчерпания задела инноваций он рано или поздно затухал, трансформируясь в стандартный мальтузианский рост [Ibid.][145]. Когда нортианцы рассматривают экономический рост «вообще», они ставят фактический знак равенства между смитианским и шумпетерианским ростом. Но рост в Древнем Риме или Японии сёгуната Токугава — это не то же самое, что рост в Италии или Японии XXI в. Одно дело повышение душевых доходов на протяжении одного-двух столетий в 2–3 раза (безусловно, феноменальное достижение для доиндустриального мира) и другое дело их повышение за тот же период в 30, 40 или 50 раз. Шумпетерианский рост, начавшийся в Англии на рубеже XVIII–XIX вв., не идентичен смитианскому росту предшествующих тысячелетий. Предполагать, как это делают нортианцы, что у них одинаковые причины и одинаковые ограничения, нет оснований. Скажем, затухание смитианского роста чаще всего порождалось либо продолжающимся ростом населения, либо вступлением общества в полосу острых социальных и политических конфликтов. Однако для шумпетерианского роста ни то ни другое не представляет непреодолимого препятствия: даже после крупных военных или политических потрясений у современных обществ сохраняются шансы на быстрое возвращение на траекторию устойчивого роста.
По сути, панинституционализм пытается предложить одно объяснение для двух разных экономических феноменов. Но современный (шумпетерианский) рост нельзя объяснять теми же механизмами, которыми мог объясняться смитианский рост, хотя бы потому, что доиндустриальная эпоха не знала такого явления, как самоподдерживающийся поток новых научных и технологических идей.
БАЗОВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ
Если транспонировать аналитическую схему, описанную в предыдущем разделе, на ход мировой экономической истории, мы получим базовый исторический нарратив, из которого исходит панинституционализм. Поскольку программа Норта/Аджемоглу строится на жесткой дихотомии «хорошего» и «плохого», нет ничего удивительного, что этому нарративу оказываются присущи выраженные манихейские черты.
По сути, вся история человечества делится в нем на два периода: первый, когда почти все было «плохо», и второй, когда местами стало «хорошо». Рубежом выступает Славная революция 1688 г. в Англии, которую Норт и нортианцы считают поворотным пунктом всемирной истории. Без нее не было бы современного экономического роста, а без него мир оставался бы таким, каким он был на протяжении предшествующих тысячелетий.
Как уже упоминалось, уникальная констелляция интересов, сложившаяся среди английской элиты в конце XVII в., дала толчок формированию «хорошей» политической системы, где оказались представлены все влиятельные группы и где ни одна из них не имела явного перевеса над остальными. Возникновение «хороших» политических институтов создало условия для формирования «хороших» экономических институтов: права собственности впервые за всю историю человечества начали надежно защищаться, благодаря чему через три четверти века после Славной революции Англия вступила на путь индустриализации, став первопроходцем современного (шумпетерианского) экономического роста [Acemoglu, Johnson, Robinson, 2005а, p. 393]. С большим или меньшим запозданием за ней последовали другие страны, но устойчивого экономического роста удавалось добиваться только тем, кто решался пойти по пути создания «хороших» политических институтов (см. выше).
Однако более всего нортианский нарратив интересен не тем, как в нем описывается «второй» период с функционированием «хороших» институтов, а тем, как в нем изображается «первый» период с тотальным господством «плохих» институтов. В этот начальный период защищенных прав собственности — за редчайшими исключениями — нигде не существовало. Это были тысячелетия абсолютного правового произвола: «До Англии XVII столетия экстрактивные институты на протяжении всей истории были нормой во всем мире» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 252]. Страны той эпохи были внеправовыми: они либо вообще не имели прав собственности либо имели их только фиктивно; действовавшие в них государства вели себя как настоящие хищники, заботясь только о наживе и не имея представления ни о каких формальных правилах или этических нормах; их правители являлись безжалостными эксплуататорами, относившимися к своим подданным как к покоренным вражеским племенам. Это был мир, населенный массой «забитых крестьян, которыми правил малочисленный, жестокий и тупой класс господ, отбиравший у них все сверх того, что было необходимо для пропитания, и тем самым уничтожавший любые стимулы к торговле, инвестициям и техническим усовершенствованиям» [Кларк, 2012, с. 210].
Естественно, в подобных условиях ни о каком экономическом росте не могло быть и речи. Хотя исключения изредка все же случались (Древняя Греция, республиканский Рим, итальянские города-государства эпохи Возрождения), они не меняли общей картины: «Общая черта доиндустриальных обществ, на которую указывают Дуглас Норт, Мансур Олсон и другие, заключается в том, что все эти общества являлись „хищническими государствами“ и управлялись „оседлыми бандитами“, которые максимизировали свой доход за счет экономической эффективности» [Там же, с. 310].
Наглядным примером, к чему вело тотальное господство «плохих» институтов, может служить европейское Средневековье. В изображении Д. Аджемоглу его «портрет» выглядит так:
«Рассмотрим эволюцию прав собственности в Европе в Средние века. …Отсутствие прав собственности для землевладельцев, купцов и протопромышленников было препятствием для экономического роста в ту эпоху. Поскольку в это время политические институты отдавали политическую власть в руки королей и наследственных монархий разного типа, эти права устанавливались в основном монархами. Хотя монархи имели все стимулы защищать свои собственные права собственности, они — на беду для экономического роста — в общем не защищали прав собственности никого другого. Напротив, монархи часто использовали свою власть для экспроприации собственности производителей, вводя произвольные налоги, отказываясь платить по своим долгам и распределяя производственные ресурсы общества своим сторонникам в обмен на экономические выгоды или политическую поддержку. Следовательно, в Средние века экономические институты давали мало стимулов для инвестирования в землю, физический и человеческий капитал или технологии и были неспособны поощрять экономический рост. Эти институты способствовали также тому, что монархи, контролировали значительную часть экономических ресурсов общества, укрепляя свою политическую власть и продлевая жизнь такому политическому режиму. Однако XVII столетие стало свидетелем крупных изменений в экономических и политических институтах, проложивших дорогу установлению прав собственности и ограничению власти монархов» [Acemoglu, 2008, p. 2600][146].
Скорее всего, профессиональный историк-медиевист был бы сильно озадачен подобным описанием. Ведь все это говорится об обществах, которые были насквозь юридизированы и перенасыщены судами разного типа; которые страдали не столько от недостатка, сколько от избытка правовых регуляций; в которых все, включая правителей, были опутаны плотной сетью формальных ограничений. Но больше всего в этом нарративе поражает полное отсутствие отсылок к работам историков. По-видимому, он представляется нортианцам настолько самоочевидным, что они не видят никакой необходимости в его подтверждениях на историческом материале.
Однако картина, которую рисуют многочисленные исследования по экономической истории и истории права, выглядит совершенно иначе. Обе составляющие нортианского нарратива — как представление о том, что средневековая Англия, подобно другим доиндустриальным обществам, была ареной «боев без правил», так и представление о том, что на рубеже XVII–XVIII вв. ее экономические институты пережили тотальную трансформацию — не находят в них подтверждения. Так, права собственности существовали в средневековой Европе на протяжении столетий и были специфицированы до мельчайших подробностей; действовали развитые рынки земли, где активно продавались и покупались как крупные, так и мелкие участки; как минимум с норманнских времен в Англии был возможен рыночный обмен любыми товарами и факторами производства, причем при его надежной защищенности; все сделки, независимо от социального статуса участников, регистрировались судами; монархи контролировали лишь небольшую долю богатства общества (как правило, менее 5 %); в конце XVII столетия никаких резких изменений в экономических институтах не происходило; хотя в этот период власть английских монархов подверглась серьезным ограничениям, это не имело отношения ни к правам собственности, ни к экономическому росту [McCloskey, 2010, сh. 34][147].
Историки практически единодушны в том, что с институциональной точки зрения Англия Средних веков была в целом чрезвычайно стабильным или, как говорили в старину, «благоустроенным» обществом. Если при оценке степени защищенности прав собственности использовать количественные критерии, применяемые сегодня международными экономическими организациями, то оказывается, что они были защищены в ней лучше, чем в современных развитых странах[148].
Тезис о радикальном переформатировании английских экономических институтов в течение «длинного» XVIII столетия (1688–1815) также не согласуется с фактами. Изменения, происходившие как до, так и после этого периода, были намного более значимыми [Ibid.]. Как указывает известный британский историк Н. Крафтс, «в период Промышленной революции никаких явных улучшений в институтах не происходило» [Crafts, 2005, p. 532]. О том же пишет историк права С. Дикин, отмечая, среди прочего, что «в Англии индустриализация предшествовала изменениям в правовой системе, тогда как во Франции и Германии соотношение было обратным» [Deakin, 2009, p. 37]. Подробный постатейный анализ П. Мюррелом двух ключевых законов Славной революции — «Билля о правах» (1688) и «Акта о престолонаследии» (1701) — показал, что практически все включенные в них положения были не правовыми инновациями, а всего лишь восстановлением традиционных норм, попранных Стюартами [Murrell, 2017]. Иными словами, они являлись органическим продолжением предшествующей институциональной эволюции Англии, а не ее поворотным пунктом.
Что же в конечном счете стоит за квазиисторическими построениями нортианцев? Догадаться об этом нелегко, но можно. Скажем, Аджемоглу и Робинсон отождествляют институты доиндустриальной Европы с институтами, действовавшими на протяжении длительного времени в Эфиопии, где вся земля принадлежала императору и где он мог заменять или отбирать земельные участки у тех, кто ее обрабатывал, раз в два-три года или даже чаще: на их взгляд, имеется «множество черт сходства между политэкономическими системами Эфиопии и стран европейского абсолютизма» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 320]. Сходным образом авторы «Насилия и социальных порядков» квалифицируют институциональное устройство средневековых европейских обществ как «патримониальную систему» [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 92]. Эти «проговорки» выдают скрытый отправной пункт нортианских представлений о логике мировой экономической истории.
Термин «патримониальная система» был введен М. Вебером для обозначения типа правления, при котором вся экономика страны рассматривается как личное хозяйство правителя. В истории подобная система — когда все подданные и все ресурсы общества признаются имуществом властителя — нередко возникала на какой-то период времени после завоеваний кочевниками развитых земледельческих цивилизаций. Это были общества с минимальными правами собственности для частных лиц, но с фактически неограниченными правами собственности для правителей. Понятие «патримониальная система» активно использовал Р. Пайпс при анализе истории российского государства [Пайпс, 2008]; некоторые политологи также описывают политические режимы ряда современных африканских государств как «неопатримониальные» [Eisenstadt, 1973; Bates, 1983; Kang, 2003]. Однако в изображении нортианцев «патримониальными» оказываются практически все государства Древнего мира, Средневековья, Возрождения и раннего Нового времени.
Но в Западной Европе короли никогда не владели всей землей и уж тем более не «владели» всеми своими поданными. И рыцари, и крестьяне были собственниками земли и активно занимались ее куплей-продажей, не говоря уже о других видах сделок, таких как предоставление ее в залог или сдача в аренду. Идея, что правитель может быть реальным владельцем всех материальных ресурсов общества и всех своих подданных, была чужда не только странам Западной Европы, но и всем институционально стабильным («благоустроенным») обществам доиндустриального мира, включая, например, Китай или Японию. Но стоит только отказаться от идеи тотальной «патримониальности» доиндустриальной эпохи, как нортианский исторический нарратив теряет какое-либо правдоподобие.
ИНКАРНАЦИЯ 1: НОРТ/УОЛЛИС/ВАЙНГАСТ
По признанию самих Норта, Уоллиса и Вайнгаста, основная проблема, которой посвящена их книга, — это проблема организованного насилия, которое в длительной исторической перспективе предстает как наиболее распространенный и наиболее фундаментальный источник незащищенности прав собственности [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 57].
Как разные общества переструктурировали стимулы для специалистов в области насилия, чтобы тем стал выгоден отказ от его применения или угроз его применения? Базовая интуиция, из которой исходят авторы «Насилия и социальных порядков», не лишена известного интеллектуального изящества. Очевидно, что продуктивная экономическая деятельность невозможна без ограничения насилия (без достижения хотя бы минимального социального порядка). Только в этом случае индивиды смогут надеяться на то, что плоды их усилий достанутся им, а не будут присвоены кем-то другим. Однако ограничивая насильственную конкуренцию, большинству человеческих сообществ приходилось одновременно ограничивать и ненасильственную (экономическую) конкуренцию. Одно автоматически тянуло за собой другое: ограничение рынка становилось неизбежным побочным продуктом ограничения потенциала насилия.
Почему так получалось? По мысли Норта, Уоллиса и Вайнгаста, все дело в том, что специалисты в области насилия будут готовы «сложить оружие», отказавшись от использования силы, лишь в том случае, если пообещать им за это достаточно большое вознаграждение. Его, в свою очередь, может обеспечить только передача под их контроль ценных ресурсов, способных выступать источником ренты: «Систематическое создание ренты при помощи ограниченного доступа в естественном государстве — это не просто средство набить карманы членов господствующей коалиции; это также важнейшее средство контроля насилия» [Там же, с. 62]. Только в этом случае специалисты в области насилия согласятся уважать привилегии друг друга, включая права собственности и доступ к прибыльным видам деятельности [Там же, с. 64].
В самом деле, если ренты достаточно велики, то каждый из них будет заинтересован в том, чтобы воздерживаться от применения силы [Там же, с. 65]. Но если не ограничивать доступ к ценным ресурсам (земле, труду и капиталу) и ценным видам деятельности (предпринимательству, торговле), оставив его открытым для всех, то это приведет к рассеянию рент в процессе рыночной конкуренции. Тогда вознаграждать специалистов в области насилия за отказ от его применения будет не из чего, что станет подталкивать их ко все новым и новым раундам насильственных действий. Отсюда — потребность в создании и поддержании порядков ограниченного доступа. Это, по оценке Норта, Уоллиса и Вайнгаста, наиболее распространенный в мировой истории тип институционального устройства, который, ограничивая доступ к насилию (для элит), в то же самое время ограничивал доступ и к экономической деятельности (для неэлит). Можно сказать, что на протяжении тысячелетий успешное решение проблемы насилия автоматически блокировало успешное решение проблемы роста — по той банальной причине, что «создание ренты и ограничение доступа создают препятствия для экономического роста» [Там же, с. 419]. По сути, функционирование порядков ограниченного доступа укладывается в формулу: «наличие общественного порядка + отсутствие устойчивого экономического роста».
Подход Норта, Уоллиса и Вайнгаста не ограничивается элементарной каузальной цепочкой «институты ⇨ стимулы ⇨ поведение», но вводит в нее еще одно важное промежуточное звено — организации. Институты в их трактовке задают стимулы к экономической и политической деятельности не напрямую, а всегда через посредничество создаваемых в их рамках организаций. Возможно, главный позитивный вклад «Насилия и социальных порядков» состоит как раз в том, что она предлагает взгляд на социально-экономическую историю через призму эволюции организаций.
Права на их создание и на руководство ими представляют для экономических агентов особую ценность, поскольку служат важнейшим генератором рент: «Наиболее ценная форма создания ренты для большинства обществ — это способность формировать организации» [Там же, с. 427]. Как следствие, альтернативные социальные порядки различаются прежде всего тем, как они отстраивают доступ к формированию и использованию организаций. И поскольку организации обладают множеством измерений, можно ожидать, что разные типы социального порядка также будут отличаться друг от друга по многим функциональным характеристикам.
В этом контексте конструкция, разработанная Нортом, Уоллисом и Вайнгастом, оказывается нацелена на то, чтобы дать ответы на три взаимосвязанных вопроса: какова организационная специфика порядков ограниченного доступа; какова организационная специфика порядков открытого доступа; как возможен переход от первых ко вторым.
Порядок ограниченного доступа. Общая отличительная черта порядков ограниченного доступа — предоставление прав на формирование и использование организаций элитам (участникам господствующей коалиции) и непредоставление этих прав остальным членам общества [Там же, с. 47]. Менее и более развитые естественные государства — «хрупкие», «базисные», «зрелые» — решают эту проблему по-разному, чем объясняются различия в механизмах их функционирования. (К хрупким естественным государствам Норт, Уоллис и Вайнгаст относят современные Афганистан и Сомали; к базисным — империю ацтеков и империю Каролингов; к зрелым — Англию и Францию XVI–XVIII вв.)
Все естественные государства характеризуются неспособностью решить задачу установления легальной монополии на насилие, так что их можно было бы называть «довеберианскими». Вследствие этого все они страдают от неустранимой, «генетически» присущей им незащищенности прав собственности [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 54]. Но хотя во всех естественных государствах контроль за применением насилия остается рассеянным (отсюда — постоянный риск вспышек группового насилия), степень такого контроля широко варьирует от одного типа к другому: в базисных естественных государствах он более консолидирован, чем в хрупких, а в зрелых — более консолидирован, чем в базисных.
Параллельно со степенью консолидации политической власти меняется и степень защищенности прав собственности. Благодаря их лучшей защите базисные естественные государства способны создавать более крупные общества, чем хрупкие, а зрелые — более крупные, чем базисные [Там же, с. 419]. Институциональная и организационная сложность также возрастают по мере перехода от хрупких естественных государств к базисным, а от них — к зрелым. Но даже в самых продвинутых порядках ограниченного доступа права собственности все равно остаются размытыми и недостаточно защищенными.
В хрупких государствах все строится на личных отношениях, так что привилегиями по формированию организаций и, соответственно, источниками по извлечению ренты наделяются конкретные представители господствующей коалиции. В случае их ухода со сцены (вследствие смерти, утраты доверия правителя и т. д.) возглавляемые ими организации распадаются и ценные ресурсы перераспределяются в пользу других членов элиты. Кроме того, создаваемые в хрупких естественных государствах организации остаются крайне примитивными по дизайну: они лишены статуса юридического лица и функционируют по типу партнерств как объединение нескольких физических лиц.
В базисных государствах элитные взаимоотношения приобретают более безличный характер, так как источники ренты привязываются уже не столько к личностям, сколько к социальным позициям (титулам, званиям, должностям) членов господствующей коалиции. Соответственно все большее число организаций приобретает «корпоративную идентичность» (статус юридического лица), что делает их значительно более стабильными и долговечными. Несмотря на это такие организации все еще нельзя считать существующими бессрочно, поскольку любые сколько-нибудь серьезные внутриэлитные конфликты приводят к их исчезновению. При этом и в хрупких, и в базисных естественных государствах все организации создаются и функционируют под патронажем и контролем политической власти: организаций, которые были бы независимы от государства, в них не существует [Там же, с. 120].
Зрелые естественные государства делают еще один шаг вперед по пути дальнейшего обезличивания внутриэлитных взаимоотношений: в них члены господствующей коалиции получают возможность создавать не санкционированные государством частные организации [Там же, с. 107]. Такие элитные организации безличны (имеют статус юридического лица) и могут существовать бессрочно, поскольку перестают зависеть от перипетий внутриэлитной борьбы. В результате в зрелых естественных государствах и количество, и размеры, и стабильность, и сложность действующих организаций оказываются значительно выше, чем в хрупких или базисных.
Важно, что движение по этому пути затрагивает все организации, включая самую главную из них — само государство. По мере перехода от менее развитых к более развитым формам ограниченного доступа оно также начинает обретать все большую безличность и бессрочность[149].
Этим объясняется, почему зрелые естественные государства отличаются намного большей стабильностью, чем хрупкие или базисные. Экзогенные изменения (в относительных ценах, демографии, технологиях) способны резко менять баланс интересов и сил между членами господствующей коалиции. В условиях хрупких и базисных естественных государств это будет с неизбежностью требовать пересмотра предыдущих внутриэлитных договоренностей, перераспределения ресурсов, замены одних организаций другими, провоцируя открытые конфликты и всплески насилия. В условиях зрелых естественных государств такая подстройка к меняющимся условиям осуществляется менее болезненно из-за большей автономии создаваемых элитами организаций как от государства, так и от других участников господствующей коалиции.
Порядок открытого доступа. Порядки открытого доступа, действующие в современных развитых странах, имеют принципиально иную институциональную и организационную природу, поскольку основываются на открытом входе в политику и экономику [Там же, с. 257].
Во-первых, в них возникает «веберовское» государство с монополией на легитимное насилие, т. е. контроль за применением насилия оказывается не рассеянным, а консолидированным: полиция и армия наделяются полномочиями использовать насилие при урегулировании конфликтов между всеми членами общества без исключения [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 227]. Ограничивая насильственные взаимодействия между людьми, они обеспечивают этим эффективную поддержку ненасильственным взаимодействиям между ними [Там же, с. 221]. (При этом сами военные перестают быть независимыми или действовать по капризу политической власти, так как жестко ограничиваются существующими «правилами игры».) Отсюда — надежные гарантии прав собственности, которых не удается обеспечить порядкам ограниченного доступа: «Экономическим организациям в порядках открытого доступа не надо участвовать в политике для отстаивания своих прав, обеспечения исполнения контрактов или защиты от экспроприации» [Там же, с. 205].
Во-вторых, в обществах открытого доступа государство функционирует как полностью обезличенный и бессрочно существующий организм.
В-третьих, в них реализуется принцип «верховенства права», так что права на вход в любые сферы деятельности и создание там новых организаций предоставляются всем членам общества, а не только элитам[150]. Эта возможность перестает быть привилегией и становится правом: «Безлично определенный доступ (права) к созданию организаций составляет центральную часть обществ открытого доступа» [Там же, с. 49]. Вследствие этого число бессрочно существующих экономических и политических организаций в порядках открытого доступа оказывается во много раз больше, чем в порядках ограниченного доступа, не говоря уже о том, что они становятся значительно крупнее по размерам и значительно сложнее по дизайну.
В-четвертых, порядки открытого доступа поддерживают высоко конкурентные экономические и политические рынки, так что хотя процесс поиска ренты и не исчезает полностью, но приобретает совершенно иную направленность [Там же, с. 422]. Генерируемые в них ренты оказываются краткосрочными, а не долгосрочными, быстро подвергаясь эрозии под действием сил конкуренции. Не менее важно, что основным источником рент становятся не искусственно вводимые государством ограничения на занятие определенными видами деятельности, а новые технологические и организационные идеи.
В-пятых, конкуренция, постоянно поддерживаемая на экономических и политических рынках, делает общества открытого доступа более устойчивыми за счет большей способности приспосабливаться к переменам [Там же, с. 54]. Процесс принятия решений в них децентрализован, т. е. рассредоточен по отдельным организациям, что позволяет быстрее находить более эффективные решения. Кроме того, конкуренция обеспечивает защиту от рентоориентированного поведения влиятельных групп: изменения баланса групповых интересов протекают в них без угрозы стабильности, как это происходит в обществах ограниченного доступа. Это позволяет поддерживать в порядках открытого доступа устойчивый экономический рост (без резких падений и длительных стагнаций) — в отличие от порядков ограниченного доступа, где рост, даже если он возникает, остается всегда неустойчивым, с резкими колебаниями вверх и вниз.
Наконец, и это, возможно, главное, «наиболее важной особенностью порядков открытого доступа является трансформация от общества, основанного на элитах, к обществу, основанному на массах граждан» [Там же, с. 215]. Государство становится подотчетно обществу и начинает выражать его интересы.
Проблема перехода. Каковы механизмы перехода от порядка ограниченного к порядку открытого доступа, когда и почему он происходит? Это критически важный для всей конструкции Норта/Уоллиса/Вайнгаста вопрос. По их мнению, впервые такой переход был осуществлен Великобританией в первой половине XIX в. Его они считают событием, абсолютно беспрецедентным в мировой истории: «Ничего подобного в мире еще не было» [Там же, с. 427]. За Великобританией вскоре последовали другие страны Запада. Поэтому авторы «Насилия и социальных порядков» иначе, чем большинство историков экономики, датируют начало современного (шумпетерианского) экономического роста: они связывают его не с начавшейся в Англии во второй половине XVIII в. Промышленной революцией, а с организационной революцией, имевшей место в первой половине XIX в.: «Критический период для осуществления действительного перехода на Западе наступил в XIX в., когда политические и экономические организации приблизились к режиму открытого доступа, это привело к трансформации западных обществ» [Там же, с. 406].
Как уже упоминалось, сам переход к обществам открытого доступа описывается Нортом, Уоллисом и Вайнгастом как сугубо внутриэлитное дело. У этого процесса они выделяют две стороны: возможность и желательность. Возможность возникает тогда, когда в зрелом естественном государстве формируются три «пороговых» условия: верховенство права для элиты (равный доступ к справедливому суду для всех ее членов); бессрочно существующее государство; консолидированный контроль над вооруженными силами[151]. Возможность превращается в действительность, когда элиты решают, что им выгодно конвертировать личные привилегии в безличные права. Цель такой конвертации — обеспечить максимально возможную степень стабильности и защищенности их прав собственности, недостижимую в условиях естественных государств.
В естественных государствах главная опасность для элит исходит от других участников господствующей коалиции, поскольку любое сколько-нибудь значительное изменение баланса сил и интересов оборачивается перераспределением ресурсов и привилегий [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 323]. Переход к обществу открытого доступа начинается, когда элиты осознают, что их интересы будут лучше защищены от внутриэлитной борьбы, если конвертировать личные прерогативы во всеобщие права [Там же, с. 324]. Во-первых, в этом случае их интересы получают дополнительную поддержку в виде правовых гарантий и, во-вторых, их становится можно отстаивать путем создания новых организаций: «Разрешение внутриэлитных конфликтов, а также создание условий для того, чтобы права элит были обеспечены и гарантированы от любых конфликтов, в конечном счете привели к институционализации открытого доступа в экономике и политике» [Там же, с. 408].
Этой же логикой объясняется последующий процесс наделения правами более широких слоев общества[152]. Привлечение на свою сторону неэлитных групп становится для них способом продвижения собственных интересов: «Политические элиты… имели все основания стремиться к распространению избирательных прав на широкие массы — это давало им возможность получить электоральные преимущества» [Там же, с. 410].
У всего этого есть еще одно важное следствие. Если в естественных государствах каждая фракция элиты была вправе создавать организации только в строго ограниченной сфере, то теперь все ее фракции получают равные права на создание любых организаций в любых видах деятельности без каких-либо ограничений: «Всем элитам дается право формировать организации, независимо от того являются ли эти организации политическими, экономическими или общественными» [Там же, с. 77]. Именно в этом, по мнению авторов «Насилия и социальных порядков», кроется главный смысл перехода от ограниченного к открытому доступу. Прямым следствием конвертации элитных привилегий во всеобщие права становится взрывной рост числа экономических и политических организаций с корпоративной идентичностью[153]. Переход к порядку открытого доступа становится необратимым, когда число частных организаций (как экономических, так и политических), полностью независимых от государства, начинает расти экспоненциально. Именно поэтому Норт, Уоллис и Вайнгаст датируют его завершение серединой XIX в.
Как можно видеть из этого сжатого изложения, предложенная в «Насилии и социальных порядках» концепция лежит целиком в русле панинституционализма, демонстрируя типичные для него методологические и фактологические смещения. Несмотря на подзаголовок «концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества», она строится почти исключительно на материале по трем странам — Англии, Франции и США. В предметном указателе к книге не находится места для африканских стран, арабского мира, Китая, империи Великих Моголов в Индии, Оттоманской империи, Германии, Греции, Ирана, Италии, Нидерландов, России (кроме СССР), Швеции, Японии и т. д. [McCloskey, 2016a]. Создается впечатление, что игнорируется история как раз тех стран, чей опыт плохо укладывается в объяснительную схему Норта/Уоллиса/Вайнгаста. Стоит расширить границы исторического поля, как генерализации, на которых она держится, повисают в воздухе. Институты, которые преподносятся авторами как уникальные, беспрецедентные, присущие только обществам открытого доступа, при более внимательном рассмотрении предстают как достаточно рядовые и встречающиеся повсеместно даже в обществах ограниченного доступа.
Так, Д. Макклоски показала, что условия, которые Норт, Уоллис и Вайнгаст именуют «пороговыми», существовали во множестве самых разных стран самых разных эпох — от древнего Израиля эпохи судей и республиканского Рима до сунского Китая и Японии сёгуната Токугава[154]. Почему же только Англии на рубеже XVIII–XIX вв. удалось протиснуться в этот «дверной проем» (doorstep conditions)? У одного из авторов «Насилия и социальных порядков», Б. Вайнгаста, не нашлось аргументов, чтобы как-то возразить на этот комментарий Макклоски, и он ограничился рассуждениями в том духе, что общества, где были достигнуты «пороговые» условия, встречались в истории все же не так часто, как общества, где они достигнуты не были [Weingast, 2016]. Но такое признание равносильно сдаче позиций: если во многих десятках обществ, известных истории, существовали «пороговые» условия для перехода к открытому доступу, то что же такого особенного было в странах Западной Европы (если быть точнее — в Англии) конца XVIII — начала XIX в., что они совершили переход, который на протяжении столетий не удавался другим странам со сходными институциональными режимами?
Ссылка на то, что он отвечал интересам тогдашних элит, ничего не объясняет, лишь отодвигая проблему на шаг назад. Благодаря какому уникальному стечению обстоятельств этот переход оказался им почему-то выгоден, тогда как во всех предыдущих случаях элиты на него не шли, считая, что могут от этого только проиграть? И консолидированный контроль над вооруженными силами, и бессрочно действующее государство, и верховенство права для элит существовали во всех институционально стабильных доиндустриальных обществах. По всем этим параметрам они мало чем отличались от Великобритании конца XVIII — начала XIX в. Аргументация Норта/Уоллиса/Вайнгаста не предлагает никакого специфического ингредиента, который наличествовал бы в ней, но отсутствовал бы во всех других обществах, достигавших «пороговых» условий. В результате причины перехода от ограниченного доступа к открытому так и остаются невыясненными.
Как и большинство панинституционалистов, Норт, Уоллис и Вайнгаст демонстрируют стойкую приверженность идее правового централизма, предполагающей, что создавать и защищать права собственности может только государство. Это очевидная историческая аберрация (см. выше). Его роль в установлении и защите прав собственности гораздо менее однозначна, чем это следует из их упрощенного подхода: трудно сказать, каких случаев история человечества насчитывает больше — когда государство выступало «другом» или когда оно выступало «врагом» частной собственности. Во всяком случае применительно к XX в. (не исключая и общества открытого доступа) верно скорее второе.
Пожалуй, больше всего в классификации Норта/Уоллиса/Вайнгаста поражает безразмерность ее ячеек: так, под рубрику естественных государств подпадают современное Сомали и сталинский СССР, чавесовская Венесуэла и бисмарковская Германия, империя Великих Моголов и революционная Франция, Древняя Греция и Золотая Орда. Неужели у этих обществ институциональных сходств больше, чем отличий? Вообще если залог экономического успеха — гарантии прав частной собственности, то странно помещать в одну группу страны, где она полностью отрицалась (СССР, маоистский Китай, Куба) и где она почиталась фундаментом общественного устройства (Западная Европа XVI–XVIII вв.).
Крайне мало дает эта классификация и для понимания экономических различий в современном мире. Все сводится к тому, что в развитых странах темпы экономического роста хотя и ниже, но более устойчивы, чем в развивающихся. Но тем самым в тени остается главное — что современный (шумпетерианский) рост равно возможен в обществах как открытого, так и ограниченного доступа. Получается, что между ограниченным доступом и шумпетерианским ростом нет врожденной несовместимости! Но это означает, что если какая-то страна стагнирует, то, скорее всего, это связано не с институтами ограниченного доступа как таковыми, а с какими-то иными, специфическими для нее факторами.
Документальным опровержением подхода Норта/Уоллиса/Вайнгаста служит опыт Веймарской Германии. По всем нортианским критериям в ней существовал порядок открытого доступа, но это не спасло ее от экономической катастрофы и не сделало ее «бессрочно существующим государством» [Reckendrees, 2015]. Ее пример показывает, что открытого входа на экономические и политические рынки в сочетании с монополией на легитимное насилие недостаточно для достижения социальной стабильности и экономического роста. Пусть в меньшей мере, но порядки открытого доступа подвержены тем же рискам, что и порядки ограниченного.
В схему, представленную в «Насилии и социальных порядках», плохо вписывается опыт СССР и нацистской Германии. В них однозначно существовали безличное государство и консолидированный контроль над вооруженными силами, хотя наличие единых «правил игры» для членов элиты не столь очевидно и может оспариваться. Однако мощь централизованного государства использовалась в них не для поощрения, а для подавления экономической и политической конкуренции, причем в масштабах, немыслимых для «традиционных» порядков ограниченного доступа. Нелишне также заметить, что само появление подобных обществ стало возможно только после того, как в других частях мира возникли общества открытого доступа.
Рассуждения Норта/Уоллиса/Вайнгаста о масштабах государственного контроля над экономикой в обществах ограниченного и открытого доступа тенденциозны и внутренне противоречивы. С одной стороны, нам сообщают, что в порядках открытого доступа бóльшая часть поведения и формирования интересов находится вне государственного контроля и что для них характерен меньший регулятивный контроль [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 72, 436], тогда как в порядках ограниченного доступа рынки жестко контролируются [Там же, с. 235]. С другой, заявляют, что неотъемлемой чертой обществ открытого доступа является рост государства и что «большое правительство» для них норма, а не отклонение [Там же, с. 206, 222][155]. При этом само «большое правительство» описывается Нортом и его соавторами как меньшее из зол — как средство по предотвращению еще «более массового перераспределения» [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 224]. Но не кажется ли им, что перераспределение 60–70 % ВВП уже само по себе является настолько «массовым», что дальше уже практически некуда?
Более того, возникают сомнения, сохраняется ли все еще «открытый доступ» в современных развитых экономиках, где треть профессий, как в США, подлежит лицензированию; где налоги в десятки раз выше, чем были при «ограниченном доступе»; где через государственный бюджет перераспределяется больше половины ВВП и где, как например в США, массив регулятивных документов только на федеральном уровне ежегодно прирастает на 85 тыс. страниц! Мысля в логике Норта/Уоллиса/Вайнгаста, следовало бы признать, что в современных развитых странах экономический рост сохраняется не столько благодаря, сколько вопреки существующим в них регулятивным режимам, которые по масштабам подавления конкуренции государством намного превосходят все то, что было известно, по крайней мере «зрелым» естественным государствам.
Установление антиконкурентных экономических институтов в обществах ограниченного доступа Норт, Уоллис и Вайнгаст приписывают сознательным действиям элит, прежде всего решениям правителей. Зная о большей эффективности конкурентных институтов, они тем не менее делают выбор в пользу их антиподов. Но это не единственно возможный сценарий. Вполне вероятно, что формирование антиконкурентных институтов происходит спонтанно, а элиты, обнаружив эти институты уже в готовом виде, просто ставят их на службу своим интересам. Что правдоподобнее — политические элиты учреждают ремесленные и купеческие гильдии или они возникают сами по себе и элиты только берут их под свой контроль? Если верно второе, то тогда элиты естественных государств перестают быть гиперрациональными существами, какими они предстают в первом случае. Но этот более реалистичный сценарий остается вне поля зрения авторов «Насилия и социальных порядков».
Вопреки тому, как описывают ситуацию Норт и его соавторы, в большинстве доиндустриальных обществ значительный массив ресурсов не принадлежал ни правителям ни элитам. Но тогда поддержание в таких «неэлитных» секторах экономики рентных институтов оказывается в явном противоречии с собственными интересами элит: установив там конкурентный порядок, они могли бы, во-первых, рассчитывать на больший объем налоговых поступлений и, во-вторых, не опасаться превращения получателей рент в сильных политических игроков. Почему же элиты естественных государств не протяжении столетий вели себя так нерационально? В «Насилии и социальных порядках» этот вопрос не ставится и не обсуждается.
Во многих случаях аргументация Норта и его соавторов грешит двусмысленностью. Так, один и тот же эпитет «безличный» используется ими при описании рынков, при классификации организаций и при характеристике правовых режимов. В первом случае речь идет об обмене между незнакомыми лицами, во втором — об организациях с корпоративной идентичностью (со статусом юридического лица), в третьем — о равенстве всех граждан перед законом. Обозначение этих явлений одним и тем же термином создает ложное впечатление, будто между ними существует жесткая логическая связь: переход к открытому доступу означает одновременно и переход от личного обмена к безличному, и переход от партнерских организаций к корпоративным, и переход от неравенства прав к их равенству. Но из этого перечня только последний третий пункт является действительно уникальным достоянием обществ, которые Норт с соавторами называют порядками открытого доступа.
Во-первых, и безличный обмен и организации со статусом юридического лица были известны еще задолго до начала XIX в. Во-вторых, безличный обмен есть функция от размеров рынка, а что касается корпоративной идентичности, то это не более чем организационное нововведение, которое могло ускорить процесс шумпетерианского «созидательного разрушения», но не могло стать его спусковым механизмом. Попытка авторов «Насилия и социальных порядков» вывести индустриализацию из корпоратизации выглядит историческим анахронизмом: Закон о корпорациях был принят в Англии лишь в середине 1844 г., когда индустриализация уже шла в ней полным ходом. Но и до его принятия при сильной затрудненности процесса образования корпораций деловые люди не чувствовали себя ущемленными, используя иные организационные формы. Не менее важно, что в некоторых других европейских странах современное законодательство о корпорациях было принято на несколько десятилетий раньше, чем в Англии, но это не помогло им запустить маховик индустриализации первыми.
ИНКАРНАЦИЯ 2: АДЖЕМОГЛУ/РОБИНСОН
Объяснительная схема Аджемоглу и Робинсона отличается большей прямолинейностью и меньшей детализацией по сравнению с объяснительной схемой Норта, Уоллиса и Вайнгаста. Во-первых, в ней отсутствует промежуточное звено в виде организаций (институты влияют на стимулы напрямую) и, во-вторых, она ограничивается простейшим делением институтов на «хорошие» и «плохие». В то же время в отличие от авторов «Насилия и социальных порядков», погруженных в бесконечные классификации, Аджемоглу и Робинсон пытаются строить анализ на более строгом теоретическом фундаменте. Более тесная привязка к формальной экономической теории — это, пожалуй, главное, что они добавляют к общим для панинституционализма представлениям, обсуждавшимся в предыдущих разделах. Условно в картине, которую они рисуют, можно выделить два аспекта: анализ в статике и анализ в динамике.
Статика. В определении характеристик «хороших» и «плохих» институтов Аджемоглу и Робинсон малооригинальны. «Хорошие» (инклюзивные) экономические институты обеспечивают защиту прав собственности и относительно равный доступ к ресурсам для большой части общества [Acemoglu et al., 2005а, p. 395]. Соответственно «плохие» (экстрактивные) экономические институты либо не обеспечивают защиту прав собственности вообще либо обеспечивают ее только для избранных. Исходя из этого, инклюзивные политические институты, соответствующие инклюзивным экономическим институтам, должны: 1) обеспечивать систему сдержек и противовесов по отношению к тем, в чьих руках находится политическая власть; 2) опираться на поддержку широких слоев общества; 3) накладывать жесткие ограничения на возможность извлечения ренты носителями власти, так как в противном случае те начнут отдавать предпочтение экстрактивным экономическим институтам, которые такую возможность им предоставят.
Таким образом, участие большей части общества в экономике и политике служит отличительной чертой «хороших», тогда как неучастие — отличительной чертой «плохих» институтов: «Центральный пункт нашей теории — это связь между инклюзивными экономическими и политическими институтами и благосостоянием. Инклюзивные экономические институты, обеспечивающие права собственности, создающие ровное игровое поле и привлекающие инвестиции в новые технологии и знания, более благоприятствуют экономическому росту, чем экстрактивные экономические институты, которые приводят к изъятию ресурсов у большинства в пользу меньшинства и не могут обеспечить права собственности или дать стимулы для экономической деятельности» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 567].
Отправным пунктом анализа Аджемоглу и Робинсона является представление о двоякой роли экономических институтов, от которых зависит не только эффективность экономики, но структура распределения доходов в ней (частично мы уже говорили об этом выше). Отсюда следует, что формирование экономических институтов — это поле непрекращающихся социальных конфликтов (потенциальных или реальных), поскольку разные группы, движимые корыстными интересами, склонны отдавать предпочтение разным типам институтов (конкретно тем, что обещают каждой из них максимальный выигрыш)[156].
Но, как нам объяснили, участие в процессе выбора экономических институтов доступно не всем, а лишь тем, в чьих руках находится политическая власть: в реальности только у них есть возможность реализовывать свои институциональные предпочтения. Естественно ожидать, что делая этот выбор, они предпочтут не те институты, которые обеспечат максимальный выигрыш всему обществу, а те, которые обеспечат его им. Иначе говоря, их решения будут направляться прежде всего распределительными соображениями, а не соображениями эффективности. Они могут избегать вводить «хорошие» экономические институты из опасения, что те станут обогащать их политических конкурентов, а это будет грозить им потерей власти и связанных с нею рент.
Но тогда на следующем шаге возникает вопрос: от чего зависит распределение самой политической власти? Это смысловой центр всей конструкции. Аджемоглу и его соавторы выделяют здесь два аспекта: политическую власть де-юре и политическую власть де-факто [Acemoglu et al., 2005а]. Политическая власть де-юре исходит от действующих политических институтов (таких как конституция, избирательное право и т. д.): они определяют, во-первых, ее пределы и, во-вторых, в чьих руках она может находиться. Что касается политической власти де-факто, то обладание ею зависит от двух факторов: от успешности разных групп при решении проблемы коллективного действия (ограничения «безбилетного» поведения своих членов) и от имеющихся в их распоряжении экономических ресурсов. Чем сплоченнее группа и чем больше у нее ресурсов, тем она политически сильнее.
На выходе получаем замкнутую динамическую систему: с одной стороны, распределение ресурсов определяется характером экономических институтов, но, с другой — оно само определяет характер политической власти. В конечном счете состояние подобной системы будет задаваться двумя основными параметрами — политическими институтами и распределением ресурсов[157]. Оба они, как правило, не поддаются быстрым изменениям. Отсюда — высокая инерционность любой институциональной системы. Политические институты действуют как мощный стабилизатор: укрепляя экономические позиции тех, в чьих руках находится политическая власть, они обеспечивают тем самым свое собственное устойчивое воспроизводство, поскольку носителям власти оказывается выгодно их сохранять в неприкосновенности. В отличие от политической власти де-юре политическая власть де-факто менее стабильна, так как находится в зависимости от структуры распределения богатства. Вследствие этого шоки, связанные с колебаниями относительных цен на факторы производства, расширением рынков или появлением новых технологий, могут менять баланс политических сил в обществе, вызывая изменения сначала политических, а затем и экономических институтов [Acemoglu et al., 2005а, p. 392–393]. Скажем, до XVII в. английские купцы и землевладельцы обладали недостаточными экономическими ресурсами, чтобы бросить вызов королевской власти, но когда их капиталы достаточно возросли, они смогли ограничить власть короля и установить парламентское правление, ставшее эффективным проводником их интересов.
Но почему в подобных ситуациях нельзя ограничиться перераспределением политической власти де-факто, оставив политические институты (т. е. распределение политической власти де-юре) без изменений? Ответ, который дают Аджемоглу и его соавторы, сводится к тому, что в политической сфере невозможны достоверные обязательства (credible commitments). Причина — отсутствие здесь третейской стороны, которая выступала бы в роли беспристрастного арбитра и могла бы гарантировать твердое исполнение участниками взятых на себя обязательств, как это происходит при заключении частных контрактов[158]. Обязательства, которые может давать государство, недостоверны, потому что над ним самим нет никакого стоящего выше него авторитета.
Этим обстоятельством Аджемоглу и его соавторы объясняют, почему на протяжении большей части мировой истории преобладали экономически неэффективные институты. Гипотетически возможны два варианта преодоления этой неэффективности. Первый: правитель обещает уважать права собственности и демократические свободы, но сохраняет политическую власть де-юре за собой. Однако такое обещание является недостоверным: правитель в любой момент может взять его обратно, приступив к конфискациям и преследованию своих политических оппонентов. Второй: правитель уступает политическую власть де-юре в обмен на обещание групп, заинтересованных в установлении эффективных экономических институтов, выплатить ему после ухода обговоренную компенсацию. Но такое обещание тоже недостоверно: зачем этим группам что-то платить после того, как власть перейдет к ним? Ни одна из сторон не может гарантировать ex ante, что будет воздерживаться от действий, которые будут отвечать ее интересам ex post. В теоретических терминах Аджемоглу и его соавторы обозначают эту ситуацию как «невозможность политической теоремы Коуза» [Ibid., p. 422][159].
В результате вероятность появления «хороших» институтов оказывается исчезающе мала. Но ее все же нельзя считать нулевой. Чтобы они возникли, интересы группы, пришедшей к власти, должны совпасть с интересами общества: она должна выигрывать от замены «плохих» институтов «хорошими» и стремиться к ним. Понятно, что такая группа должна накопить достаточно ресурсов, чтобы суметь конвертировать политическую власть де-факто в политическую власть де-юре. Но есть еще одно критически важное условие: коалиция должна быть достаточно широкой, чтобы ее интересы не расходились с интересами общества. «Широкая коалиция» — лейтмотив книги Аджемоглу и Робинсона. Это понятие, на котором строится вся механика перехода от «плохих» институтов к «хорошим», как они ее себе представляют.
Именно по такому сценарию, по их мнению, развивались события в Англии XVI–XVII вв. С одной стороны, благодаря расцвету трансатлантической торговли, пришедшемуся на этот период, английские купцы и землевладельцы накопили достаточно богатства, чтобы суметь бросить вызов королю. С другой — их коалиция была достаточно широкой, чтобы оказаться заинтересованной в обеспечении гарантий прав собственности, т. е. во введении «хороших» экономических институтов[160]. Так, впервые в истории совершился переход от экстрактивной к инклюзивной институциональной системе.
Динамика. До сих пор речь шла о ситуации в статике. А как она выглядит в динамике?
Согласно Аджемоглу и Робинсону, институциональная эволюция протекает в «рваном» ритме с чередованием медленных микроскопических подвижек и быстрых крупномасштабных разворотов. По их терминологии, она представляет собой сочетание постепенного «институционального дрейфа» с резкими изменениями на «критических развилках» (critical junctions) [Аджемоглу, Робинсон, 2016]. В первом случае речь идет о мелких пошаговых корректировках институциональной системы вслед за колебаниями в балансе политической власти де-факто, которые, в свою очередь, вызываются изменениями в структуре распределения экономических ресурсов. Во втором — о переломных исторических событиях, взрывающих статус-кво и открывающих новые экономические (расширение рынков, изменения относительных цен) или политические (смерть лидера, военное поражение) возможности. Подобные события вызывают настолько радикальное переформатирование стимулов, что становится возможен «прыжок» с прежней траектории институционального развития на новую[161].
Однако реакция общества на переломные события не предопределена и может зависеть от мельчайших различий, порожденных предыдущим институциональным дрейфом: «Появившиеся в результате институционального дрейфа различия начинают влиять на то, как общество реагирует на политические и экономические вызовы. И в этот момент небольшие отличия становятся судьбоносными. …История здесь — ключевой фактор, потому что именно исторический процесс, благодаря институциональному дрейфу, создает различия, которые станут решающими в очередной критический момент» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 152, 570]. Если говорить более предметно, то все зависит от того, какой элитной группе в критический момент удастся перехватить власть: широкая коалиция может запустить процесс перехода к инклюзивным институтам, узкая же будет сохранять приверженность экстрактивным институтам[162].
Иллюстрацией может служить разная реакция на эпидемию чумы (Черной смерти) в XV в.: в странах Западной Европы обезлюживание привело к расширению прав крестьян, в Восточной — к их вторичному закрепощению. Аналогичным образом расцвет трансатлантической торговли в XVI–XVII вв. привел в Испании, Португалии и Франции (где она оставалась монополией государства) к укреплению экстрактивных институтов, а в Англии (где ею занимались индивиды и небольшие партнерства) к рождению инклюзивных институтов.
После прохождения переломных точек институциональная эволюция вновь входит в накатанную колею, принимая форму медленного пошагового дрейфа. Однако общества, отреагировавшие на них по-разному, начинают после этого двигаться по отдаляющимся друг от друга траекториям: «Хотя институциональный дрейф — это всегда медленные и кажущиеся незначительными изменения, его взаимодействие с точками перелома приводит к институциональному расхождению, и это расхождение создает впоследствии все большие различия в институтах, на которые со временем повлияет следующая точка перелома» [Там же, с. 570]. Конечный вывод, который делают отсюда Аджемоглу и Робинсон, состоит в том, что путь развития не является исторически детерминированным и зависит от стечения обстоятельств (констелляции сил и интересов) на критических развилках [Там же, с. 153][163].
Как и конструкция Норта/Уоллиса/Вайнгаста, конструкция Аджемоглу/Робинсона строится на достаточно шатком концептуальном и фактологическом фундаменте.
Обратимся к ключевой для них дихотомии экстрактивных и инклюзивных институтов, где первые обозначают по существу «все плохое», а вторые — «все хорошее». С точки зрения элементарной логики она выглядит достаточно неуклюже. Казалось бы, куда логичнее было бы противопоставить инклюзивным институтам — эксклюзивные институты, а экстрактивным институтам — креативные институты. Но Аджемоглу и Робинсон игнорируют явную алогичность своей типологии, что, возможно, не случайно. Подчеркнем: это вопрос не просто семантики, потому что у него есть важные содержательные следствия. Попытайся они, скажем, оперировать дихотомией инклюзивность/эксклюзивность, как сразу бы выявилась вся искусственность их конструкции, поскольку множество важнейших «хороших» институтов, необходимых для успешного экономического роста, являются эксклюзивными, а не инклюзивными.
Так, частная собственность — это, можно сказать, квинтэссенция неинклюзивности, самый неинклюзивный институт, какой можно себе представить, так как при ней доступ к ресурсу оказывается открыт только одному человеку — собственнику и закрыт для всех остальных. Общедоступная собственность (common property) — более инклюзивный институт, чем частная (private property); рабочие кооперативы — более инклюзивный институт, чем частные фирмы; прямая демократия — более инклюзивный институт, чем представительная. Однако в современном мире ареал их распространения крайне невелик. Явно эксклюзивным институтом является система патентного права, которой и Норт с соавторами и Аджемоглу с Робинсоном придают исключительно важное значение (подробнее об этом см. в Приложении). И, наоборот: инклюзивные институты могут быть сверхэкстрактивными, как это демонстрирует феномен «трагедии общедоступности» (tragedy of commons).
Эксклюзивность — не синоним всего плохого, а инклюзивность — не синоним всего хорошего. Вообще под этим углом зрения весь ход мировой экономической истории мог бы прочитываться как непрекращающийся поиск оптимальных сочетаний инклюзивных и эксклюзивных институтов. Так, вопреки утверждениям Аджемогу и Робинсона, переход от мальтузианского к шумпетерианскому экономическому росту был связан не столько с наступлением частной собственности, сколько с ее отступлением. В доиндустриальных обществах предметом купли-продажи являлись права входа на рынок, права входа в профессию, права на занятие публичных должностей (судей, сборщиков налогов и др.), почетные титулы, права на спасение души, права на судебный иммунитет и т. д. Представление о том, что рождение современного капитализма сопровождалось безудержной экспансией частной собственности, является аберрацией. Напротив, при переходе к нему частная собственность перестала быть универсальным институтом и многие важнейшие нематериальные ресурсы были выведены из сферы ее действия. Так, право входа на рынок и право входа в профессию были переведены из частной собственности в общедоступную, а право на занятие публичных должностей — из частной собственности в государственную.
Нельзя не отметить, что в своем анализе Аджемоглу и Робинсон на каждом шагу демонстрируют двойные оценочные стандарты. Отчетливее всего это видно из того, в каких выражениях они описывают действия английского государства по насильственному перераспределению земельной собственности до и после Славной революции. Огораживания, происходившие до нее, — это «незаконный захват общинных землевладений», свидетельствующий об отсутствии надежных прав собственности, но огораживания, а также многочисленные случаи отъема земли под платные дороги, каналы и железнодорожные пути, происходившие после нее, — это «реформа земледелия», «изменение природы собственности», «реорганизация прав собственности» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 271–272].
Но так не бывает: неприкосновенность прав собственности либо есть, либо ее нет; либо их защита высший приоритет, либо это фикция. При этом авторы обходят молчанием то немаловажное обстоятельство, что члены английского парламента, инициировавшие соответствующие законодательные акты, делали это за внушительные взятки от тех, в чью пользу происходило перераспределение. В общем, до Славной революции взятки — коррупция, после нее — «плюралистический институт» подачи петиций [Там же, с. 271]. Аналогичным образом: повышение налогов до Славной революции — это ужасно, но после нее — это очень хорошо. Раздача монополий на ведение заморской торговли до Славной революции — плохо, но установление запретительно высоких ввозных пошлин после нее — нормально, хотя, по оценкам историков, степень «меркантилистичности» внешнеторговой политики Англии после «перетекания» власти от короля к парламенту не уменьшилась, а значительно возросла.
Деление политических институтов на инклюзивные и экстрактивные де-юре и де-факто предоставляет Аджемоглу и Робинсону широкий простор, для того чтобы классифицировать различные политические системы так, как им удобнее. Возьмем в качестве примера Индию. Казалось бы, там существует инклюзивная политическая система. Нет, возражают Аджемоглу и Робинсон, существующие в Индии политические институты являются де-факто экстрактивными. Почему? Потому что определенный процент мест в индийском парламенте занимают люди с судимостью. Но тогда возникает вопрос: как мерить степень инклюзивности/экстрактивности? Какая система политических институтов более инклюзивна — та, что при наличии всеобщего избирательного права существует в современной Индии, или та, что при отсутствии всеобщего избирательного права существовала в Англии на рубеже XVII–XVIII вв., но которая, как утверждается, несмотря на это оказалась в состоянии стать триггером Промышленной революции и запустить процесс шумпетерианского «созидательного разрушения»?
Как уже упоминалось, центральное место в объяснительной схеме Аджемоглу и Робинсона принадлежит понятию «широкая коалиция». Однако никаких указаний, где проходит количественная граница между «узкими» и «широкими» коалициями, не дается. По их собственным подсчетам, переход Англии к плюралистическим институтам произошел в условиях, когда избирательными правами пользовались лишь около 2 % населения страны [Там же, с. 263][164]. Возникает вопрос: почему же тогда аналогичный переход не удался огромному числу развивающихся стран, где право голоса имеют 100 % населения? Конечно, на это авторы «Почему одни страны богатые, а другие бедные» могли бы резонно возразить, что у них речь идет не о формальных, а о реальных политических институтах — не об избирательных правах или выборах, а о том, каковы сила и масштабы коалиции, чьи интересы на деле представляет политическая власть. Но даже после этого уточнения все равно остается непонятным: должны ли мы понимать так, что 2 % — это некий «порог» политической инклюзивности и что развивающиеся страны терпят крах только потому, что действующие в них правительства представляют «реальные» интересы менее чем 2 % населения? Или дело все-таки в чем-то другом?
В изображении Аджемоглу и Робинсона республиканский Рим или Венецианская республика первых веков своего существования выглядят намного более «инклюзивно», чем Англия накануне Славной революции. Во времена республики «Рим представлял собой хорошо организованное и стабильное государство»; его политические институты составляли «основу процветания республики»; его граждане обладали «политическими и экономическими правами»; «были созданы весьма разумные политические институты со множеством инклюзивных элементов»; «такой порядок снижал возможность злоупотреблений и того, что власть будет сосредоточена в одних руках»; «институты республики были построены на системе сдержек и противовесов, позволявшей распределять власть в достаточно широких слоях населения»; «в политических институтах республики имелись элементы плюрализма»; «политические и юридические гарантии… создали экономические возможности для граждан и привнесли некоторую степень инклюзивности в экономические институты» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 218–223]. Еще лучше обстояли дела в Венеции: она имела «отлично развитый набор инклюзивных экономических институтов» и «постепенно развивавшуюся политическую инклюзивность»; серия инноваций в области контрактного права сделала ее «экономические институты значительно более инклюзивными»; ее политическая система становилась «все более открытой»; «власть постепенно все более ограничивалась вследствие общих изменений в политических институтах»; ее «инклюзивные экономические и политические институты» начали «поддерживать друг друга»; должность дожа была выборной и его власть жестко ограничивалась; «политические реформы вели к развитию дальнейших институциональных инноваций — появлению независимых выборных чиновников, судей и апелляционных судей»; наконец, наблюдавшийся в ней «экономический рост, поддержанный инклюзивными венецианскими институтами, сопровождался созидательным разрушением» [Там же, с. 209–212].
Почему же тогда переход к полной инклюзивности произошел в Англии, а не в Риме или Венеции? Единственный ответ, который допускает схема Аджемоглу/Робинсона, — потому что ей довелось столкнуться с иной точкой перелома, чем те, с которыми пришлось иметь дело им. Но если это так, то тогда институты не могут считаться фундаментальной причиной экономического роста: если в Риме или Венеции они были не хуже, чем в Англии, то, значит, дело не в них, а в каких-то иных, внеинституциональных факторах.
Если внимательнее присмотреться к объяснениям как Норта/Уоллиса/Вайнгаста, так и Аджемоглу/Робинсона, то трудно удержаться от вывода, что они являются лишь «условно» институциональными, поскольку на деле вовсе не институты выступают в них в роли глубинных драйверов экономического развития. Во многом их объяснения представляют собой возврат к ранней нортовской концепции, где все решали изменения в объективных экономических условиях, таких как размеры рынка, структура относительных цен, характер используемых технологий и т. д. [North, 1981]. (В книге Аджемоглу и Робинсона такие изменения обозначаются как «вызовы времени» или как «экономические и политические вызовы».) Единственное значимое отличие от раннего Норта состоит в том, что влияние этих изменений на эволюцию экономических институтов осуществляется не напрямую, а через промежуточное звено в виде эволюции политических институтов и не гладко, а через сопротивление групп, располагающих политической властью.
В результате если у раннего Норта изменения в объективных экономических условиях всегда приводили к формированию эффективных экономических институтов, то у Норта/Уоллиса/Вайнгаста и Аджемоглу/Робинсона это не так. Подобные изменения могут подталкивать разные институциональные системы как к большей, так и к меньшей эффективности в зависимости от того, какие черты — более «инклюзивные» или более «экстрактивные» — они приобрели в ходе предшествующей эволюции. Исходя из этого, можно возразить, что конечный выбор в пользу роста или стагнации делается все-таки институтами, потому что реакция на изменения в объективных экономических условиях зависит от их характеристик. Но ведь сами эти институциональные характеристики являются, в свою очередь, продуктом изменений в объективных экономических условиях, имевших место ранее!
В итоге в нортианских схемах институты предстают всего лишь как передаточный механизм от прошлых изменений в размерах рынка, структуре относительных цен, используемых технологиях и т. д. к нынешним: «Относительные цены, демография, экономический рост, технологии и множество других переменных постоянно меняются, оказывая влияние на власть и положение различных элит» [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 97]. В этом пассаже особенно примечателен пункт относительно технологий: сначала нам объясняли, что ход технологического прогресса определяется институтами, а теперь сообщают, что смена институтов определяется ходом технологического прогресса!
СЛАВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ — ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ МИРОВОЙ ИСТОРИИ?
Для любой концепции, претендующей на выявление общих исторических закономерностей, решающим является тест, связанный с центральным эпизодом экономической истории последних тысячелетий — Первой промышленной революцией. Признать какой-либо подход эмпирически валидным можно только в том случае, если он способен объяснить логику перехода от мальтузианского к шумпетерианскому экономическому росту. В рамках панинституционализма такое объяснение было предложено в знаменитой статье Д. Норта и Б. Вайнгаста [North, Weingast, 1989]. Их трактовка была сразу безоговорочно принята подавляющим большинством мейнстримных экономистов и стала канонической.
Согласно этой трактовке, английская Славная революция (1688) впервые за всю историю человечества создала инклюзивную («хорошую») систему политических институтов; та, в свою очередь, опять-таки впервые за всю историю человечества, создала надежно защищенные права собственности; появление же не существовавшей никогда ранее инклюзивной («хорошей») системы экономических институтов стало спусковым механизмом для развертывания современного экономического роста. Сама Славная революция была осуществлена широкой коалицией социальных групп, возникшей случайно в Англии в конце XVIII в., что также явилось абсолютно беспрецедентным событием, не виданным в мировой истории: «Фундаментальные изменения в английском обществе, последовавшие в результате Славной революции, явились критически важным фактором развития английской экономики. …Одним из главных последствий этих изменений стала более высокая защищенность прав собственности» [Норт, 1997, с. 176–177]; «Славная революция создала первый в мире полный набор инклюзивных политических институтов» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 142]; «Сегодня Великобритания богаче Египта потому, что в 1688 г. в ней (если быть точным, то в Англии) произошла революция, которая изменила политический строй, а затем и экономику страны. …Великобританию ее траектория скоро привела к промышленной революции» [Там же, с. 15]; «Все изменилось после Славной революции. Государство создало систему институтов, которые стимулировали инвестиции, инновации и торговлю. Оно твердо защищало права собственности» [Там же, с. 143]; «Четко определяя права собственности на все активы, правительство способствовало быстрому развитию инфраструктуры. Эти нововведения запустили маховик экономического развития, которое проложило дорогу к промышленной революции. Не случайно, что промышленная революция началась в Англии всего спустя несколько десятилетий после Славной революции» [Там же, с. 143–144]; «Именно Славная революция укрепила и упорядочила права собственности, улучшила финансовые рынки, положила конец государственным монополиям в международной торговле, сняла барьеры для развития промышленности» [Там же, с. 285]; «Славная революция стала историческим событием именно потому, что она была осуществлена широкой коалицией и в дальнейшем привела к укреплению и расширению ее влияния» [Там же, с. 288].
Критическое значение этого нарратива для исследовательской программы Норта/Аджемоглу нетрудно понять: если надежные права собственности действительно появились впервые только после 1688 г., то, значит, именно они имеют ключевое значение для экономического роста; но если Англия имела их задолго до этого или если наряду с Англией их имели многие другие страны, то стать «мотором» современного экономического роста они не могли.
Итак, Славная революция создала первое в мире нехищническое государство, подготовив тем самым почву для индустриализации. Согласно Норту и Вайнгасту, чтобы экономический рост в принципе стал возможен, требуются сильные парламентские институты, представляющие интересы «держателей богатства» (wealth holders) [North, Weingast, 1989]. Именно так все и случилось в ходе Славной революции: она настолько усилила власть парламента, что ему впервые за всю историю человечества удалось ввести «хорошие» экономические институты (говоря иначе, защищенные права собственности): «Государство оказалось связано обязательствами не конфисковывать активы» [North, 1991, p. 107].
Инклюзивность парламентского правления обеспечивалась двумя факторами: во-первых, парламент допускает намного большее разнообразие точек зрения, чем монархическое правление (вследствие чего издержки для соискателей ренты возрастают); во-вторых, парламент, где широко представлены «держатели богатства», начинает отстаивать их интересы, главнейший из которых — обеспечение надежной защиты прав собственности. (Так, поскольку в Англии конца XVII в. «многие из членов парламента занимались торговлей и производством, в их интересах было обеспечить соблюдение прав собственности» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 262].)
Как следует из статьи Норта и Вайнгаста, действовавшая в английском парламенте коалиция wealth holders состояла из крупных землевладельцев, купцов, промышленников и кредиторов государства. Ее возросшее политическое влияние благодаря установлению эффективного парламентского контроля над исполнительной властью позволило впервые в мире создать защищенные права собственности: «Приверженность защищенным правам собственности была самым главным фактором институциональных изменений во время Славной революции» [North, Weingast, 1989, p. 824]; «Права собственности, недостаточно защищенные при Стюартах, охранялись теперь более надежно» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 266].
Отсюда следуют два эмпирических предсказания: во-первых, страны с сильными парламентами, выражающими интересы «держателей богатства», должны быть экономически успешны; во-вторых, в показателях развития Англии в период, близкий к 1688 г., должен наблюдаться структурный разрыв (break) — институциональный и экономический. Выдерживает ли этот панинституционалистский нарратив проверку фактами?
Эмпирический тест 1. Доступные исторические свидетельства показывают, что наличие парламента, в котором широко представлены «держатели богатства» и который может эффективно контролировать исполнительную власть, не гарантирует того, что в нем будет обязательно процветать разнообразие точек зрения и что он всегда будет проводить политику поощрения роста. Целый ряд европейских государств раннего Нового времени имел сильные парламенты, состоявшие из представителей wealth holders и успешно контролировавшие исполнительную власть, но при этом поддерживавшие институты, которые препятствовали экономическому росту.
Так, в Польше сейм обладал правом вето и без его согласия король не мог провести ни одного закона, а также не мог принять ни одного решения по вопросам экономической политики. Группа «держателей богатства» состояла из крупных землевладельцев-нотаблей, которой принадлежало большое число мест также и в английском парламенте. Однако никакого разнообразия точек зрения в польском сейме не наблюдалось: все усилия его членов были направлены на выбивание привилегий в интересах шляхты. Этим, в частности, объяснялось их активное сопротивление «прорыночным» мерам, уже применявшимся другими европейскими странами. В период XVI–XIX вв. польские крестьяне подверглись вторичному закрепощению, которое наделило шляхту принудительной властью над ними и стало сильнейшим тормозом для развития аграрного сектора страны. Это привело к тому, что уровни душевого ВВП и темпы роста, наблюдавшиеся в Польше, были намного ниже, чем в большинстве других европейских стран. В более авторитарных государствах, где баланс сил был смещен в пользу правителей, крепостная система принимала более мягкие формы и была отменена раньше, поскольку сильная исполнительная власть была способна успешно противостоять наиболее одиозным проявлениям рентоориентированного поведения крупных землевладельцев (пример — Пруссия). Все указывает на то, что в Польше парламентский контроль над исполнительной властью использовался не для поощрения, а для удушения экономического роста [Ogilvie, Carus, 2014].
На это можно возразить, что польский сейм состоял исключительно из представителей крупных землевладельцев и не включал представителей торговых, промышленных и банковских кругов, как это было в английском парламенте. Однако это возражение не работает в случае Вюртемберга, который начиная с конца XVI в. был высоко демократичным государством с сильным парламентом, эффективно ограничивавшим власть суверена[165]. В Вюртемберге отсутствовало крепостное право, так что крупных землевладельцев в нем не было вообще. Парламент формировался целиком из представителей бизнеса, выбиравшихся гражданами от примерно 60 избирательных округов. Однако экономическая политика, которая поддерживалась вюртембергским парламентом, сводилась к раздаче монополий и других привилегий группам со специальными интересами, таким как гильдии ремесленников, розничных торговцев и т. д., что способствовало длительной экономической стагнации Вюртемберга и его поздней индустриализации. В германских государствах с более авторитарным правлением, таких как Пруссия, суверен был намного сильнее парламента и поэтому мог эффективно противодействовать давлению групп со специальными интересами. Прусские императоры смогли достаточно рано приступить к реформам, лишавшим привилегий гильдии, муниципальные корпорации и сельские общины. Так, в Пруссии гильдии были уничтожены в 1808 г., тогда как в Вюртемберге просуществовали до 1864 г. В результате на протяжении полутора веков с 1750 по 1900 г. темпы экономического роста в Пруссии оставались намного выше, чем в Вюртемберге [Ibid.].
Еще более яркий пример дают Нидерланды, где сильный парламент, формируемый из представителей богатых слоев, также не смог создать институциональную основу для экономического роста. С момента основания в 1581 г. и до роспуска в 1795 г. Нидерланды были республикой, управлявшейся Генеральными штатами, куда избирались представители от семи провинций (при этом каждая провинция имела еще и свой парламент). Суверена не существовало вообще, так что парламентский контроль над исполнительной властью был абсолютным. Членами парламента являлись крупные торговцы, промышленники и банкиры. Хотя на протяжении больше части XVII в. экономика Нидерландов росла ускоренными темпами («голландское чудо»), после 1670 г., оставаясь республикой, она впала в длительную стагнацию. В первую очередь это было связано с политикой, направленной на извлечение ренты, которую проводили представители бизнес-элиты в парламенте. С начала XIX в. (после французской оккупации) рост возобновился, но оставался крайне слабым и к индустриализации Нидерланды приступили одними их последних в Европе. Казалось бы, в Нидерландах было все, что Норт и Вайнгаст считают необходимым для начала устойчивого экономического роста: исполнительная власть под контролем сильного парламента; парламент, состоящий из «держателей богатства»; «держатели богатства», представляющие крупный бизнес, — все, кроме самого экономического роста [Ibid.][166].
Как видно из этих примеров, наряду с Англией многие европейские страны раннего Нового времени также имели сильные парламенты, стоявшие над исполнительной властью и рекрутировавшиеся из «держателей богатства», прежде всего, из представителей коммерческих кругов. Тем не менее «хорошей» они признавали политику, которая обогащала их и была тормозом для роста. Страны с сильными парламентами оставались бедными (Польша), переживали длительную стагнацию (Вюртемберг), скатывались от роста к стагнации (Нидерланды) [Ibid.]. Норт и Вайнгаст утверждают, что «институциональная структура, которая сформировалась в Англии после 1688 г., не создавала для парламента стимулов к тому, чтобы самому занять место короны и погрязнуть в таком же „‘безответственномʼ поведении“, как она» [North, Weingast, 1989, p. 804]. Но у них нет реального объяснения, почему английский парламент повел себя иначе, чем парламенты Польши, Вюртемберга или Нидерландов.
Эмпирический тест 2. Трактовка Славной революции как поворотного пункта мировой истории предполагает, что в политических институтах и экономической динамике Англии сразу после 1688 г. должен был наблюдаться резкий разрыв: «прыжок» с одной траектории развития на другую. Но и то и другое Норт и Вайнгаст скорее декларируют, не приводя развернутых эмпирических подтверждений.
В то же время анализ политической истории Англии показывает, что Славную революцию следует считать не столько абсолютной институциональной новацией, сколько продолжением долговременного векового тренда. Контроль парламента над короной существовал в Англии (с перерывами) весь средневековый период. Стюарты предприняли попытку отойти от этой вековой традиции, после чего Славная революция просто-напросто восстановила право вето парламента, уже существовавшее несколько столетий. (Единственной действительно серьезной новацией стало то, что парламент получил также право контроля над расходами короны.) Это заставляет усомниться в том, что Славная революция могла внести решающий вклад в экономический рост XVIII в., не говоря уже о том, чтобы она могла стать триггером Промышленной революции, которая началась на три четверти столетия позднее.
Какие-либо свидетельства резкого ускорения экономического роста после 1688 г. также отсутствуют. Скорее, можно говорить об обратном, поскольку в первой половине XVIII в. его темпы были даже ниже, чем во второй половине XVII в. Анализ динамических рядов по 50 показателям социально-экономического развития Англии за период 1500–1820 гг. не выявил структурных разрывов в районе 1688 г. ни для одного из них [Murrell, 2017]. Похоже, возросшая власть парламента никак не отразилась ни на темпах экономического роста, ни на сроках индустриализации. Ничто не указывает на то, чтобы сильные парламенты, представляющие интересы бизнеса, могли считаться ядром институтов, способствующих экономическому росту.
Центральный тезис Норта и Вайнгаста состоит в том, что защищенные права собственности появились впервые в истории внезапно в одном конкретном месте — Англии и в один конкретный момент времени — после Славной революции 1688 г. Три четверти века спустя этот внезапный и эпохальный сдвиг от незащищенных к защищенным правам собственности позволил Англии опередить другие государства Европы и стать пионером индустриализации [North, Weingast, 1989]. Как можно понять из их анализа, с этого момента права собственности сделались надежно защищенными для трех групп экономических агентов: землевладельцев, что дало мощные стимулы для инвестиций в сельское хозяйство; кредиторов государства, что способствовало бурному развитию финансовых рынков; налогоплательщиков, что оградило их от ненасытных аппетитов государства. Славная революция впервые за всю историю ввела институциональные ограничения на способность правителя конфисковывать земли и капитал, принадлежащие частным лицам, что открыло для них возможность «вступать в надежные контрактные отношения как в пространстве, так и во времени» [Ibid., p. 831][167].
Права землевладельцев. Согласно Норту и Вайнгасту, до 1688 г. земельная собственность в Англии оставалась практически незащищенной даже во времена политической стабильности, так как суверен мог беспрепятственно перераспределять ее в свою пользу[168].
Однако исторические свидетельства говорят о другом. Надежные права собственности на землю существовали в Англии начиная примерно с XI в. [Smith, 1974; Macfarlane, 1978; Harris, 2004; Campbell, 2005; Кларк, 2012; McCloskey, 2010; Bekar, Reed, 2013; Ogilvi, Carus, 2014]. Современники (от мелких фермеров до крупных лендлордов, от судей до высших аристократов и самого короля) считали права собственности на землю в Англии прочно защищенными и не подлежащими угрозе конфискаций [Pollock, Maitland, 1895]. Земельная собственность частных лиц была надежно защищена от конфискаций как со стороны правительства, так и со стороны могущественных элитных групп; она имела надежную защиту и в том, что касалось прав на продажу, аренду, заклад, завещание и другие формы ее отчуждения. Королевские, церковные, епископальные и манориальные суды конкурировали друг с другом за предоставление юридических услуг по защите прав собственности даже тем, кто занимал низшие ступени социальной лестницы [Smith, 1974; Macfarlane, 1978; Britnell, 1991; Whittle, 1998; 2000; Campbell, 2005; Кларк, 2012; McCloskey, 2010; Briggs, 2013; Ogilvie, Carus, 2014].
Массив исторических свидетельств настолько велик, что Норт и Вайнгаст сами вынуждены признать «фундаментальную прочность английских прав собственности и норм общего права, сформировавшихся после Великой хартии вольностей» [North, Weingast, 1989, р. 831]. Следует добавить, что Билль о правах (1689), принятый на волне Славной революции, не накладывал никаких ограничений на право английского правительства конфисковывать частную собственность, а также не требовал выплаты компенсации в случае проведения таких конфискаций [Harris, 2004]. В данном отношении собственникам земли не было предоставлено никаких дополнительных гарантий по сравнению с теми, что существовали раньше. Однако независимо от отсутствия каких-либо законодательных ограничений на действия исполнительной власти английская система общего права обеспечивала широкую защиту прав собственности и суды демонстрировали независимость от правительства задолго до 1688 г.
Хотя политические пертурбации всегда вносят в отношения собственности элемент неопределенности и нестабильности, для того чтобы инвесторы отказались от вложений из-за страха перед возможными конфискациями, значение имеет защищенность прав собственности ex ante, а не ex post. Поскольку же инвесторы не могли заранее предвидеть события, которые предстояло пережить Англии в XVII в. (Гражданская война, Реставрация и т. д.), это никак не могло повлиять на их решения [McCloskey, 2010]. Лучший количественный индикатор, с помощью которого можно судить о степени защищенности прав на земельную собственность, — это динамика рент и цен на землю. Проанализировав данные за 1540–1750 гг., Г. Кларк показал отсутствие какого-либо структурного разрыва в ней в период после 1688 г. [Clark, 1996].
Защищенные права собственности на землю с давних времен имелись также во многих других европейских странах: в Италии, Нидерландах, Вюртемберге крестьяне могли свободно продавать землю, закладывать, сдавать в аренду, завещать. По оценке Ш. Огилви и Э. Кейруса, «надежные права собственности на землю существовали в большинстве европейских обществ Средневековья и раннего Нового времени» [Ogilvie, Carus, 2014, p. 437]. Китай имел надежные права собственности на землю на протяжении тысячелетий [McClosky, 2010].
Вместе с тем, по мнению ряда историков, после Славной революции права собственности на землю стали не более, а менее защищенными. Как отмечал Дж. Хоппит, «до 1688 г. деспотическая власть была под рукой лишь временами, но после она была под рукой всегда» [Hoppit, 1996]. За 1730–1850 гг. парламент принял 5200 актов о пересмотре прав собственности на землю, в результате которых был перераспределен 21 % земельного фонда страны, причем зачастую против воли собственников.
Права кредиторов государства. Согласно Норту и Вайнгасту, обеспечив верховенство парламента в вопросах государственных финансов, Славная революция создала условия, при которых кредиторы могли смело доверять капиталы государству, будучи уверены, что оно не откажется от выполнения своих долговых обязательств. Так как кредиторы стали доверять английскому правительству больше, чем его зарубежным конкурентам, это позволило ему занимать гораздо большие суммы под гораздо более низкий процент, чем раньше. Защищенность прав собственности для кредиторов государства возникла одномоментно после 1688 г. и привела к появлению «безличных рынков капитала» [North, Weingast, 1989, p. 831]. Это стало прологом к финансовой революции, которая существенно улучшила работу кредитных рынков и способствовала ускорению роста экономики, направив резко возросший поток инвестиций в сельское хозяйство, торговлю и промышленность. Установление надежных прав собственности для кредиторов государства показывает, «как институты играют незаменимую роль, делая возможными экономический рост и политическую свободу» [Ibid.].
Однако эта картина плохо согласуется с имеющимися фактами. С одной стороны, как указывает известный историк финансов П. О’Брайен, в Англии права кредиторов государства были достаточно защищены уже с начала XVII в. и институты, необходимые для хорошего управления государственными финансами, имелись задолго до Славной революции [O’Brien, 2001]. С другой стороны, высокая степень неопределенности сохранялась и после 1688 г., потому что для частных кредиторов эффективный надзор за государственными финансами оставался недоступным. В результате никакого разового переключения от недоверия к доверию не было: степень доверия кредиторов к государству продолжала колебаться в прямой зависимости от политических событий. Как показывает анализ, процент по государственным займам продолжал оставаться высоким и волатильным в течение 40 лет после Славной революции [Stasavage, 2002].
Еще важнее, что низкий процент по займам для государства не означал низкого процента по займам для частного сектора. Если экономика является открытой и, следовательно, предложение кредитных ресурсов высокоэластично, то при снижении процента по государственным займам процент по частным займам останется без изменений. Если экономика является закрытой и, следовательно, предложение кредитных ресурсов неэластично, то при снижении процента по государственным займам процент по частным займам повысится, ухудшив условия кредитования для частных лиц. Таким образом, вопреки тому, что утверждают Норт и Вайнгаст, снижение процента по займам для государства никак не могло положительно повлиять на процент по займам для частного сектора: эффект мог быть либо нейтральным либо даже отрицательным.
Хотя возможности английского государства финансировать войны действительно возросли, но кредиты для частного сектора от этого не подешевели [McClosky, 2010]. Норт и Вайнгаст смешивают рост военной мощи государства, который был обеспечен финансовой революцией XVIII в., с ростом богатства общества: расширение финансовых возможностей государства — это не то же самое, что укрепление прав собственности для частных лиц. К тому же задолго до Англии государство уже превратилось в надежного должника в Любеке, Гамбурге, Генуе, Венеции, Нидерландах, но это не ускорило в них приход индустриализации.
Права налогоплательщиков. Согласно Норту и Вайнгасту, до 1688 г. корона регулярно занималась конфискацией богатства частных лиц через налоги. Благодаря неограниченной налоговой власти она контролировала огромную часть ресурсов английской экономики и снижала степень защищенности прав собственности своих подданных на остававшиеся у них ресурсы. Славная революция покончила с этим, впервые за всю мировую историю ограничив право государства произвольно изымать у индивидов их собственность в форме налогов.
Но и это представление не согласуется с фактами. Прежде всего необходимо отметить, что хотя Билль о правах сделал введение налогов вновь зависящим от одобрения парламента, но при этом он ничем не ограничил возможности самого парламента по установлению новых налогов и не потребовал получения согласия на это от основной массы налогоплательщиков, не представленных в парламенте. В период 1689–1812 гг. доходы государства резко выросли как в абсолютном, так и в относительном выражении. При росте национального дохода в 3 раза, налоги (в мирное время) выросли в 15 раз [O’Brien, 2001]. Если даже при Стюартах расходы государства никогда не поднимались выше 1,2–2,4 % ВВП, то после Славной революции они увеличились до 8–10 % ВВП [McClosky, 2010].
Таким образом, после 1688 г. доля национального дохода, по отношению к которой англичане сохраняли права частной собственности, резко сжалась. При этом налоговые поступления государство использовало не для предоставления общественных благ, а для ведения бесконечной череды войн (во время войны в Америке доля государственных расходов в ВВП приблизилась к 18 %!). Средства шли не на развитие инфраструктуры или образование, а на военные цели и обслуживание государственного долга [O’Brien, 2001].
По некоторым оценкам, в период 1760–1820 гг. Великобритания демонстрировала более слабый экономический рост по сравнению как с предыдущим, так и с последующим периодами, не говоря уже о показателях современных экономик. Возможно, это было связано с тем, что она «пыталась делать две вещи одновременно — индустриализироваться и вести дорогостоящие войны, физически не имея ресурсов для той и другой» [Williamson, 1984, p. 689]. Никакого сдвига к более защищенным правам налогоплательщиков не наблюдалось и экономика Англии развивалась не благодаря, а вопреки резко возросшим налогам и расходам государства.
Как показывают исследования по экономической истории и истории права, в большинстве европейских обществ защищенные права собственности на землю, капитал и другие активы формировались постепенно на протяжении примерно полутысячелетия. Нигде они не были защищены идеально, но нигде и не отсутствовали полностью, постепенно улучшаясь с течением времени. Англия двигалась в том же направлении, что и большинство других европейских стран, и с этой точки зрения в ней не было ничего уникального, что могло бы объяснить, почему она первой начала движение по пути индустриализации: «Экономический рост никак не удается приписать внезапному переключению от незащищенных к защищенным правам владения, использования и распоряжения ресурсами. Он оставался практически незатронутым постепенными изменениями, происходившими в режиме прав собственности» [Ogilvi, Carus, 2014, p. 459][169].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исторический нарратив, предлагаемый панинституционализмом, держится на предположении, что в доиндустриальных обществах права собственности отсутствовали даже формально либо в лучшем случае существовали только на бумаге, подвергаясь непрерывным хищническим атакам со стороны элит, обладавших высоким потенциалом насилия. Многочисленные исторические исследования показывают, что этот нарратив — фикция: охраняемые права собственности стары как мир и существовали в десятках самых разных стран в самые разные периоды времени. Но если убрать из-под нортианской схемы эту опору, то рушится вся конструкция. От ее объясняющей способности остается только банальный вывод о том, что страны, погруженные в институциональный хаос (скажем, охваченные гражданской войной), не могут быть экономически успешными. Конечно, у Норта и Аджемоглу можно найти немало интересных и глубоких частных наблюдений, но связная картина экономической истории из них не складывается.
Вместе с этим рушится и другая опора панинституционализма. Если история знает множество гораздо более ранних случаев, когда государство выступало гарантом прав собственности, мирно разрешавшим конфликты по их поводу, то ему нельзя отводить роль демиурга современного экономического роста. Тогда переход от мальтузианского к шумпетерианскому росту должен быть связан с действием каких-то иных сил, не имеющих прямого отношения к деятельности государства. Если выполнение государством третейских функций защитника и арбитра — достаточно рутинная практика, то Первая промышленная революция не могла быть ее продуктом.
Это не значит, что права собственности не имеют значения. Напротив: именно потому, что они так важны, их в том или ином виде имело любое институционально стабильное общество. Вообще общество вправе называться «обществом» только тогда, когда оно в состоянии обеспечивать хотя бы минимальную их защиту. Охраняемые права собственности были непременным спутником всякого «благоустроенного» государства. Но как раз потому, что в доиндустриальном мире они были широко распространены, ссылками на них невозможно объяснить «прыжок» от мальтузианского к шумпетерианскому экономическому росту.
Естественно, при систематических насильственных отъемах имущества или запредельных грабительских налогах экономическая активность останавливается. Но воздержание государства от катастрофических форм вмешательства в экономику — недостаточное основание, для того чтобы отводить ему роль «крупнейшего игрока» в процессе экономического роста [North, 1991].
Как можно было убедиться, в нормативных вопросах панинституционализм занимает амбивалентную позицию. С одной стороны, он вроде бы выражает приверженность нормативным установкам, которые традиционно ассоциируются с классическим либерализмом. Но, с другой — видит в государстве главного агента институциональных изменений и считает одним из обязательных условий существования «хороших» институтов «большое правительство». Но о том, с чем либеральные принципы сочетаются лучше — с традиционной для классического либерализма идеей ограниченного правительства или с характерной для панинституционализма идеей «большого правительства», — пусть читатели судят сами…
ПРИЛОЖЕНИЕ ПАТЕНТНОЕ ПРАВО — ФУНДАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ?
Как известно, непосредственным триггером Промышленной революции стал бум технического изобретательства, охвативший Англию с середины XVIII в. и принявший форму настоящей эпидемии. В рамках панинституцонализма он, как и следовало ожидать, объясняется появлением (впервые за всю историю!) защищенных прав собственности — на этот раз прав интеллектуальной собственности в форме патентов. Англии посчастливилось иметь патентную систему с 1624 г., а Славная революция обеспечила надежную защиту прав изобретателей, когда они получали патенты на свои изобретения.
Каноническая для панинституционализма трактовка была предложена Д. Нортом [North, 1981]. Темп технологического прогресса он поставил в зависимость от того, есть ли у изобретателей возможность «прибирать» к рукам основную часть выгод от своих инноваций или нет. Если да, то устойчивый технологический прогресс гарантирован: сделайте изобретения предметом частной собственности и они польются бурным потоком! Согласно Норту, эту задачу как раз и решает патентное право, которое позволяет приблизить частные нормы отдачи от изобретений к социальным: «Укрепление стимулов благодаря развитию патентного права, законов о коммерческой тайне и других нормативных актов повысило прибыльность инноваций, а также привело к созданию „промышленности изобретения“ и ее интеграции в процесс экономического развития современного Западного мира» [Норт, 1997, с. 100]; «Все изменилось после Славной революции. Государство… твердо защищало… права собственности на идеи, закрепленные в патентах, что было необыкновенно важно для стимулирования инноваций» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 143]; «Не случайно, что промышленная революция началась в Англии всего спустя несколько десятилетий после Славной революции. Великие изобретатели… могли воспользоваться коммерческим потенциалом своих изобретений, будучи уверенными, что их права собственности священны. Кроме того, у них был доступ на рынок, где они могли с выгодой продать свои изобретения другим» [Там же, с. 144]. Одним словом, без эффективной патентной системы, надежно защищавшей права на интеллектуальную собственность, Промышленная революция не состоялась бы.
Изложив основные пункты нортовской трактовки, Дж. Мокир задается вопросом: «Что же в этой картине не так?» И отвечает: «Да практически все» [Mokyr, 2009, p. 349]. Прежде всего, она не объясняет, почему число патентов стагнировало на протяжении более чем 100 лет после принятия патентного законодательства и только в середине XVIII в. вдруг продемонстрировало резкий скачок вверх. Систему патентного права, действовавшую тогда в Великобритании, трудно назвать эффективной: плата за получение патента составляла огромную по тем временам сумму — 100 фунтов в Англии (что примерно равнялось среднему годовому доходу представителей среднего класса) и 350 фунтов в других частях Соединенного королевства. Соответственно получить патент удавалось лишь считанным единицам достаточно состоятельных людей.
Кроме того, после получения патент должен был быть подтвержден судом, что, как правило, требовало от заявителей длительного пребывания в Лондоне, связанного со значительными дополнительными издержками, поскольку оно могло растягиваться на многие месяцы. Суды того времени крайне враждебно относились в любым формам монополии, считая патенты одной из них, так что чаще всего они отвечали заявителям отказом: за период 1770–1850 гг. из 12 тыс. выданных патентов было подтверждено судами только 257 [Ibid., p. 349]. Многие выдающиеся изобретатели так и не смогли подтвердить своих патентов в суде (например, Р. Аркрайт) и кончили жизнь в нищете. Не подтвержденные судами патенты не обеспечивали практически никакой защиты от кражи идей другими и потому не приносили почти никакой денежной отдачи[170]. Лишь отдельным счастливчикам удавалось сколотить на своих изобретениях крупные состояния (так, получение патента на паровую машину обогатило Дж. Уатта).
Не менее важно, что патенты были лишь одним из многих возможных способов получения материальной выгоды от изобретения. Изобретатели могли вознаграждаться солидными денежными премиями от парламента, а также от благотворительных ассоциаций, специально учрежденных для этой цели (самую большую премию — 30 тыс. фунтов — получил от британского парламента создатель вакцины против оспы Э. Дженнер). Наградой могло также служить предоставление им государственных синекур или высокооплачиваемых рабочих мест в частном секторе. Некоторые изобретатели демонстрировали на промышленных выставках свои изобретения (делая их таким образом всеобщим достоянием) только для того, чтобы привлечь внимание потенциальных работодателей к своим талантам.
Наконец, для огромного числа ученых и изобретателей денежная мотивация оставалась вторичной: многие из них крайне враждебно относились к самой идее частной собственности на идеи. Согласно их этическим представлениям, новые знания должны были становиться общим достоянием всего человечества. Так, М. Фарадей, как и многие другие выдающиеся ученые и инженеры того времени, из принципа отказывался брать патенты на свои изобретения. Главной наградой для себя они считали признание их заслуг обществом, а не состояния, которые можно было бы сколотить благодаря выдвинутым ими идеям.
Если патентная система и способствовала ускорению технологического прогресса, то в очень ограниченной степени. По имеющимся оценкам, в период Промышленной революции запатентованные изобретения составляли лишь 11 % общего их числа [Moser, 2005; 2007]. Более того, во многих случаях патенты оказывались серьезным тормозом на пути технологического прогресса. Патент на паровую машину, полученный Дж. Уаттом, на несколько десятилетий задержал ее распространение в английской экономике, так что во всеобщее употребление она смогла войти лишь во второй половине XIX в.
Опыт других стран также не дает оснований считать права на интеллектуальную собственность в виде патентов необходимым условием успешного технологического развития. Сама идея патентной системы родилась в Венеции, которая, однако, ничем не прославила себя в области науки и техники. В Нидерландах патентная система была введена раньше, чем в Англии, — еще в XVI в., но в XVIII в. число выданных в ней патентов резко упало, так и оставаясь крайне низкой до начала XIX в. Несмотря на то что Нидерланды были одними из пионеров патентного права, они оказались в числе аутсайдеров промышленной революции, которая началась в них намного позже, чем в большинстве других европейских стран. Обратный пример: на протяжении практически всего XIX в. Швейцария успешно занималась кражей идей английских изобретателей, не стремясь к созданию собственной патентной системы, но оставаясь при этом одним из наиболее активных участников процесса технологического развития.
Итоговый вывод, к которому приходит Мокир, звучит приговором нортовской трактовке: «Энтузиазм, продемонстрированный Нортом по отношению к патентной системе как одному из решающих факторов технологического прогресса той эпохи, следовало бы остудить рядом неоспоримых исторических фактов и данных. …Оценку важности патентной системы для британской Промышленной революции пора бы сильно поумерить» [Mokyr, 2009, p. 352–353].
Пример с английской патентной системой важен, поскольку он демонстрирует, что плохо защищенные права собственности (в данном случае права интеллектуальной собственности) далеко не всегда оказываются непреодолимым препятствием для процесса «созидательного разрушения». При определенных условиях современный экономический рост может успешно идти несмотря на слабую защищенность прав частной собственности, а возможно, даже благодаря ей.
ЛИТЕРАТУРА
Аджемоглу Д., Робинсон Дж. А. Почему одни страны богатые, а другие бедные. М.: АСТ, 2016.
Арсланов В. В. География, институты и истоки глобального неравенства: критика концепции экономического развития Аджемоглу и Робинсона (научный доклад). М.: Институт экономики РАН, 2016.
Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. Сравнительные очерки по социологии религии. Введение / Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН, 2006. С. 213–240.
Заостровцев А. П. Об историческо-институциональных причинах отставания в развитии: концепция Асемоглу — Робинсона. (Препринт М-34/13). СПб., 2013.
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс, 1978.
Кларк Г. Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира. М.: Изд-во Института Гайдара, 2012.
Натхов Т. В., Полищук Л. И. Политэкономия институтов и развитие: как важно быть инклюзивным. Размышления над книгой D. Acemoglu, J. Robinson. «Why Nations Fail». Ч. I. Институты и экономическое развитие. Институциональный выбор // Журнал Новой экономической Ассоциации. 2017a. № 2. С. 12–38.
Натхов Т. В., Полищук Л. И. Политэкономия институтов и развитие: как важно быть инклюзивным. Размышления над книгой D. Acemoglu, J. Robinson. «Why Nations Fail». Ч. II. Институциональная динамика и выводы для России // Журнал Новой экономической Ассоциации. 2017б. № 3. С. 12–32.
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «НАЧАЛА», 1997.
Норт Д. Функционирование экономики во времени // Отечественные записки. 2004. № 6. С. 82–103.
Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки: Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011.
Пайпс Р. Собственность и свобода. М.: Московская школа политических исследований, 2008.
Расков Д. Институциональные исследования как будущее социальных наук // Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки: Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011. С. 9–31.
Тамбовцев В. Л. Идеи и интересы, экономическая политика и институты // Вопросы экономики. 2019. № 5. С. 26–45.
Хайек Ф. А. Конституция свободы. М.: Новое издательство, 2018.
Ходжсон Дж. 1688 год и все такое: права собственности, Славная революция и подъем британского капитализма // Вопросы экономики. 2017. № 11. С. 63–92.
Acemoglu D. Growth and Institutions // The New Palgrave Dictionary of Economics / ed. by S. N. Durlauf, L. E. Blume. L.: Palgrave Macmillan, 2008. Vol. 3. P. 2598–2603.
Acemoglu D., Johnson S. H. Unbundling Institutions // Journal of Political Economy. 2005. Vol. 113. No. 4. P. 949–995.
Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. A. Institutions As a Fundamental Cause of Long-Run Growth // Handbook of Economic Growth / ed. by P. Aghion, S. N. Durlauf. Amsterdam; L.: Elsevier, 2005a. Vol. 1A. P. 385–472.
Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. A. et al. From Education to Democracy? // American Economic Review. 2005b. Vol. 95. No. 2. P. 44–49.
Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. A. et al. Income and Democracy // American Economic Review. 2008. Vol. 98. No. 3. P. 808–842.
Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. A. et al. Reevaluating the Modernization Hypothesis // Journal of Monetary Economics. 2009. Vol. 56. No. 8. P. 1043–1058.
Allen D. The Institutional Revolution. Chicago: Chicago University Press, 2011.
Bates R. Essays on the Political Economy of Rural Africa. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
Bekar C. T., Reed C. G. Land Markets and Inequality: Evidence from Medieval England // European Review of Economic History. 2013. Vol. 17. No. 2. P. 294–317.
Berman S. Ideational Theorizing in the Social Sciences since «Policy Paradigms, Social Learning, and the State» // Governance. 2013. Vol. 26. No. 2. P. 217–237.
Boldrin M., Levine D. K., Modica S. A Review of Acemoglu and Robinson’s «Why Nations Fail» / Unpubl. manuscript, 2012. rreview.pdf.
Boyd R., Richerson P. J. Culture and the Evolutionary Process. Chicago: University of Chicago Press, 1985.
Boyd R., Richerson P. J. Not by Genes Alone: How Culture Transformed Human Evolution. Chicago: University of Chicago Press, 2005.
Briggs C. English Serfdom, c. 1200 — c. 1350: Towards An Institutional Analysis // Schiavitu e servaggio nell’economia europea. Secc. XI–XVIII. (Slavery and Serfdom in the European Economy from the 11th to the 18th Centuries). XLV settimana di studi della Fondazione istituto internazionale di storia economica F. Datini / ed. by S. Cavaciocchi. Florence: Firenze University Press, 2013.
Britnell R. The Towns of England and Northern Italy in the Early Fourteenth Century // Economic History Review. 1991. Vol. 44. No. 1. P. 21–35.
Campbell B. M. S. The Agrarian Problem in the Early Fourteenth Century // Past & Present. 2005. No. 188. P. 3–70.
Clark G. The Political Foundations of Modern Economic Growth: England, 1540–1800 // Journal of Interdisciplinary History. 1996. Vol. 26. No. 4. P. 563–588.
Cowen T. The Great Stagnation: How America Ate All the Low-Hanging Fruit of Modern History, Got Sick, and Will (Eventually) Feel Better. N. Y.: Penguin Group, 2011. eSpecial from Dutton.
Cox G. W., North D. C., Weingast B. The Violence Trap: A Political-Economic Approach to the Problems of Development. 2015. .
Crafts N. The First Industrial Revolution: Resolving the Slow Growth/Rapid Industrialization Paradox // Journal of the European Economic Association. 2005. Vol. 3. No. 2–3. P. 525–534.
Deakin S. Legal Origin, Juridical Form and Industrialization in Historical Perspective: The Case of the Employment Contract and the Joint-Stock Company // Socio-Economic Review. 2009. Vol. 7. No. 1. P. 35–65.
Eisenstadt Sh. N. Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism. Beverly Hills: Sage Publications, 1973.
Goldstone J. A. Efflorescences and Economic Growth in World History: Rethinking the «Rise of the West» and the Industrial Revolution // Journal of World History. 2002. Vol. 13. No. 2. P. 323–389.
Greif A. Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
Greif A., Mokyr J. Comment Institutions and Economic History: A Critique of Professor McCloskey // Journal of Institutional Economics. 2016. Vol. 12. No. 1. P. 29–41.
Harris R. Government and the Economy, 1688–1850 // The Cambridge Economic History of Modern Britain. Vol. 1: Industrialisation, 1700–1860 / ed. by R. Floud, P. Johnson. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 204–237.
Hodgson G. 1688 and All That: Property Rights, the Glorious Revolution and the Rise of British Capitalism // Journal of Institutional Economics. 2017. Vol. 13. No. 1. P. 79–107.
Hoppit J. Patterns of Parliamentary Legislation, 1660–1800 // The History Journal. 1996. Vol. 39. No. 1. P. 109–131.
Jones Ch. I. Growth and Ideas // Handbook of Economic Growth / ed. by Ph. Aghion, S. Durlauf. Amsterdam; L.: Elsevier, 2005. Vol. 1. P. 1063–1111.
Kang D. C. Getting Asia Wrong: The Need for New Analytical Frameworks // International Security. 2003. Vol. 27. No. 4. P. 57–85.
Lipset S. M. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy // American Political Science Review. 1959. Vol. 53. No. 1. P. 69–105.
Macfarlane A. The Origins of English Individualism: The Family, Property and Social Transition. Oxford: Blackwell, 1978.
McCloskey D. N. Bourgeois Dignity: Why Economics Can’t Explain the Modern World. Chicago: University of Chicago Press, 2010.
McCloskey D. N. The Great Enrichment: A Humanistic and Social Scientific Account // Scandinavian Economic History Review. 2016a. Vol. 64. No. 1. P. 6–18.
McCloskey D. N. Comment: The Humanities Are Scientific: A Reply to the Defenses of Economic Neo-Institutionalism // Journal of Institutional Economics. 2016b. Vol. 12. No. 1. P. 63–78.
Mokyr J. Intellectual Property Rights, the Industrial Revolution, and the Beginnings of Modern Economic Growth // American Economic Review. 2009. Vol. 99. No. 2. P. 349–355.
Mokyr J. Culture, Institutions, and Modern Growth. Paper presented at the Conference on Understanding Institutions and Development Economics: The Legacy and Work of Douglass C. North. 2010. (2)_Joel_Mokyr.pdf.
Moser P. How Do Patent Laws Influence Innovation? // American Economic Review. 2005. Vol. 94. No. 4. P. 1214–1236.
Moser P. Why Don’t Inventors Patent? / NBER Working Paper. No. 13294. Cambridge, MA: NBER, 2007.
Mukand S., Rodrik D. The Political Economy of Ideas: On Ideas Versus Interests in Policymaking / NBER Working Paper. No. 24467. Cambridge, MA: NBER, 2018.
Murrell P. Design and Evolution in Institutional Development: The Insignificance of the English Bill of Rights // Journal of Comparative Economics. 2017. Vol. 45. No. 1. P. 36–55.
North D. C. Structure and Change in Economic History. N. Y.: Norton, 1981.
North D. C. Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. N. Y.: Cambridge University Press, 1990.
North D. C. Institutions // The Journal of Economic Perspectives. 1991. Vol. 5. No. 1. P. 97–112.
North D. C., Thomas R. P. The Rise of the Western World. Cambridge: Cambridge University Press, 1973.
North D. C., Weingast B. R. Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England // Journal of Economic History. 1989. Vol. 49. No. 4. P. 803–832.
O’Brien P. K. Fiscal Exceptionalism: Great Britain and its European Rivals from Civil War to Triumph at Trafalgar and Waterloo / LSE Department of Economic History. Working Paper. No. 65/01. L.: LSE, 2001. -History/Assets/Documents/WorkingPapers/Economic-History/2001/WP6501.pdf.
Ogilvie Sh., Carus A. W. Institutions and Economic Growth in Historical Perspective // Handbook of Economic Growth. Vol. 2A. Amsterdam; L.: Elsevier, 2014. P. 403–513.
Pollock F., Maitland F. W. The History of English Law before the Time of Edward I. Cambridge: Cambridge University Press, 1895.
Reckendrees A. Weimar Germany: The First Open Access Order that Failed? // Constitutional Political Economy. 2015. Vol. 26. No. 1. P. 38–60.
Schumpeter J. A. Science and Ideology // American Economic Review. 1949. Vol. 39. No. 2. P. 345–359.
Smith R. M. English Peasant Life-Cycles and Socio-Economic Networks: A Quantitative Geographical Case Study / Unpubl. PhD. Dis. Cambridge: University of Cambridge, 1974.
Stasavage D. Credible Commitment in Early Modern Europe: North and Weingast Revisited // Journal of Law, Economics and Organization. 2002. Vol. 18. No. 1. P. 155–186.
Swedberg R. Tocqueville’s Political Economy. Princeton: Princeton University Press, 2009.
Treisman D. Democracy by Mistake / NBER Working Paper. No. 23944. Cambridge, MA: NBER, 2017.
Weingast B. R. Exposing the Neoclassical Fallacy: McCloskey on Ideas and the Great Enrichment // Scandinavian Economic History Review. 2016. Vol. 64. No. 3. P. 189–201.
Whittle J. Individualism and the Family-Land Bond: A Reassessment of Land Transfer Patterns among the English Peasantry // Past & Present. 1998. No. 160. P. 25–63.
Whittle J. The Development of Agrarian Capitalism: Land and Labour in Norfolk, 1440–1580. Oxford: Clarendon, 2000.
Williamson J. G. Why Was British Growth so Slow during the Industrial Revolution? // Journal of Economic History. 1984. Vol. 11. No. 36. P. 687–712.
X О современном состоянии экономической науки: полусоциологические наблюдения[171]
Великая рецессия 2008–2009 гг. послужила спусковым механизмом для появления необозримого множества публикаций — как в массмедиа, так и в академических изданиях — на тему провального состояния современной экономической науки. Ее модели далеки от реальности; она сверхматематизирована и глуха к наиболее острым проблемам, волнующим общество; она потерпела сокрушительное фиаско, не сумев предсказать наступление мирового экономического кризиса; ее рецепты по большей части контрпродуктивны, лишь подготавливая почву для еще более сильных потрясений; она расколота на несколько конкурирующих школ, которые неспособны достичь согласия даже по самым базовым вопросам; и так далее, далее, далее… С громогласными инвективами такого рода выступали не только политики, публицисты, журналисты, представители широкой публики, но также и немалое число профессиональных экономистов. Однако после того как мировой экономике удалось избежать перерастания Великой рецессии в затяжную глубокую депрессию, атмосфера общественных дискуссий заметно изменилась и зазвучали иные голоса. Экономической науке стала приписываться главная заслуга в том, что события не стали развиваться по наихудшему сценарию: экономисты хорошо выучили уроки Великой депрессии 1930-х годов и это позволило им предложить такие меры государственной политики, благодаря которым угроза всеобщего экономического коллапса была успешно предотвращена.
Напрашивается естественный вопрос: так с чем же все-таки мы имеем тут дело — с глубоким кризисом, как думают одни, или с триумфом, как полагают другие? Должен признаться, что не слежу за специальной литературой, в которой анализируются и оцениваются текущее состояние и новейшая эволюция экономической науки. Все, что я могу предложить, — это поделиться субъективными наблюдениями, чтó, как мне кажется, наиболее значимого и примечательного происходило в ней в течение последних десятилетий. Само собой разумеется, что такие наблюдения по определению фрагментарны, выборочны и пристрастны. Понятно также, что в поле зрения отдельного исследователя неизбежно попадает лишь узкий сегмент современной экономической литературы, а вопрос о том, в какой мере допустимо переносить оценку положения дел в том или ином разделе теории на нее в целом, всегда будет оставаться открытым. Поэтому хотел бы сразу предупредить: предлагаемые заметки — не академическое исследование со всеми положенными ему атрибутами, а что-то вроде «путевых впечатлений», не претендующих на строгость, системность и полноту. Я решил назвать их полусоциологическими, потому что говоря о состоянии современной экономической науки, попытаюсь отталкиваться от некоторых очевидных, но важных характеристик ее функционирования как определенного института, как определенного социального феномена.
Немного социологии. Пожалуй, наиболее фундаментальный и многое определяющий социальный факт состоит в том, что сегодня в «индустрию» по изучению экономики вовлечено астрономически большое число участников. По некоторым оценкам, в настоящее время экономисты намного превосходят по численности представителей прочих социальных дисциплин, уступая только психологам. Массовизация экономической профессии имеет несколько важных следствий.
Во-первых, в таких условиях резко возрастают роль и значение формальных критериев и процедур. Этот сдвиг представляется абсолютно неизбежным, когда нам приходится иметь дело с гигантской анонимной массой потенциальных авторов и непрерывно растущей конкуренцией между ними. Безудержный, усиливающийся с каждым годом рост «формалистики» наблюдается на всех стадиях учебного процесса, на всех стадиях исследовательского процесса, на всех стадиях публикационного процесса (вплоть до выдвижения жестких требований к построению научных статей). Разного рода индексы и рейтинги рассчитываются сегодня для университетов, для журналов, для отдельных исследователей и даже для выпускников вузов [Фуркад и др., 2015]; с ориентацией на них осуществляется финансирование экономических разработок. Неочевидно, однако, что эта прогрессирующая формализация всего и вся является нейтральной с содержательной точки зрения. Мне, например, трудно представить, чтобы сегодня где-либо могли быть опубликованы такие неформатные работы, как статьи Р. Коуза. И даже если бы они все-таки появились в каком-нибудь третьеразрядном журнале, никто, я уверен, их не заметил бы и коузовские идеи оставались бы невостребованными.
Во-вторых, «многолюдство» экономической профессии ведет (и уже привело) к изменению ключевой социальной функции академических журналов. Из средства распространения научной информации они фактически превратились в инструмент сертификации качества научной продукции. Сегодня между появлением работы и ее журнальной публикацией нередко проходит семь, восемь и даже больше лет. За это время авторы успевают выступить с ней на нескольких конференциях и не один раз опубликовать ее в виде working paper. В результате, когда она появляется в каком-нибудь журнале, ее основные идеи и результаты могут быть уже давно и хорошо известны всем, кто работает в той же области исследований. Финальная публикация означает просто присвоение знака качества. Это важно, потому что в современных условиях «сертифицированные» и «несертифицированные» работы отделены огромным зазором, если не пропастью. Можно сказать и так, что публикации в ведущих журналах выступают прежде всего тестом на принадлежность к мейнстриму экономической науки.
В-третьих, благодаря массовизации экономической науки в ней сложилась ситуация, которая номинально выглядит как ситуация «расцвета ста цветов». Любой самый крошечный раздел анализа, любая неортодоксальная школа обзаводятся собственной ассоциацией и собственным журналом, а подчас несколькими ассоциациями и журналами сразу. Свои журналы есть у экофизики, биоэкономики, социоэкономики, эволюционной экономики, австрийской теории, старого институционализма, посткейнсианства, школы public choice, марксизма, неомарксизма, радикальной политэкономии, феминистской экономики и т. д. К сожалению, при ближайшем рассмотрении ситуация «расцвета ста цветов» оказывается иллюзорной: реальный диалог между мейнстримом и гетеродоксией, по сути, отсутствует, причем ответственность за это, как мне кажется, лежит на обеих сторонах. Мейнстрим просто не замечает того, что делается в неортодоксальных направлениях: ведь для мейнстримного экономиста обращать на них внимание означало бы пустую трату времени, чреватую лишь снижением его публикационной активности. Что касается приверженцев неортодоксальных школ, то они, конечно, вынуждены реагировать на то, что происходит в мейнстриме, — хотя бы в целях его критики. Но среди них чрезвычайно силен и, я бы даже сказал, культивируется сектантский дух. Можно привести не один пример того, как наиболее широко мыслящие представители мейнстрима пытались наладить диалог со сторонниками неортодоксальных течений и чем такие попытки заканчивались. А заканчивались они практически всегда сверхагрессивной реакцией со стороны немейнстримных экономистов. Как следствие, неортодоксальные теории обречены вести сегодня замкнутое существование и вариться в собственном соку, образуя своего рода интеллектуальное гетто. В настоящее время они оказались почти уже полностью вытеснены в экономическую философию и историю экономической мысли.
Но здесь мне хотелось бы указать на феномен, который никогда не обсуждается в академической литературе, но который до известной степени (пусть незначительной, но все-таки!) нейтрализует те тенденции, о которых речь шла выше. Я имею в виду наблюдавшееся в последние десятилетия бурное развитие экономики блогосферы. Некоторые наиболее открытые и активные экономисты заводят сегодня собственные сайты и начинают рассказывать на них о своих новых исследованиях, комментировать работы других авторов, откликаться на злободневные проблемы экономической политики и т. д. Что этим достигается?
Во-первых, возникает настоящий живой диалог между профессиональными экономистами и широкой публикой. Его просветительский эффект несомненен, поскольку по ходу такого диалога научные идеи начинают переводиться с «птичьего», чаще всего сверхформализованного языка, которым пользуются современные экономисты, на обычный «человеческий» язык. У широкой публики появляется также возможность заглянуть в рабочую лабораторию профессиональных экономистов и познакомиться с их новыми идеями еще на стадии разработки. Ведь замысел научной работы редко рождается сразу в формализованном виде. Очень часто новые идеи возникают во время неформальных обсуждений, которые экономисты ведут друг с другом за кофе, на прогулках, во время занятий спортом и т. п. (Так, замысел одной из знаменитых совместных работ П. Самуэльсона и Ф. Модильяни родился на теннисном корте.)
Во-вторых, когда представители мейнстрима и неортодоксальных школ начинают обмениваться комментариями в сети, реальный содержательный диалог возникает также и между ними. Здесь интересно отметить, что применительно к блогосфере ни о каком доминировании мейнстрима говорить не приходится: среди наиболее популярных экономических сайтов непропорционально большую долю составляют те, что были созданы и поддерживаются экономистами-неортодоксами. И поскольку в блогосфере обсуждения по вполне понятным причинам ведутся с минимальным использованием средств математики, мы как бы в машине времени переносимся далеко назад в эпоху, которая предшествовала нынешней всепроникающей формализации экономического анализа.
Это, конечно, не значит, что экономика блогосферы уже смогла оказать какое-либо значимое влияние на развитие академической науки. (В некоторых сестринских дисциплинах ситуация складывалась иначе: например, серьезная внутренняя перестройка под действием процессов в блогосфере наблюдается сейчас в социальной психологии.) Единственный пример, который приходит мне в голову, — это деятельность американского экономиста, лидера школы «рыночного монетаризма» Скотта Самнера. Полтора десятилетия назад он практически забросил академическую карьеру и завел собственный блог с целью распространения одной-единственной идеи /. Суть ее состоит в том, что темп инфляции является плохим таргетом для денежной политики и что ориентация на него способна генерировать дополнительные экономические колебания. Гораздо более надежным и эффективным таргетом, по его мнению, мог бы стать альтернативный показатель — темп прироста номинального ВВП. Не знаю, возымели ли усилия Самнера какое-либо действие или нет, но факт остается фактом, что в последнее время даже такие корифеи денежной теории как Б. Бернанке или Дж. Йеллен стали с большим интересом отзываться об идее таргетирования темпов прироста номинального ВВП[172].
«Эконометриковерие». Наверное, с моей стороны было бы неправильно ограничиться обсуждением одних только социологических характеристик современной экономической науки, ничего не сказав о некоторых специфических эпистемологических характеристиках, ей присущих. Мне кажется, что одна из важнейших отличительных черт нынешнего этапа ее развития состоит в установке, которую я обозначил бы неологизмом «эконометриковерие». Речь идет о том, что для «типичного» современного экономиста эконометрические оценки являются высшей реальностью и обладают статусом истины в последней инстанции. Это тот «козырь», который побивает все остальные, будь то общетеоретические принципы, интуиция, практический опыт, доводы здравого смысла или что-либо еще. Вот лишь несколько наиболее значимых проявлений этой установки.
Если в какой-либо области исследований результаты эконометрического оценивания вступают в конфликт с общей теорией, современные экономисты, во-первых, не испытывают по этому поводу интеллектуального дискомфорта, а во-вторых, отдают безусловный приоритет эконометрическим оценкам, полагая, что общетеоретические принципы — это условность, не имеющая прямого отношения к экономической реальности. Наглядный пример — некоторые новейшие исследования (конечно, не все) по проблеме минимальной заработной платы. В последние десятилетия появилось большое количество эконометрических оценок, из которых следует, что повышение минимальной заработной платы никак не влияет на занятость работников с низкой производительностью или даже влияет на нее положительно. Если не ошибаюсь, это единственное исключение из закона спроса, которое активно и подробно обсуждается современными экономистами. Помимо малоквалифицированной рабочей силы мне не известно ни одного другого товара, услуги или производственного фактора, которым была бы посвящена обширная эмпирическая литература, где доказывалось бы, что при повышении их цен объем спроса на них не уменьшается, а, возможно, даже возрастает. То обстоятельство, что это расходится с базовыми представлениями общей экономической теории, чаще всего просто обходится стороной. Большинство современных экономистов (конечно, не все) не придают таким расхождениям серьезного значения: их мало волнует, стои́т ли за получаемыми эмпирическими результатами какая-либо теоретическая схема или нет. Раз из эконометрических оценок вырисовывается определенная история, значит, так оно и есть на самом деле. Если же они противоречат теории, то тем хуже для нее[173].
«Эконометриковерие» приводит также к тому, что «типичный» современный экономист не чувствует потребности в общей консистентной картине мира. Реальность воспринимается им как лоскутное одеяло, когда в каждом разделе экономического анализа формируется своя особая картина мира. Сошлюсь опять-таки на работы по проблеме минимальной заработной платы. Как уже отмечалось, многие из них приходят к выводу, что повышения минимальной заработной платы либо вообще не влияют на занятость неквалифицированных работников либо влияют на нее положительно. Иными словами, эластичность спроса на такую рабочую силу близка к нулю. Это предполагает, что график спроса на работников с низкой производительностью представляет собой вертикальную прямую или даже отклоняется немного вправо.
В то же время из большей части исследований по проблеме миграции следует, что активный приток на рынок труда мигрантов из-за рубежа практически никак не отражается на заработной плате местных работников с низкой производительностью [Pekkala Kerr, Kerr, 2011]. Это предполагает, что спрос на неквалифицированную рабочую силу высокоэластичен: в предельном случае его график может выглядеть как почти горизонтальная прямая.
«Типичный» современный экономист не ощущает какого-либо явного дискомфорта по поводу того, что эконометрические оценки в одном разделе говорят одно, а в другом — прямо противоположное, и не видит проблемы в том, чтобы верить одновременно и тем и другим. Некоторые комментаторы предлагают политико-психологическое объяснение подобной готовности к совмещению несовместимого. Это, по их мнению, не более чем отражение идеологических предпочтений экономистов, придерживающихся прогрессистских взглядов, поскольку интеллектуалы именно с такой политической ориентацией склонны выступать одновременно и за повышение минимальной заработной платы и за ослабление ограничений на приток мигрантской рабочей силы. Но вполне возможно, что дело тут не столько в идеологии, сколько в эпистемологии.
Похоже, «типичный» современный экономист живет в мире расколотой, «балканизированной» реальности, где каждый фрагмент существует по большей части отдельно от других. Раз анализ по проблеме минимальной заработной платы показывает, что спрос на неквалифицированную рабочую силу неэластичен, значит, так оно и есть; раз анализ по проблеме миграции показывает, что спрос на неквалифицированную рабочую силу эластичен, значит, тоже так оно и есть. Для каждой области исследований свои эконометрические оценки и своя картина мира. При отсутствии потребности в общей интегрированной картине экономического универсума это едва ли удивительно.
Еще одно проявление «эконометриковерия» связано с тем, что при наличии оценок, полученных с помощью более простых и с помощью более сложных, продвинутых, «навороченных» методов, «типичный» современный экономист всегда предпочтет вторые первым. Приведу пример [Das, Polachek, 2017]. Для США оценки отдачи от образования, т. е. процентного прироста заработной платы при увеличении продолжительности образования на один год, полученные простым МНК, лежат в диапазоне от 5 до 15 %. Вместе с тем те же оценки, но полученные с использованием метода инструментирования, варьируют от 4 до 94 %. Я подозреваю, что если спросить экономиста и неэкономиста, какая серия оценок более реалистична и заслуживает большего доверия, мы получим разные ответы. В любом случае работа, которая ограничится только оценками МНК, сегодня нигде и ни при каких условиях не будет опубликована, тогда как работа с использованием метода инструментирования будет иметь неплохие шансы на публикацию, особенно если в ней будет предложен новый, никем ранее не использовавшийся инструмент.
Наука без теории? Один из важнейших трендов последнего времени связан с появлением множества разнообразных исследований экспериментального характера и резким повышением их научного статуса. По большому счету такие чисто фактуальные, атеоретические исследования интересует только один вопрос: является ли некое A причиной некоего B, причем, что важно, безотносительно к тому, вписывается или не вписывается получаемый результат в какую-либо концептуальную схему, поддается или не поддается он какой-либо теоретической интерпретации [De Vroey, Pensieroso, 2016]. Огромный всплеск популярности экспериментальных и квазиэкспериментальных методов наблюдался в экономике развития, макроэкономике, экономике финансов, экономике образования, экономике здравоохранения, экономике труда[174]; на них с самого начала базировалась вся поведенческая экономика[175]. В настоящее время именно они задают эталон научной строгости и рассматриваются как передний край современного экономического анализа. Ученые, разрабатывающие и использующие подобные методы, составляют высшую касту сегодняшней экономической профессии, поскольку по дизайну проводимые ими исследования ближе всего подходят к тому, как строятся исследования в естественных дисциплинах.
Традиционно экономическая наука испытывала перед естественным дисциплинами своего рода комплекс неполноценности, поскольку считалось, что эксперименты в ней невозможны [Капелюшников, 2015]. Только в последние десятилетия, когда в исследовательскую практику стали активно проникать экспериментальные и квазиэкспериментальные методы, она смогла, наконец, избавиться от этого застарелого комплекса и обрести желанный статус экспериментальной (т. е. «настоящей») науки. Благодаря эксперименталистике в области эмпирических экономических исследований произошла, по выражению Дж. Ангриста и Г.-С. Пишке, настоящая «революция достоверности» [Angrist, Pischke, 2010]: новые методы обеспечили настолько высокое качество получаемых количественных оценок, что это далеко превзошло все, на что был способен традиционный эконометрический анализ. У экономистов появилась возможность надежно идентифицировать наличие каузальных, а не просто корреляционных связей и точно измерять силу воздействия одних наблюдаемых явлений на другие.
Общий смысл экспериментального подхода достаточно прост. В качестве объекта анализа выбираются/конструируются ситуации, когда от самого исследователя (в лабораторных или полевых экспериментах), от природы (в естественных экспериментах) или от государства (в социальных экспериментах) исходит некое воздействие (A), которое затрагивает одну часть рассматриваемой популяции (экспериментальную группу), но не затрагивает другую (контрольную группу). Если попадание индивидов в экспериментальную и контрольную группы происходит чисто случайным образом (наподобие подбрасывания монеты), то это позволяет эффективно решать проблему эндогенности, которая была и остается главным камнем преткновения для традиционного эконометрического анализа[176]. Для этого достаточно измерить, как у группы, подвергшейся воздействию, и у группы, ему не подвергшейся, изменилась та или иная интересующая нас характеристика (B). Если в экспериментальной группе она изменилась сильнее, чем в контрольной, то, значит, A (воздействие) явилось причиной B (изменения в характеристике). Таким образом, правильно выстроенный дизайн экспериментального исследования позволяет получить однозначный ответ на вопрос, является ли А причиной B, причем никакой теории в традиционном смысле в таком случае не требуется.
В качестве примера сошлюсь на одно исследование с дизайном естественного эксперимента, получившее широкое признание и удостоившееся самых высоких оценок [Almond, Mazumder, 2011]. Использовавшиеся в нем данные содержали информацию о различиях в состоянии здоровья индивидов, родившихся в разные годы, и касались мусульманского населения Уганды и Ирака, а также американского штата Мичиган. Отправным пунктом анализа служил тот факт, что во время священного для мусульман месяца Рамадан, длящегося 29–30 дней, верующим от восхода до захода солнца запрещено принимать пищу. Однако точные сроки наступления и окончания Рамадана являются плавающими, так как определяются по лунному календарю. Соответственно в одни годы Рамадан приходится на календарные месяцы с большей, а в другие — с меньшей продолжительностью светового дня. Подобная ситуация близка к условиям рандомизированного эксперимента, поскольку женщины, ожидающие ребенка, оказываются случайным образом распределены по годам с разной продолжительностью светового дня в период Рамадана. Исследование показало, что женщины, во время беременности которых Рамадан приходился на месяцы с большей продолжительностью светового дня, рожали менее здоровых детей, чем женщины, во время беременности которых он приходился на месяцы с меньшей продолжительностью светового дня. (Особенно сильный отрицательный эффект отмечался для ранних сроков беременности.) Иными словами, более длительные перерывы в питании будущих матерей становились причиной худшего состояния здоровья их детей. Квазиэкспериментальный характер использованных данных дал возможность с высокой степенью надежности установить существование прямой причинно-следственной связи между двумя этими явлениями[177].
Какое отношение описанный анализ имеет к экономике? Вообще говоря, никакого. Его с тем же успехом могли бы провести демограф, физиолог, диетолог или специалист по медицинской статистике, ничего не смыслящие в экономике, но хорошо владеющие соответствующим техническим инструментарием. Какое отношение он имеет к экономической теории? Вообще говоря, никакого, потому что ни исходная гипотеза, ни интерпретация полученных результатов в ней явно не нуждаются.
При экспериментальном подходе, как видно даже из приведенного примера, не выбор проблем диктует выбор метода, а, наоборот, выбор метода начинает диктовать выбор проблем. Главное, в чем оказывается заинтересован исследователь, — это обнаружение (или искусственное конструирование) ситуаций, с большим или меньшим приближением воспроизводящих условия рандомизированного эксперимента. Поиск квазиэкспериментальных ситуаций становится ведущим мотивом научной деятельности. Но поскольку число таких случаев ограничено, внутри экономической профессии начинается расслоение по признаку успешности «охоты» за ними. Банальность или даже явная бессмысленность темы перестают быть недостатком. Для теории в этих условиях практически не остается места; если она и сохраняется, то только как реликт. В сложившихся условиях естественно ожидать, что с каждым годом удельный вес экспериментальных исследований будет только возрастать, а их привлекательность для новых поколений экономистов становиться все больше. Но тотальное господство эксперименталистики означало бы «смерть» экономической теории в традиционном смысле (хотя, конечно же, не «смерть» экономической науки как таковой)[178].
К этому стоит добавить, что в точных науках — физике, химии и др. — метод рандомизированных экспериментов с выделением экспериментальной и контрольной групп не применяется. В экономические исследования он проник из медицинской статистики, где используется при тестировании новых видов лекарств и новых методов лечения. Можно сказать, что ценой, которую экономической науке пришлось заплатить за то, чтобы обрести желанный статус «экспериментальной», стал отказ от методологического идеала, к которому она исходно тяготела. Традиционно мечты экономистов превратить свою дисциплину в «настоящую» науку были связаны с физикой, на которую они постоянно оглядывались и которая, начиная по меньшей мере со второй половины XIX в., служила для них наивысшим эталоном точности, строгости и научности. Сегодня, похоже, мы присутствуем на похоронах прежнего методологического идеала: экономическая наука начинала с того, что пыталась стать такой как физика, а кончила тем, что сделалась подобием медицинской статистики.
Оскудение теоретического новаторства? Теперь я выскажу тезис, в котором, пожалуй, уверен меньше всего. У меня складывается впечатление, что для экономической науки миновала эпоха новых крупных теоретических идей. Речь идет не о разработке новых все более изощренных эконометрических методов (в этой области исследовательская активность исключительно высока), не о конструировании новых более совершенных и технически более сложных формальных моделей (в них также сегодня не ощущается недостатка), не о многочисленных эмпирических исследованиях, посвященных важным и интересным прикладным проблемам (таким, например, как измерение экономического неравенства, поляризация структуры рабочих мест, значение когнитивных и некогнитивных навыков с точки зрения повышения индивидуальной производительности труда, влияние роботизации на уровень занятости, сравнительный вклад природных условий, институтов и культуры в процесс экономического развития и многие многие другие). Хотя по всем перечисленным направлениям имеются впечатляющие продвижения, за этим не просматривается каких-либо крупных теоретических новаций.
Я пришел к такому (вполне допускаю, ошибочному) заключению, когда начал анализировать списки литературы к попадавшим в поле моего зрения статьям по экономике труда. Работы, посвященные технике эконометрического оценивания, включаемые в такие списки, — это, как правило, новейшие публикации, относящиеся к самому последнему времени. Работы, посвященные эмпирическому анализу тех или иных конкретных проблем, — тоже. Вместе с тем работы, задающие теоретическую рамку исследования, почти всегда датируются не позднее, чем началом 1990-х годов. Действительно, в течение примерно трех десятилетий с 1960 по 1990 г. в экономике труда произошел настоящий прорыв и возникли теория человеческого капитала, теории дискриминации, теория внутреннего рынка труда, теория сигналов, теория поиска, теория мэтчинга, теория эффективной заработной платы, теория отложенного вознаграждения, теория турниров и многое другое. Но с первой половины 1990-х годов поток новых крупных теоретических идей начал, похоже, скудеть.
Естественно, я не берусь сказать, складывалась ли ситуация в других разделах экономической теории сходным образом или нет. Но из того, что мне известно, вырисовывается в общем примерно та же картина.
Поведенческая экономика? Базовые идеи были высказаны в ней в 1970–1980-е годы, а ее последующее развитие шло в основном по пути механического коллекционирования все новых и новых поведенческих аномалий и конструирования для них все новых и новых формальных моделей.
Макроэкономика? Здесь период бури и натиска также пришелся на 1970–1980-е годы. В рамках макроэкономической теории, пожалуй, только анализ проблемы ZLB (zero lower bound) мог бы претендовать на то, чтобы считаться серьезной новацией последних лет. Современные экономисты пришли к выводу, что если естественная норма реального процента уходит далеко вниз в зону отрицательных значений, в то время как его фактическая норма продолжает удерживаться значительно выше этого уровня (из-за того, что номинальная ставка процента не может опускаться сильно ниже нуля), то это может провоцировать хроническую стагнацию. Но все-таки ZLB — это скорее новая важная и интересная аналитическая проблема, чем принципиально новая теоретическая идея. Уже Смит и Рикардо рассматривали теоретические аспекты подобной ситуации, хотя и не считали, что она реально возможна. Да и само использование в современном макроэкономическом анализе понятия естественной нормы процента — это не более чем возврат к викселлианской теоретической схеме, отброшенной после «Общей теории» Дж. М. Кейнса. Причем возврат к ней тоже начался не сегодня: первым о его необходимости заговорил еще М. Фридман в своем знаменитом президентском обращении к Американской экономической ассоциации [Friedman, 1968].
Стоит, наконец, отметить, что случайно или нет, но затухание потока крупных теоретических новаций хронологически совпадает с произошедшим на рубеже 1980–1990-х годов так называемым эмпирическим поворотом в экономической науке, который с таким энтузиазмом приветствовался наиболее авторитетными специалистами по методологии экономического анализа [Colander, 2009][179].
Поведенческий дуализм. В последние десятилетия серьезные изменения произошли также в поведенческом («антропологическом») фундаменте экономической науки. Традиционно она исходила из представления о глубинной рациональности человеческого поведения. Базовой для всех разделов экономической теории являлась модель рационального выбора. Однако с появлением поведенческой экономики ситуация резко изменилась. Сегодня все ведущие экономисты единодушно признают исключительную важность ее идей и подходов и готовы учитывать их в своей исследовательской практике. Популярность моделей ограниченной рациональности с включением тех или иных поведенческих аномалий возрастает буквально с каждым годом.
Усвоение мейнстримом идей поведенческой экономики спровоцировало, если можно так выразиться, его «шизофреническое» раздвоение: современные экономисты начали свободно переходить от моделей с полностью рациональными к моделями с ограниченно рациональными или даже иррациональными агентами, не ощущая от этого никакого интеллектуального дискомфорта [Капелюшников, 2015]. Чаще всего учет «поведенческой» составляющей ограничивается тем, что постулируется сосуществование двух классов агентов — с полной и с ограниченной рациональностью (разработка моделей с гетерогенностью экономических агентов расценивается многими как значительный шаг вперед в развитии формальной экономической теории). И хотя благодаря поведенческой экономике современные экономисты стали ясно осознавать, что реальные люди «устроены» не совсем так или даже совсем не так, как предполагается в большинстве используемых ими моделей, они не видят здесь серьезной проблемы и не выражают озабоченности сложившимся положением дел. Насколько в том или ином случае важно и нужно учитывать отклонения от принципа рациональности, зависит от характера изучаемых проблем.
Впрочем, в длительной временно́й перспективе подобное раздвоение экономической науки (если быть более точным — ее мейнстрима) не кажется ни новым, ни уникальным [Капелюшников, 2017]. Представление о том, что модель рационального выбора всегда входила в «твердое ядро» ортодоксальной экономической теории в качестве его необходимой части, является исторической аберрацией. Сегодняшняя ситуация в экономической теории во многом воспроизводит ту, что наблюдалась в середине ХХ в. В тот период существовало достаточно четкое разделение: микроэкономика исходила из представления о рациональности, тогда как макроэкономика — из представления о нерациональности человеческой натуры. Достаточно вспомнить базовые идеи первоначального кейнсианства. В нем буквально все категории экономических агентов представали как существа, иррациональные по своей природе: рабочие страдают от денежной иллюзии; потребители движимы склонностью к потреблению, которая не имеет ничего общего с оптимизирующим поведением; инвесторы подвержены частой смене иррациональных волн оптимизма и пессимизма (animal spirit) и т. д. Сходным образом классический монетаризм с его идеей адаптивных ожиданий также допускал, что участники рынка неспособны учиться на своих ошибках и обречены повторять их снова и снова. В результате этого на протяжении многих десятилетий ХХ в. экономическая наука пребывала в очень похожем состоянии шизофренической раздвоенности: если действующими лицами в микроэкономике выступали рациональные, то в макроэкономике — нерациональные экономические агенты.
В известном смысле вся эволюция макроэкономической теории после Кейнса состояла в последовательной «рационализации» основных блоков его исходной схемы — в пошаговой замене элементов иррационального элементами рационального поведения. Завершением этого процесса стала революция рациональных ожиданий, положившая конец «двоемирию» микро- и макро-, которые стали отныне строиться на общем поведенческом фундаменте — модели рационального выбора. Можно сказать, что с этого момента последние остатки иррациональности были изгнаны из экономического анализа.
Однако унификация поведенческих основ экономической науки просуществовала недолго. Поведенческая экономика по существу вернула ее в прежнее состояние «антропологической» раздвоенности. Конечно, аналогия с более ранним эпизодом является далеко неполной [Капелюшников, 2017]. Во-первых, исходно нерациональность экономических агентов присутствовала в макроэкономических моделях в неявной форме и большинством экономистов не осознавалась. В настоящее время эта предпосылка принимается ими вполне осознанно. Во-вторых, тогда грань между рациональным и нерациональным поведением совпадала с границей, разделявший микро- и макро-. Сейчас модели с рациональными и нерациональными экономическими агентами сосуществуют внутри как микроэкономического, так и макроэкономического анализа. В-третьих, представления о нерациональности экономического поведения, использовавшиеся в кейнсианстве и монетаризме, носили достаточно произвольный характер и были лишены какого-либо надежного эмпирического основания. Поведенческая экономика такое основание предоставила. Тем не менее этот более ранний опыт ясно показывает, что состояние «поведенческой раздвоенности» не является для господствующего течения экономической мысли чем-то аномальным.
Насколько устойчива сложившаяся в сегодняшней экономической науке ситуация поведенческого «двоемирия»? Многие авторы считают ее сугубо временной, полагая, что вскоре каноническая модель рационального выбора будет окончательно вытеснена из исследовательской практики современных экономистов [Hands, 2014]. Мне такой исход не кажется слишком вероятным [Капелюшников, 2017]. Причина достаточно проста: трудно представить, как могла бы выглядеть общая теория нерационального поведения, сравнимая по широте, полноте и степени структурированности с моделью рационального выбора. Как показывает пример поведенческой экономики, исследование когнитивных искажений неизбежно распадается на анализ множества никак не связанных между собой частных кейсов. При ближайшем рассмотрении каждая такая частная модель предстает просто как каноническая модель рационального выбора с неким «бантиком» в виде той или иной поведенческой аномалии. С точки зрения аналитической стройности поведенческая экономика явно проигрывает стандартному подходу. Можно поэтому предполагать, что и в будущем методологический фундамент экономической науки будет состоять из центра в виде модели рационального выбора и периферии в виде многочисленных отступлений от нее. Маловероятно, что принцип рациональности лишится своего традиционного статуса в качестве базового методологического ориентира для экономической теории. Иными словами, «антропологический» дуализм, скорее всего, уже никогда не исчезнет из экономического анализа и навсегда останется его важнейшей отличительной чертой.
Феномен мейнстрима. Что представляет собой мейнстрим современной экономической науки? Каково его строение? Как он менялся (если менялся) с течением времени? В литературе можно встретить разные ответы на эти вопросы. Мне ближе всего позиция бельгийских исследователей М. де Врой и Л. Пенсьеросо [De Vroey, Pensieroso, 2016], считающих мейнстрим сравнительно новым явлением, которому еще нет и полувека: впервые оно заявило о себе лишь на рубеже 1970–1980-х годов. (Среди прочего это предполагает, что приписывать его существование, как нередко делают, более ранним этапам развития экономической мысли заведомо некорректно.) Социологически это не что иное, как закрытый интеллектуальный клуб с очень высокими входными барьерами. Чтобы получить в него допуск, нужно отвечать определенным жестким методологическим критериям: «несвоим» туда хода нет. Сами эти критерии были выработаны в ходе перестройки, которая в 1970-е годы шла параллельно сразу в нескольких ключевых разделах экономической науки — макроэкономике, экономике труда, теории развития, теории организации отрасли, финансовой теории, различных направлениях прикладного анализа.
М. де Врой и Л. Пенсьеросо выделяют три базовых критерия «мейнстримности», начавших с определенного момента восприниматься как обязательные: математическая формализация; наличие микрооснований (выводимость любых предлагаемых объяснений из оптимизирующего поведения индивидов); совмещение теории с измерением (открытость теоретических высказываний проверке на эмпирических данных) [Ibid.]. Уже отсюда видно, что мейнстрим — это далеко не то же самое, что повторявшееся в истории экономической мысли не раз и не два «статистическое» доминирование какой-то одной доктрины, когда ее приверженцами оказывалось большинство активно действующих экономистов.
Действительно, в прошлом та или иная теория (классическая, неоклассическая, институциональная) получала статус «ортодоксальной», если она, по общему мнению, обладала большей объяснительной силой (с чем, естественно, не соглашались сторонники конкурирующих теорий). Но с концептом «мейнстрим» ситуация сложнее: дело в том, что он несет на себе жесткие нормативные коннотации, чуждые концепту «ортодоксия». Здесь уже речь идет не просто о противопоставлении более продуктивных исследовательских подходов менее продуктивным, а об оппозиции «хорошая наука/плохая наука» или, еще жестче, — «наука/недонаука». Качество анализа начинает оцениваться не только, и подчас даже не столько, по конечным результатам (хотя и по ним, конечно, тоже), сколько по исходным чисто формальным признакам.
По сути термин «мейнстрим» обозначает определенное стилистическое, но не содержательное единство, как это было в случае с термином «ортодоксия». Членами клуба избранных становятся лишь те, кто готов и способен следовать принятому методологическому (но не идейному!) канону. Правда, на первых порах из-за присутствия в числе обязательных критериев требования микрооснований многие ошибочно полагали, что мейнстрим — это всего лишь очередная инкарнация неоклассики. Однако в ходе последующей эволюции, связанной с размыванием исходной жесткости соответствующих нормативных предписаний, стало очевидно, что это не так и что ни о каком тождестве мейнстрима с неоклассической теорией говорить нельзя.
Мутация шла по нескольким направлениям: требование актуальной математической формализации сменилось требованием потенциальной математической формализации (вполне достаточно, если искушенный читатель будет понимать, что изложенная в работе «история» при необходимости может быть представлена в виде формальной модели); требование микрооснований сохранилось, но утеряло жесткую привязку к идее оптимизирующего поведения: равно допустимой стала считаться апелляция к альтернативным представлениям о человеческом поведении, выработанным поведенческой экономикой; в связке «теория + измерения» первый элемент перестал быть строго обязательным и на передний план вышли чисто фактуальные, атеоретические исследования (мы уже говорили подробно об этом выше).
В схематическом виде «анатомия» современной экономической науки представлена на рис. X.1. Мейнстримные ячейки на нем заштрихованы. Внутри самого мейнстрима просматриваются два больших блока: условно — «неоклассический» (микроэкономика, неовальрасианский анализ, теория цикла, теория роста, различные прикладные субдисциплины) и условно — «атеоретический» (лабораторные эксперименты, полевые эксперименты, квазиэкспериментальные исследования). На месте авторов этой схемы я, наверное, заштриховал бы еще три ячейки — эконометрики, теории игр и клиометрики (экономической истории). Но и без всяких добавок видно, насколько велика степень внутренней неоднородности того, что называют экономическим мейнстримом: сегодня он предстает как конгломерат разнородных исследовательских программ, объединенных лишь некими общими нормативными представлениями о том, что такое «хорошая наука».
Рис. X.1. Место мейнстрима в современной экономической науке
Источник: [De Vroey, Pensieroso, 2016].
Глядя на рис. X.1, мы можем констатировать резко возросший концептуальный плюрализм внутри ядра экономической науки (по сравнению, скажем, с ситуацией, наблюдавшейся в 1980-е годы). Так, типичными представителями мейнстрима являются, с одной стороны, Ю. Фама, автор гипотезы эффективного рынка, и, с другой — Р. Шиллер, решительно ее отвергающий: и тот и другой пользуются в сообществе экономистов безусловным авторитетом; на работы и того и другого имеется огромное число ссылок; и тот и другой удостоены Нобелевской премии по экономике. Еще одна иллюстрация того же: сегодня в мейнстримном анализе, как мы могли убедиться, одинаково широко используются как модели с рациональными, так и модели с нерациональными экономическими агентами. Примеры сосуществования в его рамках прямо противоположных теоретических установок можно было бы множить и множить.
Похоже, что если внутри экономической науки взятой как целое концептуальный плюрализм ослаб (вследствие резко возросших барьеров между ортодоксальными и гетеродоксальными подходами), то внутри ее ядра, напротив, усилился! Сегодня традиционное противостояние «неоклассика versus антинеоклассика» во многом утратило значение, а главные линии разлома переместились внутрь самого мейнстрима. В последние десятилетия он перестал быть чисто неоклассическим, сместившись в сторону существенно большего разномыслия.
Но как долго может сохраняться подобное состояние? Некоторые авторы предрекают, что уже в скором времени последние остатки неоклассики будут окончательно и бесповоротно изгнаны из экономического анализа [Davis, 2006; 2008]. Мне такая перспектива не кажется правдоподобной. Дело в том, что неоклассическая теория по-прежнему составляет фундамент экономического образования, и трудно представить, чтó ее в этом качестве могло бы заменить. Но если она и впредь будет формировать мышление экономистов, то тогда едва ли реально ожидать ее исчезновения или хотя бы вытеснения за пределы мейнстрима.
Идеология на марше. Говоря о социологических, эпистемологических и методологических особенностях экономической науки, нельзя обойти стороной и такой «скользкий» вопрос, как доминирующие политические предпочтения современных экономистов. Их идеологические ориентации прямо или косвенно отражаются и на выборе проблем, которые они берутся исследовать, и на нормативных выводах, к которым они приходят, и на практических рекомендациях, которые они дают государству. (Хотя следует, конечно, признать, что проследить случаи вторжения идеологических установок в научный дискурс бывает очень непросто.)
Удобнее всего проблему политических предпочтений современных экономистов анализировать на примере США. Почему? Во-первых, потому что американская экономическая наука — «крейсер» мировой экономической науки, подавляющее большинство наиболее известных и авторитетных ученых-экономистов работают сегодня в университетах США. Во-вторых, потому что американская политическая система позволяет легко идентифицировать идеологическую принадлежность человека — исходя из того, какую из двух главных партий страны он склонен поддерживать. Наконец, большинство существующих исследований, посвященных идеологическим установкам современных экономистов, строятся на данных по США [Klein, Stern, 2007; Klein et al., 2013; Langbert et al., 2016].
Все указывает на то, что в последние десятилетия экономическая наука вслед за другими социальными дисциплинами становилась идеологически все более и более гомогенной. По данным опроса 2016 г., в настоящее время соотношение между сторонниками демократов и республиканцев среди университетских экономистов составляет 4,5:1 [Langbert et al., 2016]. Еще 10 лет назад разница была намного меньше — 2,7:1 [Klein, Stern, 2007]. При этом среди экономистов моложе 35 лет преобладание сторонников демократической партии оказывается вдвое выше — 9:1 [Langbert et al., 2016]. Конечно, экономистам пока еще далеко до историков, где аналогичная пропорция оставляет 34:1 (журналисты — 20:1; психологи — 17:1; юристы — 9:1). Тем не менее тренд ко все большей идеологической однородности экономической профессии налицо. Существует опасность, что это может отрицательно сказаться на конкуренции идей внутри сообщества экономистов и при определенных условиях даже привести к серьезным ограничениям свободы мысли. Идеологический диктат внутри академии — достаточно реальная перспектива, которая не сулит экономической науке в будущем ничего хорошего. С практической точки зрения устойчивое возрастание доли экономистов с левыми или полулевыми политическими взглядами означает, что в ближайшие десятилетия нам предстоит, по-видимому, стать очевидцами ползучего усиления государственного вмешательства в экономику, причем в самых разнообразных, подчас неожиданных формах[180].
Макро- после Великой рецессии. Обращусь, наконец, к исходному вопросу: так все же триумф или кризис? Здесь важно иметь в виду, что зазвучавшие во время и после Великой рецессии заявления о глубоком кризисе экономической теории на самом деле адресовались лишь одному из ее разделов — макроэкономике (среди экономистов не самого котируемого). Даже если все обстоит так, как утверждают критики, даже если макроэкономическая теория действительно находится сегодня в тупике, отсюда еще не следует, что интеллектуальное бесплодие поразило всю экономическую науку. Как остроумно заметил один автор, макроэкономика — это самый «гламурный» раздел экономической теории, поскольку в поле зрения и политиков, и широкой публики попадает, как правило, он и только он [Korinek, 2015]. Отсюда — неиссякающий поток гипертрофированных, политизированных, эмоционально нагруженных оценок, которыми на рубеже 2000–2010 гг. оказались переполнены массмедиа во всем мире. Но такие оценки, рассчитанные на привлечение внимания публики, не обязательно будут верными.
Под влиянием шока от никем не прогнозировавшегося мирового экономического кризиса 2008–2009 гг. излюбленным объектом критики как профессионалов, так и непрофессионалов стала основная «рабочая лошадь» современного макроэкономического анализа — динамическая стохастическая модель общего равновесия (dynamic stochastic general equilibrium model — DSGE), с использованием которой сегодня строится подавляющее большинство исследований по макроэкономическим проблемам. Каковы же главные претензии, которые ей предъявляются?
Одна из наиболее популярных — нереалистичность. Но подобная претензия как минимум не вполне корректна. Модели DSGE являются «счетными» и при их калибровке за основу принимаются усредненные эмпирические оценки, которые следуют из имеющихся микроэкономических исследований по тем или иным конкретным проблемам (скажем, оценки эластичности предложения труда по заработной плате). В этом смысле для моделей DSGE характерна как раз таки установка на реалистичность, по крайней мере если говорить об исходных интенциях.
Но тогда, возможно, критики выступают с предложениями заменить модели DSGE нединамическими моделями? Нет. Вернуться к нестохастическим моделям, где нет места для неопределенности? Нет. Отказаться от учета «общеравновесных» эффектов (допустим, перейти к моделям частичного равновесия)? Тоже нет. Как ни странно, почти никто из критиков не «покушается» сегодня на ключевые конструктивные особенности моделей DSGE, которые даже ими воспринимаются как несомненные свидетельства серьезного научного прогресса [Reis, 2018]. Речь идет не столько об отказе от них, сколько об их дополнении и усложнении.
Пожалуй, основной посыл методологической критики моделей DSGE сводится к тому, что они абстрагируются от ряда важных функциональных характеристик экономической системы. Если попытаться суммировать предложения по совершенствованию моделей DSGE, которые встречаются чаще всего и пользуются наибольшей популярностью, то их список мог бы выглядеть примерно так: 1) отказ от идеи репрезентативного агента и учет гетерогенности домохозяйств; 2) раздельная трактовка потребительских предпочтений, относящихся к разным классам благ (товарам краткосрочного пользования, товарам длительного пользования, жилью); 3) переход от упрощенных моделей с агентами, имеющими бесконечный срок жизни, а следовательно, бесконечный горизонт планирования, к более сложным моделям с агентами, имеющими конечный срок жизни, а следовательно, конечный горизонт планирования; 4) отказ от предпосылки рациональных ожиданий и признание неполной рациональности экономических агентов; 5) замена (полная или частичная) экспоненциального дисконтирования гиперболическим; 6) учет не только шоков производительности, но также источников неопределенности, имеющих иную природу; 7) интеграция в макроэкономические модели финансового сектора; 8) учет эффектов экономического неравенства; 9) учет вероятного искажающего влияния налогов и государственных расходов; 10) более полный учет роли денег [Ibid.][181]. Но, как подчеркивает Р. Рейс, если говорить не об учебниках по макроэкономике, а об исследованиях, находящихся на переднем крае науки, то в них попытки учета всех перечисленных факторов начались еще до наступления Великой рецессии и продолжались после нее [Ibid.].
В этом смысле ни о каком концептуальном разрыве между докризисным и посткризисным периодами говорить не приходится. Да, кризис привел к резкому расширению проблемного поля макроэкономического анализа: причины и механизмы Великой рецессии, оценка последствий политики количественного смягчения, особенности поведения экономики в условиях ZLB — это и многое другое стало предметом активного обсуждения. Однако совершенствование аналитического аппарата макроэкономической теории шло в посткризисный период по тем же самым направлениям, что и в докризисный. Если сравнивать с тем, какое огромное влияние оказали на нее Великая депрессия и стагфляция, то «интеллектуальный» эффект Великой рецессии придется признать близким к нулю[182]. Никакого поворота в принципиально иное теоретическое русло, как это было в 1930-е и затем в 1970-е годы, не произошло: сместились акценты, расширился круг проблем, изменилась атмосфера дискуссий (убавилось самоуверенности), но общая концептуальная рамка и базовый аналитический аппарат остались прежними. Органическое продолжение тенденций, начавших действовать еще задолго до Великой рецессии, означает, что сами экономисты (подчас вопреки собственным декларациям) явно не верят в то, что макроэкономическая теория находится в кризисном состоянии.
Возможно, более серьезные проблемы связаны не с концептуальными ограничениями, присущими моделям DSGE, а с существованием негласных правил их практического применения [Korinek, 2015]. Стандартная схема работы с ними включает три основных этапа: на первом этапе устанавливаются исходные стилизованные факты, т. е. для временны́х рядов макроэкономических переменных, выбранных исследователем, оцениваются те или иные статистические характеристики (такие как стандартное отклонение, авторегрессия, ковариация и т. д.); на втором этапе для тех же самых переменных строится модель DSGE, которая подвергается серии стохастических шоков, генерируемых неким заданным процессом; на третьем этапе производится сравнение статистических характеристик фактических и симулированных временны́х рядов с целью определить степень их близости (качество подгонки) и, если она оказывается высокой, модель объявляется успешной (она «объясняет» стилизованные факты).
Однако при более близком рассмотрении подобная исследовательская стратегия оказывается в значительной мере произвольной и конвенционалистской, т. е. базирующейся на неявной договоренности внутри сообщества макроэкономистов, что считать «хорошей» практикой, а что «плохой»; что есть «норма», а что нет; что признавать, а что не признавать «наукой». Так, не существует никаких объективных критериев, исходя из которых можно было бы установить, какие статистические характеристики избранных исследователем макроэкономических переменных должны учитываться в анализе, а какие нет. Это — зона чистой конвенции (иными словами, произвольного исследовательского выбора). Точно так же не существует никаких общепринятых статистических тестов, которые позволяли бы строго объективно оценивать степень близости фактических и симулированных временных рядов. Очень часто это делается вообще на глазок: на график наносятся две кривые и читатель должен сам решать, соглашаться ли ему с тем, что перед ним «хорошая» подгонка, или нет. Неприятности на этом не заканчиваются: добавив к уже включенным в модель переменным еще одну, можно улучшить подгонку для них, но при этом ухудшить ее для переменных, которые остались за рамками модели. Как следует поступать в такой ситуации, остается неясным. Наконец, нужно иметь в виду, что последовательно увеличивая число учитываемых в модели переменных, всегда можно дойти до порога, за которым ее «хорошая» подгонка сменится «плохой» [Ibid.].
Экономистами, использующими модели DSGE, все эти условности проговариваются редко и крайне неохотно. Но невнимание к ним может становиться источником серьезной дезориентации как при интерпретации получаемых результатов, так и при выработке на их основе рекомендаций для экономической политики. В плане методологии столь своеобразная исследовательская практика заставляет даже задуматься, к чему макроэкономика DSGE ближе — к науке или искусству?
И в заключение — вновь к исходному вопросу. Как мне кажется, из представленных в этих заметках наблюдений следует достаточно тривиальный вывод, куда менее драматичный и сенсационный, чем можно сегодня зачастую услышать. То, что мы видим в настоящее время в экономической науке, трудно назвать триумфом, но трудно назвать и кризисом: это — будничное рабочее состояние. Правда, надо признать, не слишком вдохновляющее, сильно регуляризированное и не сулящее больших концептуальных прорывов, если я прав в том, что эпоха новых крупных теоретических идей в экономической науке миновала, что крен в сторону атеоретичности будет в ней только усиливаться и что чем дальше, тем все более интервенционистской она будет становиться.
ЛИТЕРАТУРА
Капелюшников Р. Стратегии поведенческой экономики // Науки о человеке. История дисциплин / под ред. А. Н. Дмитриева, И. М. Савельевой. М.: Изд. дом ВШЭ, 2015.
Капелюшников Р. Статус принципа рациональности в экономической теории: прошлое и настоящее // Журнал Новой экономической ассоциации. 2017. № 2. С. 162–166.
Фуркад М., Ольон Э., Альган Я. Превосходство экономистов // Вопросы экономики. 2015. № 7. С. 45–72 (Fourcade M., Ollion E., Algan Y. The Superiority of Economists // Journal of Economic Perspectives. 2015. Vol. 29. No. 1. P. 89–114).
Almond D., Mazumder B. Health Capital and the Prenatal Environment: The Effect of Ramadan Observance During Pregnancy // American Economic Journal: Applied Economics. 2011. Vol. 3. No. 4. P. 56–85.
Angrist J., Pischke J.-S. The Credibility Revolution in Empirical Economics: How Better Research Design Is Taking the Con out of Econometrics / NBER Working Papers. No. 15794. Cambridge, MA: NBER, 2010.
Backhouse R., Cherrier B. The Age of the Applied Economist: The Transformation of Economics since the 1970s // History of Political Economy. 2017. Vol. 49. No. 5. P. 1–33. -of-the-applied-economist-the-trans formation-of-economics-since-the-1970s/oclc/1022949142.
Buchanan J. The Constitution of Economic Policy // American Economic Review. 1987. Vol. 77. No. 3. P. 243–250.
Card D., Krueger A. B. Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast Food Industry in New Jersey and Pennsylvania // American Economic Review. 1994. Vol. 84. No. 4. P. 772–793.
Colander D. In Praise of Modern Economics // Eastern Economic Journal. 2009. Vol. 35. No. 1. P. 10–13.
Das T., Polachek S. W. Micro Foundations of Earnings Differences / IZA Discussion Paper Series. DP No. 10922. Bonn: IZA, 2017.
Davis J. B. The Turn in Economics: from Neoclassical Dominance to Mainstream Pluralism // Journal of Institutional Economics. 2006. Vol. 2. No. 1. P. 1–20.
Davis J. B. The Turn in Recent Economics and Return of Orthodoxy // Cambridge Journal of Economics. 2008. Vol. 32. No. 4. P. 349–366.
De Vroey M., Pensieroso L. The Rise of a Mainstream in Economics / IRES Discussion Paper. No. 2016–26. Louvain: Université Catholique de Louvain, 2016.
Duflo E., Hanna R. Monitoring Works: Getting Teachers to Come to School / NBER Working Papers. No. 11880. Cambridge, MA: NBER, 2005.
Friedman M. The Role of Monetary Policy // American Economic Review. 1968. Vol. 58. No. 1. P. 1–17.
Hands D. W. Normative Ecological Rationality: Normative Rationality in the Fast-And-Frugal-Heuristics Research Program // Journal of Economic Methodology. 2014. Vol. 21. No. 4. P. 396–410.
Klein D. B., Stern Ch. Is There a Free-Market Economist in the House? The Policy Views of American Economic Association Members // American Journal of Economics and Sociology. 2007. Vol. 66. No. 2. P. 309–344.
Klein D. B., Davis W. L., Hedengren D. Economics Professors’ Voting, Policy Views, Favorite Economists, and Frequent Lack of Consensus // Econ Journal Watch. 2013. Vol. 10. No. 1. P. 116–125.
Korinek A. Thoughts on DSGE Macroeconomics: Matching the Moment, but Missing the Point? 2015. -DSGE-Macro-Essay.pdf.
Krugman P. Good Enough for Government Work? Macroeconomics since the Crisis // Oxford Review of Economic Policy. 2018. Vol. 34. No. 1–2. P. 156–168.
Langbert M., Quain A. J., Klein D. B. Faculty Voter Registration in Economics, History, Journalism, Law, and Psychology // Econ Journal Watch. 2016. Vol. 13. No. 3. P. 422–451.
Pekkala Kerr S., Kerr W. R. Economic Impacts of Immigration: A Survey // Finnish Economic Papers. 2011. Vol. 24. No. 1. P. 1–32.
Reis R. Is Something Really Wrong with Macroeconomics? // Oxford Review of Economic Policy. 2018. Vol. 34. No. 1–2. P. 132–155.
Wren-Lewis S. Ending the Microfoundations Hegemony // Oxford Review of Economic Policy. 2018. Vol. 34. No. 1–2. P. 55–69.
Неравенство
XI Неравенство: как не примитивизировать проблему[183]
Обсуждение вопросов неравенства стремительно набирает популярность. Во всем мире слово «неравенство» не сходит со страниц газет и экранов телевизоров, по этой теме ежегодно публикуются тысячи книг и статей — как академических, так и публицистических. Широкой публике внушается мысль, что экономическое неравенство — это главное зло, с которым сталкиваются современные общества. Бывший президент США Б. Обама объявил неравенство ключевым вызовом, стоящим перед нацией. Политики всех стран, чтобы привлечь голоса избирателей, рассуждают о недопустимости существующих контрастов между богатыми и бедными. Ведущие международные организации — Всемирный банк, МВФ, МОТ — заказывают и публикуют десятки специальных исследований, с разных сторон рассматривающие феномен экономического неравенства. В оборот вводятся все новые статистические данные о распределении доходов и богатства. С невероятной быстротой множится число посвященных этой проблеме научных работ. Книги о неравенстве становятся мировыми бестселлерами («Капитал в XXI веке» Т. Пикетти). Известные экономисты выступают с предложениями введения конфискационных налогов на доходы наиболее состоятельных групп граждан. Многие видят в радикальном сокращении неравенства единственно возможное средство, способное оживить экономический рост. Ожесточенные дебаты по этой проблеме ведутся сегодня и в России.
Однако на волне возникшей ажитации легко утратить ориентиры и забыть об академических критериях научной строгости. Едва ли поэтому удивительно, что в новейших дискуссиях о неравенстве мы встречаемся со множеством ошибок, вольных или невольных искажений, неоправданных преувеличений. Многие из них носят повторяющийся характер и воспроизводятся из публикации в публикацию. Это заставляет предполагать, что они не являются случайными, а связаны с объективными трудностями, которые возникают при изучении такой сложной проблемы, как неравенство. В подобной ситуации, наверное, будет нелишним попытаться выявить и проанализировать наиболее типичные из этих ошибок с тем, чтобы, насколько возможно, избегать их в дальнейших обсуждениях.
Удобный материал для такого анализа дает недавняя статья К. Джомо и В. Попова под названием «Долгосрочные тенденции в распределении доходов» [Джомо, Попов, 2016], где отчетливо представлен едва ли не весь спектр таких типичных, кочующих из публикации в публикацию суждений и оценок[184]. Специально оговорюсь, что предлагаемый разбор не следует воспринимать как критику, направленную конкретно на эту работу: у него значительно более широкий адресат, поскольку большое число исследователей, публицистов и комментаторов мыслят примерно так же, как ее авторы.
Как видно из названия статьи К. Джомо и В. Попова, она посвящена анализу мировых долгосрочных тенденций в структуре распределения доходов. Сначала авторы приводят данные различных исследований, иллюстрирующих хорошо известные факты снижения показателей экономического неравенства в период 1930/1940–1970/1980 гг. и их последующего повышения в ряде развитых стран в более поздний период, а затем предлагают «возможные объяснения» такой динамики. Из их анализа вырисовывается устрашающая, если не сказать апокалиптическая картина: глобальное неравенство растет; неравенство внутри отдельных стран достигло пиковых по историческим меркам значений; вознаграждение топ-менеджеров компаний в сотни раз превышает заработки среднего работника; в развитых странах реальная заработная плата стагнирует в течение уже нескольких десятилетий; безработица находится на высоком уровне; социальная мобильность остается низкой; доля капитала в национальном доходе непомерно высока, а доля труда неоправданно низка; растущее экономическое неравенство обескровливает экономический рост; по всему фронту идет контрнаступление капитала, а организованный социальный протест отсутствует; эскалация неравенства в странах Запада стала следствием исчезновения противовеса в виде системы мирового социализма; современный капитализм все больше теряет «человеческое лицо»; уже в ближайшее время дальнейшее нарастание неравенства чревато острейшими социальными конфликтами, а в перспективе — даже революциями и разрушением целых наций; выход из создавшейся ловушки возможен только при условии проведения государством специальной политики, направленной на радикальное сокращение экономического неравенства.
Мне подобное описание проблемы представляется упрощенным и явно тенденциозным. И в исследовательском, и в нормативном смысле ситуация далеко не так однозначна, как пытаются ее представить К. Джомо и В. Попов. Здесь, наверное, надо сразу предупредить, что мои комментарии к их работе будут вынужденно носить несколько «кусочный» характер, поскольку, следуя за аргументацией авторов, мне придется все время перепрыгивать с предмета на предмет. Итак, по пунктам.
1. . Измерение. К. Джомо и В. Попов оперируют различными показателями неравенства так, как если бы они означали одно и то же и всегда рассказывали одну и ту же историю. «Встык», сплошным потоком у них идут оценки неравенства в рыночных доходах, неравенства в располагаемых доходах (после вычета налогов и перечисления трансфертов) и неравенства в богатстве; показатели распределения доходов между индивидами никак не разводятся с показателями распределения доходов между домохозяйствами.
Но неравенство в рыночных доходах — это не то же самое, что неравенство в располагаемых доходах; неравенство в денежных доходах — это не то же самое, что неравенство в полных доходах (с учетом поступлений в натуральной форме); неравенство в доходах — это не то же самое, что неравенство в расходах (потреблении); неравенство в богатстве (отражает различия в прошлых накоплениях) — это не то же самое, что неравенство в доходах (отражает различия в текущих или будущих поступлениях); неравенство в текущих доходах — это не то же самое, что неравенство в пожизненных доходах; неравенство в распределении доходов между индивидами — это не то же самое, что неравенство в распределении доходов между домохозяйствами (в последнем случае огромную роль начинают играть демографические факторы — изменения в структуре семьи, в сортировке супругов по сходству (assortative mating), когда более состоятельные мужчины вступают в брак с более состоятельными женщинами, и т. д.) или между налогоплательщиками (tax-filing units), в качестве которых обычно выступают частично семьи, частично индивиды; проблема неравенства — это не то же самое, что проблема бедности (в последние десятилетия во многих странах неравенство росло, а бедность практически повсеместно сокращалась); персональное распределение доходов — это не то же самое, что функциональное распределение доходов (между факторами производства). Показатели, характеризующие различные формы экономического неравенства, могут отличаться не только по величине, но также по темпам и направленности изменений. Как следствие, картины, которые они рисуют, могут быть далеко не идентичными, и с этим необходимо считаться. Однако какие-либо упоминания об этом критически важном обстоятельстве у К. Джомо и В. Попова отсутствуют.
Существуют веские теоретические основания считать наиболее корректными оценки, относящиеся к неравенству в потреблении (о чем в работе К. Джомо и В. Попова нет ни слова), поскольку аргументами в функциях полезности индивидов, как вполне понятно, выступают количества потребляемых ими благ, а не величины получаемых ими доходов [Attanasio, Pistaferri, 2016]. Иными словами, исходя именно из этих оценок можно точнее всего представить, насколько велики различия в благосостоянии между отдельными людьми или домохозяйствами. Показатели доходов и потребления будут расходиться, во-первых, когда часть доходов сберегается, и, во-вторых, когда индивиды прибегают к заимствованиям. Это может становиться источником существенного сглаживания неравенства в потреблении по сравнению с неравенством в доходах. Согласно оценкам, относящимся к США, уровень неравенства в потреблении примерно вдвое ниже уровня неравенства в доходах [Krueger, Perri, 2006]. Кроме того, динамика неравенства в потреблении, как правило, значительно более инерционна, чем динамика неравенства в доходах. Так, в США за период 1982–2005 гг. коэффициент вариации в доходах вырос на 0,27 лог-пункта, тогда как коэффициент вариации в уровнях потребления — лишь на 0,10–0,18 лог-пункта [Attanasio, Pistaferri, 2016].
Хорошо известно также, что оценки неравенства в пожизненных доходах корректнее и информативнее оценок неравенства в текущих доходах (например, годовых). Происходит это по двум основным причинам. Во-первых, многие индивиды испытывают сильные колебания в доходах от одного года к другому. Для более длительных периодов времени эти колебания в значительной мере взаимопогашаются (в прошлом году доход у индивида А вырос, а у индивида B опустился; в следующем году, наоборот, у А он упал, а у B увеличился). В результате такого сглаживания краткосрочных колебаний неравенство в пожизненных доходах оказывается на 20–30 % меньше неравенства в текущих доходах [Bowlus, Robin, 2012]. Во-вторых, неравенство в текущих доходах неизбежно превосходит неравенство в пожизненных доходах, так как при оценивании по состоянию на какой-либо данный момент времени мы сравниваем индивидов, находящихся на разных стадиях жизненного цикла: у каждой когорты доходы низки в молодости, возрастают в зрелые годы и вновь снижаются в старости. Поскольку показатели неравенства в пожизненных доходах свободны от искажающего влияния фактора возраста, они, естественно, оказываются намного ниже. По оценкам, относящимся к Швеции, дисперсия пожизненных доходов составляет всего лишь 35–40 % от дисперсии годовых доходов [Björklund, 1993].
Здесь же стоит отметить, что корреляция, наблюдаемая между двумя основными формами неравенства — в доходах и в богатстве, как ни странно, является достаточно слабой. Оценки, полученные на микроданных по США, свидетельствуют, что она составляет не более 0,55–0,60 [Keister, Moller, 2000; Budría et al., 2002]. Существует группа стран, отличающихся чрезвычайно низким неравенством в распределении доходов, но при этом сверхвысоким неравенством в распределении богатства: это — Дания и Швеция [Berman et al., 2016]. Не удивительно поэтому, что, как показывают расчеты, даже очень сильное увеличение неравенства в распределении доходов почти не отражается на неравенстве в распределении богатства, изменения в котором находятся под определяющим воздействием другого фактора — изменений в сберегательном поведении населения [Ibid.].
В недавней работе Э. Ауэрбаха с соавторами [Auerbach et al., 2016] на данных по США было наглядно показано, что пожизненные расходы действительно распределяются гораздо более равномерно, чем богатство или текущие доходы. Так, в возрастной когорте 40–49 лет на долю верхнего 1 % в настоящее время приходится почти 20 % совокупного богатства этой группы, 13 % совокупных текущих доходов, но менее 10 % совокупных пожизненных расходов[185]. Для нижнего квинтиля аналогичные оценки составляют соответственно 1,5; 4 и 7 %. Примерно такие же расхождения между показателями, характеризующими масштабы неравенства в распределении богатства, текущих доходов и пожизненных расходов, наблюдаются и по всем остальным возрастным группам.
Отсюда видно, как опасно судить о неравенстве в благосостоянии людей по стандартным показателям, чаще всего попадающим в поле зрения исследователей. Они преувеличивают его реальные масштабы как минимум вдвое[186]. Строго говоря, не вполне даже понятно, почему мы вообще должны обращать большое внимание на дисперсию такого промежуточного индикатора, как текущие денежные доходы.
2. . Динамика. По мнению К. Джомо и В. Попова, «многие страны… либо уже достигли самого высокого неравенства за всю историю, либо быстро двигаются в этом направлении» [с. 148], а в развитых странах «доходное и имущественное неравенство из-за бурного роста в последние 30 лет уже приближается или даже превышает пиковые значения XIX — начала XX в.» [с. 148]. Но это безусловное преувеличение, поскольку подобный вывод не подтверждается даже теми данными, на которые ссылаются они сами [с. 147–148]. На представленных в их работе графиках, будь то доля самых богатых семей в совокупных доходах домохозяйств или же коэффициент Джини, мы видим примерно одну и ту же, достаточно хорошо известную картину: сохранение неравенства по доходам на высоком плато где-то до начала 1930-х годов (с известными колебаниями), резкое снижение на протяжении 1930–1970-х годов и умеренный рост в последующие десятилетия. Никакого возврата к пиковым значениям конца XIX — начала XX в. углядеть на них при всем желании не удается: очевидно, что по историческим меркам глубина неравенства в развитых странах продолжает оставаться относительно небольшой.
На даже эта картина является далеко не универсальной. В разных группах стран долговременные траектории изменения доходного неравенства (если судить о нем по доле верхнего 1 % семей в совокупных доходах) были очень различными [Alvaredo, 2011]. В англосаксонских странах оно снижалось примерно до середины 1970-х годов, а затем вновь пошло вверх, вернувшись в начале XXI в. к показателям начала — середины 1950-х годов (рис. XI.1). В странах континентальной Европы и Японии снижение продолжалось примерно до 1950 г. при отсутствии каких-либо заметных изменений в течение всего последующего периода (рис. XI.2). В Скандинавии и странах Южной Европы очень сильное падение неравенства шло примерно до 1980-х годов, после чего в них обозначился небольшой повышательный тренд (рис. XI.3). В большинстве развивающихся стран неравенство быстро снижалось до 1970–1980-х годов, выйдя затем на плато в одних и начав возрастать в других (рис. XI.4)[187].
Рис. XI.1. Динамика доли верхнего 1 % в совокупных доходах, англосаксонские страны, 1900–2010 гг.
Источник: [Alvaredo, 2011].
Рис. XI.2. Динамика доли верхнего 1 % в совокупных доходах, страны континентальной Европы и Япония, 1900–2010 гг.
Источник: [Alvaredo, 2011].
В США откат в показателях неравенства был, по-видимому, одним из самых сильных, но при этом, по данным американского Бюро цензов, тенденция к устойчивому повышению коэффициента Джини по доходам на протяжении нескольких последних десятилетий наблюдалась только для домохозяйств (рис. XI.5), а для индивидов после 1960 г. он удерживался практически на одном и том же уровне — чуть выше 0,5 [Kitov, Kitov, 2013]. Это предполагает, что возросшее неравенство в распределении доходов, о котором обычно говорят, в первую очередь отражает изменения в структуре американских домохозяйств. Возникает вопрос: почему рост неравенства между домохозяйствами должен быть предметом какой-то особой озабоченности, если верно, что неравенство между индивидами уже несколько десятилетий почти не менялось (на деле — даже снижалось, поскольку оценки Бюро цензов США строятся до вычета налогов)[188]?
Рис. XI.3. Динамика доли верхнего 1 % в совокупных доходах, Скандинавские страны и страны Южной Европы, 1900–2010 гг.
Источник: [Alvaredo, 2011].
Строго говоря, работа К. Джомо и В. Попова посвящена неравенству в распределении доходов, но поскольку они ссылаются также и на рост неравенства в распределении богатства, имеет смысл сказать несколько слов и о нем. И в этом случае никакого возврата к пиковым значениям мы не наблюдаем. Так, по данным Т. Пикетти, в США доля совокупного богатства, принадлежащего верхнему 1 % семей, выросла с примерно 25 % в 1800 г. до 45 % в 1920 г., затем снизилась до 30 % в 1970 г., после чего выросла до 35 % в 2010 г. Аналогичные оценки по Великобритании: 1800 г. — примерно 55 %; 1920 г. — 70 %; 1970 г. — 22 %; 2010 г. — 27 %. Франция: 1800 г. — примерно 45 %; 1920 г. — 60 %; 1970 г. — 22 %; 2010 г. — 25 % [Jones, 2015, p. 35]. Во всех трех случаях прирост за 1970–2010 гг. составил не более 3–5 п.п. (рис. XI.6). В результате, несмотря на небольшое повышение, неравенство в распределении богатства во всех этих странах по-прежнему остается на невысоком по историческим меркам уровне.
Рис. XI.4. Динамика доли верхнего 1 % в совокупных доходах, развивающиеся страны, 1900–2010 гг.
Источник: [Alvaredo, 2011].
Более того, возможно, что в случае США даже этот прирост на 5 п.п. является фикцией. Критики Т. Пикетти обратили внимание, что при конструировании своих оценок он занимался активным «массажем» данных, используя странные усреднения и передатировки. Если же обратиться к исходным данным, на которые он опирался, не подвергая их никаким «улучшениям», то тогда для периода 1970–2010 гг. весь прирост доли богатства, принадлежащего верхнему 1 % семей, испаряется [Magness, Murphy, 2015; Kopczuk, 2015]. Любопытна реакция Т. Пикетти на эту критику. Он не стал защищать свои расчеты, а вместо этого начал ссылаться на новые — по его утверждению, более точные — оценки Э. Саеца и Г. Зюкмана, согласно которым за последние десятилетия доля верхнего 1 % семей в совокупном богатстве США выросла даже сильнее, чем показано в его книге, — на 10 п.п. [Saez, Zucman, 2015].
Рис. XI.5. Коэффициент Джини по доходам для домохозяйств, семей и индивидов, США, 1947–2012 гг.
Источник: [Kitov, Kitov, 2013; The Major Trends, 2013].
Дело в том, что в статистической практике существует три альтернативных метода измерения богатства. Первый основывается на данных выборочных обследований финансового положения домохозяйств (в США такие обследования раз в три года проводит ФРС). Второй опирается на информацию налоговых служб об уплаченных налогах на наследство (с помощью специальных статистических процедур эти данные, относящиеся к скончавшимся в том или ином году индивидам, распространяются затем на все население). В третьем используются данные налоговых служб о доходах от капитала: оценки запасов богатства получаются путем капитализации текущего потока этих доходов. Каждый из трех методов имеет свои достоинства и ограничения.
Рис. XI.6. Динамика доли верхнего 1 % в совокупном богатстве: Великобритания, США и Франция, 1800–2010 гг.
Источник: [Jones, 2015].
Оценки, которыми оперировал Т. Пикетти, были получены с использованием первых двух методов — опросного и налогового. Э. Саец и Г. Зюкман использовали метод капитализации, и только он продемонстрировал значительный рост имущественного расслоения. Однако многие специалисты подвергают метод капитализации жесткой критике, считая его наименее надежным из всех [Kopczuk, 2015][189]. В любом случае мы как минимум можем говорить, что в случае США два метода измерения богатства из трех вообще не фиксируют никакого прироста неравенства в распределении богатства в конце XX — начале XXI в.
3. . Возможные драйверы. Вопреки обещаниям К. Джомо и В. Попова, мы не находим в их работе развернутого анализа причин, которыми могла бы объясняться наблюдаемая динамика неравенства. В долгосрочном плане все их объяснения сводятся к указанию на один-единственный фактор: влияние социалистической системы (впрочем, в краткосрочном плане признается действие и некоторых других факторов — изменений в условиях торговли, переводов от мигрантов и т. д.). Нам сообщают, что рост мирового социализма заставил «многие капиталистические страны провести реформы, способствовавшие более равномерному распределению доходов», а исчезновение сдержек и противовесов в лице социалистических стран привело к развороту на 180 градусов [с. 116][190]. Таким образом, единственным агентом, от которого зависит долгосрочная динамика неравенства, оказывается государство: при желании (например, из страха перед социализмом) оно его ограничивает, при отсутствии желания (например, из-за исчезновения страха перед социализмом) позволяет ему расти.
Начнем с того, что предложенное объяснение не слишком хорошо согласуется с хронологией поворотных точек в динамике неравенства в развитых странах: понижательный тренд в ней обозначился не после революции в России, а после Великой депрессии 1930-х годов; понижательная траектория сменилась повышательной не после краха социализма, а за полтора десятилетия до этого. Еще важнее, что оно имплицитно предполагает, что ни с какими объективными процессами эволюция экономического неравенства заведомо не связана. Технологический прогресс, демографические сдвиги, изменения в структуре рабочей силы, глобализация мировой экономики — все это де-факто выносится за скобки.
Наверное, наибольшим авторитетом среди современных экономистов пользуется объяснение, апеллирующее к идее технологического прогресса, смещенного в пользу высококвалифицированной рабочей силы (skill-biased technological change). Речь идет о том, что современные компьютерные технологии тесно связаны с процессом накопления человеческого капитала, поскольку для их внедрения и использования необходима квалифицированная рабочая сила с высоким формальным образованием [Katz, Murphy, 1992]. Стимулируя спрос на работников с высоким образованием, смещенный технологический прогресс способствует опережающему росту их заработков, а опережающий рост их заработков тянет за собой вверх общее неравенство в распределении доходов.
Согласно этой точке зрения динамика неравенства определяется по существу исходом «гонки» (выражение Я. Тинбергена) между технологическим прогрессом и развитием системы образования [Goldin, Katz, 2008]. Когда система образования эту гонку проигрывает (рост спроса на образованную рабочую силу, порождаемый технологическим прогрессом, опережает рост ее предложения), тогда отдача от человеческого капитала неизбежно повышается, иными словами — увеличивается разрыв в заработках между более и менее образованными работниками. Но чем он больше, тем, естественно, выше и общее неравенство в доходах.
Это объяснение хорошо согласуется со многими известными фактами. В США рост общего неравенства шел в основном за счет роста неравенства в распределении трудовых доходов; имело место значительное повышение отдачи от образования (прежде всего высшего); вместе с тем начиная с 1970-х годов в сфере образования наблюдался застой (повышение образовательного уровня рабочей силы практически замерло, охват молодежи средним образованием сократился, а высшим хотя и вырос, но очень незначительно), что совпадает с началом повышательного тренда в показателях неравенства.
Казалось бы, ссылка на действие смещенного технологического прогресса не может объяснить резкое увеличение доли в совокупных доходах верхнего 1 %. Можно ли поверить, что производительность наиболее состоятельных индивидов выросла в той же пропорции, что и их доходы? Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что это вполне возможно, о чем говорит теория «суперзвезд», разработанная в свое время Ш. Розеном [Rosen, 1981]. «Суперзвезды» — это люди, обладающие редкими и уникальными способностями, ценность которых возрастает по мере увеличения размера рынков, где этим способностям находится применение. Предполагается, что развитие современных информационных технологий позволяет обладателям таких особых талантов расширять масштабы своей деятельности, распространяя ее на все более широкий круг людей. Когда «суперзвезды» собирают под своей эгидой больший пул ресурсов (например, когда благодаря технологическим нововведениям сверходаренные менеджеры получают возможность руководить более крупными компаниями) или когда их услуги достигают большего числа потребителей (например, когда благодаря технологическим нововведениям за игрой сверходаренных спортсменов начинает следить более многочисленная зрительская аудитория), это ведет к резкому повышению предельной производительности их труда — в полном соответствии с теорией. Как следствие, в условиях компьютерной революции обладатели таких «масштабируемых» (scaling) навыков начинают получать на них значительную дополнительную премию.
Идея «суперзвезд» хорошо описывает изменения, происходившие в составе тех, кого можно считать сверхбогачами. Так, среди 400 наиболее состоятельных американцев по версии журнала «Форбс» доля предпринимателей-первопроходцев, которые сами начали свой бизнес, выросла с 40 % в 1982 г. до 69 % в 2011 г., тогда как доля богатых наследников сократилась. За тот же период среди тех, кто вошел в список «Форбс», доля родившихся в очень богатых семьях уменьшилась с 60 до 32 % [Kaplan, Rauh, 2013]. О том же говорит и тот факт (рис. XI.7), что основной вклад в увеличение доли сверхбогатых людей в совокупных доходах внес рост их трудовых и предпринимательских доходов, а не рост их доходов от капитала [Jones, 2015, p. 32][191]. Так, в США вклад этого типа доходов непрерывно снижался: в 1920-х годах они (без учета capital gains) составляли 55 % совокупного дохода верхних 0,5 % семей, в 1950–1960-х — уже 35 %, а в 1990-х — лишь 15 % [Piketty, Saez, 2010].
Другие объяснения носят более частный характер.
Одним из них является ссылка на ослабление профсоюзов (упоминание об этом факторе есть в статье К. Джомо и В. Попова), следствием чего могло стать изменение в соотношении переговорных сил между работниками и работодателями. Давление на работодателей с целью повышения заработной платы уменьшилось, выросли возможности менеджмента по перераспредлению плодов от повышения производительности в свою пользу или в пользу акционеров в ущерб работникам. Однако это объяснение не согласуется с фактом стабильности распределения доходов между трудом и капиталом (если отбросить рост доходов от «жилищного» капитала, о чем см. ниже). Кроме того, оно предполагает, что быстрее всего доходы должны были расти у топ-менеджеров компаний (особенно публичных). Но на деле рост их доходов отставал от роста доходов богатых людей, принадлежавших к другим профессиональным группам, — спортсменов, юристов, врачей, руководителей хедж-фондов и т. д. [Kaplan, Rauh, 2013].
Гипотеза «финансиализации» связывает углубление экономического неравенства с бурным развитием финансовых рынков, с перераспределением плодов экономического роста в пользу финансового сектора в ущерб «реальному». Хотя нельзя отрицать, что «финансиализации» могла быть одним из драйверов увеличения неравенства, едва ли ей могла принадлежать решающая роль. Как уже упоминалось, быстрый рост доходов в самой верхней части распределения наблюдался не только среди «финансистов», но и среди представителей других профессиональных групп, причем главным образом он шел за счет трудовых доходов, а не доходов от капитала. Следует также иметь в виду, что доходы от повышения стоимости активов (capital gains), теснее всего связанные с деятельностью финансовых рынков, отличаются крайне высокой волатильностью, испытывая огромные колебания от года к году. Как следствие, их вклад в неравенство также оказывается подвержен чрезвычайно сильным краткосрочным колебаниям.
Рис. XI.7. Доля верхнего 0,1 % в совокупных доходах и его структура по источникам доходов, США, 1916–2011 гг.
Источник: [Jones, 2015].
Еще одним часто упоминаемым фактором является глобализация. Речь идет о том, что в ее условиях высокооплачиваемые работники развитых стран вступают в конкуренцию с низкооплачиваемыми работниками развивающихся стран. Проигрыш в этой конкуренции оборачивается замедлением или даже остановкой роста их заработков, что ведет к углублению неравенства, если заработки других групп, не испытывающих давления со стороны дешевой рабочей силы развивающихся стран, продолжают быстро увеличиваться. Кроме того, глобализация может вести к вымыванию из состава рабочей силы работников со средними заработками (в результате офшоринга — переноса производств в развивающиеся страны), что также должно способствовать росту неравенства. Однако из-за трудностей, связанных с вычленением собственно эффекта глобализации, вопрос о ее влиянии на неравенство остается по большому счету открытым. Ограничусь несколькими краткими замечаниями. Первое: тенденция к росту неравенства (например, в США) обозначилась значительно раньше, чем произошло резкое ускорение глобализационных процессов. Второе: если бы все определялось глобализацией, то рост неравенства наблюдался бы во всех или, по крайней мере, в большинстве развитых стран, тогда как на деле он был достаточно избирательным. И последнее: даже если бы углубление неравенства в развитых странах действительно происходило главным образом под влиянием глобализации, это было бы не более чем ценой за сокращение общемирового неравенства (за счет сближения доходов в развитых и развивающихся странах).
Среди возможных источников более неравномерного распределения доходов нередко называют также активный приток в развитые страны малообразованных работников из развивающихся стран. Конкуренция с их стороны может тянуть вниз заработную плату «местных» работников с низкой квалификацией, а поскольку работники с высокой квалификацией не испытывают конкуренции со стороны мигрантов, результатом может становиться рост доходного неравенства. Однако практически все эмпирические исследования показывают, что миграция оказывает очень незначительное влияние на заработную плату местных работников с низкой квалификацией либо не оказывает его вовсе. Для объяснения увеличения масштабов общего неравенства этого явно недостаточно. Кроме того, ссылки на миграцию не помогают понять, с чем связан ускоренный рост доходов в верхней части распределения. Наконец, даже если миграция в развитые страны и увеличивает неравенство внутри них, ясно, что одновременно она способствует сокращению масштабов общемирового неравенства.
Конечно, существует множество объяснений, отсылающих нас к тем или иным изменениям в политике государства (прежде всего, налоговой и социальной). Естественно, что такие изменения могут приводить к очень сильным разовым сдвигам в структуре распределения доходов. Однако ссылки на деятельность государства мало что дают для понимания причин устойчивого повышательного тренда в показателях неравенства (если, конечно, он действительно имеет место). Кроме того, политика государства — это фактор, прямо и непосредственно влияющий на распределение располагаемых доходов, тогда как его влияние на распределение рыночных доходов чаще бывает лишь косвенным и потому не всегда предсказуемым.
4. Глобальное неравенство. Со ссылкой на Б. Милановича К. Джомо и В. Попов утверждают, что «общее неравенство в мире… не снижается» [с. 150], а в самые последние годы даже растет (хотя межстрановое неравенство сглаживается, это перекрывается усилением неравенства внутри отдельных стран).
Но это как минимум противоречит оценке самого Б. Милановича. Ситуацию конца 2000-х годов он описывает так: «Мы видим нечто, что может иметь огромную историческую значимость: похоже, впервые со времени Промышленной революции происходит снижение глобального неравенства. Впервые за два столетия — после длительного периода, в течение которого глобальное неравенство росло и затем находилось на очень высоком плато — оно, по-видимому, перешло на нисходящую траекторию движения» [Milanovic, 2012, p. 8]. По его выкладкам, глобальное неравенство непрерывно нарастало с начала Промышленной революции, в середине XX в. вышло на плато, на котором находилось затем в течение примерно полувека, но в начале XXI в. развернулось вниз. Он предсказывает, что если страны с формирующимися рынками продолжат расти быстрее, чем развитые, то в ближайшие 50 лет мир, возможно, вернется к ситуации с низким глобальным неравенством, в которой он пребывал в начале XIX в. [Ibid., p. 18].
В действительности же есть все основания полагать, что за последние десятилетия глобальное неравенство в экономическом благосостоянии не только не увеличилось, но и заметно сократилось. У нас нет данных о глобальном неравенстве в пожизненных доходах или пожизненных расходах. Но если бы они существовали, то наверняка показали бы резкое сжатие масштабов общемирового экономического неравенства. Почему? Потому что за эти десятилетия развивающиеся страны резко сократили отставание от развитых по ожидаемой продолжительности жизни. С 1970 по 2010 г. ожидаемая продолжительность жизни в развитых странах выросла лишь на 6 лет, тогда как в развивающихся странах — на 20 и даже в беднейших странах мира — на 12 лет. Ясно, что это должно было значительно сократить разрыв в пожизненных доходах и пожизненных расходах между их жителями[192].
5. Вековые тренды. Казалось бы, раз работа посвящена долгосрочным тенденциям в динамике неравенства, то в ее фокусе должна находиться гипотеза С. Кузнеца и ее последующее обсуждение в литературе. Однако эта гипотеза упоминается К. Джомо и В. Поповым лишь однажды и мимоходом [с. 152]. Не обсуждаются ими в явном виде и альтернативные попытки по реконструированию долгосрочных траекторий изменения неравенства.
Так, если С. Кузнец считал, что в длительной исторической перспективе динамику неравенства можно представить в виде перевернутой буквы U [Kuznets, 1955], то Т. Пикетти доказывает, что по своей форме она напоминает скорее «нормальную» букву U [Piketty, 2014]. А Б. Миланович пытается совместить оба этих рисунка [Milanovic, 2016] и утверждает, что существуют волны Кузнеца, в рамках которых подпериоды с ∩-образной динамикой неравенства сменяются подпериодами с U-образной динамикой, так что общая картина оказывается циклической. Внутренний механизм, управляющий этими циклами, связан, по его мнению, с действием трех фундаментальных факторов: технологии, открытость экономики и политика государства [Ibid.].
Впрочем, подавляющее большинство современных исследователей склоняются, по-видимому, к выводу, что никаких универсальных закономерностей, которые управляли бы долгосрочной динамикой экономического неравенства, не существует. Набор факторов, способных повлиять на нее, настолько велик, соотношение между ними может меняться настолько радикально, ситуации, складывающиеся в разных странах в разные периоды времени, настолько уникальны, что попытки вписать ее в какую-либо единую вневременную схему едва ли могут оказаться убедительными[193].
6. Неравенство и рост. В заключительном разделе своей работы К. Джомо и В. Попов обращаются к новой теме, которой в основной части обсуждения они, строго говоря, не касались, — о связи неравенства с экономическим ростом. При этом они пытаются создать у читателя ложное впечатление, будто в современной эмпирической литературе существует полный консенсус об однозначно негативном влиянии неравенства на экономический рост [с. 155–156]. В действительности это не так, о чем свидетельствуют все новейшие обзоры по данной проблеме (см., например: [Любимов, 2016]).
Отношение к ней у большинства современных исследователей, скорее, «агностическое». Вопреки тому, что утверждают К. Джомо и В. Попов, на самом деле нет никаких оснований говорить, что установлен «механизм хорошо подтверждаемого эмпирически отрицательного воздействия неравенства на рост» [с. 156]: разные исследователи приходят к прямо противоположным выводам. (Ссылки на мнение Дж. Стиглица, к авторитету которого апеллируют авторы, ничего не доказывают.) Неясно, положительно или отрицательно влияет неравенство на экономический рост (и есть ли между ними связь вообще); неясно также, что на что влияет больше: неравенство на рост или рост на неравенство. (Во всяком случае, по логике С. Кузнеца, это экономический рост на ранних стадиях развития толкает неравенство вверх, а не неравенство стимулирует или тормозит экономический рост.)
Сошлюсь на две новейшие работы. Авторы одной [Halter et al., 2014] показывают, что на всей выборке анализируемых ими стран между экономическим ростом и неравенством обнаруживается статистически значимая положительная связь (неравенство подстегивает рост), но при ее разбиении на две группы стран — богатых и бедных, — положительная связь сохраняется только для первой, а для второй она оказывается отрицательной. Авторы другой [Brueckner, Lederman, 2015] приходят к прямо противоположным выводам. Для всей выборки они получают значимый отрицательный эффект неравенства, который, однако, при выделении стран с высоким и низким душевым ВВП подтверждается только для первых, тогда как для вторых он из негативного становится позитивным. Иными словами, из первой работы мы узнаем, что неравенство стимулирует рост в развитых странах, но тормозит в развивающихся, а из второй — что оно стимулирует рост в развивающихся странах, но тормозит в развитых.
Один из ведущих исследователей проблемы неравенства, Г. Зюкман (соавтор Т. Пиккети), так суммирует сложившиеся в современной эмпирической литературе представления о взаимосвязи между неравенством и экономическим ростом [Zucman, 2016]: ни на кросс-секционных, ни на панельных данных никакой простой однонаправленной связи обнаружить не удается; в долгосрочной исторической перспективе неравенство и экономический рост оказываются связаны отрицательно: в доиндустриальных обществах XVIII в. медленный рост сосуществовал с высоким неравенством, тогда как в индустриальных и постиндустриальных обществах второй половины XX в. быстрый рост сочетался с низким неравенством; в краткосрочной и среднесрочной перспективе никакой явной зависимости не просматривается (Великобритания XIX в. — быстрый рост при растущем неравенстве; США XX в. — сильные колебания в масштабах неравенства как в сторону понижения, так и в сторону повышения при незначительных изменениях в темпах экономического роста); некоторые исследователи находят, что развивающиеся страны с меньшим неравенством растут быстрее, чем развивающиеся страны с большим неравенством, но этого нельзя сказать о развитых странах и это ничего не говорит о направлении причинности (напомним, в ряде работ даже этот вывод ставится с ног на голову, см. выше).
7. Механизмы связи. Хотя К. Джомо и В. Попов твердо убеждены в отрицательных последствиях неравенства для темпов экономического роста (без достаточных на то оснований), они почему-то не посчитали нужным представить хотя бы сжатый обзор основных теоретических идей о том, за счет каких же передаточных механизмов подобное влияние вообще возможно. Все обсуждение сводится к упоминанию известной модели Алесины — Родрика [Alesina, Rodrik, 1994], которую авторы считают неработающей, и указанием на фактор, который, по их мнению, является главным, — рост социальной поляризации и напряженности в обществе [с. 156][194]. Это странно выборочный подход.
В первом приближении можно выделить четыре механизма, способных транслировать отрицательное воздействие неравенства на экономический рост, которые обсуждаются в теоретической и эмпирической литературе (конечно, эта классификация является очень грубой): 1) политико-экономический механизм: в условиях большего неравенства медианный избиратель оказывается относительно беднее, что побуждает его требовать от государства введения более обширных перераспределительных программ, но более обширные перераспределительные программы подрывают стимулы к инвестированию, а меньшие инвестиции оборачиваются замедлением экономического роста (по этой логике строится, в частности, модель Алесины — Родрика); 2) механизм, апеллирующий к несовершенствам рынка капитала: чем выше неравенство, тем больше доля бедных семей, которые из-за недоступности для них кредитных ресурсов оказываются не в состоянии профинансировать инвестиции в человеческий капитал своих детей, а недоинвестирование в человеческий капитал становится препятствием на пути экономического роста; 3) механизм, связанный с уязвимостью прав собственности: в обществах с высоким неравенством права собственности оказываются хуже защищены, так как в них выше преступность, выше риск экспроприации активов, выше вероятность социальных конфликтов, выше политическая нестабильность, а чем хуже защищены права собственности, тем больше ресурсов отвлекается на обеспечение их безопасности и тем слабее стимулы к инвестициям, что подрывает экономический рост; 4) демографический механизм: в обществах с высоким неравенством больше оказывается доля бедных семей, делающих ставку не на качество детей (т. е. не на вложения в их образование), а на их количество, отсюда — устойчиво высокая рождаемость, ограничивающая возможности экономического роста [Любимов, 2016].
Все эти предполагаемые механизмы выглядят достаточно правдоподобно, но только в теории[195]. Как показывают существующие обзоры, ни один из них не находит надежных эмпирических подтверждений [Там же]. К этому стоит добавить, что как политэкономическое объяснение, так и объяснение через поляризацию и социальную нестабильность (к которому склоняются К. Джомо и В. Попов) сталкиваются с серьезными проблемами. Чтобы они могли работать, люди должны иметь адекватное представление о степени поляризации и неравенства в обществах, к которым они принадлежат. Но, как показано в работе В. Гимпельсона и Д. Трисмена, это далеко не так [Gimpelson, Triesman, 2015]. В реальности подавляющее большинство людей имеют смутное представление о том, насколько велико или невелико неравенство в их странах. Явной корреляции между объективными и субъективными показателями неравенства по различным странам не прослеживается. Но если это так, то тогда как политико-экономический механизм, так и механизм поляризации и социальной нестабильности оказываются не более чем интересными теоретическими конструкциями. Если большинству людей существующее в их обществах неравенство не кажется неприемлемым, то каким бы высоким оно ни было фактически, у них не будет оснований требовать от государства более активного перераспределения доходов и они не будут склонны к участию в социальных протестах. И наоборот: если существующее в их обществах неравенство воспринимается ими как нетерпимое, то каким бы низким оно ни было фактически, это будет подрывать политическую и социальную стабильность. Похоже, в данном случае мы сталкиваемся с классической проблемой пропущенной переменной: эта переменная — субъективное восприятие неравенства членами общества.
8. Стагнация реальной заработной платы? Как о чем-то само собой разумеющемся авторы пишут о многолетней стагнации реальной заработной платы в развитых странах [с. 155]. На самом деле это миф, причем миф, уже многократно опровергавшийся серьезными академическими исследователями (см., например: [Feldstein, 2008; Anderson, 2007]), и нелегко понять, зачем возвращаться к нему вновь[196]. Статистическая иллюзия кажущегося расхождения в траекториях производительности труда и реальной заработной платы может возникать по нескольким причинам.
Обратимся к примеру США. Если пользоваться «сырыми» данными, то стагнация реальной заработной платы в американской экономике является, казалось бы, неопровержимым фактом: за четыре десятилетия с 1973 по 2013 г. производительность труда выросла в ней на 81 %, тогда как реальная заработная плата — только на 10 % [de Rugy, 2016; Sherk, 2016]. Однако при ближайшем рассмотрении почти весь этот разрыв оказывается статистическим артефактом.
Во-первых, при оценке показателей заработной платы американская статистика оперирует данными только по денежной оплате, которая представляет собой лишь часть общей компенсации работников. Другая часть — это различные дополнительные выгоды (fringe benefits), доля которых в общей компенсации работников выросла с 13 % в 1973 г. до более чем 20 % в настоящее время. Во-вторых, данные Бюро статистики труда США о заработной плате охватывают только производственных и прочих рядовых работников (production and non-supervisory workers), исключая управленческий персонал и многие другие группы служащих, тогда как оценки производительности труда выводятся с учетом вклада в выпуск всех занятых. В-третьих, данные Бюро статистики труда о заработной плате не включают премии, бонусы и другие нерегулярные выплаты, доля которых в общей компенсации работников в последние десятилетия также непрерывно возрастала. Переход от показателей денежной оплаты части работников к показателям суммарной компенсации всех работников ликвидирует примерно 45 % разрыва между динамикой производительности труда и динамикой реальной заработной платы. В-четвертых, по сложившейся практике для перехода от номинальных показателей заработной платы и производительности труда к реальным используются разные дефляторы: в первом случае — индекс потребительских цен (Consumer Price Index), во втором — имплицитный дефлятор для делового несельскохозяйственного сектора экономики (Implicit Price Deflator). Кумулятивное расхождение между этими ценовыми индексами за последние четыре десятилетия достигло почти 40 %[197]. Все исследователи согласны с тем, что процедура оценки индекса потребительских цен сопряжена с многочисленными искажениями и что это ведет к значительному завышению действительных темпов инфляции. Применение одного и того же дефлятора к номинальным показателям как заработной платы, так и производительности труда ликвидирует еще 39 % разрыва между траекториями изменения их реальных величин. В-пятых, оценки заработной платы относятся только к наемным работникам и не охватывают самозанятых, тогда как оценки производительности труда рассчитываются с учетом вклада в выпуск всех занятых. Учет заработков самозанятых устраняет еще 12 % разрыва между динамикой производительности труда и динамикой его оплаты.
В конечном счете расхождение уменьшается до 3 п.п.: получается, что если производительность труда за 1973–2013 гг. выросла в США на 81 %, то реальная заработная плата — на 78 %. Но даже эта остаточная разница, возможно, объясняется статистическими погрешностями при измерении производительности труда, ведущими к завышению темпов ее прироста.
9. Пропасть в оплате труда топ-менеджеров и остальных работников? Еще одно неожиданное открытие авторов состоит в том, что, оказывается, в европейских странах соотношение между оплатой труда высших менеджеров и остальных работников лежит в диапазоне 10–20 раз, тогда как в США достигает 400–500 раз [с. 151]. Откуда взялась эта фантастическая цифра по США сказать трудно, но можно предположить, что, скорее всего, она является отголоском тех оценок, которые регулярно публикуются АФТ-КПП. Так, по выкладкам представителей американских профсоюзов, в 2014 г. соотношение между средними заработками высших менеджеров (Chief Executive Officers) и заработной платой типичного американского рабочего составляло 373 раза. Как получена эта цифра? Очень просто: оплата топ-менеджеров 500 крупнейших американских компаний по индексу S&P поделена на среднюю заработную плату производственных и прочих рядовых работников по данным Бюро статистики труда США. Но достаточно взять среднюю заработную плату для всех, а не только для части занятых, и интересующее нас соотношение уменьшится до 283 раз. С учетом дополнительных выгод (см. выше) оно сократится еще сильнее — до 195 раз [Perry, 2016].
Но главное даже не в этом, а в том, что за базу для сравнения при таком подходе берутся заработки топ-менеджеров крохотной горстки элитных американских корпораций (2,4 % всей «популяции» исполнительных директоров компаний в США). Если же мы возьмем за отправную точку среднюю величину заработков исполнительных директоров всех американских компаний (в настоящее время это около 21 тыс. человек), то тогда, как показывают те же данные Бюро статистики труда, разрыв в оплате труда среднего топ-менеджера и среднего работника опустится до 4,56 раза [US Bureau of Labor Statistics, 2015]. Причем никакого повышательного тренда в последние годы это соотношение не демонстрировало и оставалось практически неизменным. Не правда ли: 500 раз и 5 раз — есть некоторая разница?
10. Контрнаступление капитала? К. Джомо и В. Попов отмечают, что с начала 1980-х годов рост доходного неравенства в развитых странах шел параллельно с увеличением доли капитала в национальном доходе за счет уменьшения доли труда [с. 153, 155]. Они считают, что эти процессы тесно взаимосвязаны, заявляя о «контрнаступлении капитала» [с. 155]. Однако если два процесса протекают одновременно, то отсюда не обязательно следует, что один является причиной другого. М. Рогнлай в явном виде рассматривает предположение о том, что в развитых странах рост неравенства в распределении доходов мог быть следствием увеличения доли капитала в национальном доходе, и отвергает его [Rognlie, 2015].
В последние десятилетия доля капитала в ВВП действительно почти повсеместно возрастала, тогда как доля труда снижалось (в среднем по развитым странам снижение составило примерно 5 п.п.). Так, если в середине 1970-х годов доля труда в ВВП США составляла 64 %, то в настоящее время около 60 %. С чем это могло быть связано?
Во-первых, если говорить о США, то необходимо учитывать изменения, произошедшие в практике измерения ВВП по доходам. Эти изменения коснулись смешанных доходов, получаемых самозанятыми. Если раньше смешанный доход распределялся между факторами труда и капитала в пропорции примерно 80:20, то с 2001 г. он стал распределяться в пропорции примерно 45:55. Эта корректировка объясняет приблизительно половину прироста доли капитала в ВВП [Armenter, 2015].
Во-вторых, в условиях компьютерной революции фирмы начали все активнее использовать оборудование с короткими и сверхкороткими сроками службы (скажем, программное обеспечение и другие виды интеллектуальной собственности могут морально устаревать за год). Результатом этого стало резкое увеличение доли амортизационных отчислений в ВВП. По расчетам М. Рогнлайа, за последние 60 лет доля валового дохода от капитала выросла в развитых странах (G-7) примерно на 7 п.п., тогда как доля чистого дохода от него — только на 3 п.п. [Rognlie, 2015].
В-третьих, и это самое главное, как показал М. Рогнлай, рост доли капитала в ВВП произошел полностью за счет увеличениля доли доходов от «жилищного капитала», в то время как доля доходов от «бизнес-капитала» снизилась. По методологии СНС, владельцам жилья вменяется доход, как если бы они арендовали его у самих себя. Из-за непрерывного роста стоимости жилья этот вмененный доход также быстро увеличивался. По расчетам М. Рогнлайа, доля «жилищного» капитала в чистой добавленной стоимости частного сектора стран G-7 повысилась с примерно 3 % в конце 1940-х годов до 9 % в настоящее время, тогда как доля «бизнес-капитала» снизилась с примерно 23 до 20 % [Rognlie, 2015]. (Для Франции аналогичный вывод о ключевой роли «жилищного» капитала был получен в работе: [Bonnet et al., 2014].) О каком «контрнаступлении капитала» можно говорить в таком случае? Что же получается: рост владения жильем и повышение его стоимости наступают на права трудящихся?
11. Неравенство и совершенный рынок. Под свои рассуждения о неравенстве К. Джомо и В. Попов пытаются подвести теоретическую базу, ссылаясь на модель совершенной конкуренции. Однако их представления о ней весьма неожиданны. Так, по их словам, «традиционная неоклассическая экономическая мудрость» состоит в том, что совершенный рынок сам по себе обеспечивает оптимальное распределение доходов: поскольку владельцы факторов производства «вознаграждаются в соответствии со своей предельной производительностью», постольку в условиях совершенного рынка «вся дифференциация в доходах является оправданной» [с. 150–151].
Однако на самом деле ничего подобного модель совершенной конкуренции не предполагает. Авторам, похоже, неизвестно о различии между понятиями «размещение ресурсов» и «распределение доходов», а также о том, что рассуждать об «оптимальности», строго говоря, имеет смысл только по отношению к первому, но не ко второму. «Неоклассическая мудрость» учит, что в условиях совершенной конкуренции аллокация ресурсов будет оптимальной в том смысле, что они станут направляться туда, где их будут использовать с наибольшей эффективностью (где отдача от них окажется максимальной). Но она ничего не говорит о том, каким окажется распределение доходов, потому что оно определяется не только характером конкуренции между экономическими агентами, но также их первоначальной наделенностью ресурсами. Она утверждает лишь то, что в условиях совершенной конкуренции при любой первоначальной наделенности ресурсами их использование будет наилучшим из возможных. При этом само исходное распределение ресурсов никак не оценивается — ни как «оптимальное», ни как «справедливое», ни как какое-либо еще.
Тем не менее, позволив себе нормативные суждения, можно было бы сказать, что если, к примеру, первоначальная наделенность ресурсами является отражением прошлых актов насилия и агрессии, то тогда и структуру распределения доходов, к которой в этих условиях приведет совершенная конкуренция, было бы вполне правомерно расценить как «несправедливую». В этом смысле, вопреки утверждениям К. Джомо и В. Попова, далеко не всякая теоретически возможная дифференциация в доходах, которая могла бы возникнуть в условиях совершенной конкуренции, заслуживает того, чтобы называться «оправданной».
Еще поразительнее их тезис о том, что «тенденция совершенного рынка такова, что одна суперкомпания будет контролировать производство всего мира, а один индивидуум будет контролировать эту компанию» [с. 152]. Хотелось бы увидеть ссылки на модели совершенной конкуренции, из которых следует такой нетривиальный вывод (в работе их нет). Создается впечатление, что свои представления о совершенной конкуренции авторы почерпнули из марксистских учебников политэкономии. Ведь это известная «марксистская мудрость», что конкуренция автоматически рождает монополию! (Более того, их обсуждение общества «равных товаропроизводителей» [с. 152] заставляет подозревать, что под совершенным рынком они имеют в виду не что иное, как простое товарное производство из «Капитала» К. Маркса.)
Трудно также понять, каким образом они приходят к заключению, что даже «самый совершенный рынок» [с. 151] при полном равенстве исходных возможностей не обеспечивал бы равного распределения доходов. На совершенном рынке, а значит, при обладании всеми экономическими агентами совершенной информацией, полное равенство в первоначальной наделенности ресурсами (будь то физический или человеческий капитал) автоматически предполагало бы полное равенство в доходах. Единственным источником, который мог бы в этих условиях порождать доходное неравенство, были бы различия в структуре предпочтений (таких как отношение к риску, нормы предпочтения времени, соотношение между ценностью досуга и ценностью потребления)[198]. Однако возникшее отсюда неравенство в доходах не означало бы неравенства в благосостоянии индивидов.
Попытки авторов с помощью ссылок на модель совершенной конкуренции «теоретически» обосновать тезис о том, что рынок обладает некой врожденной тенденцией к «нарастающей дифференциации доходов» [с. 151], выглядят неубедительно, если не сказать больше. Начиная с А. Смита отношение большинства экономистов к рыночной конкуренции было иным: в ней они видели дисциплинирующее средство, которое ограничивает возможности тех, кто оказался на вершине доходной пирамиды, вечно пользоваться своими преимуществами; источник динамизма, который обеспечивает непрерывное «перетряхивание» индивидов, принадлежащих к разным классам и находящихся на разных ступенях материального достатка; наиболее эффективный способ подрыва сословных и прочих привилегий.
Позиция авторов в этом вопросе предстает как попытка усидеть на двух стульях. С одной стороны, они доказывают, что рынок ведет «к постоянному росту неравенства доходов» [с. 151]. С другой — приводят в заключительном разделе цитаты из нескольких источников, в которых рассказывается о том, как владельцы крупных состояний стремятся воздействовать на государство и извлекают ренту в форме разнообразных льгот и привилегий, которыми оно их наделяет [с. 156]. В результате остается неясным: что же все-таки служит главным источником «неоправданного» экономического неравенства — рынок, как не устают повторять авторы, или этот антирыночный государственный интервенционизм? В данном контексте, наверное, нелишне будет напомнить, что сжатие глобального неравенства вследствие быстрого роста доходов в Китае и Индии было достигнуто не за счет конфискационного налогообложения и усиления контроля государства за экономикой, а прямо противоположным путем.
12. . Нормативные аспекты. Изложение в работе К. Джомо и В. Попова строится исходя из неявной презумпции, что «экономическое неравенство (и тем более его рост) — это плохо по определению». Авторы с самого начала настойчиво пытаются внедрить эту установку в сознание читателя, хотя в действительности ничего самоочевидного в ней нет и далеко не все ее разделяют (см. ниже). Имплицитно предполагается также, что по поводу понятия «справедливость» (в данном случае — справедливость неравенства) существует всеобщее согласие, но это тоже далеко не так. Справедливость — крайне неоднозначное, размытое понятие, в которое разные люди вкладывают разный смысл.
В работе много рассуждений о «пороговых значениях неравенства», о «критическом (оптимальном, допустимом) уровне неравенства», об «оптимальном распределении доходов», о «справедливом распределении доходов», о «нежелательных тенденциях изменения неравенства» и т. д. [с. 146, 151] — хотя вопреки обещаниям, которые даются вначале, авторы так и не поясняют, что же представляют собой эти «критические уровни» и каковы критерии их «оптимальности» («оптимальности» — для кого, для чего?). Ясно только, что вместе со многими другими современными экономистами они уверены, что в восприятии людей сами масштабы неравенства как таковые должны представать либо справедливыми либо несправедливыми. Однако откуда берется такая уверенность, читателю остается неизвестным.
Как показывает опыт, одно и то же неравенство оценивается людьми как справедливое или несправедливое, приемлемое или неприемлемое прежде всего в зависимости от его происхождения (способа получения богатства). В самой комментируемой работе содержится выразительный пример, касающийся доходов самых богатых людей разных стран, включая США и Россию [с. 149]: но если большинство американцев наверняка сочли бы доходы и богатство, имеющиеся у самого богатого человека США Б. Гейтса, «справедливыми», то большинство россиян наверняка сочли бы доходы и богатство, имевшиеся в свое время у самого богатого человека России М. Ходорковского, «несправедливыми». Причина? Различия в источниках получения. Предметом оценки большинства людей являются вовсе не масштабы неравенства, а механизмы его возникновения. В этом смысле неравенство неравенству рознь. Высокие доходы, увеличивающие неравенство (например, А. Пугачевой или С. Джобса), не вызывают негативной реакции, если они получены, как выражался Ф. Хайек, при соблюдении «правил справедливого поведения». Однако доходы, полученные нечестным путем (скажем, в результате кражи), вызывают осуждение, даже если они уменьшают неравенство.
Рискну высказать предположение, что чисто количественный подход к оценке нормативной приемлемости неравенства — это детище экономистов. Поскольку в их распоряжении нет статистических данных, которые позволяли бы отделять «честные» способы получения богатства от «нечестных», они идут более простым путем, предпочитая судить о справедливости/несправедливости неравенства исходя исключительно из его масштабов. Через средства массовой информации такой подход начал постепенно проникать в сознание сначала интеллектуалов, а затем и широкой публики, так что не исключено, что через какое-то время им может оказаться заражено и все общество. Если это произойдет, то на экономистов ляжет ответственность за возбуждение в нем одного из сильнейших антисоциальных чувств — чувства зависти.
Д. Аджемоглу и Д. Робинсон приводят выразительный пример, как рискованно видеть в неравенстве как таковом интегральный показатель справедливости [Acemoglu, Robinson, 2015]. Они напоминают, что ЮАР при системе апартеида отличалась очень низким коэффициентом Джини по доходам, который затем резко вырос, когда та рухнула. Означает ли это, что система апартеида была намного более «справедливой», чем нынешнее социальное устройство ЮАР? Список подобных вопросов легко продолжить. К. Джомо и В. Попов не скрывают своего восхищения социалистическими странами, где коэффициент Джини оценивался всего в 20–30 % [с. 147]. Готовы ли они сделать отсюда вывод, что жизнь в сталинском СССР или маоистском Китае была предпочтительнее, чем в современных западных обществах, где он гораздо выше? В США коэффициент Джини по доходам в настоящее время больше, чем в Испании или Италии, а также чем в Афганистане, Пакистане или Бангладеш. Можно ли на этом основании утверждать, что из всех названных стран самое «несправедливое» общество существует в США?
Приведенные примеры ясно показывают, что с нормативной точки зрения неравенство — это псевдопроблема (в том смысле, что оно никогда не является проблемой само по себе). Понятно, что оно может быть симптомом каких-то иных серьезных проблем, но это уже совсем другая история. И именно потому, что болезни не лечатся устранением симптомов, сокращение дифференциации в доходах не может быть самоцелью: усилия общества должны направляться на решение глубинных проблем, которые могут за ней стоять и ее порождать. С этой точки зрения «специальная политика, направленная на сдерживание роста доходного неравенства» [с. 151], за которую выступают К. Джомо и П. Попов, представляется контрпродуктивной по определению.
13. Логика перераспределения. Извилистая логика сторонников «специальной политики, направленной на сокращение неравенства», была детально проанализирована в недавней публикации Дж. Кокрейна [Cochrane, 2014] (в ее основе — выступление в 2014 г. на Конференции по неравенству, посвященной памяти Г. Беккера). Из его реконструкции становится хорошо видно, как устроено мышление тех, кто для борьбы с неравенством выступает с предложениями конфискационных налогов и усиления государственного контроля за экономикой, и поэтому я остановлюсь на ней поподробнее. По наблюдениям Дж. Кокрейна, большинство из тех, кто так думает (П. Кругман, Дж. Стиглиц, Т. Пикетти и др.), вовсе не считают, что проблемой является неравенство как таковое, но озабочены его возможными отрицательными последствиями. Какими? Ответы на этот вопрос даются самые противоречивые.
С одной стороны, доказывается, что в условиях высокого неравенства низшие классы начинают слепо подражать потребительскому поведению высших (по принципу «быть не хуже Джонсов») и жить не по средствам, из-за чего залезают в неоплатные долги. (По словам Дж. Стиглица, эффект неравенства в том, что касается изменения образа жизни людей, надежно установлен.) Проблемой, таким образом, объявляется недосбережение из-за избыточного потребления низкодоходных групп. Но следует ли отсюда, что единственный способ научить эти группы жить экономно и не влезать в долги, единственное средство подтолкнуть их к тому, чтобы активнее сберегать, — это резкое повышение налогов на богатых (дабы не вводить низшие классы во искушение)? Не существует ли каких-либо более простых и прямых путей решения этой проблемы? Не вполне понятно также, каким образом, например, приобретение миллиардерами в собственность личных яхт или самолетов может вызывать у людей с невысоким достатком подражание в потребительском поведении.
С другой стороны, утверждается, что в условиях высокого неравенства богатые начинают сберегать слишком много[199]. В таком случае проблема усматривается уже не в слишком высоком, а в слишком низком уровне потребления: из-за избытка сбережений у высокодоходных групп совокупный спрос оказывается недостаточным; вследствие его недостаточности долговременный рост затухает, и экономика скатывается в «вековую стагнацию». Соответственно перераспределение доходов от богатых к бедным преподносится как способ преодоления чрезмерно высокой склонности к сбережениям. Но разве стандартные кейнсианские меры денежной и фискальной политики по стимулированию совокупного спроса недостаточны, чтобы справиться с этой проблемой?
Однако наибольшей популярностью, по-видимому, пользуется аргумент, согласно которому снижение неравенства необходимо, для того чтобы не допустить нарастания политической нестабильности: отказ от перераспределения богатства мирным путем грозит его насильственным перераспределением через революционные потрясения. По мнению Дж. Кокрейна, подобные лобовые умозаключения — не более чем пример любительской политологии [Cochrane, 2014]. В современных обществах революции разжигают не бедняки, а интеллектуалы (как правило, выходцы из средних и высших слоев), заражающие своими идеями более широкие слои общества. (По этому поводу Дж. Кокрейн саркастически замечает, что на ферме Т. Джефферсона царило ужасающее неравенство, но у истоков Американской революции стоял все-таки он, а не принадлежавшие ему рабы.) Напомним (см. выше, примеч. 11), что аргументация К. Джомо и В. Попова также дает сбой в этом пункте: нас предостерегают, что увеличение неравенства чревато ростом социальной напряженности, и тут же констатируют, что несмотря на его углубление никакого нарастания протестных настроений в последние десятилетия почему-то не наблюдалось.
Как полагает Дж. Кокрейн, в конечном счете за всеми этими уклончивыми аргументами скрывается одна и та же общая установка: убеждение, что слишком большие деньги коррумпируют политику и что для ее очищения их должно быть меньше[200]. Конечно, никто не станет возражать, что предоставление льгот и привилегий экономически наиболее состоятельным и политически наиболее влиятельным группам — реальная проблема (возможно даже, самая главная проблема любого общества). Но может ли быть ответом на нее дальнейшее разрастание государства, которое само эти льготы и привилегии раздает? Дж. Кокрейну видится здесь явное отсутствие логики [Ibid.]. (Опыт, например, показывает, что конфискационное налогообложение высокодоходных групп лишь еще сильнее подогревает спрос на услуги лоббистов и юристов, на поиск всевозможных законодательных лазеек и т. д., короче — еще больше активизирует рентоориентированное поведение.)
В данном вопросе он выделяет две противоположные позиции: условно — «позицию Стиглица» и «позицию Стиглера». Если говорить упрощенно, то первая исходит из того, что богатство — это главная детерминанта политической власти, тогда как вторая — из того, что политическая власть — это главная детерминанта богатства. В первом случае предполагается, что усиление государства позволит сделать его менее зависимым от экономически и политически влиятельных групп, во втором — что сужение сферы его деятельности ограничит возможности получения через него этими группами льгот и привилегий. Для тех, кто стоит на «позиции Стиглера», важно, имеем мы дело с честно или нечестно заработанным богатством. Для тех, кто стоит на «позиции Стиглица», это по большому счету неважно, потому что даже честно заработанное богатство все равно способно так или иначе влиять на политическую власть.
Сам Дж. Кокрейн убежден в бесперспективности попыток истребить «кронизм» и погоню за извлечением ренты с помощью конфискационных налогов и дальнейшего усиления государственного контроля за экономикой. Сторонники подобной политики, отмечает он, используют разговоры о неравенстве, для того чтобы скрыть за ними ее прошлые провалы, когда вместо того, чтобы вести к урезанию разнообразных преференций, предоставляемых государством, она вела лишь к их разрастанию. Не на борьбу с неравенством, а на обеспечение экономического процветания — вот на что должно быть направлено внимание общества [Ibid.].
Анализ, предложенный Дж. Кокрейном (независимо от того, убеждает он кого-то или нет), полезен тем, что четко обозначает ключевую нормативную развилку в спорах о неравенстве: какая картина мира более правдоподобна — стоящая за «позицией Стиглица» или стоящая за «позицией Стиглера»?
Как я упоминал в начале своих заметок, описание проблемы экономического неравенства, предложенное К. Джомо и В. Поповым, представляется мне не только упрощенным, но и тенденциозным, во многом мотивированным нормативными пристрастиями авторов. Основания, по которым я прихожу к такому выводу, надеюсь, ясны. Д. Макклоски, откликаясь на «Капитал в XXI веке» Т. Пикетти, среди прочего отмечала, что основу социальной философии этой книги составляет «узкая этика зависти» [McCloskey, 2015]. Мне кажется, подобная характеристика вполне приложима и к нормативным представлениям авторов комментируемой работы.
ЛИТЕРАТУРА
Джомо К. C., Попов В. В. Долгосрочные тенденции в распределении доходов // Журнал Новой экономической ассоциации. 2016. № 3. С. 146–160.
Капелюшников Р. И. Производительность труда и стоимость рабочей силы: как рождаются статистические иллюзии // Вопросы экономики. 2009. № 4. С. 59–79.
Капелюшников Р. И. Производительность и оплата труда: немного простой арифметики // Вопросы экономики. 2014. № 3. С. 36–61.
Любимов И. Л. Неравенство и экономический рост: теоретические аспекты зависимости. М.: РАНХиГС, 2016. .
Acemoglu D., Robinson J. A. The Rise and Decline of General Laws of Capitalism // Journal of Economic Perspectives. 2015. Vol. 29. No. 1. P. 3–28.
Alesina A., Rodrik D. Distributive Politics and Economic Growth // Quarterly Journal of Economics. 1994. Vol. 109. No. 2. P. 65–90.
Alvaredo F. Inequality over the Past Century // Finance and Development. 2011. September. P. 28–29.
Anderson R. How Well Do Wages Follow Productivity Growth? // Federal Reserve Bank of St. Louis Economic Synopses. 2007. No. 7. P. 1.
Armenter R. A Bit of a Miracle No More: The Decline of the Labor Share // Federal Reserve Bank of Philadelphia. Research Department Business Review. 2015. No. 3. P. 1–9.
Attanasio O. P., Pistaferri L. Consumption Inequality // Journal of Economic Perspectives. 2016. Vol. 30. No. 2. P. 3–28.
Atkinson A. B. Inequality: What Can Be Done? Cambridge, MА: Harvard University Press, 2015.
Atkinson A. B., Morelli S. Chartbook of Economic Inequality. 2014. /.
Auerbach A. J., Kotlikoff L. J., Koehler D. U. S. Inequality, Fiscal Progressivity, and Work Disincentives: An Intragenerational Accounting. 2016. .
Benaabdelaali W., Hanchane S., Kamal A. A New Data Set of Educational Inequality in The World, 1950–2010 // Inequality, Mobility and Segregation: Essays in Honor of Jacques Silber / ed. by J. A. Bishop, R. Salas. Howard House: Emerald Group Publishing Limited, 2012.
Berman Y., Ben-Jacob E., Shapira Y. The Dynamics of Wealth Inequality and the Effect of Income Distribution // PLoS ONE. 2016. Vol. 11. No. 4.
Björklund A. A Comparison of Actual Distributions of Actual and Lifetime Incomes: Sweden 1951–1989 // Review of Income and Wealth. 1993. Vol. 39. No. 4. P. 377–386.
Bonnet O. et al. Capital Is Not Back: A Comment on Thomas Piketty’s «Capital in the 21st Century» / Sciences Po Economics Discussion Papers. Discussion paper No. 2014–07. 2014.
Bowlus A., Robin J. M. An International Comparison of Lifetime Inequality: How Continental Europe Resembles North America // Journal of the European Economic Association. 2012. Vol. 10. No. 6. P. 1236–1262.
Brueckner M., Lederman D. Effects of Income Inequality on Aggregate Output Policy / Research Working Paper No. 7317. Washington: World Bank, 2015.
Budría S. et al. New Facts on the Distributions of Earnings, Income and Wealth in the US // Federal Reserve Bank Minneapolis Quarterly Review. 2002. Vol. 26. No. 3. P. 2–35.
Cochrane J. Why and How We Care about Inequality. Grumpy Economist / John Cochrane’s Blog. 2014. -and-how-we-care-about-inequality.html.
Congressional Budget Office. Distribution of Household Income and Federal Taxes, 2011. Washington: Congressional Budget Office, 2014.
de Rugy V. Contrary to White House Claim, Compensation Has Been in Line with Productivity. 2016. -white-house-claim-compensation-has-been-line-productivity.
Dworkin R. Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000.
Feldstein M. Did Wages Reflect Growth in Productivity? // Journal of Policy Modeling. 2008. Vol. 30. No. 4. P. 591–594.
Friedman M. Discussion // Studies in Income and Wealth. Cambridge, MА: NBER, 1939. Vol. 3. P. 129–141.
Gimpelson V., Triesman D. Misperceiving Inequality / NBER Working Paper. No. 21174. Cambridge, MA: NBER, 2015.
Goldin С., Katz L. F. The Race between Education and Technology. Harvard: Harvard University Press, 2008.
Halter D., Oechslin M., Zweimüller J. Inequality and Growth: The Neglected Time Dimension // Journal of Economic Growth. 2014. Vol. 19. No. 1. P. 81–104.
Jones C. I. Pareto and Piketty: The Macroeconomics of Top Income and Wealth Inequality // Journal of Economic Perspectives. 2015. Vol. 29. No. 1. P. 29–46.
Kaplan S. N., Rauh J. It’s the Market: The Broad-Based Rise in the Return to Top Talent // Journal of Economic Perspectives. 2013. Vol. 27. No. 3. P. 35–56.
Katz L. F., Murphy K. M. Changes in Relative Wages 1963–1987: Supply and Demand Factors // Quarterly Journal of Economics. 1992. Vol. 107. No. 1. P. 35–78.
Keister L. A., Mollez S. Wealth Inequality in the United States // Annual Review of Sociology. 2000. Vol. 26. P. 63–81.
Kitov I., Kitov O. The Dynamics of Personal Income Distribution and Inequality in the United States / MPRA Paper No. 48649. Munich: University Library of Munich, 2013. -muenchen.de/48649/.
Kopczuk W. What Do We Know about the Evolution of Top Wealth Shares in the United States? // Journal of Economic Perspectives. 2015. Vol. 29. No. 1. P. 47–66.
Krueger D., Perri F. Does Income Inequality Lead to Consumption Inequality? Evidence and Theory // Review of Economic Studies. 2006. Vol. 73. No. 1. P. 163–193.
Kuznets S. Economic Growth and Income Inequality // American Economic Review. 1955. Vol. 45. No. 1. P. 1–28.
Magness P. W., Murphy R. P. Challenging the Empirical Contribution of Thomas Piketty’s Capital in the 21st Century // Journal of Private Enterprise. 2015. Vol. 30. No. 1. P. 1–34.
The Major Trends in U. S. Income Inequality Since 1947. 2013. Political Calculations. / the-major-trends-in-us-income-inequality-since-1947-n1757626/page/full.
McCloskey D. N. Measured, Unmeasured, Mismeasured, and Unjustified Pessimism: A Review Essay of Thomas Piketty’s Capital in the Twenty-First Century // Erasmus Journal for Philosophy and Economics. 2015. Vol. 7. No. 2. P. 73–115.
Milanovic B. Global Income Inequality by the Numbers: In History and Now. An Overview / Policy Research Working Paper No. 6259.
Milanovic B. Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization. Cambridge, MА: Harvard University Press, 2016.
Perry M. J. New BLS Data Show that for All ‘Chief Executives,’ the ‘Average CEO-to-Average Worker Pay Ratio’ is Less than 5-to-1. 2016. -bls-data-show-that-for-all-chief-executives-the-average-ceo-to-average-worker-pay-ratio-is-less-than-5-to-1/.
Piketty T. Capital in the Twenty-First Century. Cambridge: Harvard University Press, 2014.
Piketty T., Saez E. Income and Wage Inequality in the United States, 1913–2002 // A Top Incomes: A Global Perspective / ed. by B. Atkinson, T. Piketty. Oxford: Oxford University Press, 2010.
Rognlie M. Deciphering the Fall and Rise in the Net Capital Share: Accumulation or Scarcity? // Brookings Papers on Economic Activity. 2015. No. 1. P. 1–54.
Rosen S. The Economics of Superstars // American Economic Review. 1981. Vol. 71. No. 5. P. 845–858.
Saez E., Zucman G. Wealth Inequality in the United States since 1913: Evidence from Capitalized Income Tax Data / NBER Working Paper. No. 20625. Cambridge, MА: NBER, 2015.
Sherk J. Workers’ Compensation: Growing Along with Productivity. 2016. -compensation-growing-along-with-productivity.
US Bureau of Labor Statistics. Occupational Employment and Wages, May 2015. 11–1011 Chief Executives. .
Zucman G. Global Inequality and Growth: The Interplay between Inequality and Growth. 2016. -zucman.eu/files/econ133/2016/Econ133_Lecture 8.pdf.
XII Почему с неравенством не нужно «бороться»?[201]
Огромный интерес не только профессиональных экономистов, но и широкой публики вызвала недавняя работа Тома Пикетти и его соавторов о неравенстве в России [Novokmet, Piketty, Zucman, 2017]. Авторы исследования подсчитали: по уровню неравенства Россия опережает европейские страны и даже Китай. Согласно их оценкам, почти половина всех доходов сконцентрирована в руках 10 % самых состоятельных россиян. Авторитетные комментаторы обсуждают методику расчета, источники информации, погрешности, но принимают как нечто само собой разумеющееся ключевую посылку о том, что высокое неравенство — всегда зло по определению. Интуитивно это может показаться вполне правдоподобным: часто можно услышать, что высокое неравенство вредит экономическому росту, тормозит лифты социальной мобильности, угрожает социальной стабильности. (Правда, ни одно из этих утверждений не является эмпирически доказанным; так что на деле это не более чем символ веры части современных интеллектуалов.)
Такое восприятие неравенства уже прочно вошло в обиход. Но, на мой взгляд, это результат подмены понятий, нарушения причинно-следственных связей. Само по себе высокое неравенство не является проблемой в нормативном смысле. Другими словами, это не то, с чем везде и всегда нужно «бороться». Это всего лишь «окно», через которое можно увидеть те или иные реальные вызовы, с которыми сталкивается общество. Но из того, что кто-то в своих замерах получил высокие показатели неравенства, не следует напрямую никаких нормативных выводов. В этом отличие моей точки зрения от доминирующей позиции, когда количественно высокое неравенство преподносится как достаточный повод для немедленного вмешательства государства с целью сокращения его масштабов.
О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ?
Количественные показатели не раскрывают смысл социальных явлений. Но и о них стоит поговорить.
Набирающая силу интеллектуальная традиция говорит нам о повсеместном углублении неравенства. Но по факту это не так. На самом-то деле глобальное неравенство уменьшается! Один из признанных экспертов в этой области, Б. Миланович, отмечает, что с середины 2000-х годов мы наблюдаем разворот векового тренда, когда после двух столетий почти непрерывного роста глобальное неравенство начало снижаться. Можно возразить: но ведь в США (да и в некоторых других развитых странах) неравенство стало больше! Но почему неравенство в США должно быть для нас этически более значимо, чем общемировое неравенство? Почему ситуация с достаточно обеспеченными по международным меркам людьми, занимающими нижние этажи доходной пирамиды в США, должна волновать нас больше, чем положение нищих, обездоленных людей в развивающихся странах, которое стало улучшаться?
Более того, в действительности у нас есть основания говорить не просто о некотором сглаживании, а о драматическом сокращении глобального неравенства за последние десятилетия. Чтобы убедиться в этом, достаточно перейти от показателей текущих доходов к показателям пожизненных доходов — к тому, сколько зарабатывает человек за всю жизнь. С 1970 по 2010 г. ожидаемая продолжительность жизни в развитых странах выросла лишь на 6, а в развивающихся — на 20 лет! Вследствие этого разрыв в пожизненных доходах между жителями развитых и развивающихся стран (а вместе с тем и глобальное неравенство!) должен был резко сократиться, даже если бы различия в их текущих доходах продолжали оставаться прежними.
При этом неравенство окажется гораздо ниже, если мерить его не по доходам, а по уровням потребления (расходам). Расходы могут быть больше доходов благодаря кредиту, а могут быть меньше, когда часть дохода сберегается. (Это актуально и для России: неравенство в расходах у нас ниже, чем неравенство в доходах.) Данные по потреблению используются реже, потому что они менее доступны. Однако подавляющее большинство исследователей согласны, что о благосостоянии людей корректнее судить по уровням их потребления, а неравенство по показателям потребления гораздо ниже. Так, по некоторым оценкам, в США неравенство в потреблении примерно вдвое уступает неравенству в доходах!
Но вернемся к работе Пикетти с соавторами. Они называют свои оценки неравенства для России «экстраординарными». Но так ли это? Из их расчетов следует, что по показателям неравенства Россия и США — абсолютные близнецы-братья. И там и там верхним 10 % принадлежит 45 %, а верхнему 1 % — 20 % всех текущих доходов; и там и там коэффициент Джини по доходам составляет порядка 0,55; и там и там верхним 10 % принадлежит 70 %, а верхнему 1 % — свыше 40 % богатства страны. Признаюсь, интуитивно я ожидал бы увидеть, что масштабы неравенства в России существенно выше, чем в США. Думать так меня заставляют специфика российской приватизации, а также особенности институционального и экономического устройства сегодняшней России. Поэтому для меня никакой «экстраординарности» в результатах Пикетти и его соавторов, честно говоря, нет. (О ней можно будет говорить только в том случае, если дальнейший анализ покажет, что их оценки по России занижены.)
Здесь стоит добавить, что и Россия, и США — это страны с огромной территорией, с гигантским разнообразием природных и климатических условий. Для таких стран естественно ожидать, что у них показатели неравенства будут намного выше, чем у небольших, географически однородных стран. Действительно, оценки показывают, что 25–30 % всего неравенства в России — это региональное неравенство. Но межрегиональные различия в доходах во многом представляют собой компенсацию за проживание в неблагоприятных природных и климатических условиях. Если бы это было не так, мы бы видели массовую миграцию россиян на Дальний Восток и Крайний Север, где заработки выше. Но реальные миграционные потоки, как мы знаем, развернуты в обратном направлении. В этом смысле существующее в России неравенство следовало бы скорее признать «недостаточным», чем «избыточным».
ЛЕВЫЙ ТРЕНД
Почему тема экономического неравенства стала так популярна в последние десятилетия? Я думаю, дискуссия о нем представляет собой попытку обновления идеологической повестки левых сил. К концу XX в. традиционная «левая» повестка либо ушла в прошлое — так, были похоронены идеи государственной собственности, централизованного планирования, рабочих кооперативов, — либо утратила новизну и былой мобилизационный потенциал. Новое идеологическое наступление левых сил стало возможно, когда на передний план выдвинулась проблема неравенства. Благодаря ее подчеркнутой остроте мир ужасается — общественность готова предпринимать любые шаги для борьбы с этим вселенским злом. Причем для многих сегодняшних борцов с неравенством это только первый шаг, всего лишь подготовка почвы для возрождения прежних социалистических и полусоциалистических идей.
Бестселлер «Капитал в XXI веке», попавший ровно в этот тренд, и взгляды его автора Тома Пикетти — показательный пример [Piketty, 2014]. Он продвигает идею глобального налога на богатство в дополнение к прогрессивной шкале налогообложения и считается одним из самых модных сейчас левых интеллектуалов.
Боюсь, что наблюдаемый сегодня тренд к возрождению левых идей не цикличен и в ближайшие годы едва ли стоит ждать его ослабления. Идеологический разворот начался где-то в середине 1990-х годов. Если, к примеру, посмотреть на политические пристрастия членов Американской экономической ассоциации, то окажется, что из них примерно две трети являются сторонниками Демократической партии. Лет 20 назад их было заметно меньше. И если так пойдет дальше, то вполне вероятно, что еще через пару десятилетий цифра приблизится к 90 %. Тогда экономическая теория превратится в идеологически столь же однородную социальную науку, какой уже давно стала социология. Откуда тут будет взяться конкуренции идей?
Отождествление статистических показателей неравенства с этическими представлениями о справедливости — это, пожалуй, главное «дискурсивное» оружие, которое сейчас используется для продвижения левой идеологической повестки.
РАЗНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Однако никакой жесткой причинно-следственной связи между неравенством и несправедливостью в обществе не существует. Количественно неравенство может быть совсем небольшим, но если люди воспринимают его как несправедливое, оно будет вызывать недовольство. И наоборот, какое бы высокое неравенство ни наблюдалось фактически, если люди считают его оправданным, никаких протестных настроений мы не увидим. Все попытки найти значимые корреляции между количественными показателями неравенства и ростом социальной напряженности были безуспешны. Вот лишь один пример: в недавно опубликованной статье американских политологов было показано, что чем активнее в те или иные периоды времени средства массовой информации в США муссировали тему неравенства, тем меньше была доля американцев, выражавших готовность поддержать меры государства по перераспределению доходов. Это хорошая иллюстрация, что неравенство и несправедливость совсем не одно и то же.
Если спросить американцев, нужно ли раскулачить Билла Гейтса или Илона Маска, я думаю, большинство ответят «нет». Полагаю, что и россияне не имеют ничего против богатства Аллы Пугачевой. Но если бы в середине 2000-х годов их спросили об отношении к самому богатому на тот момент человеку России Михаилу Ходорковскому, то они наверняка сочли бы имевшиеся у него доходы и богатство «несправедливыми». Причина? Различия в источниках получения богатства. Предметом оценки большинства людей выступают не масштабы неравенства, а механизмы его возникновения. В этом смысле неравенство неравенству рознь.
Если бедняк обокрал своего состоятельного соседа — совсем не факт, что все сочтут такое выравнивание доходов «справедливым». Здесь как в спорте: неприятие вызывает не неравенство результатов, а «нечестная игра». (В этом, в частности, убеждает опыт российской приватизации.) Зачем же подменять одну цель другой? Люди хотят жить в обществе не с более равномерным распределением доходов, а с более справедливым устройством. (Скажем, в ЮАР после краха системы апартеида неравенство пошло резко вверх!) И такая задача на порядок сложнее.
Рискну высказать предположение: бремя ответственности за отождествление понятий «неравенство» и «несправедливость» во многом лежит на экономистах, которые привыкли работать с чисто количественными показателями. И поскольку в их распоряжении нет статистических данных, которые позволяли бы отделить «честные» способы получения богатства от «нечестных», они идут более простым путем, предпочитая судить о справедливости/несправедливости неравенства, исходя исключительно из его масштабов.
В действительности в современных обществах нет и не может быть никакого количественного критерия дистрибутивной справедливости. Как должны поделить клад двое людей, если один затратил массу времени, сил и средств на его поиск, а другой решил просто прогуляться за компанию? Если клад поделят поровну, вы сочтете такой дележ «справедливым»? Если бы справедливым признавалось только полное равенство, то такие сложно устроенные общества, какие мы видим сегодня, просто не могли бы существовать. Когда социальные психологи и экономисты проводят лабораторные эксперименты, в рамках которых участникам предлагается поделить между собой определенный выигрыш, то люди чаще всего выбирают вариант с дележом поровну. Отсюда делается вывод о существовании у Homo sapience некой врожденной склонности к равенству. Но стоит только усложнить условия эксперимента, приблизив их к реальной жизни, как большинство участников начинают выбирать различные варианты неравного распределения, считая «справедливыми» именно их.
Борясь за «равенство», современные интеллектуалы вольно или невольно способствуют возбуждению в обществе одного из самых сильных антисоциальных чувств — чувства зависти. Де-факто они исходят из уверенности, что подобно им, рядовые люди относятся к тем, кто сильно преуспел, с осуждением и неприязнью. Но так ли это? Мне кажется, что широкая публика относится к таким людям скорее с интересом и почтением, если не с восхищением. Кому-то эта мысль покажется дикой, но здесь у меня есть сильные союзники, такие как Адам Смит или Торстейн Веблен. О том же свидетельствует и такой элементарный «эмпирический» факт, как процветание индустрии гламура. Могла бы она существовать, если бы широкая публика относилась к богатым и успешным исключительно с завистью и ненавистью? Тогда это была бы заведомо провальная затея.
Перед нами типичный пример того, как интеллектуалы пытаются вложить в головы других людей собственную картину мира, собственные представления и оценки, а затем исходя из этого начинают выступать с политическими призывами. Недаром, откликаясь на «Капитал в XXI веке» Пикетти, выдающийся историк и экономист Д. Макклоски отмечала, что основу социальной философии этой книги составляет «узкая этика зависти» [McCloskey, 2014].
ЧЕРЕЗ ОКНО
Если измерение неравенства — это «окно», то какие реальные проблемы через него можно увидеть?
Их множество и все зависит от того, куда мы направляем свой взгляд. Представим себе, что мы обнаружили высокое неравенство и хотим разобраться в его источниках. И вот выясняется, что женщины зарабатывают меньше мужчин. Чтобы понять, есть ли здесь социальная проблема, нужны специальные исследования. Если окажется, что женщинам недоплачивают при прочих равных условиях, — это дискриминация. Если же выяснится, что все дело в том, что у них меньше трудовой опыт (потому что они предпочитают заниматься детьми), то проблемы нет.
Установление количественной меры неравенства не содержит в себе никаких прямых нормативных и политических импликаций. Для того чтобы они появились, мы должны обратиться к реальным проблемам, таким, например, как проблема бедности. Если люди живут впроголодь и неспособны себя обеспечить — это вызов обществу, вызов нашему нравственному чувству. Но в росте коэффициента Джини с 0,40 до 0,45 никакого вызова нет.
Из масштабного исследования Пикетти следует, что в развитых странах период относительно невысокого неравенства пришелся на середину ХХ в. — на годы Великой депрессии, Второй мировой войны, холодной войны. Едва ли это случайно. Как показал американский историк У. Шнейдел в книге «Великий уравнитель: насилие и история неравенства от каменного века до XXI столетия», в истории человечества источником резкого сокращения неравенства всегда и везде выступали социальные катаклизмы — войны, революции, распады государства, эпидемии, голод и т. д. [Scheidel, 2017]. Вопрос: готовы ли нынешние «борцы» с экономическим неравенством предпочесть ему новый раунд массового насилия?
ЛИТЕРАТУРА
McCloskey D. N. Measured, Unmeasured, Mismeasured, and Unjustified Pessimism: A Review Essay of Thomas Piketty’s Capital in the Twenty-First Century // Erasmus Journal for Philosophy and Economics. 2014. Vol. 7. No. 2. P. 73–115.
Novokmet F., Piketty T., Zucman G. From Soviets to Oligarchs: Inequality and Property in Russia, 1905–2016 / NBER Working Paper No. 23712. Cambridge, MA: NBER, 2017.
Piketty T. Capital in the Twenty-First Century. Cambridge: Harvard University Press, 2014.
Scheidel W. The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century. Princeton: Prinston University Press, 2017.
XIII Экономическое неравенство — вселенское зло?[202]
Сначала коротко о терминах.
Понятие неравенства имеет множество значений и может прилагаться к различным сферам жизни общества. В моих заметках речь пойдет исключительно о количественном неравенстве в экономических показателях (слова, набранные курсивом, здесь ключевые). Подчеркну еще раз: при использовании термина «неравенство» я всегда и во всех случаях буду иметь в виду масштабы вариации в результатах экономической деятельности и ничего больше. Такой ракурс избран не потому, что я считаю его, как выразился бы В. Ленин, архиважным или архиинтересным. Просто общемировая дискуссия центрирована сегодня именно на нем.
В последнее время политическая, экономическая и интеллектуальная элита многих стран оказалась буквально одержима проблемой неравенства. Эта тема не сходит со страниц газет и экранов телевизоров; вокруг нее кипят страсти в блогосфере; ежегодно публикуются тысячи посвященных ей книг и статей — как академических, так и публицистических; сплошным потоком, одна за другой, на нас обрушиваются цифры, показывающие, каких ужасающих масштабов достигает сегодня неравенство. Мейнстримный взгляд на вещи прост и однозначен: в последние полтора-два десятилетия неравенство везде и всюду росло не виданными никогда ранее темпами; сейчас оно вплотную приблизилось к рекордным по историческим меркам уровням либо даже превзошло их; если так пойдет и дальше, миру грозят неисчислимые бедствия — социальные конфликты, революции и даже распады целых наций; чтобы взять ситуацию под контроль, правительства должны не просто положить конец этой безудержной эскалации, но и резко сократить уже существующие уровни неравенства; только так человечеству удастся избежать надвигающейся на него катастрофы.
Так мыслят мейнстримные политики (вроде Б. Обамы или Х. Клинтон), мейнстримные представители бизнеса (вроде У. Баффета или Дж. Сороса), мейнстримные экономисты (вроде П. Кругмана, Дж. Стиглица или Т. Пикетти), мейстримные интеллектуалы (вроде Н. Хомского). Бывший президент США Б. Обама провозгласил проблему неравенства ключевым вызовом, стоящим перед нацией, добавив, что все, что делала его администрация, было направлено на борьбу с ней. В ходе последних президентских выборов в США Х. Клинтон сравнила неравенство с раковой опухолью, разъедающей общество. Число таких высказываний можно множить и множить. Суммируя в краткой формуле: неравенство — вселенское зло, на борьбу с которым, сомкнув ряды, должны встать все люди доброй воли.
Отсюда видно, как легко и непринужденно борьба с неравенством может перетекать в охоту на ведьм: ведь всякий, кто думает иначе, автоматически попадает в число людей недоброй воли, т. е. предстает моральным и интеллектуальным монстром. Как ни удивительно, но до сих пор и в самом деле изредка встречаются диссиденты (впрочем, их совсем мало), не разделяющие повальной одержимости проблемой неравенства. Свою главную задачу я вижу именно в этом — в том, чтобы объяснить, почему люди, придерживающиеся таких эксцентрических взглядов, не повывелись еще окончательно.
Если бы я не был ограничен рамками статьи, мое объяснение состояло бы из двух частей. Первая была бы чисто фактологической: в ней речь шла бы о том, какие показатели неравенства существуют; на основе каких данных и с помощью каких процедур они рассчитываются; насколько совпадают или не совпадают оценки, получаемые разными исследователями и статистическими ведомствами разных стран, и насколько им можно доверять. Вторая была бы нормативной: в ней я попытался бы показать, почему количественное неравенство не представляет этической проблемы и почему его некорректно оценивать в нормативных терминах; почему на вопрос «неравенство — это хорошо или плохо?» правильным ответом будет «ни то ни другое», поскольку сам этот вопрос лишен смысла (подобно тому, как лишен смысла такой, например, вопрос: «каков на вкус красный цвет — сладкий или горький?»); наконец, почему «обычные» люди (неинтеллектуалы) склонны судить о приемлемости/неприемлемости богатства и доходов не по тому, насколько они велики или малы, а по тому, как они были получены, — с нарушением или без нарушений правил «честной игры» (т. е. предметом их нормативных суждений оказывается не «количество» неравенства, а его «качество»). Однако в настоящих заметках я ограничусь обсуждением (причем неполным и фрагментарным) только первой, фактологической стороны дела, оставив обсуждение более сложных и более спорных нормативных аспектов на будущее.
НЕРАВЕНСТВО — КАКОЕ ИЗ?
На практике существует множество способов измерения неравенства. Неравенство в рыночных доходах (до вычета налогов и предоставления трансфертов) — это не то же самое, что неравенство в располагаемых доходах (после вычета налогов и предоставления трансфертов); неравенство в денежных доходах — это не то же самое, что неравенство в полных доходах (с учетом поступлений в натуральной форме); неравенство в текущих доходах — это не то же самое, что неравенство в пожизненных доходах; неравенство в доходах — это не то же самое, что неравенство в уровнях потребления (показатели доходов и потребления могут расходиться в тех случаях, когда мы сберегаем часть заработанного или, наоборот, прибегаем к заимствованиям); неравенство между индивидами — это не то же самое, что неравенство между домохозяйствами (семьями) или налогоплательщиками; неравенство в богатстве (показатели запасов) — это не то же самое, что неравенство в доходах (показатели потоков); проблема неравенства — это не то же самое, что проблема бедности; наконец, персональное распределение доходов (между индивидами) — это не то же самое, что функциональное распределение доходов (между факторами производства).
Альтернативные формы экономического неравенства могут отличаться друг от друга не только по величине, но также по темпам и направленности изменений. Соответственно первый вопрос, который нужно задавать себе при встрече с любыми количественными оценками неравенства: это оценки чего?
Если нас прежде всего волнуют различия в реальном благосостоянии людей, то для их измерения лучше всего подходят два показателя, хотя и они, конечно, не идеальны. Во-первых, это уровни потребления: ведь в конечном счете именно потребление, а не доход служит для нас источником «полезности», удовлетворений, жизненных благ. Во-вторых, это пожизненные доходы. От года к году многие из нас могут испытывать очень сильные колебания в доходах, но на длительных интервалах времени эти колебания сглаживаются. Кроме того, при оценивании текущих доходов мы сравниваем людей, находящихся на разных стадиях жизненного цикла: у каждого поколения доходы низки в молодости, возрастают в зрелые годы и вновь снижаются в старости. Показатели неравенства в пожизненных доходах свободны от этого искажающего влияния фактора возраста и потому оказываются намного точнее и информативнее.
Оценки, относящиеся к разным странам и разным периодам времени, показывают, что показатели неравенства в текущих доходах как минимум в 1,5–2 раза превышают показатели неравенства в уровнях потребления или пожизненных доходов. Отсюда видно, как небезопасно судить о неравенстве в благосостоянии людей по стандартным показателям неравенства, чаще всего попадающим в поле зрения как исследователей, так и широкой публики.
ОТКУДА ДАННЫЕ?
Существует два основных источника данных, откуда мы можем черпать сведения о неравенстве. Оба имеют множество недостатков и ограничений (каждый — свои) и оба чреваты серьезными искажениями реального положения дел.
Первый — это выборочные обследования домохозяйств. «Врожденные» дефекты этого источника давно и хорошо известны. Во-первых, мы никогда не можем быть до конца уверены в репрезентативности результатов таких обследований. Во-вторых, при их проведении высок риск получения от респондентов неверной информации из-за ошибок припоминания и сознательных искажений. В-третьих, каким подробным ни был бы опросный инструментарий, какие-то виды доходов все равно могут оставаться неучтенными. Но, пожалуй, главный изъян таких обследований связан с тем, что они не схватывают «правого хвоста» распределения по доходам и богатству из-за физической невозможности для интервьюеров проникать в богатые и сверхбогатые дома. Как следствие, для того чтобы реконструировать полную картину распределения доходов или богатства, к опросным данным приходится приклеивать «правый хвост», либо исходя из тех или иных априорных предпосылок, либо используя те или иные альтернативные источники данных. «Приклеили» справа большой «хвост» — получили громадное неравенство, «приклеили» маленький — получили крошечное. При любых вариантах простор для исследовательского произвола будет оставаться более чем внушительным.
Другой возможный источник — данные административной (налоговой) статистики. Он позволяет успешно решать проблему «правого хвоста» распределения (поскольку богатые тоже платят налоги), но с ним другая беда. В этом случае полностью не охваченным остается гигантский сегмент получателей нулевых, низких и средних доходов. Это те, кто либо вообще ничего не зарабатывает, либо получает доходы, законодательно выведенные из-под налогообложения. Чем больше доходов, с которых не платятся налоги, тем менее представительными оказываются административные данные. Вдобавок само понятие «налогоплательщик» далеко не однозначно: иногда это индивиды, иногда семейные пары, иногда целые семьи. Наконец, нельзя забывать о мощных стимулах к сознательному сокрытию доходов с целью полного или частичного ухода от налогов. В результате в США, например, вне охвата налоговой статистикой остается почти половина (40 %!) всех доходов населения. Одним словом, при ближайшем рассмотрении административная статистика оказывается такой же «дырявой», как и опросная. Отличие лишь в том, что в этом случае «приклеивать» к исходным данным приходится уже не правую, а левую часть распределения.
Экономическое неравенство — это не физический объект, к которому можно подойти с линейкой, померить длину, ширину и высоту и перемножить, чтобы получить объем. Никакая оценка масштабов неравенства не может считаться «объективным фактом». В нагрузку к фрагментам объективной информации мы всегда получаем громадный «мешок» с множеством условностей, допущений, предположений, вменений, досчетов, перерасчетов, корректировок, передатировок, взвешиваний, перевзвешиваний, экстраполяций, интерполяций и т. д. Поменяйте содержимое «мешка» и вы получите совершенно другую картину: большое неравенство превратится в маленькое, а маленькое — в большое. Подчеркну еще раз: кочующие из публикации в публикацию шокирующие цифры по неравенству не даны «объективно»; все они в большей или меньшей мере представляют собой продукт творчества самих «счетчиков».
Стоит ли поэтому удивляться, что статистика неравенства до сих пор остается серой зоной, где ничего похожего на консенсус не наблюдается даже среди специалистов? Несколько лет назад, в 2015 г., вышел специальный номер «Journal of Economic Inequality», посвященный сравнительному анализу наиболее авторитетных международных баз данных по неравенству. В нем создатели этих информационных ресурсов рассказывали о своей работе и оценивали работу других. Мне кажется, что такой брани, близкой к площадной, я не встречал на страницах академических изданий никогда. Каждый доказывал, что только он считает все правильно, обвиняя других во всевозможных методологических прегрешениях.
Вопрос (риторический): если даже асы по измерению экономического неравенства до сих пор не могут договориться между собой, то, может быть, неспециалистам стоит воздерживаться от жонглирования непонятно какими цифрами и не вставать в позу мудрецов, знающих, куда катится мир? Может быть, надо быть скромнее и умерить свои пророческие амбиции?
ЦЕНА ВМЕНЕНИЙ
Но так ли уж велики расхождения в оценках, чтобы вообще придавать им значение? Лучшим полигоном, чтобы проверить это, может считаться американская статистика по неравенству, по общему признанию, самая добротная, самая точная и самая надежная.
В США механика получения официальных оценок по неравенству доходов примерно такова. Сначала Бюро цензов (The Census Bureau), используя результаты регулярно проводимых им выборочных обследований домохозяйств, рассчитывает первоначальные, «сырые» оценки. Затем Бюджетное управление конгресса США (Congressional Budget Office — CBO) доводит их «до ума», внося необходимые корректировки и добавляя неучтенные виды доходов. Оценки CBO рассматриваются как наиболее полные и, по сути, имеют статус «официальных».
Азбучной истиной считается, что США — это страна с самым высоким неравенством по доходам среди всех развитых стран. Оценки коэффициента Джини, по располагаемым доходам, представленные на рис. XIII.1, наглядно это подтверждают (для США использована оценка CBO). С показателем 0,45 США идут с громадным отрывом от всех остальных развитых стран. Казалось бы, их «лидерство» — неоспоримый факт. Но совсем недавно один американский статистик, проработавший много лет в Бюро статистики труда (Bureau of Labor Statistics), решил подвергнуть его проверке и обнаружил немало удивительного [Early, 2018].
В США на федеральном уровне действует 83 трансфертные программы, связанные с проверкой нуждаемости (means-testing). Угадайте, сколько из них учитывается при получении «официальных» оценок по неравенству? Семь! Помимо этого существует еще около двух десятков программ, которые формально не связаны с проверкой нуждаемости, но по факту также являются трансфертными, так как перекачивают деньги от одних групп населения к другим. При учете всех неучтенных перераспределительных программ общий объем трансфертов в США увеличивается почти вдвое — на 1 трлн (!) долл. в абсолютном выражении (это не намного меньше суммы учтенных трансфертов, составляющей 1,5 трлн долл.). Но это еще не конец истории. В «официальных» оценках учтены федеральные налоги, но не учтены штатные и местные. В конечном счете после учета всех трансфертов и всех налогов коэффициент Джини для США сокращается вдвое — с 0,45 до 0,23 и из страны с самым высоким они превращаются в страну с самым низким неравенством среди всех развитых стран (рис. XIII.2). Как видим, не только отдельные исследователи, но и официальные статистические ведомства могут с успехом искажать действительные масштабы неравенства, дезориентируя не только публику, но и самих себя.
Рис. XIII.1. Коэффициент Джини по располагаемым доходам, США (по данным ОЭСР) и развитые страны, 2016 г.
Источники: США: [Congressional Budget Office, 2016]; остальные страны: [Organisation for Economic Co-operation and Development, 2018].
Для такой гигантской и внутренне неоднородной страны, как США, коэффициент Джини, равный 0,23, — это фантастически низкий уровень. При взгляде на эту цифру трудно удержаться от вывода, что практически ничего, с чем нужно было бы продолжать «бороться», в США уже не осталось. В самом деле: как показывает табл. XIII.1, доходы самых богатых 20 % американцев превосходят сегодня доходы самых бедных 20 % только в 3 раза! Возникает также подозрение, что борьба с неравенством в США могла уже зайти слишком далеко, чтобы начать вредить экономике и портить жизнь «обычным» людям. В самом деле: как следует из той же таблицы, доходы среднего квинтиля превосходят доходы нижнего квинтиля лишь в 1,2 раза. Предположим, что нижняя группа включает только тех, кто сидит на «вэлфере», а центральная — только тех, кто зарабатывает на жизнь собственным трудом. Вопрос: захотят ли получатели пособий слезать с иждивения у государства и выходить на рынок труда, если в лучшем случае это даст им лишь 20-процентную прибавку в доходах?
Рис. XIII.2. Коэффициент Джини по располагаемым доходам, США (по расчетам Дж. Эрли) и развитые страны, 2016 г.
Источники: США: [Early, 2018]; остальные страны: [Organisation for Economic Co-operation and Development, 2018].
Таблица XIII.1
Распределение конечного дохода домохозяйств по квинтилям, США, 2013 г., %
Источник: [Early, 2018].
Другой, не менее популярный показатель неравенства — это доля верхнего (богатейшего) 1 % в совокупных доходах населения. В последние десятилетия он получил широкую популярность благодаря серии публикаций команды Т. Пикетти. Из этих публикаций следовало, что в США плоды экономического роста практически целиком достаются узкой группе сверхбогачей, тогда как на долю всех остальных не остается почти ничего. Растиражированный СМИ, этот вывод вызвал огромный общественный резонанс и воспринимается сегодня американским общественным мнением как твердо установленный факт.
В табл. XIII.2 приведены результаты новейшего исследования Пикетти и его соавторов [Piketty, Saez, Zucman, 2018]. По их расчетам, с 1979 по 2014 г. доля богатейшего 1 % в суммарных рыночных доходах американцев выросла на 9 п.п., а в суммарных располагаемых доходах — на 6,5 п.п. Казалось бы, нам не остается ничего другого как признать, что США окончательно и бесповоротно перестали быть страной равных экономических возможностей.
Таблица XIII.2
Доля верхнего 1 % в совокупных доходах жителей США, 1960–2014 гг., %
Источники: [Piketty, Saez, Zucman, 2018; Auten, Splinter, 2018].
Однако два ведущих специалиста по налоговой статистике, Г. Аутен и Д. Сплинтер, подвергли оценки команды Пикетти пересчету и получили совершенно другие цифры [Auten, Splinter, 2018]. По их выкладкам, за период 1979–2014 гг. доля богатейшего 1 % в суммарных рыночных доходах американцев выросла лишь на 4 п.п., а в их суммарных располагаемых доходах — вообще лишь на 0,7 п.п. (табл. XIII.2). Де-факто это означает, что располагаемые доходы сверхбогачей росли ровно теми же темпами, что и у остальных групп населения, так что ни о никаком взрывном росте неравенства говорить не приходится. Сегодня доля богатейшего 1 % в располагаемых доходах жителей США остается практически такой же, какой она была полвека тому назад.
Причина расхождений в оценках и выводах конкурирующих исследовательских команд все та же: произвольные допущения плюс неполный учет налогов и трансфертов. Любопытно, что почти половина общего разрыва между оценками Пикетти/Саеца/Зюкмана, с одной стороны, и оценками Аутена/Сплинтера — с другой, объясняется тем, что они использовали разные процедуры «вменения» незарегистрированных доходов — тех самых доходов, что не попадают в поле зрения налоговых служб. Таким образом, решающим фактором оказывается то, каким группам в конечном счете будут приписаны эти доходы. Вменив основную часть незарегистрированных доходов богатым, получаем картину взрывного роста неравенства; вменив основную их часть небогатым, получаем картину почти полного отсутствия роста неравенства.
Это возвращает нас к уже заданному ранее вопросу (да-да, риторическому): неужели на столь хлипкой статистической основе можно выносить безапелляционные нормативные вердикты, призывая государство к принятию жесточайших мер по ограничению неравенства?
СУДЬБЫ ГЛОБАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА
Мрачные прогнозы о том, какие потрясения из-за неравного распределения доходов и богатства грозят человечеству уже в ближайшие годы, заставляют предполагать, что глобальное неравенство в последние десятилетия росло как на дрожжах. Но так ли это в действительности?
Воспользуемся оценками Бранко Милановича, одного из наиболее известных и наиболее активных «борцов» с неравенством. В течение многих лет он курировал подразделение Всемирного банка по этой теме, а после выхода в отставку завел посвященную ей собственную базу страновых данных. Я хотел бы особо подчеркнуть «мейнстримность» его оценок, чтобы предупредить возможные сомнения в их происхождении и качестве.
Динамика четырех альтернативных показателей глобального неравенства, на которые ссылается Миланович, представлена на рис. XIII.3. Что мы видим? Первый показатель — коэффициент Джини для среднедушевых уровней ВВП (сплошная линия) — рос до 2000 г., но затем устремился вниз, сократившись, по сравнению с пиковыми значениями, более чем на 5 п.п. Однако этот показатель не слишком информативен, поскольку при его подсчете крупные и малые страны — скажем, Китай и Андорра — получают одинаковые веса. Коэффициент Джини для среднедушевых уровней ВВП, взвешенных по численности населения в соответствующих странах (пунктирная линия), демонстрирует еще более впечатляющую картину. Перелом в его динамике в сторону снижения произошел раньше (1980), а примерно с середины 1990-х годов скорость, с какой он продолжал снижаться, стала просто невероятной. В итоге за последние 40 лет он потерял почти 20 п.п.!
Однако сокращение межстранового неравенства могло перекрываться увеличением внутристранового неравенства (скажем, в тех же Индии и Китае). В результате глобальное неравенство — с учетом дифференциации доходов внутри отдельно взятых стран — могло не только не уменьшиться, но возрасти. Две другие кривые, обозначенные на графике темными и светлыми кружками, — это траектории изменения нескорректированного и скорректированного показателей глобального неравенства. Первый рассчитывался Милановичем по данным обследований домохозяйств в соответствующих странах, второй — по тем же данным обследований домохозяйств, но с корректировкой на доходы «сверхбогачей» из списка-400 журнала «Форбс». Согласно полученным результатам, нескорректированный глобальный коэффициент Джини начал снижаться на рубеже 1980–1990-х годов, потеряв к настоящему времени почти 10 п.п. Кривая для скорректированного глобального коэффициента Джини развернулась вниз позднее и его снижение было менее значительным — около 5 п.п. Важно тем не менее подчеркнуть, что вопреки мейнстримному нарративу ни один из индикаторов глобального неравенства не демонстрировал в последние годы признаков роста: все они дружно катились вниз.
Сам Миланович считает разворот трендов глобального неравенства эпохальным событием. «Мы видим нечто, — пишет он, — что может иметь огромную историческую значимость; похоже, впервые со времени Промышленной революции наблюдается снижение глобального неравенства. Впервые за два столетия — после длительного периода, в течение которого оно росло и затем находилось на очень высоком плато, — глобальное неравенство перешло, по-видимому, на нисходящую траекторию движения» [Milanovic, 2012]. Он предсказывает, что если страны с формирующимися рынками продолжат расти быстрее, чем развитые, то в ближайшие 50 лет мир, возможно, вернется к ситуации с низким глобальным неравенством, в которой он пребывал в начале XIX столетия [Ibid.].
Рис. XIII.3. Динамика глобальных коэффициентов Джини по доходам, 1950–2015 гг.
Источник: [Milаnovic, 2017].
Более того, я готов утверждать, что за последние несколько десятилетий глобальное неравенство в благосостоянии людей сократилось не на несколько п.п., как полагает Миланович, а на порядок сильнее. К сожалению, данные о глобальном неравенстве в пожизненных доходах остаются недоступными. Но если бы они существовали, то наверняка показали бы резкое сжатие масштабов общемирового экономического неравенства. Почему? Потому что за эти десятилетия развивающиеся страны радикально сократили отставание от развитых по ожидаемой продолжительности жизни. С 1970 по 2010 г. ожидаемая продолжительность жизни в развитых странах выросла лишь на 6 лет, тогда как в развивающихся — на 20 лет и даже в самых бедных из них — на 12 лет. Очевидно, что это должно было драматически сократить разрыв в пожизненных доходах между жителями развитых и развивающихся стран.
Но если все это так, то тогда вместо того, чтобы объявлять начало XXI в. патологическим периодом в истории человечества, может быть, правильнее расценивать его как период уникального социального прогресса и думать не столько о шагах по борьбе с неравенством, сколько о шагах, способных ускорить рост мировой экономики?
А ЧТО РОССИЯ?
Что касается России, то уж с ней, казалось бы, все кристально ясно. Эксперты, журналисты, широкая публика убеждены, что в России сложилось и поддерживается чудовищное, сверхъестественное, запредельное экономическое неравенство (как полагают многие, самое высокое в мире) и что сегодня именно оно является проблемой всех проблем. Ну, какие сомнения могут быть в этом «медицинском» факте? Как ни странно, но могут.
На рис. XIII.4 представлена динамика показателей неравенства для России, рассчитываемых и публикуемых Росстатом. На старте переходного периода в 1992 г. коэффициент Джини по доходам сначала немного повысился, затем в 1993 г. резко подскочил вверх (по невыясненным причинам), раздувшись за один год более чем на треть (!), а после этого на протяжении всех остальных лет топтался на месте, «болтаясь» в узком коридоре значений от 0,39 до 0,42. В последние годы он, похоже, начал пусть медленно, но все же снижаться, опустившись к 2017 г. до отметки 0,412.
Много это или мало на фоне других стран? Строго говоря, ни то ни другое. Отталкиваясь от значений коэффициента Джини, которые фиксирует Росстат, Россию следовало бы отнести к группе стран-середняков. Правда, с несколькими уточнениями.
Первое: в тех случаях, когда домохозяйство состоит из нескольких человек, возникает проблема, как распределить между ними семейный доход. Простейший способ — поделить совокупный доход домохозяйства на число членов. Именно так и поступает Росстат. Однако в статистической практике других стран подобный «лобовой» подход давно не используется. Дело в том, что совместное проживание нескольких людей под одной крышей может становиться источником значительной экономии на масштабе, так что для того, чтобы достичь того же уровня благосостояния, что у домохозяйства из одного человека, домохозяйству из двух человек оказывается совсем не обязательно иметь вдвое больший доход. Для учета этой экономии на масштабе разрабатываются и используются специальные поправочные коэффициенты. Скажем, совокупный доход домохозяйства делится не на число членов, а на квадратный корень из их числа (не на 2, а на 1,4; не на 3, а на 1,7; не на 4, а на 2, и т. д.). Применение таких коэффициентов сглаживает неравенство в распределении доходов, делая его более равномерным. Не менее важно, что потребности людей не одинаковы и сильно меняются с возрастом: в рабочих возрастах они, как правило, выше, чем в детстве или старости. Чтобы учесть эту неоднородность, в международной статистической практике используются различные шкалы эквивалентности, когда людям разного возраста придаются разные веса. Это также, как нетрудно понять, ведет к заметному сглаживанию неравенства.
Рис. XIII.4. Динамика коэффициента Джини по доходам, Россия, 1991–2016 гг.
Источник: Росстат.
Но поскольку при подсчете коэффициентов Джини по доходам Росстат не делает никакой корректировки на эффект масштаба и не применяет никаких шкал эквивалентности, официальные российские показатели неравенства оказываются искусственно завышенными по сравнению с аналогичными показателями для других стран. Кажется достаточно правдоподобным, что при учете экономии на масштабе и неоднородности внутренней структуры домохозяйств они могли бы снизиться не менее чем на 3–5 п.п.
Второе: в России существует огромная вариация в стоимости жизни между регионами. Очевидно, что один и тот же денежный доход, скажем, в Москве и Дагестане будет обеспечивать идентичным домохозяйствам совершенно разный уровень благосостояния. Росстат не учитывает этой межрегиональной дифференциации в уровнях цен, что неизбежно приводит к завышению официальных оценок. Как показывает анализ, при ее учете масштабы неравенства в России оказываются заметно ниже [Yemtsov, 2008].
Третье: Россия наряду с Бразилией, Китаем или США принадлежит к числу стран с гигантской территорией и огромным разнообразием природных и климатических условий. Естественно ожидать, что показатели неравенства у таких стран будут намного выше, чем у небольших и географически однородных стран. Но межрегиональные различия в доходах во многом представляют собой компенсацию за проживание в неблагоприятных природных и климатических условиях. (В противном случае мы наблюдали бы массовую миграцию на Дальний Восток и Крайний Север, где заработки выше; однако реальные миграционные потоки развернуты в обратном направлении.) Поэтому если бы в целях сопоставимости с данными по другим странам мы произвели хотя бы частичную корректировку российских показателей на вклад региональных факторов, коэффициент Джини для России снизился бы еще на несколько процентных пунктов.
Четвертое: хотя официальные оценки неравенства, публикуемые Росстатом, учитывают социальные трансферты в денежной форме, они не учитывают неденежные социальные трансферты. Дети в школах получают бесплатное питание; школьники, студенты и пенсионеры имеют право бесплатного проезда на городском транспорте; пенсионерам предоставляются льготы по оплате жилья и коммунальных услуг и т. д., и т. д., и т. д. Все это остается за кадром измерений неравенства в официальной статистике. Поскольку же основная часть неденежных социальных трансфертов достается домохозяйствам, находящимся в относительно худшем материальном положении, их учет привел бы к дополнительному (причем, скорее всего, весьма ощутимому) снижению получаемых оценок коэффициента Джини.
Интуитивно представляется вполне вероятным, что со всеми этими поправками показатели неравенства для России из средних, в свете международных сопоставлений, могли бы стать низкими.
Еще одно немаловажное обстоятельство. Исходным источником информации, на базе которой строятся официальные оценки неравенства по России, служат микроданные регулярно проводимых Росстатом Обследований бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ). На рис. XIII.5 для периода 2003–2016 гг. воспроизведены те же, что и на рис. XIII.4, официальные оценки коэффициента Джини, но только с добавлением оценок, рассчитанных на основе первичных данных ОБДХ. Клин между двумя этими кривыми показывает «цену вменения»: насколько скорректированные Росстатом показатели отклоняются от нескорректированных, следующих из микроданных ОБДХ. Из представленного графика видно, что с течением времени этот клин непрерывно разбухал, увеличившись в последние годы почти до 10 п.п.: так, в 2015 г. скорректированный коэффициент Джини составлял 0,41, тогда как нескорректированный только 0,32. Иными словами, примерно четвертая часть от величины публикуемых Росстатом оценок неравенства оказывается продуктом разного рода методологических «накруток».
В совершенно ином свете российская ситуация с распределением доходов и богатства предстает в недавней совместной работе Ф. Новокмета, Т. Пикетти и Г. Цакмана [Novokmet, Piketty, Zucman, 2017]. Во-первых, по их расчетам, уровень неравенства в России намного выше, чем показывает официальная статистика: так, коэффициент Джини по доходам составляет не 0,41, а 0,55. Во-вторых, общая динамика российских показателей неравенства выглядит совсем не так, как ее изображает Росстат. На рис. XIII.6 представлены траектории изменения для двух альтернативных версий коэффициента Джини, разработанных командой Пикетти.
В первом случае (нижняя линия) использовались только данные обследований домохозяйств. Согласно этому варианту расчета, на протяжении двух последних десятилетий неравенство в России почти непрерывно увеличивалось: с 0,36 в 1996 г. оно выросло до 0,48 в 2007 г. Правда, затем коэффициент Джини немного снизился, потеряв к 2015 г. примерно 2 п.п. Во втором случае (верхняя линия) также использовались данные обследований домохозяйств, но на этот раз с добавлением данных налоговой статистики. Согласно этому варианту расчета, пик неравенства в России пришелся на 1996 г., когда коэффициент Джини вышел на отметку 0,64. В последующие годы на фоне достаточно сильных краткосрочных колебаний неравенство в России постепенно снижалось, упав к 2015 г. до 0,55. Оценки команды Пикетти предполагают, что в России за два последних десятилетия неравенство среди низко- и среднедоходных групп резко возросло (о чем говорят опросные данные), тогда как неравенство среди высокодоходных групп резко упало (о чем говорят данные налоговой статистики).
Еще одну историю, не имеющую ничего общего с двумя предыдущими, рассказывают эксперты Всемирного банка [Calvo, Lуpez-Calva, Posad, 2015; Dang et al., 2018]. (Интересно отметить, что их анализ строился на данных, аналогичных тем, которые в качестве точки отсчета использовала команда Пикетти, а именно — на результатах выборочных обследований домохозяйств.) По оценкам двух групп исследователей из Всемирного банка, за последние полтора десятилетия неравенство в России устойчиво и быстро снижалось (рис. XIII.7). С 1998 по 2012 г. коэффициент Джини уменьшился более чем на треть: с 0,48–0,49 в 1996–1998 гг. до 0,31–0,32 в 2014–2015 гг. Столь сильное сжатие неравенства за столь непродолжительный период — это поразительный результат. Здесь не лишним будет напомнить, что согласно первой версии расчетов команды Пикетти, также строившейся на опросных данных (т. е. до добавления данных налоговой статистики), коэффициент Джини по России вовсе не упал за этот период на 16–17 п.п., как полагают эксперты Всемирного банка, а, напротив, вырос на 9 п.п.!
Рис. XIII.5. Динамика коэффициента Джини, Россия, 2003–2016 гг.
Источники: Росстат; [Dang et al., 2018].
Рис. XIII.6. Динамика коэффициента Джини по доходам, Россия, 1980–2015 гг.
Источник: [Novokmet, Piketty, Zucman, 2017].
Наконец, в качестве завершающего штриха сошлемся на оценки для представительной выборки из 53 стран, полученные П. Линдертом, одним из наиболее авторитетных современных исследователей проблем неравенства (скажем, Т. Пикетти активно использовал его данные в своем бестселлере «Капитал в XXI веке»). Важное достоинство сформированной Линдертом базы данных состоит в том, что она содержит страновые оценки коэффициентов Джини как по рыночным, так и по располагаемым доходам [Lindert, 2017].
Согласно этим оценкам, по масштабам неравенства в рыночных доходах с показателем 0,49 Россия занимает 18-е место (табл. XIII.3). Выше нее располагается примерно треть всех вошедших в выборку стран, включая Аргентину, Бразилию, Грузию, Грецию, Ирландию, Мексику, Португалию, Чили, Южную Африку; практически встык с ней идут Испания и США. В то же время по масштабам неравенства в располагаемых доходах Россия с показателем 0,32 оказывается на гораздо более низком 32-м месте, пропуская вперед себя Бразилию, Великобританию, Грецию, Грузию, Израиль, Испанию, Италию, Латвию, Мексику, Канаду, Новую Зеландию, Португалию, США, Турцию, Чили, Эстонию, Южную Африку. Практически вровень с ней идут Австралия, Аргентина, Германия, Ирландия, Польша, Франция, Япония. Таким образом, если с точки зрения распределения рыночных доходов Россия входит в группу стран со средними, то с точки зрения распределения располагаемых доходов — с низкими показателями неравенства.
Рис. XIII.7. Динамика коэффициента Джини по доходам, Россия, 1994–2015 гг.
Источники: [Calvo, Lуpez-Calva, Posad, 2015; Dang et al., 2018].
Таблица XIII.3
Масштабы перераспределения в 53 странах, коэффициенты Джини (в %)
Источник: [Lindert, 2017].
Данные Линдерта позволяют также ранжировать страны по степени «прогрессивности» действующих в них перераспределительных систем. Судить об этом можно по тому, какая доля неравенства «исчезает» после выплаты налогов и предоставления трансфертов (по сути, речь идет о разности между коэффициентами Джини по рыночным и по располагаемым доходам). Поразительно, но Россия оказывается страной с одной из самых высоких в мире перераспределительных прогрессий! С чрезвычайно внушительным показателем, равным 17 п.п., она занимает четвертое место (!) среди 53 стран, вошедших в выборку Линдерта.
Увы, боюсь, что после этого экскурса нам не остается ничего другого, как признать, что реальных масштабов существующего сегодня в России неравенства не знает никто. То ли оно высокое (команда Пикетти), то ли среднее (Росстат), то ли низкое (Линдерт); то ли оно росло (команда Пикетти), то ли стояло на месте (Росстат), то ли быстро снижалось (эксперты Всемирного банка). Есть варианты на любой вкус.
Отсюда вопрос (опять риторический): можно ли исходя из этой статистической какофонии объявлять Россию страной с запредельно высоким неравенством и требовать, чтобы государство сделало его не больше, чем в «цивилизованных» странах?
В заключение позволю себе выйти за жанровые границы документального рассказа и дать политико-идеологическую оценку развернувшейся в последние годы всемирной кампании по борьбе с неравенством.
Внутренним мотором этой кампании является попытка левых сил обновить свою идеологическую повестку. К концу XX в. традиционная «левая» повестка либо исчерпалась (были похоронены идеи государственной собственности, централизованного планирования, рабочих кооперативов), либо утратила новизну и мобилизационный потенциал.
Переход левых сил в активное контрнаступление стал возможен тогда, когда на передний план выдвинулась проблема неравенства, что создало условия для дальнейшего усиления их дискурсивной власти над умами людей. По времени это совпало с введением в научный оборот огромного массива данных по распределению доходов и богатства. Неравенство — необыкновенно духоподъемная тема, поскольку враг известен в лицо и можно сразу же переходить в атаку. Общество оказывается психологически готово мириться с любыми формами государственного вмешательства, если оно объявляется направленным на борьбу с неравенством. Важно также, что для многих «левых» это всего лишь первый шаг — подготовка почвы для возрождения их прежних социалистических и полусоциалистических идеалов.
Но борьба с количественным неравенством — это борьба с тенью. Она вдохновляется не просто ложной, но, как я пытался показать, фантомной целью. Нет слов, война с фантомами занятие крайне увлекательное, но одновременно ведь и крайне опасное. Она с легкостью заводит туда, куда идти никто и не собирался. ХХ век дал немало уроков того, куда может приводить погоня за фантомами, и в ХХI в. хорошо бы эти уроки не забывать.
ЛИТЕРАТУРА
Auten G., Splinter D. Income Inequality in the United States: Using Tax Data to Measure Long-Term Trends. Washington, DC: Joint Committee on Taxation, 2018.
Calvo P. A., Lуpez-Calva L. F., Posad J. A Decade of Declining Earnings Inequality in the Russian Federation. Washington: The World Bank, 2015.
Congressional Budget Office. The Distribution of Household Income and Federal Taxes, 2013. Washington: US Congress, 2016.
Dang H.-A. H. et al. Inequality and Welfare Dynamics in the Russian Federation during 1994–2015 / Policy Research Working Paper. No. 8629. The World Bank. Washington: The World Bank, 2018.
Early J. F. Reassessing the Facts about Inequality, Poverty, and Redistribution / Cato Institute Policy Analysis. Paper No. 839. Washington: Cato Institute, 2018.
Lindert P. H. Rise and Future of Progressive Redistribution / CEQ. Working Paper. No. 73. Tulane: CEQ Institute, 2017.
Milanovic B. Global Income Inequality by the Numbers: In History and Now. An Overview / The World Bank. Policy Research Working Paper No. 6259. Washington: The World Bank, 2012.
Milanovic B. Inequality in the Age of Globalization / Lecture in Honor of Anthony A. Atkinson. Brussels: Annual Research Conference, 2017. -finance/00.keynote_milanovic.pdf.
Novokmet F., Piketty T., Zucman G. From Soviets to Oligarchs: Inequality and Property in Russia, 1905–2016 / The World Bank. Working Paper Series. No. 2017/09. Washington: The World Bank, 2017.
Organisation for Economic Co-operation and Development. Income Inequality (indicator). 2018. -inequality.htm.
Piketty T., Saez E., Zucman G. Distributional National Accounts: Methods and Estimates for the United States // Quarterly Journal of Economics. 2018. Vol. 131. No. 2. P. 519–578.
Yemtsov R. Through the Looking-Glass: What Is behind Official Data on Inequality in Russia over 1992–2003? / Paper Prepared for the 30th General Conference of the International Association for Research in Income and Wealth. Portoroz (Slovenia), 2008.
Экономический рост
XIV Идея «вековой стагнации»: три версии[203]
В годы, последовавшие за недавним мировым экономическим кризисом 2008–2009 гг., среди экономистов возродился интерес к, казалось бы, давным-давно похороненной идее «вековой стагнации» (secular stagnation). Это подзабытое словосочетание неожиданно обрело популярность и стало все чаще привлекаться для характеристики как текущего, так и будущего состояния экономик развитых стран (в первую очередь США). Стоит с самого начала пояснить, что концепция «вековой стагнации» предполагает не полную остановку экономического роста в буквальном смысле слова, а всего лишь его сильное длительное замедление по сравнению с прошлыми, более благополучными временами. Более того, она вполне допускает, что рост в развивающихся странах и даже во всей мировой экономике может, как и прежде, оставаться высоким или даже очень высоким: опасность сильного торможения предвидится только для стран, находящихся на «фронтире» технологического прогресса. Не исключает это и того, что даже в развитых странах на какое-то непродолжительное время (скажем, при выходе из глубокого и затяжного кризиса) темпы экономического роста могут заметно ускоряться, поднимаясь до высоких отметок.
Как показывает обзор существующей (непрерывно пополняющейся) литературы, понятие «вековая стагнация» не имеет четкого, однозначного определения. По остроумному сравнению Б. Эйхенгрина, оно представляет собой что-то вроде теста Роршаха для экономистов: разные исследователи вкладывают в него разный смысл [Eichengreen, 2014].
Рассуждая в терминах современной теории экономического роста, можно выделить три возможные интерпретации. Во-первых, речь может идти о переходе экономики с более высокой на более низкую долговременную траекторию потенциального роста: скажем, от среднегодовых темпов прироста потенциального ВВП 2 % к среднегодовым темпам его прироста 1 %. Во-вторых, может предполагаться сохранение хронического разрыва между потенциальным и фактическим выпуском (output gap), когда по тем или иным причинам фактический ВВП никак не может приблизиться к потенциальному и экономика из в года в год функционирует с неполной загрузкой производственных ресурсов (ниже уровня «полной занятости»). Наконец, в-третьих, под этим может подразумеваться невозврат экономики на прежнюю линию тренда после глубоких кризисных потрясений: хотя темпы роста могут и не отличаться от тех, что наблюдались ранее, но из-за того, что потери, понесенные во время кризиса, остаются некомпенсированными, ВВП удерживается на более низком уровне, чем тот, на котором он находился бы при отсутствии кризисного «сбоя».
Три этих возможных случая иллюстрируют графики на рис. XIV.1–XIV.3. Естественно, представленные на них варианты совсем не обязательно исключают друг друга. Наихудшей можно считать ситуацию, когда все они имеют место одновременно: экономика перешла с более высокой на более низкую траекторию роста потенциального ВВП; ей никак не удается вернуться на уровень полной занятости; потери, понесенные в кризис, остаются некомпенсированными из-за отсутствия посткризисного ускорения (типичного для данной фазы цикла).
Значение высоких темпов роста для благосостояния общества можно проиллюстрировать с помощью так называемого правила 70 [Gordon, 2014a]. Согласно этому «подручному» правилу, примерное число лет, необходимых для удвоения величины какого-либо показателя, определяется по формуле:
Рис. XIV.1. Сценарий-1: переход экономики на более низкую траекторию роста потенциального выпуска
Рис. XIV.2. Сценарий-2: образование хронического разрыва между траекториями потенциального и реального выпуска
Число лет ≈ 70 / темп прироста, в %.
Так, для удвоения душевого ВВП при годовом темпе его прироста 1 % потребуется примерно 70 лет, при темпе 2 % — 35 лет, при темпе 3 % — около 25 лет и т. д. В результате даже небольшое расхождение в текущих показателях экономического роста может оборачиваться огромными различиями в уровне и качестве жизни в долгосрочной перспективе.
Теоретически угроза вековой стагнации может вызываться как факторами, лежащими на стороне предложения (скажем, исчерпанием потенциала технологического прогресса), так и факторами, лежащими на стороне спроса (скажем, хронической недостаточностью совокупного спроса). Объяснения первого типа можно охарактеризовать как «ростовые», второго — как «кейнсианские». В современной литературе представлены как те, так и другие.
Первым, кто ввел в оборот идею «вековой стагнации», был Дж. М. Кейнс, а знаменитой ее сделал известный американский экономист Элвин Хансен (его иногда называют «американским Кейнсом»). В развернутом виде она была высказана Хансеном в его президентском обращении к Американской экономической ассоциации в 1938 г. «Вековая стагнация» описывалась им как сочетание «слабых подъемов, прерывающихся еще в младенчестве, и депрессий, питающих самих себя и оставляющих после себя твердое и по видимости неподвижное ядро безработицы» [Hansen, 1939]. По его прогнозу, в последующие десятилетия исчерпание свободных земельных ресурсов (прекращение расширения территории США), приостановка роста населения и торможение технологического прогресса должны были привести к падению темпов накопления капитала и, как следствие, к крайне анемичному экономическому росту. Частных инвестиций, предсказывал он, будет хронически не хватать для поддержания полной занятости, отсюда — перспектива устойчиво высокой безработицы. В подобной ситуации избежать опасности вползания в «вековую стагнацию» можно только с помощью крупномасштабных государственных инвестиций. Без этого, по мнению Хансена, экономика США была обречена на хроническую стагнацию.
Рис. XIV.3. Сценарий-3: некомпенсированные потери в результате кризиса при сохранении прежнего темпа прироста потенциального выпуска (угла наклона соответствующей кривой)
Однако как показал дальнейший ход истории, мрачные пророчества Хансена ждал полный провал: 1930-е годы, когда он их высказывал, оказались едва ли не самыми динамичным с точки зрения технологических достижений десятилетием за всю историю США [Field, 2003]; вопреки его предсказаниям всего через несколько лет в США начался настоящий демографический бум; никакой депрессии, которая, согласно представлениям кейнсианцев (например, П. Самуэльсона) должна была неминуемо наступить после окончания Второй мировой войны, так и не произошло. Парадоксально, но хансеновские предостережения прозвучали буквально на пороге «золотого века» американской экономики (1950–1960-е годы), когда она росла так быстро, как никогда раньше и никогда позже. Наконец, в свете современной теории экономического роста сама аргументация Хансена выглядит как внутренне противоречивая и не выдерживающая критики.
Задним числом кажется очевидным, что выдвижение идеи «вековой стагнации» было навеяно негативным психологическим опытом Великой депрессии и что никаких объективных оснований для такого рода катастрофических предсказаний — во всяком случае, в то время — не существовало. Не удивительно, что в конечном счете за этой идеей закрепилась крайне дурная репутация, так что в течение многих десятилетий никому из серьезных исследователей не приходило в голову с ней «заигрывать». Однако во время мирового экономического кризиса конца 2000-х годов, получившего название Великой рецессии, о ней вспомнили вновь и она неожиданно получила достаточно широкое распространение, в том числе и в академических кругах (скорее всего, здесь действовали те же психологические механизмы, что и в 1930-е годы). Многие экономисты предложили свои версии того, почему США или уже вступили или должны вот-вот вступить в полосу «вековой стагнации». Дискуссии об этом активно ведутся до сих пор несмотря на, казалось бы, обнадеживающие признаки постепенного выздоровления американской экономики. Так, теме «вековой стагнации» была посвящена одна из сессий на ежегодной конференции Американской экономической ассоциации в 2015 г.
Три наиболее известные попытки такого рода связаны с именами авторитетных американских экономистов, признанных специалистов по данному кругу проблем, — Тайлера Коуэна [Cowen, 2011], Роберта Гордона [Gordon, 2012; 2014a] и Лоуренса Саммерса [Summers, 2013a; 2013b; 2014a; 2014b].
ВЕРСИЯ 1: ВЫСОКО ВИСЯЩИЕ ПЛОДЫ
Первой по времени оказалась небольшая по объему работа Т. Коуэна «Великая стагнация», рассчитанная на широкого читателя и потому написанная в неакадемическом стиле [Cowen, 2011]. Согласно его диагнозу, экономика США уже несколько десятилетий живет в состоянии «великой стагнации» (т. е. резко снизившихся темпов экономического роста) и, скорее всего, будет продолжать находиться в нем в обозримом будущем[204]. Вхождение в стагнирующее состояние он датирует началом 1970-х годов, когда рост медианного реального дохода американских домохозяйств практически застопорился и на протяжении нескольких последующих десятилетий оставался едва видимым. (Так, если за период 1947–1973 гг. произошло его удвоение, то за период 1973–2004 гг. он вырос всего лишь на 22 %.)
Главной причиной «великой стагнации» Коуэн считает исчерпание легко доступных — «низко висящих» — экономических плодов (low-hanging fruit), которыми США имели возможность пользоваться раньше, и связанный с этим вынужденный переход к сбору «высоко висящих» плодов, добывание которых обходится намного дороже и приносит меньшую отдачу: «Рядовые представители предыдущих поколений находились в куда более выигрышном положении, чем мы, поскольку уровень их жизни удваивался каждые несколько десятилетий. Мы пожинали низко висящие плоды на протяжении, по меньшей мере, трех последних столетий. Мы строили экономические и социальные институты исходя из ожидания изобилия низко висящих плодов, но они по большей части уже собраны. …В фигуральном смысле американская экономика пользовалась множеством низко висящих плодов начиная, по крайней мере, с XVII столетия, когда она располагала обширными незанятыми землями, огромной массой иммигрантской рабочей силы и новыми мощными технологиями. Но в течение последних 40 лет эти низко висящие плоды начали исчерпываться, тогда как мы продолжали считать, что они все еще здесь. Мы оказались неспособны признать, что находимся на технологическим плато и что на стоящих перед нами деревьях осталось гораздо меньше плодов, чем нам хотелось бы думать» [Cowen, 2011]. Таким образом, в понимании Коуэна наступление «великой стагнации» было вызвано не столько появлением каких-либо труднопреодолимых препятствий на пути экономического роста, сколько просто постепенным «проеданием» низко висящих плодов. По сути, речь идет о действии закона убывающей доходности (производительности), в данном случае — применительно к экономической истории США.
Коуэн выделяет три основные разновидности низко висящих плодов, которыми в течение долгого времени имела возможность пользоваться американская экономика. Во-первых, до конца XIX в. в США сохранялось обилие свободных плодородных земель, расположенных близко к рекам и озерам, а также залежей полезных ископаемых — преимущество, которого были лишены страны Европы. При этом обилие свободных земельных ресурсов привлекали в США наиболее амбициозных работников-иммигрантов из Европы и их соединение давало огромный выигрыш в производительности. Однако к началу XX в. это преимущество было исчерпано, практически все свободные земли были заняты. Впрочем, низко висящие плоды на этом не кончились.
Во-вторых, в течение длительного времени США располагали огромным пулом одаренной, но не имевшей достаточного образования молодежи. В 1900-е годы аттестаты об окончании полной средней школы среди 17-летних подростков имели лишь 6 %, к концу 1950-х — уже 60 %, а к концу 1960-х — 80 %. В начале XX в. колледж посещал лишь один из каждых 400 молодых людей в возрасте 18–24 лет, тогда как столетие спустя — четверо из каждых 10! Для стимулирования ускоренного экономического роста было достаточно обеспечить более-менее приемлемое образование множеству «потенциальных гениев», находившихся среди необученной молодежи, чтобы с фермы или от станка они смогли переместиться в конструкторские бюро или научные лаборатории, где их труд начинал приносить гораздо большую отдачу.
Однако к настоящему времени и этот тип низко висящих плодов практически близок к исчерпанию. Повторить образовательный рывок, который проделали США в XX в., невозможно: а) пул «потенциальных гениев» по определению ограничен, так как по мере расширения системы образования она начинает включать в свою орбиту все большее число все менее и менее способных молодых людей; б) охват американской молодежи средним и высшим образованием достиг уже такой высокой отметки, что дальнейшее повышение ее образовательного уровня возможно лишь в очень узких пределах; в) начиная с 1970-х годов США фактически вышли на образовательное плато (охват молодежи полным средним образованием даже несколько снизился, а высшим хотя и повысился, но не очень значительно); г) последние десятилетия были отмечены явным ухудшением качества образования — как школьного, так и вузовского. По наблюдениям Коуэна, сегодня «предельный» студент американского колледжа не может грамотно писать, неспособен свободно читать и плохо владеет правилами арифметики; если несколько десятилетий назад из колледжей, не закончив курса обучения, выбывал каждый пятый студент, то сейчас — каждый третий. Иными словами, образовательный «дивиденд» также почти полностью проеден.
Наконец, в-третьих, в течение долгого времени экономика США сохраняла доступ к низко висящим плодам, связанным с прорывными технологиями, разработанными в ходе Второй промышленной революции конца XIX — начала XX в. (электричество, двигатель внутреннего сгорания, телеграф, телефон, радио, телевидение, авиация и др.). После того, как бо́льшая их часть была собрана, а новых сопоставимых по мощи технологий не появилось, экономический рост не мог не замедлиться. Предельные выгоды от инноваций, появившихся много десятилетий назад, постепенно убывали, а предельные выгоды от инноваций, появившихся недавно, оказались далеко не такими значительными. В результате, полагает Коуэн, с точки зрения характеристик вещной среды современная жизнь (если не принимать во внимание компьютеры и Интернет) немногим отличается от той, что была доступна уже в 1950-е годы: люди так же, как и тогда, водят автомобили, пользуются холодильниками, щелкают выключателями электрического света и т. д.
Первая (парового двигателя и железных дорог) и Вторая промышленные революции породили иллюзию, будто быстрый экономический рост может быть равномерным и длиться вечно, но это не так. Мы, по мысли Коуэна, должны отказаться от привычной модели технологического прогресса, предполагающей, что он идет с одной и той же неизменной скоростью, в пользу новой модели, допускающей возможность периодического чередования резких ускорений с последующими выходами на плато. Сейчас экономика США пребывает на одном из таких технологических плато и вывести ее из этого состояния может только следующая крупная технологическая революция, признаки которой пока просматриваются слабо. Падение темпов экономического роста, наблюдавшееся с начала 1970-х годов, само по себе служит верной приметой того, что процесс производства новых идей замедлился. По расчетам некоторых экономистов, в США послевоенный экономический рост был на 80 % связан с применением «старых», выдвинутых ранее идей и лишь на 20 % — с применением новых, не существовавших прежде [Jones, 2002]. Раньше делать изобретения было гораздо проще и этим вполне успешно могли заниматься даже непрофессионалы. Сейчас ситуация изменилась и, возможно, с этим связана долговременная тенденция к неуклонному падению такого важного показателя, как число выданных патентов в расчете на одного исследователя[205].
Более того, как замечает Коуэн, существующая статистика производительности и ВВП, по-видимому, в значительной мере приукрашивает реальную картину. Три сектора, которые в последние десятилетия росли опережающими темпами, — это государственное управление, образование и здравоохранение; с каждым годом на них приходилась все большая доля ВВП. Но это именно те сектора, где стимулы сильнее всего искажаются государством и где объем и качество услуг, скорее всего, сильно переоцениваются. Продукция государственного управления, образования и здравоохранения не подлежит рыночной оценке (а если и подлежит, как в случае со здравоохранением, то с крайне высокой степенью недостоверности), так что ее ценность для потребителей фактически измеряется по произведенным затратам. Это означает, что при оценке ВВП убывающая предельная производительность деятельности этих секторов не принимается в расчет (к примеру, неявно допускается, что качество, важность и эффективность государственных инвестиций остаются на одном и том же неизменном уровне даже при резком увеличении их объема). Во многих случаях есть достаточно убедительные основания полагать, что в последние десятилетия рост производительности в этих секторах вообще был отрицательным. (Скажем, по сравнению с началом 1970-х годов реальные затраты на образование выросли в США в 2,5 раза, но навыки по чтению, письму, математике, демонстрируемые школьниками на тестовых испытаниях, не изменились и остались теми же.) С учетом трудностей измерения ценности услуг, оказываемых государственным управлением, здравоохранением и образованием, естественно ожидать, что действительное повышение уровня жизни населения могло быть намного меньше, чем об этом говорит официальная статистика.
В то же время существует сектор, вклад которого в ВВП недооценивается, — сектор информационных технологий. Действительно, доступ к множеству услуг Интернета является свободным, они достаются пользователям совершенно бесплатно и, как следствие, не учитываются при подсчетах ВВП. Более того, во многих случаях новейшие информационные разработки способствуют активному вытеснению из потребления традиционных продуктов, участвующих в формировании ВВП. Так, современные гаджеты, рыночная стоимость которых минимальна, служат субститутами (причем одновременно!) книг, телефонов, магнитофонов, телевизоров, услуг почтовой связи и т. п. Это — низко висящие плоды, но особого рода, поскольку они не получают материального воплощения и существуют только в сознании человека: «Значительная часть ценности, порождаемой Интернетом, переживается людьми на персональном уровне и потому ничего не добавляет к показателям производительности» [Cowen, 2011].
Многие современные инновации имеют нетрадиционную форму: они генерируют полезность, но при этом почти или совсем не генерируют рыночного дохода (revenue) и создают мало новых рабочих мест. (Когда, к примеру, из своих блужданий по Интернету потребитель извлекает полезность, эквивалентную 20 долл., это никак не отражается на величине ВВП.) В этом, — подчеркивает Коуэн, — принципиальное отличие от прорывных технологий прошлого, внедрение которых порождало значительный рыночный доход и сопровождалось созданием большого количества рабочих мест. Он предлагает различать доходо-интенсивные и доходо-неинтенсивные секторы экономики и отмечает, что современный технологический прогресс сосредоточен по преимуществу в доходо-недостаточных секторах. Именно потому, что доходный компонент Интернета и аналогичных информационных технологий сравнительно невелик, они вносят скромный вклад в динамику измеряемого ВВП.
Еще одна важная особенность значительной части современных инноваций заключается в том, что выгоды от них достаются не всем членам общества, а распределяются пропорционально интеллектуальным способностям пользователей, поскольку для обращения с ними требуются определенные специализированные навыки. В этом смысле они носят характер частных, а не общественных благ. (Наглядный пример — инновации в финансовой сфере, выгоды от которых достаются узкому кругу людей и не транслируются в повышение доходов у большинства членов общества.) В этом еще одно важное отличие от более «демократичных» технологий прошлого, плоды от которых доставались практически всем независимо от степени их технической подготовленности. Отсюда же растущее экономическое неравенство: современный технологический прогресс смещен в пользу высококвалифицированных работников (skill-biased technological change), в то время как спрос на работников с низкой и/или средней квалификацией может стагнировать или даже снижаться, вызывая падение их доходов.
Но это не значит, что Коуэн является убежденным технопессимистом. Он указывает на несколько факторов, способных противодействовать «великой стагнации». Во-первых, это включение в процесс производства передовых научных и технологических идей крупнейших развивающихся стран — Индии и Китая. Они располагают таким количеством «потенциальных гениев», что это способно придать технологическому прогрессу резкое ускорение и вывести его на новые рубежи. Если раньше исследователи в этих странах занимались в основном разработкой упрощенных версий уже имевшихся продуктов, то теперь они все активнее подключаются к разработке новых. Вполне возможно, что в будущем уже не Индия и Китай будут пользоваться плодами идей, впервые появившихся в США, как это было в прошлом, а, наоборот, США начнут заимствовать новые идеи, идущие из Индии и Китая. Во-вторых, Интернет резко облегчил и интенсифицировал научные коммуникации между исследователями и открыл новые возможности для самообразования. Это также способно придать технологическому прогрессу новые импульсы. В-третьих, в американском обществе, похоже, сложился консенсус относительно необходимости улучшения качества национальной системы образования. Наконец, еще одним недооцененным фактором, который мог бы способствовать выводу экономики США из состояния «великой стагнации», Коуэн считает повышение социального статуса ученых.
Тем не менее он предупреждает, что США должны быть готовы к тому, что замедленный экономический рост, скорее всего, продолжится, даже когда эксцессы Великой рецессии останутся далеко позади. Низкие по историческим меркам темпы экономического роста — это «новая нормальность», с которой так или иначе придется считаться[206].
Мы не будем подробно разбирать версию Т. Коуэна, поскольку ее можно рассматривать как своего рода введение к схожей, но более развернутой аргументации, представленной в работах Р. Гордона. (Любопытно, что сам Гордон на Коуэна никогда не ссылается.) Остановимся лишь на одном вопросе — о наиболее адекватной модели технологического прогресса.
Коуэн, конечно, прав, когда пишет, что принимаемая обычно по умолчанию модель равномерного кумулятивного роста научных и технических знаний не имеет под собой сколько-нибудь прочной эмпирической основы. Однако модель «пульсирующего» технологического прогресса, с периодическим чередованием рывков и пауз, которой он отдает предпочтение, также едва ли может считаться единственно возможной альтернативой [Fernald, Jones, 2014]. Не исключена ситуация, когда процесс производства новых идей оказывается жестко подчинен закону убывающей доходности: каждое следующее открытие требует все больших затрат, так что скорость технологического прогресса последовательно замедляется. Возможна обратная картина, когда расширение запаса научных и технических знаний делает их дальнейшее приращение все более быстрым и все менее затратным, так что технологический прогресс идет с непрерывным ускорением. Еще один возможный вариант — это полное иссякание пула новых идей, что предполагает остановку технологического прогресса (падение его темпов до нуля).
Сама множественность этих альтернативных сценариев свидетельствует о том, что параметры «производственной функции», описывающей процесс производства новых идей, нам неизвестны. Строго говоря, технологический прогресс непредсказуем и попытки его прогнозирования оказываются сопряжены с неизбежными ошибками.
ВЕРСИЯ 2: ВСТРЕЧНЫЕ ВЕТРЫ
Иной, более технический подход в традиции Э. Денисона с попыткой квантификации вклада различных источников экономического роста демонстрируют работы Р. Гордона [Gordon, 2012; 2014a].
На рис. XIV.4 представлена долговременная траектория роста американской экономики. Из этого графика видно, что в период с 1891 по 2007 г. реальный душевой ВВП США рос среднегодовым темпом порядка 2 %, причем на протяжении всего этого более чем векового отрезка времени он оставался на удивление устойчивым. Двухпроцентный темп прироста предполагает удвоение уровня ВВП примерно каждые 35 лет. Таким образом, при сохранении прежней динамики можно было бы ожидать, что к 2077 г. душевой ВВП США должен будет возрасти в 4 раза — с примерно 50 тыс. долл. в 2007 г. до свыше 200 тыс. долл. в 2077 г. Вопрос, на который пытается ответить в своих работах последнего времени Р. Гордон, — насколько реален подобный оптимистический сценарий, базирующийся на экстраполяции исторических трендов?
Рис. XIV.4. Долговременная фактическая траектория роста ВВП на душу населения США, 1891–2013 гг., и прогноз до 2077 г. при сохранении прежнего тренда
Источник: [Gordon, 2014a].
Отправной точкой для его рассуждений служит разложение показателя душевого ВВП на две составляющие — часовую производительность труда и количество отработанных часов в расчете на душу населения:
Y / N = Y / H × H / N,
где Y — объем реального ВВП, N — численность населения, а H — общее количество отработанных человеко-часов. По определению любой фактор, который сокращает либо часовую производительность либо отработанные часы в расчете на душу населения, будет способствовать снижению темпов роста душевого ВВП.
Как исторически менялось соотношение между темпами прироста часовой производительности, душевого ВВП и количества отработанных часов в расчете на душу населения, показано на рис. XIV.5. В первый из выделенных Гордоном подпериодов (1890–1972) продолжительность рабочего времени постепенно снижалась, так что рост производительности труда шел с опережением по отношению к росту душевого ВВП. Во второй (1972–1996) — это соотношение оказалось перевернутым из-за ускоренного роста количества отработанных часов в расчете на душу населения (примерно на 0,6 % в год) по причине массового выхода на рынок труда, во-первых, женщин и, во-вторых, поколения бэби-бумеров. Это сопровождалось резким снижением роста часовой производительности — с 2,36 до 1,38 %, т. е. на целый процентный пункт. В третий подпериод (1996–2004) процесс снижения продолжительности рабочего времени возобновился (причем с беспрецедентной по историческим меркам скоростью), но эффект от него был перекрыт скачком в росте часовой производительности — до 2,54 %, что в конечном счете позволило обеспечить ускоренный рост также и душевого ВВП. Этот рывок в производительности Гордон связывает с развернувшейся в те годы компьютерной революцией (или Третьей промышленной революцией, как он ее называет), плоды которой до того были практически не видны. Однако эффект от внедрения новых информационных технологий оказался очень непродолжительным: так Гордон интерпретирует тот факт, что в последний подпериод (2004–2013) среднегодовой темп прироста часовой производительности упал почти вдвое. В сочетании с еще более ускорившимся сокращением продолжительности рабочего времени это привело к самому вялому росту душевого ВВП за весь рассматриваемый период.
Рис. XIV.5. Годовые темпы прироста душевого ВВП, часовой производительности и количества отработанных часов в расчете на душу населения, США, 1891–2013 гг., %
Источник: [Gordon, 2014a].
Возникает вопрос: может ли американская экономика ускориться или впереди ее ждет продолжение этого негативного тренда, иными словами — «вековая стагнация»? Сам Гордон убежден, что в ближайшие 25–40 лет темпы экономического роста в США будут оставаться чрезвычайно низкими — существенно ниже исторической 2-процентной «нормы». Он выделяет четыре «встречных ветра» (headwinds), которые, по его мнению, не позволят американской экономике расти так быстро, как когда-то прежде.
Во-первых, это демографическая ситуация, из-за которой в ближайшие десятилетия количество отработанных часов в расчете на душу населения будет продолжать снижаться. Во-вторых, это застой в сфере образования. Полученное работниками образование является важнейшим фактором, определяющим производительность их труда, так что если их образовательный уровень почему-либо перестает повышаться, это неизбежно начинает тянуть вниз темпы экономического роста. Именно по такому сценарию в предстоящие десятилетия, скорее всего, будет развиваться ситуация в США. В-третьих, это углубляющееся неравенство в распределении доходов: не влияя прямо ни на производительность, ни на продолжительность труда, оно, по мнению Гордона, будет ограничивать доступ к плодам экономического роста для подавляющей части населения США, занимающей нижние 99 % по шкале распределения доходов (конкретно это будет выражаться в том, что доходы у этих нижних 99 % будут расти намного медленнее среднедушевого ВВП). В-четвертых, это огромный накопленный государственный долг, для погашения которого США рано или поздно будут вынуждены начать либо повышать налоги, либо сокращать трансфертные выплаты. Это будет дополнительно тормозить рост располагаемых доходов населения (т. е. доходов после вычета налогов и предоставления трансфертов) сверх ожидаемого замедления среднедушевых показателей ВВП.
Помимо этого Гордон ссылается еще на два сильных «встречных ветра» — глобализацию и удорожание энергоносителей / ужесточение экологических стандартов. Однако поскольку количественная оценка вклада этих факторов в предстоящее замедление экономического роста сталкивается с большими затруднениями, основное внимание он уделяет первым четырем «встречным ветрам». Насколько сильными они будут, насколько может замедлиться из-за них рост американской экономики?
Демография. Динамику количества отработанных часов в расчете на душу населения можно представить как производное от действия четырех факторов: средней продолжительности рабочего времени занятых работников; доли занятых в экономически активном населении; уровня экономической активности трудоспособного населения; соотношения численности трудоспособного и всего населения. По оценкам Гордона, изменения в двух из четырех этих показателей, как видно из табл. XIV.1, имели решающее значение: во-первых, занятые стали трудиться намного меньше (вследствие широкого распространения неполной занятости — как по инициативе компаний, так и по инициативе самих работников) и, во-вторых, произошел сильнейший отток населения из экономической активности, который лишь отчасти (причем в незначительной степени) был связан с возросшим охватом молодежи учебой в колледжах. В 1996–2013 гг. за счет первого из этих факторов количество отработанных часов в расчете на душу населения ежегодно снижалось на 0,28 %, за счет второго — на 0,32 %.
Для прогноза долгосрочных изменений показателя H/N Гордон считает возможным принять, что уровень занятости вернется к своим нормальным значениям, поскольку основной причиной его снижения (см. соответствующую оценку в табл. XIV.1) было временное повышение безработицы в условиях экономического кризиса. Однако в том, что касается динамики показателей продолжительности труда занятых работников и экономической активности трудоспособного населения, он не видит ничего обнадеживающего и ожидает их дальнейшего ухудшения.
Причин здесь несколько. Во-первых, как признают практически все, одним из главных драйверов наблюдавшегося в США падения продолжительности рабочего времени следует считать действующую систему медицинского страхования, предполагающую предоставление медицинских страховок по месту работы индивидов. В этих условиях компании оказываются заинтересованы в переводе максимального числа работников на неполную занятость, поскольку в таком случае они освобождаются от обязанности предоставлять им медицинскую страховку. Реформа медицинского страхования, проведенная Б. Обамой, еще более усилила стимулы для фирм действовать таким образом.
Таблица XIV.1
Компоненты изменения количества отработанных часов в расчете на душу населения, среднегодовые темпы прироста, США, 1996–2013 гг., %
Источник: [Gordon, 2014a].
Во-вторых, в настоящее время в США идет исход с рынка труда многочисленного поколения бэби-бумеров: по оценкам, процесс их выхода на пенсию должен будет занять в общей сложности примерно четверть века (2008–2034 гг.). Очевидно, что появление столь многочисленного контингента пенсионеров, поставляющих на рынок 0 ч труда, должно будет оказать сильнейшее понижательное давление на количество отработанных часов в расчете на душу населения.
В-третьих, отток из состава экономически активного населения мог также происходить из-за смягчения требований к получению права на пособия по инвалидности: все большее число людей предпочитали, вместо того чтобы выносить свои услуги на рынок труда, существовать на такие пособия. В том же направлении действовал еще один фактор: умирание промышленных моногородов (one-company towns) вследствие деиндустриализации. В США нередки случаи, когда в таких моногородах уровень экономической активности «проваливался» до 40 % или еще ниже[207].
Как уже упоминалось, среднегодовой темп сокращения количества отработанных часов в расчете на душу населения под совместным действием снижения продолжительности рабочего времени занятых работников и падения уровня экономической активности достигал 0,6 %. И хотя оснований для заметного улучшения этого показателя не просматривается (см. выше), тем не менее в качестве консервативной оценки Гордон принимает, что в ближайшие десятилетия он будет снижаться не так быстро — примерно на 0,4 % в год. Поскольку же на протяжении всего периода 1891–2007 гг. он сокращался в среднем на 0,1 % в год, это означает, что вклад демографического «встречного ветра» в замедление прироста душевого ВВП составит 0,3 п.п.
Образование. Другой не менее важный встречный ветер — резкое замедление темпов накопления человеческого капитала, которое давно уже началось и которое еще более усугубится в ближайшие десятилетия (в этом Гордон солидарен с Коуэном). Согласно существующим оценкам, одним из главных драйвером экономического роста в США в течение XX в. было быстрое повышение образовательного уровня рабочей силы. За 100 лет — с 1900 по 2000 г. — у населения старше 25 лет среднее число накопленных лет обучения в расчете на одного человека выросло с 8 до 13, или на 63 % в относительном выражении [Lindsey, 2013, p. 8]. Но если, как следует из расчетов К. Голдин и Л. Каца, в период 1940–1980 гг. образовательный уровень американских работников повысился с 9,01 до 12,46 лет (среднегодовой темп прироста достигал 0,81 %), то в период 1980–2005 гг. он дополнительно поднялся лишь до 13,54 лет (среднегодовой темп прироста скатился до 0,33 %) [Goldin, Katz, 2008]. В результате, по оценкам этих авторов, вклад образования в экономический рост снизился примерно на треть — с 0,59 до 0,37 п.п.
Как и Коуэн, Гордон обращает внимание на стабилизацию (даже некоторый откат) показателей охвата молодежи полным средним образованием и незначительный рост ее охвата высшим образованием. (Неблагополучная ситуация в американском среднем образовании, отмечает он, во многом связана с непрерывным увеличением доли молодых людей, заключенных в тюрьмы.) В результате с лидерских позиций в мировом рейтинге США скатились на 16-е место по охвату молодежи как полным средним, так и высшим образованием [Gordon, 2014b].
К этому добавляется крайне низкое качество обучения. Согласно результатам международной сопоставительной программы PISA в 2013 г. американские школьники занимали 21-е место в мире по достижениям в чтении, 24-е — по достижениям в естественных науках и 31-е — по достижениям в математике [Gordon, 2014a]. Серьезнейшая проблема, с которой сталкивается сейчас американская система высшего образования, — это непрерывное удорожание обучения в колледжах, что делает его все менее и менее доступным. С начала 1970-х годов стоимость высшего образования в США росла в 3 раза быстрее общего индекса потребительских цен. Не удивительно, что в этих условиях шло непрерывное наращивание задолженности по студенческим займам, превысившее к настоящему времени 1 трлн долл. Из-за этого многие студенты оказываются вынуждены совмещать учебу с работой, что, естественно, отрицательно сказывается на качестве получаемого ими образования.
По существу все исследователи едины сегодня в том, что в ближайшие десятилетия США ждет практически полная остановка образовательного роста. Стагнация образовательного уровня рабочей силы неизбежно повлечет за собой замедление темпов экономического роста. По наиболее авторитетным оценкам Д. Джоргенсона, в период 2010–2020 гг. вклад образования в рост душевого ВВП снизится с 0,27 % в предыдущие десятилетия до совершенно мизерной величины — 0,06 % [Jorgenson, 2014]. Соответственно Гордон предполагает, что вычет за счет замедленного накопления человеческого капитала составит –0,2 п.п. Вместе с вычетом за счет демографических факторов (–0,3 п.п.) это будет означать откат среднегодовых темпов прироста душевого ВВП от исторической «нормы» 2 % до отметки 1,5 %.
Неравенство. Плоды экономического роста могут распределяться очень неравномерно между различными группами, если в каких-то одних частях кривой распределения доходы растут быстрее среднего показателя для всего населения, тогда как в каких-то других — медленнее. Именно такую картину рисует Гордон для экономики США. Он отмечает, что доля в общей сумме доходов лиц, принадлежащих к наиболее обеспеченному 1 %, была очень высокой в период 1913–1929 гг.; драматически снизилась в последующие десятилетия, удерживаясь на этой гораздо более низкой отметке вплоть до начала 1970-х годов; затем начала постепенно повышаться вновь, пока не вернулась в последние годы обратно к значениям начала XX в. В результате если говорить о нижних 99 %, то рост их реальных доходов на протяжении нескольких последних десятилетий существенно отставал от роста среднего дохода (для всех 100 % населения). Гордон ссылается на данные известного американского исследователя Э. Саеца, согласно которым в 1993–2012 гг. у нижних 99 % темп прироста реального дохода был на 0,53 п.п. ниже среднего показателя для всех его получателей [Gordon, 2014a, p. 12].
И поскольку Гордон не видит никаких оснований ожидать в будущем сокращения масштабов неравенства, постольку для темпа прироста реальных доходов нижних 99 % он производит дополнительную корректировку на –0,5 п.п. В результате ожидаемый темп экономического роста для большинства населения США сокращается с 1,5 до 1 %.
Государственный долг. Еще один «встречный ветер», который, по мнению Гордона, неизбежно будет тормозить рост реальных доходов нижних 99 %, — это огромный государственный долг и необходимость его погашения. Рано или поздно для этого потребуется либо повышать налоги, либо сокращать трансфертные выплаты (либо делать то и другое вместе). Отсюда — разрыв между динамикой рыночных доходов (до вычета налогов и перераспределения трансфертов) и динамикой располагаемых доходов (после вычета налогов и перераспределения трансфертов). В терминах среднегодовых темпов прироста этот разрыв, по предположению Гордона, составит как минимум 0,2 п.п. — такой он видит цену предстоящей фискальной коррекции.
В результате для реальных располагаемых доходов нижних 99 % населения США он приходит к оценке среднегодового темпа прироста в размере 0,8 %:
2% (историческая «норма») — 0,3 % (демография) — 0,2 % (образование) — 0,5 % (неравенство) — 0,2 % (фискальная коррекция) = 0,8 %.
Гордон специально подчеркивает, что эта оценка получена им до какого-либо обсуждения вероятных перспектив инновационной активности и роста производительности. Четырех «встречных ветров» оказывается вполне достаточно, для того чтобы сократить ожидаемые темпы экономического роста более чем вдвое (с той оговоркой, что речь идет о среднегодовом темпе прироста не душевого ВВП страны, а реальных располагаемых доходов нижних 99 % населения). И если в случае сохранения среднегодового темпа прироста 2 % уровень жизни в США мог бы возрасти к 2077 г. до 200 тыс. долл., то при темпе прироста 0,8 % он сможет повыситься к этой дате лишь до 86 тыс. долл.
Производительность. Насколько изменится эта оценка, если принять во внимание возможные изменения в динамике производительности вследствие колебаний в инновационной активности? С точки зрения роста часовой производительности труда два из четырех выделенных Гордоном подпериодов можно назвать благоприятными (1890–1972 и 1996–2004) и два неблагоприятными (1972–1996 и 2004–2013). Успехи первого «благоприятного» подпериода он связывает с прорывными инновациями, появившимися в ходе Второй промышленной революции: сама продолжительность этого подпериода (свыше 80 лет!) свидетельствует, насколько эпохальными оказались ее достижения.
Последующее 40-летие включает два неблагоприятных подпериода, разделенных лишь короткой передышкой (длительностью всего лишь в 8 лет) сверхбыстрых темпов роста производительности. Эту передышку, как мы уже упоминали, Гордон относит на счет Третьей промышленной революции, связанной с изобретением Интернета, электронной торговли и т. д. Произошедший тогда рывок в динамике производительности он объясняет, во-первых, беспрецедентным (никогда затем не повторявшимся) удешевлением памяти и быстродействия компьютеров, и, во-вторых, опять-таки беспрецедентным увеличением доли сектора информационных технологий в ВВП США. Однако бум производительности, последовавший за появлением Интернета, оказался разочаровывающе коротким по сравнению с бумом, последовавшим за появлением электричества и двигателя внутреннего сгорания. К этому Гордон добавляет, что для развертывания Третьей промышленной революции потребовался чрезвычайно длительный период разгона: первые компьютеры появились еще в 1960-е годы, но их влияние на производительность стало ощущаться в лучшем случае с середины 1990-х годов. В обоих этих отношениях, по его мнению, Третья промышленная революция не идет ни в какое сравнение со Второй [Gordon, 2014a].
Оценить их экономические последствия можно, сравнив усредненные годовые темпы прироста часовой производительности труда за 1891–1972 и 1972–2013 гг.: если Вторая промышленная революция смогла обеспечить ее рост на 2,36 % в год, то Третья — лишь на 1,59 %, т. е. на треть меньше. И поскольку, убежден Гордон, ничто не указывает на приближение каких-либо технологических прорывов, которые могли бы обеспечить новый скачок в производительности, естественно предполагать, что в ближайшие десятилетия она будет повышаться с той же скоростью, что и в предыдущие 40 лет. Это означает снижение годовых темпов ее прироста на 0,6 п.п. по сравнению с долгосрочным показателем (2,2 %), который поддерживался на протяжении всего периода 1891–2007 гг.[208]
Свое «упражнение в вычитании» Гордон заканчивает диаграммой, представленной на рис. XIV.6. Согласно его прогнозу получается, что в ближайшие 25–40 лет среднедушевой ВВП США будет ежегодно возрастать не более чем на 0,9 %, а реальный располагаемый доход нижних 99 % и того меньше — на 0,2 %. Рост на 0,2 % — это, конечно же, самая настоящая «стагнация», хотя сам Гордон, как правило, избегает активно пользоваться данным термином. При этом он особо оговаривается, что никакого магического значения цифре 0,2 % он не придает: любая другая величина ниже 1 % точно так же будет означать резкое замедление роста экономики США по сравнению с опытом предшествующих более 100 лет[209].
Пессимизм Гордона натолкнулся на жесткую критику со стороны технооптимистов, таких как Дж. Мокир [Mokyr, 2014a; 2014b] или Э. Бринйолфссон и Э. Макаффи [Brynjolfsson, McAffee, 2014]. Эта критика шла по двум главным направлениям.
Во-первых, указывалось на то, что стандартная статистика ВВП и производительности труда плохо приспособлена к тому, чтобы адекватно улавливать рост экономического благосостояния общества за счет разнообразных инноваций, рожденных в ходе компьютерной революции. Отсюда — недооценка действительных темпов экономического роста и иллюзия его замедления в последние годы. На это Гордон резонно возражает, что измерения ВВП всегда занижали величину потребительского излишка, получаемого от инноваций, и есть достаточно оснований полагать, что масштабы подобных искажений в эпоху Второй промышленной революции (скажем, при переходе от конного транспорта к автомобильному) были куда больше, нежели сейчас.
Во-вторых, высказывалась уверенность в том, что в настоящее время американская экономика находится в «точке перегиба» — перехода от медленного технологического прогресса в недавнем прошлом к ускоренному технологическому прогрессу в ближайшем будущем: делались ссылки на Закон Мура, предполагающий бесконечный экспоненциальный рост мощности компьютеров; перечислялись новейшие прорывные разработки, внедрение которых будет способно обеспечить резкий скачок в производительности; утверждалось, что сама мысль о приостановке технологического прогресса свидетельствует об отсутствии воображения и что прежде подобные прогнозы всегда проваливались; и т. д.
Однако Гордон занимает в данном вопросе скептическую позицию. С его точки зрения, если в ближайшее время и можно ожидать каких-либо перемен, то это будет не ускорение, а, напротив, торможение технологического прогресса[210]. Такой вывод он делает из сравнения базовых характеристик Второй и Третьей промышленных революций. Вторая промышленная революция была многомерной и затрагивала буквально все стороны жизни общества; ключевые инновации, составившие ее ядро, дополняли друг друга, причем все они появились практически одновременно — в 1879 г.; период их созревания был недолгим и достаточно быстро они уже начали давать плоды; консолидация ее разнообразных аспектов через дополнительные изобретения растянулась на целых 80 лет; инновации, представлявшие собой ее отдаленные последствия, продолжали делаться и много позднее. Третья промышленная революция оказалась одномерной и затронула только одну сторону жизни общества — работу с информацией; период созревания у инноваций, составивших ее ядро, растянулся на несколько десятилетий; пик ее влияния был очень коротким и длился менее 10 лет. В результате Третью промышленную революцию Гордон считает лишь слабой тенью Второй.
Рис. XIV.6. Факторы, объясняющие замедление роста располагаемого дохода наименее состоятельных 99 % населения по сравнению с исторической «нормой» 2%
Источник: [Gordon, 2014a].
Более того, ее потенциал, по его мнению, уже практически полностью выбран. Так, к 2005 г. завершился переход к современному офису, оснащенному компьютерами с плоскими экранами и с доступом к Интернету; затем прогресс в этой области остановился. По всему миру используемое в офисах оборудование и производительность офисного персонала практически не отличаются от того, что можно было видеть 10 лет назад. Что касается бытовой техники, то она мало изменилась по сравнению с тем, что уже существовало в 1950-е годы (здесь позиции Гордона и Коуэна опять-таки совпадают). К этому времени важнейшие бытовые приборы были уже изобретены; после 1970 г. парк домашнего оборудования пополнился лишь микроволновыми печами, кондиционерами, усовершенствованной аудио- и видеоаппаратурой (цветные телевизоры и т. п.). О замедлении прогресса в области потребительской электроники говорят представители самой этой отрасли [Gordon, 2014a, p. 30].
Гордон перечисляет важнейшие инновации, на которые возлагают надежды технооптимисты: генная инженерия и перестройка на новой основе медицины и фармакологии; робототехника, искусственный интеллект и трехмерная печать; анализ больших массивов данных; автоматизированный («безводительский») автомобильный транспорт. По его мнению, все эти технологии либо начали использоваться уже давно (роботы), либо их потенциал с точки зрения влияния на производительность ограничен (скажем, даже если автомобилем станет управлять искусственный интеллект, человек, чтобы переехать в другое место, все равно будет вынужден, как и сейчас, находиться в салоне автомобиля).
Технооптимисты, настаивает Гордон, не учитывают временного характера ускорения роста производительности в эпоху dot.com в конце 1990-х годов. Основной эффект от Третьей промышленной революции уместился в ограниченный отрезок времени с 1996 по 2004 г., тогда как ее вклад в повышение производительности как до, так и после этого был очень небольшим. Это была уникальная ситуация и нет оснований ожидать, что она почему-либо повторится, о чем свидетельствуют различные данные. Так, темп прироста производственных мощностей в обрабатывающей промышленности США на протяжении долгого времени находился в диапазоне 2–3 %, в конце 1990-х годов поднялся до 7 %, но затем начал снижаться, став к 2012 г. отрицательным. Сходным образом менялась доля в добавленной стоимости обрабатывающей промышленности США, отраслей, производящих информационное и компьютерное оборудование: в 1972 г. она составляла 3 %, подскочила до 8,5 % в 2000 г., а затем стала убывать, вернувшись в 2013 г. на исходный низкий уровень. О том же говорит и динамика цен на компьютерную технику с учетом изменений в ее производительности: самое сильное их падение — на 15 % — отмечалось в 1998 г.; затем темп их снижения стал замедляться, а в 2012 г. удешевление компьютерного оборудования вообще сменилось его удорожанием[211]. Все это плохо вяжется с перспективой резкого оживления инновационной активности и ускорения темпов роста производительности труда.
В то же время Гордон оговаривается, что предположение о возможной заминке технологического прогресса — не точный прогноз, а всего лишь реплика в споре с технооптимистами. Его количественный прогноз исходит из фактического темпа прироста часовой производительности в период 1972–2013 гг. Единственное допущение, которое при этом делается, состоит в том, что инновационная активность на протяжении предыдущих 40 лет служит лучшим ориентиром для ее прогнозирования на протяжении следующих 40 лет, нежели ее активность на протяжении еще более ранних 80 лет [Ibid., p. 28]. Иными словами, его прогнозная оценка предполагает не замедление скорости технологического прогресса, а всего лишь ее сохранение на уровне последних четырех десятилетий. Приняв это предположение, Гордон приходит к неутешительному выводу: «В ближайшие полвека медленное повышение уровня жизни в США проложит обгонный путь для многих стран, которые начнут одна за другой превышать американский уровень ВВП на душу населения, имея возможность приобретать американские инновации и в то же время сталкиваясь со встречными ветрами, которые по сравнению со штормами, которые обрушатся на Соединенные Штаты, будут казаться легким бризом» [Ibid., p. 39].
В качестве шагов, способных хотя бы отчасти затормозить сползание в стагнацию, Гордон предлагает целый ряд мер: повышение планки пенсионного возраста; увеличение квот на легальную миграцию в США; легализацию наркотиков и отказ от заключения в тюрьмы в качестве меры наказания за преступления, не связанные с насилием; перестройку американской системы образования по модели, существующей в Канаде; организацию медицинского страхования вне связи с местом работы застрахованных; введение налога на добавленную стоимость; увеличение налоговых ставок на дивиденды и на доходы от прироста капитала [Gordon, 2014b].
Однако аргументация Гордона, как и аргументация Коуэна, дает немало поводов для сомнений и возражений. Так, затухание темпов роста производительности, которое он (как и многие другие исследователи) фиксирует для США начиная с середины 2000-х годов, трактуется им как начало нового долговременного тренда. Но на этот период наложилась глубокая экономическая рецессия и отделить в подобной ситуации циклические колебания от долгосрочных сдвигов оказывается далеко не тривиальной задачей. Вполне возможно, что значительная часть произошедшего в последние годы торможения роста производительности была временной и что после преодоления последствий рецессии она будет компенсирована.
Отрезок 1890–1972 гг. Гордон представляет как период устойчиво высоких темпов технологического прогресса, но, это, конечно же, не так. Внутри этого периода точно так же, как внутри более позднего отрезка 1972–2013 гг., легко обнаруживаются взлеты и падения, волны ускорения и волны замедления динамики производительности [Syverson, 2013]. С учетом этого нельзя исключить, что затухание инновационной активности, которое наблюдалось в последнее время, могло быть не более чем паузой перед началом «второй волны» компьютерной революции, способной придать росту производительности новое ускорение.
Гордон много рассуждает о приостановке технологического прогресса в том, что касается оснащения офисов и жилых домов, но он ничего не говорит о перспективах использования информационных технологий в собственно «производственных» процессах. А здесь, по наблюдениям многих исследователей, потенциал информационных технологий еще очень далек от исчерпания (см., например: [Baily, Manyika, Gupta, 2013]).
Строго говоря, Гордон не строит никакого прогноза роста душевого ВВП или производительности труда, а просто экстраполирует показатели недавнего прошлого на ближайшее будущее. Исследователи, которые действительно пытались прогнозировать возможные изменения в производительности труда, рисуют намного более сложную и менее однозначную картину. Так, Д. Бирн, С. Олинер и Д. Сичел [Byrne, Oliner, Sichel, 2013] выделили около 40 параметров, от которых может зависеть будущая динамика производительности, и затем рассчитали серию альтернативных прогнозов в зависимости от того, какое из фактически наблюдавшихся в прошлом значений будет принимать каждый из них — максимальное, минимальное или среднее (последний вариант принимается ими как базовый). Базовый вариант прогноза выводит на ожидаемый годовой темп прироста производительности труда в несельскохозяйственном деловом секторе США для периода 2012–2022 гг. 1,8 %. (При наименее благоприятном сценарии он снижается до 0,88 %, при наиболее благоприятном — возрастает до 2,82 %.) Как видим, это практически совпадает с экстраполяционной оценкой Гордона: 1,6 %. Казалось бы, эти результаты подтверждают его пессимистические выводы.
Однако Бирн с соавторами обращают внимание на ненадежность официального индекса цен производителей применительно к микропроцессорам (основному элементу стоимости информационного оборудования), который разрабатывается и публикуется Бюро статистики труда США. Согласно этому индексу, падение цен на микропроцессоры достигло пика в 1998 г., затем стало постепенно снижаться, а к 2012 г. полностью остановилось (на аналогичные данные, напомним, ссылается и Гордон). Но такая динамика цен плохо согласуется с динамикой производительности микропроцессоров, которая на протяжении всех 2000-х годов быстро росла — примерно на 30 % ежегодно. Альтернативный индекс, разрабатываемый экспертами ФРС, показывает, что в этот период цены на микропроцессоры продолжали устойчиво снижаться (на 30–40 % в год). С учетом этой альтернативной динамики цен прогнозная оценка ожидаемого годового темпа прироста производительности труда возрастает с 1,8 до 2,5 %. Подобный сценарий означал бы возвращение показателя производительности труда на свою долговременную траекторию роста и в таком случае основания говорить о «стагнации» полностью бы исчезали. Все это позволяет Бирну с соавторами сделать вывод, что, вопреки Гордону, революция информационных технологий еще далека от завершения [Ibid.].
Данные о неравенстве, на которые ссылается Гордон, относятся к рыночному денежному доходу, т. е. к доходу без учета дополнительных неденежных выгод (таких как отчисления на медицинское страхование), а также до вычета налогов и предоставления трансфертов. Переход к данным о полных доходах рисует картину относительной стабильности структуры их распределения, без каких-либо признаков взрывного роста неравенства. Не учитывает он и того, что при прогнозируемых им низких темпах технологического прогресса масштабы неравенства должны будут начать снижаться, поскольку верхний 1 % населения, т. е. наиболее состоятельные получатели дохода, во многом формируется за счет инноваторов, добившихся признания их идей рынком. Но замедление технологического прогресса означает уменьшение числа сверхуспешных инноваторов, а уменьшение их числа означает снижение доли доходов верхнего 1 %.
Что касается фискальной коррекции (увеличения налогов и/или сокращения трансфертов для погашения накопленного государственного долга), то необходимость в ней будет в конечном счете зависеть от того, насколько высокими или низкими окажутся будущие темпы экономического роста. Если, например, они будут существенно выше, чем допускает Гордон, то никакой фискальной коррекции может вообще не понадобиться.
К числу «встречных ветров», с которыми придется столкнуться экономике США, Гордон относит глобализацию. Но это расходится с представлениями, выработанными в рамках современной теории экономического роста, согласно которым глобализация является фактором не замедления, а ускорения экономического роста за счет активизации процесса обмена научными и техническими идеями [Jones, Romer, 2010].
Насколько легко впасть в ошибку, рассуждая о будущем, показывает аргументация Гордона о «встречном ветре» в форме предсказывавшегося им роста цен на энергоносители. Утверждения о неизбежности их удорожания продолжали делаться им даже в начале 2014 г. — всего за несколько месяцев до обвального падения мировых цен на нефть. Похоже, что в своих прогнозах он явно недооценил потенциал одной из ключевых инноваций последних лет — сланцевой революции.
Наконец, нелишне напомнить, что на протяжении нескольких последних десятилетий при прогнозировании возможных сдвигов в траектории экономического роста США практически все аналитики раз за разом промахивались мимо цели и их предсказания неизменно оказывались далекими от реальности [Byrne, Oliner, Sichel, 2013, p. 14].
ВЕРСИЯ 3: НУЛЕВАЯ НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
Версия, разработанная Л. Саммерсом, предстает как наиболее «хансеновская» как с точки зрения диагностики предполагаемых причин «вековой стагнации», так и с точки зрения выдвигаемых рекомендаций по ее лечению [Summers, 2013a; 2013b; 2014a; 2014b]. Как и Хансен, Саммерс усматривает суть «вековой стагнации» в хронической невозможности вернуть экономику в состояние полной занятости — в сохранении устойчивого разрыва между потенциальным и фактическим ВВП. При этом в противоположность Коуэну и Гордону он связывает главные недуги современной американской экономики не столько с факторами, лежащими на стороне предложения, сколько с факторами, лежащими на стороне спроса.
Саммерс критически настроен по отношению к традиционным представлениям, выработанным современной макроэкономической теорией, согласно которым основой при обсуждении долгосрочных экономических проблем должна выступать неоклассическая теория роста, тогда как краткосрочные проблемы должны анализироваться исходя из неокейнсианского предположения о жесткости цен и заработной платы. При таком подходе денежная политика оказывается не нейтральной только в краткосрочном периоде, тогда как в долгосрочном — механика экономического роста делает ее неоперациональной: с вмешательством государства или без него, но рано или поздно экономика все равно возвращается в состояние полной занятости. В отличие от этого Саммерс считает, что пребывание экономики на уровне ниже потенциала может приобретать хронический, долговременный характер. Отсюда — идея «вековой стагнации»: «К сожалению, почти все работы как в традициях новой классики, так и в традиции нового кейнсианства фокусировались на втором моменте, т. е. вариации показателей выпуска и занятости. Такой подход означает, что в конечном счете, с вмешательством политики или без него, работа рынка будет восстанавливать полную занятость и ликвидировать разрыв в выпуске. Все упирается исключительно в волатильность выпуска и занятости относительно их нормальных уровней. То, что случилось в последние годы, предполагает, что второй момент имеет куда меньшее значение по сравнению с первым моментом — поведением во времени средних уровней выпуска и занятости» [Summers, 2014a, p. 29].
Итак, «стагнация» в понимании Саммерса представляет собой неустранимый разрыв выпуска, который невозможно ликвидировать традиционными средствами денежной политики[212]. Она, по его мнению, имеет все шансы сделаться «новой нормальностью», так что США и другие развитые страны еще долго не смогут вернуться к полной занятости и быстрому росту, если только не решатся задействовать неконвенциональные меры экономической политики [Summers, 2013b]. Наглядный пример того, что может их ожидать в ближайшем будущем, дает опыт Японии: стагнацию японской экономики тоже первоначально принимали за временное явление, а она растянулась на десятилетия.
В своих построениях Саммерс исходит из нескольких наблюдений [Ibid.]. Первое: до начала Великой рецессии в экономике США шло активное надувание финансовых пузырей, стандарты кредитования подвергались все более сильной эрозии, проводилась очень мягкая денежная и достаточно экспансионистская фискальная политика. Казалось бы, в этих условиях следовало ожидать высокой инфляции, сверхнизкой безработицы и ускоренных темпов роста, но ничего этого не было: никакого особого перегрева в экономике не ощущалось, коэффициент использования производственных мощностей не находился под каким-либо видимым давлением, инфляция была невысокой, экономический рост продолжал оставаться скромным. Иными словами, даже надувание финансовых пузырей не смогло привести к безусловному избытку совокупного спроса.
Второе: прошло уже достаточно времени после того, как панику на финансовых рынках удалось купировать и экономика США оттолкнулась от дна после глубокого спада в 2007–2009 гг. Как показывает опыт, чем глубже рецессия, тем энергичнее последующее восстановление. Но на этот раз ничего похожего на посткризисное ускорение не наблюдалось: несмотря на сверхмягкую денежную политику выход из кризиса оказался затяжным и очень вялым, безработица рассасывалась очень медленно, ожидаемого «подскока» темпов роста так и не произошло.
Третье: в последние десятилетия в США наблюдался устойчивый тренд к снижению реальных ставок процента. Однако произошедшего их падения оказалось недостаточно для возвращения экономики в состояние полной занятости: чтобы это стало возможно, они должны были бы упасть еще сильнее, но их дальнейшее снижение наталкивалось на нулевой нижний порог (zero lower bound) устанавливаемой центробанками номинальной процентной ставки, которая, по общему правилу, не может опускаться ниже нуля. В результате возникла ситуация, когда реальная ставка процента поддерживалась на уровне, устойчиво превышавшем его естественную (равновесную) норму. В отличие от естественной нормы процента, которая, по оценкам Саммерса, откатилась уже далеко в зону отрицательных значений (составляя порядка –2/–3 %), фактическая реальная ставка процента при низкой инфляции может быть в лучшем случае лишь слабо отрицательной — даже когда номинальная ставка оказывается снижена до нуля. Именно из-за того, что номинальные ставки жестко ограничены снизу нулевым порогом, реальные ставки оказываются неспособны упасть, насколько это необходимо, чтобы подтолкнуть сбережения вниз, а инвестиции вверх и таким образом способствовать достижению полной занятости. В подобной ситуации традиционные меры денежной политики, направленные на регулирование центробанками номинальных ставок, становятся бесполезными.
Четвертое: в условиях нулевых номинальных ставок снижение цен и заработной платы, скорее всего, будет только ухудшать положение, во-первых, побуждая потребителей и инвесторов откладывать расходы на будущее и, во-вторых, перераспределяя доходы от должников с более сильной склонностью к расходам к кредиторам с более слабой склонностью к расходам.
Ситуация в американской экономике, описываемая Саммерсом как «вековая стагнация», длится, по его мнению, уже около 20 лет. Однако до поры до времени она маскировалась регулярным надуванием финансовых пузырей: это позволяло сохранять видимость «нормальных» темпов экономического роста, но когда пузыри начинали лопаться, сразу становилось ясно, насколько хрупким он был на самом деле. (Саммерс задает риторический вопрос: какие темпы роста мы увидели бы в середине 2000-х годов без пузырей на жилищном рынке и рынке деривативов, без эрозии стандартов кредитования, без мягкой денежной и экспансионистской фискальной политики?) В подобной ситуации финансовая нестабильность оказывается ценой, которую приходится платить за поддержание более или менее приемлемых темпов экономического роста. С учетом этого Саммерс так определяет суть «вековой стагнации»: «невозможность, для экономики одновременно достигать полной занятости, удовлетворительного роста и финансовой стабильности при помощи конвенциональных мер денежной политики» [Summers, 2014a, p. 29].
В обычных условиях реальная ставка процента способна снижаться до тех пор, пока между желаемыми сбережениями и желаемыми инвестициями не восстанавливается равенство на уровне выпуска, соответствующего состоянию полной занятости. Соответственно любые изменения, происходящие в экономике, отражаются прежде всего на уровне процента, не затрагивая впрямую сбережения и инвестиции. Однако это предполагает полную гибкость процентных ставок. Поскольку же в современных экономиках они не являются полностью гибкими в сторону снижения (из-за существования нижнего нулевого порога), колебания в экономике начинают прямо влиять на объемы сбережений и инвестиций.
Но что же могло вызвать настолько резкое снижение естественной нормы процента, причем не только в США, но и в других развитых странах? Прежде всего Саммерс ссылается на переизбыток сбережений (saving glut) в мировой экономике — идею, впервые высказанную А. Гринспеном [Greenspan, 2005] и Б. Бернанке [Bernanke, 2005]. Рынок наводнен сбережениями: домохозяйства недостаточно тратят на потребление, а фирмы недостаточно инвестируют (даже при номинальных ставках, близких к нулю). Инвестиций не хватает, чтобы абсорбировать всю эту огромную массу сбережений.
Однако для полного объяснения ссылки на «переизбыток сбережений» недостаточно. Если бы все ограничилось сдвигом кривой сбережений вниз, то реальная ставка процента действительно, как показано на рис. XIV.7, упала бы, но одновременно с этим возрос бы объем инвестиций. Чтобы этого не случилось, параллельно со сдвигом кривой сбережений вниз (ситуация «переизбытка сбережений») в том же направлении должна сместиться кривая инвестиций (ситуация «инвестиционного голода» — investment dearth). Только если сдвиги обеих кривых достаточно сильны, точка их пересечения, соответствующая естественной норме процента, может оказаться в зоне отрицательных значений.
Но почему так могло произойти? Саммерс ссылается на несколько причин, которые могли либо повышать склонность к сбережению либо понижать склонность к инвестированию. Во-первых, замедление роста населения (а возможно, и темпов технического прогресса) должно было вести к снижению спроса на новое капитальное оборудование, так как потребность в оснащении им новых работников становилась слабее. Во-вторых, снижение цен на капитальные блага (прежде всего, на связанные с информационными технологиями) означало, что за тот же объем сбережений можно было приобрести больший объем капитала. Из-за этого инвестиционный спрос опять-таки ослабевал. В-третьих, вследствие углубления неравенства, а также увеличения доли капитала в ВВП происходило перераспределение доходов от тех, у кого склонность к сбережению слабее (менее состоятельных; лиц, занятых наемным трудом), к тем, у кого она сильнее (более состоятельных; владельцев капитала). В-четвертых, растущие затруднения в сфере финансового посредничества, а также усиление регулятивного бремени увеличивали спрос на безопасные активы и тянули доходность по таким активам с учетом инфляции (т. е. реальные процентные ставки) вниз. В-пятых, шло активное аккумулирование резервов центральными банками различных стран, в первую очередь — развивающихся. В конечном счете сочетание отрицательных реальных процентных ставок с низкой инфляцией препятствовало достижению экономикой состояния полной занятости.
Рис. XIV.7. Сочетание «переизбытка сбережений» с «инвестиционным голодом», приводящее к отрицательной естественной ставке процента
Примечание. Сплошные линии соответствуют первоначальным, пунктирные — новым кривым желаемых сбережений и инвестиций (после их сдвига). До появления «переизбытка сбережений» и «инвестиционного голода» пересечение этих кривых происходит при естественной норме 2 %, после — при естественной норме –2 %. Если, например, при отсутствии инфляции реальную ставку процента невозможно опустить ниже нуля (из-за проблемы zero lower bound), то образуются избыточные сбережения, обозначенные на графике фигурной скобкой.
Саммерс оговаривается, что «вековая стагнация» — это не фатум, а чрезвычайное событие, от которого следовало бы застраховаться. Но как управлять экономикой с хронически нулевой номинальной процентной ставкой, превращающейся в системный тормоз экономической активности? Он видит два возможных подхода. Первый — пытаться воздействовать на реальный процент, снижая его либо путем неконвенциональной денежной политики (мер количественного смягчения), либо путем повышения целевого ориентира инфляции (скажем, с 2 до 4 %, за что, например, активно выступает О. Бланшар). Однако такой подход, опасается Саммерс, чреват возникновением пузырей и нестабильностью на финансовых рынках. Более предпочтительным ему представляется второй путь, связанный с подавлением сбережений и поощрением инвестиций, который не будет подрывать финансовой стабильности системы. Это — стимулирование совокупного спроса за счет массированных государственных инвестиций; снижения структурных барьеров для частных инвестиций; расширения экспорта; улучшения инвестиционного климата; сокращения неравенства.
Переходя к критической оценке подхода Саммерса, отметим, что он содержит немало белых пятен. Так, несколько неожиданно выглядит его комментарий об отсутствии в середине 2000-х годов перегрева в американской экономике. Разве падение безработицы до уровня ниже 4,5 %, ускорение инфляции до почти 4 % и бум цен на жилье не свидетельствуют о том, что в эти годы она функционировала с превышением своих возможностей [Taylor, 2013]?
Далеко не очевидно предположение о формировании в мировой экономике «переизбытка сбережений», которое Саммерс склонен принимать за установленный факт. По расчетам Б. Эйхенгрина, на протяжении нескольких последних десятилетий глобальная норма сбережений колебалась в очень узком диапазоне 23–24 % [Eichengreen, 2014]. Возникает вопрос: достаточно ли ее прироста, скажем, на 1 п.п., чтобы говорить о возникновении «переизбытка»? (Стоит добавить, что по мере роста потребительских расходов в Китае глобальную норму сбережений уже в ближайшее время, возможно, ждет ощутимое снижение.)
Ключевая для Саммерса идея отрицательной естественной нормы процента плохо согласуется с положительными темпами экономического роста и накопления капитала, которые экономика США демонстрировала в течение рассматриваемого им периода: ведь пересечение кривых сбережений и инвестиций в зоне отрицательных значений предполагает, что инвесторы должны получать на свои вложения отрицательную отдачу, т. е. чистый убыток. Естественно ожидать, что это должно было бы запускать процесс дезинвестирования и, значит, вызывать падение ВВП.
Непонятно также, каким образом в мире отрицательных реальных процентных ставок возможно надувание «пузырей», на которые постоянно ссылается Саммерс как на единственное средство (помимо перенастройки экономической политики государства) для закрытия разрыва между фактическим и потенциальным выпуском [Kling, 2013].
Если, как он утверждает, американская экономика уже около двух десятилетий подряд страдает от «вековой стагнации», то тогда нужно объяснить, что же мешало балансировке сбережений и инвестиций в конце 1990-х или в начале 2000-х годов, когда проблемы нулевой нижней границы процентных ставок еще не существовало. Он такого объяснения не предоставляет. Кроме того, Саммерс, похоже, не допускает возможности ухода реальных процентных ставок в сколько-нибудь серьезный «минус». Но при номинальных ставках, равных нулю, и темпах инфляции порядка 2 % реальные ставки могут опускаться до –2 %. Как следствие, для того чтобы описываемый им сценарий мог реализоваться, естественная норма процента должна «провалиться» еще глубже — до –5/6 %, что интуитивно представляется совершенно неправдоподобным.
Более тщательный анализ не выявляет также никакого долговременного тренда к падению естественной нормы процента, что составляет отправной пункт рассуждений Саммерса. Подобный тренд действительно обнаруживается, но только для реальных ставок, рассчитываемых как номинальные ставки минус ожидаемый темп инфляции: сначала они возросли с примерно 2 % в начале 1960-х годов до примерно 6 % в начале 1980-х годов, но затем начали снижаться, опустившись ниже нуля к настоящему времени. Однако, как справедливо отмечают Б. Бэкуорд и Р. Поннуру, полученные таким образом оценки реальных ставок не соответствуют понятию естественной нормы процента, поскольку включают премию за риск, которая может сильно варьировать во времени [Beckworth, Ponnuru, 2014]. Премия за риск была низкой в начале последних 50 лет, высокой в середине и снова низкой в конце. И если очистить реальные процентные ставки от премии за риск, то видимость тренда исчезает и оказывается, что на протяжении всего этого полувекового периода они оставались очень стабильными, колеблясь вблизи отметки 2 %. На пике циклических подъемов они могли уходить выше этого уровня, на пике кризисов смещаться в зону отрицательных значений. Поэтому если и можно обнаружить что-то нетипичное в последнем экономическом кризисе, так это прежде всего затяжной характер выхода из него, вследствие чего реальные ставки процента, скорректированные на премию за риск, продолжали оставаться отрицательными дольше, чем это было в предыдущие рецессии. Но если это так, то тогда «стагнацию», в которую последние годы погрузилась американская экономика, было бы правильнее интерпретировать как циклическую, а не «вековую».
В более общем плане, по-видимому, прав Т. Коуэн, заметивший, что в рассуждениях Саммерса причина и следствие, похоже, поменены местами: не недостаточно низкая реальная ставка процента стала причиной замедленного роста экономики США, а, наоборот, низкие темпы роста ВВП создали условия для удержания процентных ставок на минимальной отметке [Cowen, 2013].
Как показывают демографические прогнозы, в ближайшие годы на американский рынок труда выйдет поколение «нулевых», которое по своей численности даже превосходит послевоенное поколение бэби-бумеров. Для оснащения капитальными благами этой огромной массы новых работников потребуются значительные инвестиции, что, вопреки Саммерсу, должно активизировать инвестиционный спрос.
Как ни странно, но увеличение демографической нагрузки вследствие старения населения (имеется в виду ухудшение соотношения между численностью лиц пенсионного и трудоспособного возрастов) также в предстоящие десятилетия будет подталкивать совокупный спрос вверх. «Нормальная» динамика доходов и расходов по ходу жизненного цикла выглядит так: в молодости большинство индивидов потребляют больше, чем зарабатывают (из-за необходимости оплаты учебы, обзаведения жильем, содержания детей и т. д.); в среднем возрасте начинают активно сберегать на старость (расходы становятся меньше доходов); после выхода на пенсию начинают жить на сделанные сбережения, так что расходы вновь оказываются больше доходов. Соответственно увеличение доли пенсионеров в общей численности населения должно будет стимулировать потребительский спрос и дестимулировать сбережения, способствуя их уменьшению.
Наконец, трудно не согласиться с оценкой Р. Гордона, что идея «вековой стагнации» Саммерса выглядит сегодня несколько анахронично: странно, но она появилась именно тогда, когда американская экономика вступила на путь постепенного выздоровления, когда безработица пошла резко вниз и когда разрыв между фактическим и потенциальным ВВП сжался до минимума [Gordon, 2014b]. Все это позволяет предполагать, что проблема, которой озабочен Саммерс, носит не столько долгосрочный, сколько краткосрочный характер, и является скорее циклической, нежели хронической.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В долгосрочной перспективе годовые темпы прироста душевого ВВП США выглядят поразительно стабильными, на протяжении уже многих десятилетий удерживаясь в районе 2 %. Отклонения вверх во время бумов или вниз во время спадов были обычно непродолжительными и рано или поздно компенсировались. Конечно, при этом вклад отдельных факторов — отработанного времени, качества рабочей силы, капиталовооруженности труда, совокупной факторной производительности — мог сильно меняться от одного периода к другому, но, как правило, эти изменения оказывались взаимопогашающимися (уменьшение вклада со стороны одних факторов компенсировалось увеличением вклада со стороны других), так что экономический рост продолжал идти примерно одним и тем же устойчивым темпом [Lindsey, 2013].
Однако в последние годы американская экономика испытала одновременное замедление практически всех составляющих экономического роста. Отсюда — пессимистические ожидания того, что в предстоящие десятилетия рост душевого ВВП в США может опуститься намного ниже исторической «нормы» 2 %.
На этой почве возродился интерес к стародавней идее «вековой стагнации» и возникли новые, более современные, ее версии. В «ростовых» версиях упор делается на факторах, лежащих на стороне предложения, в «кейнсианских» — на факторах, лежащих на стороне спроса. Не все они, на наш взгляд, равноценны. Если у Коуэна и Гордона предположения о будущем характере экономического роста строятся на фактических наблюдениях, то у Саммерса получается скорее так, что одни предположения надстраиваются над другими предположениями. Похоже, что многие современные макроэкономисты оказались настолько заворожены идеей нулевой нижней границы процентных ставок, что готовы использовать ее в качестве универсальной отмычки для объяснения едва ли не всех наиболее серьезных проблем, с которыми приходится сейчас сталкиваться экономикам развитых стран.
В случае США об ослаблении многих источников экономического роста сегодня можно говорить с большой степенью уверенности. Так, почти полностью приостановлено или даже повернуто вспять действие таких важнейших его драйверов, как накопление человеческого капитала и наращивание продолжительности рабочего времени. Наибольшая неопределенность, как и всегда, сохраняется в отношении ожидаемой динамики показателей производительности, т. е. будущей траектории технологического прогресса. Одни исследователи выступают в роли технооптимистов, другие — технопессимистов. Но все согласны с тем, что только его ускорение сможет компенсировать те негативные эффекты, источником которых будут выступать другие механизмы экономического роста.
И все же большинство прогнозов о будущих темпах роста душевого ВВП в США, принадлежащих наиболее авторитетным исследователям в этой области, приходят к выводу, что избежать его торможения — как минимум на 0,5 п.п., а может быть и еще сильнее, — практически невозможно (см. табл. XIV.2). Скорее всего, это торможение будет не настолько сильным, чтобы говорить о «стагнации», но в том, что темпы роста в предстоящие десятилетия будут существенно ниже, чем раньше, сейчас мало кто сомневается. По-видимому, помочь избежать этого могут либо глубокие структурные реформы, направленные на исправление институциональных искажений в американской экономике, либо неожиданное ускорение технологического прогресса.
Таблица XIV.2
Альтернативные прогнозные оценки среднегодовых темпов прироста ВВП США, %
Источник: [Lindsey, 2013].
И последнее замечание: вступление американской экономики в эпоху более низких темпов роста производительности в начале 1970-х годов совпало — случайно или нет — со взрывным скачком мировых цен на нефть. Может быть, начавшееся не так давно резкое снижение нефтяных цен, если оно продлится достаточно долго, приведет к настолько серьезной перестройке структуры относительных цен, что благодаря этому откроется новый период ускоренных темпов роста производительности?..
ЛИТЕРАТУРА
Афонцев С. А. Мировая экономика в поисках новой модели роста // Глобальная перестройка / под ред. А. А. Дынкина, Н. И. Ивановой. М.: Весь Мир, 2014.
Полтерович В. М. Гипотеза об инновационной паузе и стратегия модернизации // Вопросы экономики. 2009. № 6. С. 4–22.
Baily M., Manyika J., Gupta S. U. S. Productivity Growth: An Optimistic Perspective // International Productivity Monitor. 2013. Vol. 25. No. 1. P. 3–12.
Beckworth D., Ponnuru R. Stagnant Economics: The Case Against «Secular Stagnation» // National Review. 2014. October 6. P. 34–36.
Bernanke B. The Global Saving Glut and the U. S. Current Account Deficit / Sandridge Lecture. Richmond, VA: Virginia Association of Economists, 2005.
Brynjolfsson E., McAffee A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. N. Y. W. W. Norton & Company, 2014.
Byrne D. M., Oliner S. D., Sichel D. E. Is the Information Technology Revolution over? // International Productivity Monitor. 2013. Vol. 25. P. 20–36.
Cowen T. The Great Stagnation: How America Ate All The Low-Hanging Fruit of Modern History, Got Sick, and Will (Eventually) Feel Better. N. Y.: Penguin Group, eSpecial from Dutton, 2011.
Cowen T. Are Real Rates of Return Negative? Is the «Natural» Real Rate of Return Negative? // Marginal Revolution. 2013. November 18. revolution.com/marginalrevolution/2013/11/are-real-rates-of-return-negative-is-the-natural-real-rate-of-return-negative.html.
Eichengreen B. Secular Stagnation: A Review of the Issues // Secular Stagnation: Facts, Causes, and Cures / ed. by C. Teulings, R. L. Baldwin. CEPR: CEPR Press. A VoxEU.org eBook, 2014.
El-Erian M. A. New Normal // PIMCO Secular Outlook, May 2009. %20Outlook%20May_09%20Email-Web%20FINAL3.pdf.
Fernald J. G. Productivity and Potential Output Before, During, and After the Great Recession / Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper Series. Working Paper 2014–15. San Francisco: Federal Reserve Bank of San Francisco, 2014.
Fernald J. G., Jones Ch. I. The Future of US Economic Growth // American Economic Review. 2014. Vol. 104. No. 5. P. 44–49.
Field A. J. The Most Technologically Progressive Decade of the Century // American Economic Review. 2003. Vol. 93. No. 4. P. 1399–1413.
Goldin C., Katz L. F. The Race between Education and Technology. Cambridge, MA: Belknap Press, 2008.
Gordon R. J. Is U. S. Economic Growth over? Faltering Innovation Confronts the Six Headwinds / National Bureau of Economic Research. Working Paper No. 18315. Cambridge, MA: NBER, 2012.
Gordon R. J. The Demise of U. S. Economic Growth: Restatement, Rebuttal, and Reflections / NBER Working Paper No. 19895. Washington: NBER, 2014a.
Gordon R. J. The Turtle’s Progress: Secular Stagnation Meets the Headwinds // Secular Stagnation: Facts, Causes, and Cures / ed. by C. Teulings, R. L. Baldwin. CEPR: CEPR Press. A VoxEU.org eBook, 2014b.
Greenspan A. Testimony of Chairman Alan Greenspan / Committee on Banking, Housing and Urban Affairs, U. S. Senate. 2005. February 16.
Hansen A. H. Economic Progress and Declining Population Growth // American Economic Review. 1939. Vol. 29. No. 1. P. 1–15.
Hathaway I., Litan R. E. Declining Business Dynamism in the United States: A Look at States and Metros / Economic Studies in Brookings. Washington: Brookings Institute, 2014. May.
Jones Ch. I. Sources of the U. S. Economic Growth in a World of Ideas // American Economic Review. 2002. Vol. 92. No. 1. P. 220–239.
Jones Ch. I., Romer P. M. The New Kaldor Facts: Ideas, Institutions, Population, and Human Capital // American Economic Journal: Macroeconomics. 2010. Vol. 2. No. 1. P. 224–245.
Jorgenson D. W. A Prototype Industry-Level Production Account for the United States, 1947–2010 / Presentation at the WIOD Conference. Groningen, The Netherlands, 2014. April 25.
Kling A. Secular Stagnation? Seriously? // Askblog. 2013. November 18. -stagnation-seriously/.
Lindsey B. Why Growth Is Getting Harder / Cato Institute. Policy Analysis No. 737. 2013. Washington: Cato Institute, 2013.
Mokyr J. Secular Stagnation? Not in Your Life // Secular Stagnation: Facts, Causes, and Cures / ed. by C. Teulings, R. L. Baldwin. CEPR: CEPR Press. A VoxEU.org eBook, 2014a.
Mokyr J. The Next Age of Invention: Technology’s Future Is Brighter Than Pessimists Allow // City Journal. 2014b. Winter. P. 12–20.
Summers L. Speech at the IMF Fourteenth Annual Research Conference «IMF Economic Forum: Policy Responses to Crises». Washington, DC: IMF, 2013a. 9 November.
Summers L. Why Stagnation Might Prove to Be the New Normal // The Financial Times. 2013b. December 15. -5d1a-11e3-a558–00144feabdc0.html#axzz2u9xxmNOh.
Summers L. H. Reflections on the «New Secular Stagnation Hypothesis» // Secular Stagnation: Facts, Causes, and Cures / ed. by C. Teulings, R. L. Baldwin. CEPR: CEPR Press. A VoxEU.org eBook, 2014a.
Summers L. H. U. S. Economic Prospects: Secular Stagnation, Hysteresis, and the Zero Lower Bound // Business Economics. 2014b. Vol. 49. No. 2. P. 65–73.
Syverson C. Will History Repeat Itself? Comments on «Is the Information Technology Revolution Over?» // International Productivity Monitor. 2013. Vol. 25. No. 1. P. 37–40.
Taylor J. B. The Problem Is Policy Not a Secular Decline in the Real Interest Rate // Economics One. 2013. November 18. -problem-is-policy-not-asecular-decline-in-the-real-interest-rate/.
XV Технологический прогресс — пожиратель рабочих мест?[213]
«An unlimited number of jobs are available in a world of scarcity» («В мире редкости доступно неограниченное число рабочих мест»)
В последние годы на широкую публику обрушилась лавина апокалиптических предсказаний о сокрушительном ударе по занятости, который неминуемо нанесет так называемая Четвертая промышленная революция, связанная с новейшими технологическими достижениями — роботизацией, цифровизацией, созданием искусственного интеллекта и т. д. С катастрофическими прогнозами на этот счет выступают политики, публицисты, социологи, футурологи, инженеры и многие многие другие. Хотя большинство экономистов по традиции сохраняют по отношению к таким пророчествам известный иммунитет, но и среди них сегодня обнаруживается немало алармистов. Нам сообщают, что в результате внедрения новых технологий огромная масса людей останется не у дел — в гонке между машинами и людьми окончательно победят машины [Brynjolfsson, McAfee, 2014]; что мир вступает в эпоху беспрецедентно высокой технологической безработицы [Frey, Osborne, 2013]; что традиционное государство благосостояния неспособно помочь ее жертвам и поэтому необходимо вводить налог на роботов (предложение Б. Гейтса), а также немедленно приступать к практической реализации идеи безусловного базового дохода [Ford, 2015]; что уже в ближайшие десятилетия отомрет примерно половина всех существующих профессий [Frey, Osborne, 2013]; что скорость технологических изменений станет настолько высока, что работники будут просто физически не успевать переучиваться на новые специальности, непрерывно пополняя, таким образом, армию безработных [Ford, 2015]; что нужно быть готовыми к полному исчезновению множества не только мало- или средне-, но и высококвалифицированных рабочих мест, так как новые технологии будут во все большей степени брать на себя выполнение интеллектуальных функций, до сих пор остававшихся исключительным достоянием человека [Brynjolfsson, McAfee, 2014]; что главная экзистенциальная проблема, с которой уже вскоре столкнется человечество, — чем занять себя в условиях вынужденного бездействия, когда само понятие «работа» уйдет в прошлое и все за нас будут делать умные машины [Summers, 2013].
Будущая ситуация на рынке труда изображается в самых мрачных красках. М. Вадхва известный американский инженер из Университета Карнеги — Меллона предупреждает: «Реальность такова, что нам предстоит будущее без рабочих мест, в котором основная часть работ, выполняемых людьми, будет выполняться машинами. Роботы будут водить наши автомобили, изготавливать наши товары и заниматься нашими домашними делами, но в нем останется мало что делать человеческим существам». С ним солидарен Б. Гейтс: новые технологии «сократят спрос на рабочие места, особенно на нижнем уровне профессиональной иерархии». Предприниматель в области программного обеспечения М. Форд, выпустивший книгу под говорящим названием «Нашествие роботов: технологии и угроза будущего без рабочих мест» [Ford, 2015], заявляет: «В прошлом машины всегда были орудиями в руках людей, но сейчас они начинают вытеснять и замещать собою все больше и больше работников». В связи с такой перспективой бывший президент США Б. Обама выражал серьезную обеспокоенность тем, что сегодня значительная часть американского бизнеса «научилась тому, как добиваться намного более высокой эффективности при гораздо меньшем числе работников» (все цитаты по: [Bailey, 2017]). Известный израильский историк Ю. Харари предсказывает, что к 2050 г. создание искусственного интеллекта приведет «к возникновению нового массивного неработающего класса… „бесполезного класса“, который будет не просто незанятым, но который будет и неспособен быть занятым» [Harari, 2017]. В общем, на рынке труда, по остроумному выражению Д. Аутора и Э. Саломонс, человечество вскоре ждет «Робокалипсис» [Autor, Salomons, 2017].
Картина мира, вырисовывающаяся из подобных высказываний, предстает как причудливая смесь из избыточного оптимизма и избыточного пессимизма: сверхоптимизма — в том, что касается перспектив современного технологического прогресса; сверхпессимизма — в том, что касается способности экономики (в частности рынка труда) адаптироваться к его предстоящим прорывным достижениям.
Сразу же отметим одну странность. Разговоры о Четвертой промышленной революции начались тогда, когда ее плодов — во всяком случае, пока — в общем-то и не видно. Ситуации с Первой (паровые машины), Второй (электричество и двигатели внутреннего сгорания) и Третьей (компьютеры) промышленными революциями были иными: сначала благодаря им происходило резкое ускорение роста производительности труда и радикально обновлялась среда обитания человека и только какое-то время спустя, задним числом произведенные ими изменения осознавались как «революция». Сейчас же мы не наблюдаем ни резкого ускорения динамики производительности труда (скорее, дело обстоит с точностью до наоборот), ни признаков кардинальной ломки привычного образа жизни людей. По существу, предметом обсуждения оказывается не столько реальное, сколько некое ожидаемое положение вещей, относительно которого ни у кого не может быть уверенности — наступит оно или нет. В этом смысле характерно, что многие исследователи расценивают происходящие сегодня технологические изменения не как проявления уже наступившей Четвертой, а всего лишь как «хвост» Третьей промышленной революции — как ее отдаленные, причем ослабленные, последствия [Gordon, 2016].
Что касается собственно идеи «технологической безработицы», то она далеко не нова и имеет почти двухсотлетнюю историю, хотя сам этот термин был введен в научный лексикон Дж. М. Кейнсом не так давно — лишь в 30-е годы прошлого века[214]. Можно выделить несколько волн технологического алармизма, когда опасения, связанные с вытеснением людей машинами, приобретали характер массовых фобий. Первая, датируемая началом XIX в., была связана с опытом индустриализации в Великобритании; вторая, относящаяся к 1960-м годам, была спровоцирована страхами перед автоматизацией (главным пропагандистом идеи технологической безработицы выступал тогда В. Леонтьев[215]); третья, возникшая на рубеже 1980–1990-х годов, стала отражением компьютерной революции [Rifkin, 1995]. Во всех этих эпизодах прогнозы о наступлении будущего без рабочих мест раз за разом терпели крах и вскоре об угрозе технологической безработицы благополучно забывали. Поэтому не приходится удивляться тому, что среди специалистов по экономической истории и истории экономической мысли сама эта идея уже давно пользуется заслуженно дурной репутацией. Однако теперь, как нас уверяют, все будет иначе, потому что природа современного технологического прогресса принципиально отлична от того, что было раньше, так что на сей раз всплеска технологической безработицы не избежать.
При анализе возможного влияния технологического прогресса на занятость следует четко разграничивать два аспекта проблемы — долгосрочный и краткосрочный. В первом случае речь идет о перманентном сокращении спроса на труд под действием новых технологий, во втором — о временном приросте безработицы из-за возросшего расхождения между структурой спроса и структурой предложения труда (имеется в виду, что когда переходный период, связанный с адаптацией к новым условиям, завершится, безработица возвратится на прежний уровень). Долгосрочные и краткосрочные последствия технологического прогресса не обязательно должны совпадать. В последующем обсуждении мы будем учитывать как те, так и другие.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
За долгие годы изучения проблемы технологической безработицы несколькими поколениями экономистов экономической наукой было накоплено множество теоретических аргументов, эмпирических фактов и исторических свидетельств, позволяющих оценить, насколько оправданы предсказания сегодняшних техноалармистов и следует ли уже в ближайшее время ожидать полного либо пусть частичного, но масштабного вытеснения людей машинами.
По результатам анализа, растянувшегося почти на два столетия, для обозначения логической ошибки, в которую легко впадают при обсуждении этой проблемы, экономической теорией был даже выработан специальный термин — the lump of labor fallacy (заблуждение, предполагающее фиксированность объема труда). Речь идет о умозаключениях по типу: «если производительность труда в результате внедрения новых технологий выросла на X процентов, то, значит, спрос на рабочую силу снизится также на X процентов». Этот силлогизм является ложным, так как исходит из предположения о фиксированности объема выпуска и не учитывает действия разнообразных макроэкономических механизмов обратной связи. На самом деле при повышении производительности труда объем выпуска не остается неизменным: ее рост влечет за собой увеличение доходов либо предпринимателей, внедривших нововведения, либо работников, начинающих использовать более совершенное оборудование, либо потребителей, получающих за счет снижения цен доступ к более дешевым товарам, а чаще всего и тех, и других, и третьих одновременно. Возросшие доходы транслируются в более высокий потребительский и инвестиционный спрос, а удовлетворить его оказывается нельзя без привлечения дополнительных рабочих рук. Как следствие, связь между динамикой производительности труда и динамикой спроса на рабочую силу предстает как чрезвычайно сложная и неоднонаправленная. Благодаря косвенным макроэкономическим эффектам она вполне может оказываться не отрицательной, а положительной. Иными словами, и в теории, и на практике вполне представима ситуация, когда внедрение новых технологий будет не уменьшать, а увеличивать число рабочих мест в экономике. Однако из высказываний нынешних техноалармистов отчетливо видно, что большинство из них (если только они не являются профессиональными экономистами) в принципе не подозревают о существовании таких непрямых связей и все так же продолжают использовать «лобовую» аргументацию, несостоятельность которой была убедительно выявлена экономической теорией почти 200 лет назад в начале XIX в.
Действительно, основные теоретические идеи, касающиеся технологической безработицы как долгосрочного феномена, были высказаны еще экономистами-классиками [Vivarelli, 2007]. Последующие поколения экономистов занимались скорее прояснением, уточнением и формализацией выдвинутых ими идей, чем их углублением или пересмотром. По большей части выводы, сделанные в рамках классической школы, остаются по-прежнему в силе.
Начало дискуссии по этой проблеме среди экономистов-классиков было положено Д. Рикардо, когда в третье издание своих «Начал политической экономии» он включил новую главу «О машинах» [Рикардо, 2007]. В ней Рикардо отказался от своей прежней позиции, совпадавшей с позицией А. Смита, о том, что в конечном счете внедрение машин всегда благотворно для трудящихся классов. Теперь же он утверждал, что замена людей машинами может быть крайне вредоносна и что мнение простых рабочих по данному вопросу не предрассудок, как можно было бы подумать, а соответствует общим принципам экономической науки[216].
Вывод Рикардо о том, что внедрение машин чревато сокращением спроса на труд в долгосрочном периоде, вызвал развернутый ответ со стороны других экономистов-классиков — Дж. Милля, Ж.-Б. Сэя, Дж. Мак-Куллоха, Н. Сениора[217]. В ходе этого обсуждения был выделен целый ряд макроэкономических механизмов, способных нейтрализовать первоначальный трудосберегающий эффект новых технологий. В «Капитале» К. Маркс иронически окрестил эти антирикардианские аргументы «теорией компенсации» [Маркс, 1960, гл. 13], и под таким названием они вошли в историю экономической мысли.
Первый, наиболее фундаментальный, компенсационный механизм связан с тем, что в условиях совершенной конкуренции рост производительности труда будет вести к пропорциональному снижению цен на выпускаемую продукцию, что, в свою очередь, будет стимулировать дополнительный спрос на нее (считается, что первым, кто обратил внимание на этот канал компенсации, был современник Смита, Дж. Стюарт)[218]. Причем потребители могут начать предъявлять возросший спрос на продукцию как непосредственно того сектора, где были внедрены технологические нововведения, так и других секторов. Чтобы удовлетворить этот дополнительный спрос, фирмам придется наращивать выпуск, для чего им потребуется больше рабочих рук. И если окажется, что эластичность спроса по цене на продукцию сектора, начавшего технологическое перевооружение, достаточно высока, то тогда занятость в нем не только не уменьшится, но даже возрастет — и это без учета влияния снизившихся цен на спрос на продукцию других секторов[219].
Второй — «инвестиционный» — механизм связан с тем, что рост производительности означает повышение прибыльности и конкурентоспособности фирм-инноваторов. В ответ на это они начнут наращивать инвестиции, что автоматически повлечет за собой создание новых дополнительных рабочих мест. Первым, кто описал действие этого компенсационного механизма, был сам Рикардо; позднее его важность подчеркивали А. Маршалл, Дж. Хикс и многие другие авторы.
Третий механизм был выделен К. Викселлем [Wicksell, 1961]. Речь идет о том, что первоначальный трудосберегающий эффект новых технологий может быть компенсирован в рамках непосредственно самого рынка труда: возросшая безработица окажет понижательное давление на заработную плату, а снизившаяся цена труда будет стимулировать повышение спроса на него. Начнется обратный откат от более трудосберегающих к более трудоемким технологиям, так что в итоге потери в занятости окажутся не такими значительными. Более того, снижение заработной платы, вызванное избыточным предложением труда, будет ослаблять стимулы не только к использованию, но также и к разработке новых трудосберегающих технологий.
Четвертый механизм, в известной мере противоположный предыдущему, строится на предположении о росте заработной платы, когда в результате технологических нововведений в распоряжении работников оказывается более совершенное оборудование. Действительно, замена людей машинами означает рост капиталовооруженности труда, а это, согласно представлениям неоклассической теории, должно повышать его предельную производительность. Соответственно должна повыситься и заработная плата сохранивших занятость работников, и поскольку их возросшие доходы будут транслироваться в дополнительный спрос на товары и услуги, постольку для его удовлетворения начнут создаваться дополнительные рабочие места.
Все рассмотренные выше рыночные компенсационные механизмы описывают возможные последствия «процессных инноваций» (process innovations), т. е. изменений в методах производства. Но экономисты-классики не обошли вниманием и возможные последствия «продуктовых инноваций» (product innovations), связанных с выведением на рынок новых видов товаров и услуг (хотя, конечно, подобной терминологии в те времена еще не существовало). Они полагали, что такие инновации по определению являются трудоинтенсивными и, соответственно, должны сопровождаться увеличением, а не сокращением общего числа рабочих мест, чего не отрицал даже Маркс [Маркс, 1960]. «Дружественный» по отношению к труду характер «продуктовых» инноваций (таких как появление автомобилей или компьютеров) подчеркивают и все современные авторы[220]. Вместе с тем различия между двумя типами инноваций не следует преувеличивать. Так, новое, более производительное оборудование представляет собой «продуктовую» инновацию для фирм, которые его выпускают, но «процессную» инновацию для фирм, которые его используют.
Как видим, в изображении экономической теории картина взаимосвязи между технологическим прогрессом и занятостью предстает как чрезвычайно сложная и неоднозначная. Совместное действие различных рыночных механизмов может компенсировать первоначальный трудосберегающий эффект новых технологий как частично, так и полностью, или даже сверхкомпенсировать его, так что по сравнению с исходной ситуацией общее число рабочих мест в экономике не только не сократится, но возрастет. Исходя из чисто теоретических соображений нельзя априори сказать, какой из этих сценариев будет реализован в том или ином конкретном случае: по сути, это вопрос эмпирический. Итоговый («чистый») эффект технологических изменений с точки зрения их влияния на динамику занятости будет зависеть от соотношения между «продуктовыми» и «процессными» инновациями, а также между различными механизмами компенсации. Но даже в условиях лишь частичной компенсации можно с уверенностью утверждать, что с учетом разнообразных косвенных эффектов потери в занятости в любом случае окажутся намного меньше, чем это предполагают наивные рассуждения по принципу «если производительность труда выросла на X процентов, то, значит, спрос на рабочую силу должен упасть на те же X процентов».
Если же от теории обратиться к фактам экономической истории, причем самых разных стран, то из них становится очевидно, что периоды ускоренного роста производительности труда практически всегда оказывались в то же самое время и периодами резкой активизации спроса на труд. (В качестве иллюстрации сошлемся на недавний опыт отечественной экономики: как известно, в «нулевые» годы высокие темпы роста производительности труда сопровождались в ней значительным расширением занятости.) Как отмечают Дж. Мокир с соавторами, еще ни разу в экономической истории теоретическая возможность перманентного сокращения общего числа рабочих мест под влиянием новых технологий не становилась реальностью [Mokyr, 2015]. С учетом этого нам как минимум не стоит принимать просто на веру катастрофические предсказания нынешних техноалармистов.
ЭМПИРИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Влиянию инноваций на занятость посвящено огромное количество эмпирических исследований. Такой анализ может вестись на нескольких уровнях — микро- (отдельные фирмы), мезо- (целые сектора) и макро- (национальные экономики). По многим причинам анализ на разных уровнях может давать расходящиеся результаты.
Одна из ключевых проблем, возникающих в этом контексте, — измерительная. Как количественно можно оценить темпы технологического прогресса? В литературе в качестве прокси для измерения скорости технологических изменений привлекаются самые различные показатели — расходы на НИОКР, инвестиции в новое оборудование, число патентов, активность в использовании ИКТ и многие другие; работы последнего времени все чаще задействуют такой новый важный индикатор, как уровень роботизации. Очевидно, что при использовании разных измерителей результаты анализа не обязательно будут совпадать.
О чем же говорят имеющиеся эмпирические свидетельства?
Практически все исследования на микроуровне свидетельствуют о сильном положительном влиянии технологического прогресса на занятость[221]. Так, в статье [Blanchflower, Burgess, 1998], было показано, что в конце 1980-х годов внедрение новых технологий обеспечивало ежегодный прирост занятости у фирм-инноваторов на 1,5 % в Австралии и на 2,5 % в Великобритании. Аналогичный результат был получен на данных по Великобритании, относившихся к периоду 1976–1982 гг. [Van Reenen, 1997]. Положительная связь между внедрением новых технологий и ростом занятости у британских фирм была зафиксирована также для более позднего периода 1998–2011 гг. [Cortés, Salvatori, 2015]. Исследование на большой выборке американских фирм обрабатывающей промышленности, охватившее 40-летний период с 1963 по 2002 г., продемонстрировало, что чем выше была их патентная активность, тем значительнее были и масштабы создания ими новых рабочих мест [Coad, Rao, 2011]. Сходный вывод о том, что у фирм-инноваторов темпы прироста занятости выше, чем у неинноваторов, был сделан на панельных данных для обрабатывающей промышленности Западной Германии за период 1980–1992 гг. [Smolny, 1998]. Во Франции (1986–1990) инновационные фирмы также демонстрировали намного большую активность в создании рабочих мест, чем неинновационные [Greenan, Guellec, 2000]. Достаточно неожиданно, но из данной работы следовал также вывод, что «процессные» инновации оказывают на занятость более сильное положительное воздействие, чем «продуктовые». Такой же контринтуитивный результат был получен для фирм обрабатывающей промышленности в Германии (1982–2002): и «процессные», и «продуктовые» инновации стимулировали создание ими новых рабочих мест, но эффект от первых превосходил эффект от вторых [Lachenmaier, Rottmann, 2011].
Положительная, но не слишком сильная связь между внутрифирменными инновациями и занятостью была обнаружена также для Италии (1992–1997) [Piva, Vivarelli, 2005]. Согласно результатам другого исследования, тоже относящегося к Италии, примерно половина прироста занятости в обрабатывающей промышленности этой страны за период 1995–2003 гг. была обусловлена «продуктовыми» инновациями, тогда как эффект от «процессных» инноваций был нейтральным [Hall et al., 2008]. Сходным образом в экономике Тайваня (1999–2003) «продуктовые инновации» сопровождались ростом численности занятых во всех отраслях обрабатывающей промышленности, тогда как «процессные» — только в высокотехнологичных [Yang, Lin, 2008]. Анализ деятельности промышленных фирм в Израиле за 1982–1993 гг. также показал, что в то время как высокотехнологичные фирмы увеличивали занятость, остальные ее теряли [Regev, 1998].
В одной из работ, посвященной Испании (2002–2009), было продемонстрировано, что быстрее наращивают занятость более инновационные, менее крупные и более молодые фирмы, причем их опережение по отношению к неинновационным фирмам является устойчивым во времени [Ciriaci et al., 2016]. Однако в другой работе, также по обрабатывающей промышленности Испании (2002–2013), какой-либо значимой связи между инновациями и занятостью выявлено не было [Pellegrino et al., 2017]. Нулевой эффект расходов на НИОКР с точки зрения интенсивности создания рабочих мест был обнаружен для фирм обрабатывающей промышленности и в Норвегии для периода 1982–1992 гг. [Klette, Førre, 1998].
Ряд исследований на микроуровне строились с использованием межстрановых данных. В работе, посвященной четырем европейским странам (Великобритании, Германии, Испании и Франции) и охватившей период 1998–2000 гг., было показано, что если в обрабатывающей промышленности этих стран «продуктовые» инновации были связаны со значительным приростом занятости на уровне фирм, а «процессные» — с ее слабым снижением, то в сфере услуг первые обеспечивали лишь небольшое повышение занятости, но вторые не влияли на нее ни положительно, ни отрицательно [Harrison et al., 2014]. Еще одно межстрановое исследование показало (1998–2008), что расходы на НИОКР положительно и значимо связаны с динамикой занятости в отраслях сферы услуг и в высокотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности, но отрицательно — в ее традиционных отраслях [Bogliacino et al., 2012]. Вместе с тем анализ с использованием опросных данных «Европейского обследования обрабатывающей промышленности» за 2009 г. по семи европейским странам не выявил никакой значимой связи между активностью фирм в использовании роботов и динамикой занятости — ни положительной, ни отрицательной [Jäger et al., 2015].
В целом исследования на микроуровне позволяют сделать вывод о существовании сильного положительного влияния технологического прогресса на занятость, особенно в отраслях сферы услуг и в высокотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности; в то же время роботизация, возможно, не так позитивна для динамики занятости, как многие другие виды современных технологических инноваций.
Однако анализ на уровне отдельных фирм имеет серьезные ограничения. Во-первых, он редко оказывается способен эффективно решить проблему причинности: возможно, что инновационные фирмы действительно более активно создают рабочие места, но, возможно, что более успешные и потому быстрее наращивающие численность персонала фирмы более склонны внедрять инновации. Во-вторых, такой анализ может значительно завышать положительный эффект технологических изменений с точки зрения динамики занятости, если инновационным фирмам удается увеличивать свою долю рынка за счет неинновационных фирм, которым, таким образом, приходится свертывать занятость. В-третьих, такой анализ не в состоянии учесть косвенные эффекты компенсационных рыночных механизмов, действующих на уровне целых секторов или всей экономики.
Частично эти ограничения преодолеваются при анализе на секторальном (отраслевом) уровне. При его использовании разброс в получаемых оценках оказывается значительно больше из-за специфики ситуации в разных отраслях. В части таких работ делается вывод о «враждебности» современного технологического прогресса занятости.
Так, на примере 21 отрасли обрабатывающей промышленности пяти европейских стран (1989–1993) было продемонстрировано, что потери рабочих мест были выше в секторах, отличавшихся более высокой инновационной активностью [Pianta, 2000]. Этот результат был подтвержден на более поздних данных (1994–1999) по 10 отраслям обрабатывающей промышленности восьми европейских стран [Antonucci, Pianta, 2002]. В исследовании по экономике Испании было установлено, что период с середины 1980-х по конец 1990-х годов характеризовался в ней резким снижением доли занятых в высокотехнологичных секторах [Sacristán Díaz, Quirós Tomás, 2002]. Аналогичная тенденция была зафиксирована для отдельных отраслей обрабатывающей промышленности в цитированной выше работе по Норвегии [Klette, Førre, 1998]. Для отраслей обрабатывающей промышленности Италии [Vivarelli et al., 1996] была обнаружена отрицательная связь между темпами роста производительности труда и темпами роста занятости (хотя «продуктовые» инновации имели положительный эффект, но он перекрывался отрицательным эффектом «процессных» инноваций). Согласно исследованию Кларка [Clark, 1987], в отраслях обрабатывающей промышленности Великобритании «созидательный» эффект новых технологий проявлялся примерно до середины 1960-х годов, после чего он стал «разрушительным».
Вместе с тем в упомянутом выше исследовании по Франции, охватившем 18 отраслей обрабатывающей промышленности этой страны, было показано, что в более инновационных отраслях рабочие места создавались более высокими темпами, чем в менее инновационных. Причем в отличие от результатов, полученных при анализе на уровне фирм, эффект от «продуктовых» инноваций был сильнее, чем от «процессных» [Greenan, Guellec, 2000]. В работе, посвященной анализу сферы услуг в Италии (1993–1995), был сделан вывод, что инновации положительно влияли на динамику занятости в инновационных и интеллектуалоемких отраслях этой сферы, но отрицательно — в ее «традиционных» отраслях, таких как финансы, торговля и транспорт [Evangelista, Savona, 2002]. Для Германии (1999–2005) было обнаружено, что увеличение числа патентов положительно связано с последующим ростом занятости в высокотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности (таких как производство электрооборудования, электронного, оптического и медицинского оборудования) [Buerger et al., 2012]. При совместном рассмотрении отраслей как обрабатывающей промышленности, так и сферы услуг на данных по пяти европейским странам за 1994–2004 гг. было выявлено сильное положительное влияние на занятость «продуктовых» инноваций [Bogliacino, Pianta, 2010]. Аналогичным образом анализ 25 отраслей обрабатывающей промышленности и сферы услуг в 15 европейских странах за 1996–2005 гг. показал, что рост расходов на НИОКР оказывал сильное положительное влияние на темпы создания новых рабочих мест, особенно в высокотехнологичных секторах [Bogliacino, Vivarelli, 2012]. В недавнем исследовании 11 европейских стран (1998–2011), где также совместно анализировались как обрабатывающая промышленность, так и сфера услуг, было установлено, что рост расходов на НИОКР в целом положительно влияет на занятость [Piva, Vivarelli, 2017]. Однако наблюдается это почти исключительно в высоко- и среднетехнологичных отраслях, в то время как в низкотехнологичных отраслях он оборачивается потерей рабочих мест. В работе [Gaggl, Wright, 2014] были проанализированы результаты интересного «естественного» эксперимента, осуществленного в Великобритании, когда в 2000–2004 гг. малому бизнесу стала предоставляться 100-процентная налоговая скидка на средства, инвестированные в ИКТ. Согласно полученным оценкам, активизация инвестиций в ИКТ обеспечила рост количества отработанных часов в малых фирмах, имевших право на такую скидку, на 0,7 %. Но при этом занятость возросла только в торговле и финансах и практически не изменилась во всех остальных секторах, включая обрабатывающую промышленность. Важное исследование на панельных данных для 14 отраслей 17 стран за период 1993–2007 гг. было выполнено недавно Г. Грацем и Г. Майклсом [Graetz, Michaels, 2015]. Они продемонстрировали, что на секторальном уровне использование роботов резко повышает темпы роста добавленной стоимости (перемещение из нижнего в верхний дециль по уровню роботизации обеспечивает 0,37 п.п. ее дополнительного прироста ежегодно), а также темпы роста производительности труда и заработной платы, но при этом не влияет отрицательно на количество отработанных часов.
Важные результаты были получены в недавней работе Дж. Бессена [Bessen, 2017]. Он показал, что в пределах одних и тех же секторов связь между динамикой производительности труда и динамикой занятости не остается неизменной: если на ранних этапах развития отрасли она является положительной (внедрение новых технологий ведет к увеличению числа рабочих мест), то на более поздних становится отрицательной. Так, в США численность производственных рабочих, занятых изготовлением хлопчатобумажных тканей, составляла 20 тыс. человек в 1820 г., возросла до 450 тыс. в 1930 г. (пик) и вернулась на исходный уровень 20 тыс. в настоящее время. В сталелитейной промышленности она равнялась 10 тыс. человек в 1870 г., достигла 550 тыс. в 1960 г. (пик) и упала до 100 тыс. в настоящее время. Аналогичные цифры по автомобильной промышленности: 20 тыс. человек в 1910 г., 800 тыс. в 1970 г. (пик) и 600 тыс. в настоящее время. При этом в первой из этих отраслей на протяжении всего периода ее существования ежегодные темпы прироста производительности труда составляли 2,9 %, во второй — 2,4 %, в третьей — 1,4 %. Почему же несмотря на устойчивый рост производительности труда занятость в них сначала быстро росла, а потом быстро снижалась?
Бессен связывает это с тем, что эластичность спроса по цене может сильно меняться во времени. Когда новый товар только появляется на рынке, она намного превышает единицу, поскольку лишь немногие, наиболее состоятельные потребители могут позволить себе приобретать его по высокой цене; затем по мере падения цен круг его потребителей становится все шире и шире; наконец, когда его цена падает настолько, что он становится доступен практически всем, достигается точка насыщения и эластичность спроса по цене опускается до уровня значительно ниже единицы. Лишь с этого момента влияние технологических изменений на занятость (внутри данного сектора) из положительного становится отрицательным. Причем на восходящей фазе, пока эластичность спроса по цене значительно превышает единицу, чем быстрее растет производительность труда, тем быстрее увеличивается занятость. Этим, по мнению Бессена, в частности объясняется, почему так сильно различалось влияние ИКТ на занятость по отдельным секторам. Так, по его оценкам, в США повышение уровня компьютеризации на 1 % сопровождалось сжатием занятости в обрабатывающих производствах на 3 %, но ее расширением на 1 % в секторах, не относившихся к обрабатывающей промышленности. Касаясь будущих трендов в американской экономике, он предвидит, что сокращение занятости под действием технологического прогресса в обрабатывающей промышленности будет перекрываться ее быстрым приростом в сфере услуг [Bessen, 2017].
Наиболее общий вывод, который можно сделать из исследований на мезоуровне, состоит в том, что в различных секторах спрос на труд неодинаково реагирует на внедрение новых технологий: как правило, его реакция оказывается положительной в услугах, а также в «молодых», высокотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности, но отрицательной в ее «зрелых», низкотехнологичных отраслях. Однако анализу на секторальном уровне присущи многие ограничения, характерные для анализа на уровне фирм. Он точно так же не может учесть действия разнообразных компенсирующих механизмов на макроуровне, и, следовательно, неспособен ответить на вопрос, каков же общий эффект технологических изменений с точки зрения динамики занятости.
Поэтому такое большое значение имеют исследования, строящиеся на агрегированных данных (часто — межстрановых). Одно из их важных преимуществ состоит в том, что они позволяют оценивать сравнительную эффективность альтернативных компенсационных рыночных механизмов. Для этого могут использоваться различные методологические подходы [Vivarelli, 2007].
В ранних работах основным инструментом анализа служили симуляции на основе данных таблиц затраты-выпуск. Так, из серии симуляций, произведенных для экономики США середины 1980-х годов, следовало, что занятость в ней будет расти при любых возможных темпах технологического прогресса, хотя в сценариях с более высокими темпами ее рост должен происходить медленнее [Leontief, Duchin, 1986]. Прогноз динамики занятости в британской экономике по состоянию на начало 1990-х годов показал, что действующие в ней компенсирующие механизмы достаточно сильны, чтобы полностью нейтрализовать первоначальный трудосберегающий эффект новых технологий. При этом наиболее эффективным оказывался канал компенсации, связанный со снижением цен, на долю которого, согласно расчетам, приходилось более половины всех компенсированных рабочих мест [Whitley, Wilson, 1982]. Однако более поздние оценки тех же авторов, относящиеся к периоду 1985–1995 гг., уже предполагали, что компенсация будет лишь частичной [Whitley, Wilson, 1987]. Аналогичный вывод о неполной компенсации потерь рабочих мест из-за распространения ИКТ был получен также для Западной Германии [Kalmbach, Kurz, 1990].
Другое направление исследований было связано с попытками напрямую оценить эластичность занятости в зависимости от темпов экономического роста. В работе на данных по странам ОЭСР, охватившей период 1960–1993 гг., было эконометрически показано, что корреляция между темпами изменения занятости и ВВП является положительной, причем она оставалась такой даже в первой половине 1990-х годов — в годы, которые принято описывать в терминах «экономического роста без создания рабочих мест» [Boltho, Glyn, 1995]. Вместе с тем отрицательная эластичность занятости в зависимости от темпов экономического роста была обнаружена для четырех из семи развитых стран (1960–1997), проанализированных в работе [Piacentini, Pini, 2000]. Причем во всех семи странах наблюдалась отрицательная эластичность в обрабатывающей промышленности, но положительная — в сфере услуг. Однако в другой работе [Padalino, Vivarelli, 1997], где рассматривались данные по тем же семи развитым странам за период 1960–1994 гг., были получены иные результаты. В долгосрочном периоде отрицательного влияния экономического роста на динамику занятости выявлено не было, а в краткосрочном периоде между ними была зафиксирована сильная положительная связь.
Связь между динамикой занятости и динамикой производительности подробно проанализирована на выборке из 19 развитых стран за период 1970–2007 гг. в недавней работе Аутора и Саломонс [Autor, Salomons, 2017]. Общий вывод из нее однозначен: новые технологии не угрожают занятости, а благоприятствуют ей. По оценкам авторов, в анализируемых странах повышение производительности труда на 10 п.п. сопровождалось увеличением общего числа занятых в экономике в среднем на 2 п.п. В то же время прирост производительности на 10 п.п. внутри того или иного сектора вел к падению занятости в нем примерно на 2,5 п.п. Однако прямой (внутрисекторальный) отрицательный эффект перекрывался более сильными косвенными (межсекторальными) положительными эффектами. Во-первых, рост производительности в каждом отдельном секторе стимулировал создание дополнительных рабочих мест в других секторах. Во-вторых, способствуя увеличению объема конечного потребления, он повышал спрос на труд также и во всей экономике в целом. При этом чистый положительный эффект оказывается значительно больше, если использовать при оценке показатели совокупной факторной производительности, а не производительности труда. Наиболее сильное косвенное влияние на уровень занятости в других секторах оказывал рост производительности в сфере услуг. Это дает веские основания полагать, что в случае активного вытеснения в ней людей роботами численность занятых во всей экономике будет не сокращаться, как ожидают многие, а расти. Еще один важный вывод состоит в том, что новые технологии нельзя считать главным драйвером изменений в занятости: ключевым фактором является здесь динамика численности населения. Но более чем скромная роль технологического прогресса плохо укладывается в картину грядущего «Робокалипсиса» [Autor, Salomons, 2017].
Но, пожалуй, наиболее интересная группа исследований на макроуровне связана с попытками оценить действенность различных компенсирующих механизмов в рамках моделей общего или частичного равновесия. Как было установлено в работе по США [Sinclair, 1981], первоначальные потери в занятости вследствие внедрения новых технологий будут сверхкомпенсированы (т. е. чистый прирост занятости будет положительным), если коэффициенты эластичности спроса по цене и эластичности замещения между факторами производства достаточно высоки. В случае американской экономики максимальную компенсацию обеспечивал механизм, связанный со снижением заработной платы, тогда как никаких свидетельств в пользу механизма, связанного со снижением цен, получено не было. Сравнительный анализ экономик США и Италии в период 1966–1986 гг. показал, что если первая была в большей мере ориентирована на «продуктовые», то вторая — на «процессные» инновации [Vivarelli, 1995], Соответственно в первой технологический прогресс сопровождался наращиванием числа рабочих мест, тогда как во второй — их сокращением. При этом в обеих странах наиболее действенным являлся механизм, связанный со снижением цен. В методологически близкой работе с использованием данных по США, Италии, Франции и Японии за 1965–1993 гг. был сделан вывод, что наиболее эффективными в этих странах являются два компенсирующих механизма — через снижение цен и через повышение доходов [Simonetti et al., 2000]. В то же время действие механизма через снижение заработной платы прослеживалось только для более гибкого американского рынка труда. Сильный положительный эффект, обусловленный «продуктовыми» инновациями, также фиксировался только в США. Негативный эффект «процессных» инноваций с точки зрения динамики занятости был обнаружен в работе, посвященной анализу девяти развитых стран в период 1960–1990 гг. [Pini, 1996]. Но и в ней отмечалось действие мощного компенсирующего механизма, связанного с расширением экспорта в результате внедрения таких инноваций.
В работе Лейарда и Никелла [Layard, Nickell, 1985] на теоретическом уровне было показано, что ключевым параметром следует считать коэффициент эластичности спроса на труд в зависимости от соотношения между реальной заработной платой и производительностью труда. Когда он достаточно высок, первоначальный трудосберегающий эффект новых технологий будет полностью компенсирован. По оценке авторов, в случае Великобритании его величина составляла 0,9, что исключало какое-либо негативное влияние технологического прогресса на занятость. В фокусе другого исследовании по Великобритании находился компенсирующий механизм, связанный со снижением цен [Nickell, Kong, 1989]. В семи из девяти проанализированных авторами секторов этой страны эластичность спроса по цене была достаточно высокой, чтобы в масштабах всей экономики между технологическими изменениями и занятостью сохранялась устойчивая положительная связь.
Несмотря на расхождения в получаемых эмпирических оценках, нельзя не заметить, что большинство исследований на агрегированном уровне все же склоняются к выводу о том, что технологический прогресс — фактор, скорее благоприятствующий, чем препятствующий росту занятости. При этом они показывают, что многое здесь зависит от степени гибкости рынка труда, от эластичности спроса по цене (как на товары, так и на труд), от эластичности замещения между производственными факторами и т. д. [Piva, Vivarelli, 2017]. С методологической точки зрения основным недостатком макроисследований является то, что в любой стране траектория изменения совокупной занятости определяется множеством структурных, институциональных и социальных факторов, проконтролировать которые зачастую невозможно. Как следствие, попытки выделить «чистый» эффект технологических изменений на уровне всей экономики наталкиваются на труднопреодолимые препятствия.
В самое последнее время появились работы, где единицей наблюдения выступают не фирмы, сектора или национальные экономики, а отдельные регионы. Наверное, самая резонансная из них — это исследование Д. Аджемоглу и П. Рестрепо, посвященное влиянию роботизации на занятость на уровне локальных рынков труда в США (commuting zones) за 1990–2007 гг. [Acemoglu, Restrepo, 2017]. Согласно полученным ими оценкам, установка каждого дополнительного промышленного робота вытесняет из производства от трех (минимальная оценка) до шести (максимальная оценка) работников. В эквивалентной формулировке — один дополнительный робот в расчете на тысячу работников снижает уровень занятости в экономике (employment-population ratio) на 0,18–0,34 п.п. Кумулятивные потери в результате роботизации за весь рассматриваемый период составили, по их расчетам, от 360 тыс. до 670 тыс. человек, причем сильнее всего пострадала занятость в обрабатывающей промышленности.
Отметим, что если даже принять эти оценки, то количественно влияние роботизации на занятость в США оказывается едва заметным — снижение на 0,2–0,3 % за почти 20-летний период. Достаточно сказать, что только ежегодный оборот рабочей силы на американском рынке труда (сумма наймов и увольнений) превышает 120 млн. Более того, согласно расчетам Аджемоглу и Рестрепо, при оценке совместного воздействия на занятость роботизации и компьютеризации, чистый эффект новых технологий из отрицательного становится положительным [Acemoglu, Restrepo, 2017]. Не вполне также ясно, в какой мере в их анализе удалось учесть влияние компенсирующих рыночных механизмов, действующих на уровне всей экономики, а не на уровне локальных территориальных зон. Кроме того, как уже отмечалось, в других работах, посвященных той же проблеме, роботизация оценивается как фактор, нейтральный с точки зрения динамики занятости — не оказывающий на нее какого-либо явно выраженного влияния [Jäger et al., 2015; Graetz, Michaels, 2015].
Наконец, все исследования, также использующие региональные данные, рисуют иную картину, чем Аджемоглу и Рестрепо. Так, в работе Д. Аутора с соавторами, в которой в качестве единиц анализа также выступали локальные рынки труда в США (722 зоны) и которая охватывала тот же период 1990–2007 г., никакого отрицательного влияния новых технологий на общую занятость выявлено не было [Autor et al., 2015]. Анализ локальных рынков труда в Западной Германии (402 зоны) за период 2001–2012 гг. показал, что регионы с высокой концентрацией отраслей с эластичным спросом на выпускаемую ими продукцию в ответ на рост производительности труда наращивают занятость, тогда как регионы с высокой концентрацией отраслей с неэластичным спросом ее теряют [Blien, Ludewig, 2017].
В работе [Gregory et al., 2016], где использовались данные по 238 регионам 27 европейских стран за период 1999–2010 гг., были выделены три основных канала возможного воздействия технологического прогресса на занятость: эффект замещения, связанный с вытеснением работников машинами; эффект, связанный с возрастанием спроса (благодаря снижению цен) на выпускаемую фирмами продукцию; эффект перелива, связанный с тем, что возросший спрос может выходить за пределы непосредственно тех регионов, где внедряются новые технологии, и перетекать в другие регионы. Согласно полученным оценкам, за весь рассматриваемый авторами период кумулятивные потери за счет первого механизма составили (суммарно по всем регионам) 9,6 млн рабочих мест, тогда как кумулятивный прирост за счет второго механизма — 8,7 млн и за счет третьего — 12,4 млн рабочих мест. Чистый выигрыш благодаря действию технологического прогресса составил 11,6 млн. Данный расчет строился исходя из предположения, что все дополнительные нетрудовые доходы, полученные за счет возросшей эффективности производства, расходуются на приобретение товаров и услуг в соседних регионах (эффект перелива). В качестве альтернативного рассматривался сценарий, при котором все дополнительные нетрудовые «уходили» из системы (т. е. расходовались за пределами Европы). Но даже в таком крайнем варианте общий чистый выигрыш в занятости все равно достигал почти 2 млн рабочих мест [Ibid.].
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ПОДСТРОЙКА НА РЫНКЕ ТРУДА
Технологический прогресс может становиться источником безработицы не только тогда, когда он сокращает спрос на труд, но и тогда, когда он затрудняет и замедляет процесс соединения (мэтчинга) работников с рабочими местами. Дело в том, что под его воздействием может меняться не только уровень, но также и структура спроса на рабочую силу. Для преодоления возникших расхождений между структурой спроса и структурой предложения труда оказывается необходима реаллокация рабочей силы — профессиональная, территориальная, межфирменная. Одни профессии устаревают, другие появляются; новые технологии начинают предъявлять более высокие требования к уровню образования и квалификации работников; рабочей силе приходится перемещаться из регионов, где потребность в ней падает, в регионы, где потребность в ней возрастает; фирмы-неинноваторы приступают к увольнениям (или они вообще закрываются), тогда как на фирмах-инноваторах открываются вакансии, так что рабочие места начинают перетекать с первых на вторые. По сути это именно то, что Й. Шумпетер называл процессом «созидательного разрушения».
Естественно, что при резких технологических сдвигах приспособление к ним может растягиваться на длительное время и принимать крайне болезненные формы. Переквалификация, овладение новыми профессиями, повышение уровня образования, переезд в другую местность, даже смена места работы — все это требует времени и сопряжено с немалыми издержками. В этом смысле нет сомнений, что технологическая безработица как краткосрочный феномен вполне реальна и, более того, всегда в той или иной мере присутствует на современных рынках труда. Весь вопрос в том, выходит ли она за пределы «нормальной» фрикционной безработицы, и если да, то как сильно, а также происходит ли со временем ее рассасывание и если да, то как быстро. Например, в работе [Feldmann, 2013] на данных по 21 развитой стране за период 1985–2009 гг. было показано, что технологические нововведения действительно вызывают временное повышение безработицы в течение первых трех лет после начала их освоения, но затем она возвращается на исходный, более низкий уровень. Важно отметить, что подобный краткосрочный прирост безработицы может наблюдаться даже тогда, когда в долгосрочной перспективе технологический прогресс служит катализатором роста спроса на труд.
Здесь действует множество разнонаправленных факторов. Тем не менее в общем случае можно ожидать, что повышение безработицы будет тем значительнее и продолжительнее: 1) чем масштабнее требуемая реаллокации рабочей силы, т. е. чем быстрее, глубже и шире сами технологические сдвиги, которые дают ей толчок; 2) чем сильнее разрыв между требованиями, предъявляемыми старыми и новыми технологиями к качеству человеческого капитала работников; 3) чем выше негибкость рынков труда, препятствующая процессу реаллокации и замедляющая ее темпы.
Более того, если речь идет не об однократном шоке, а о постоянно воспроизводящейся ситуации, когда скорость технологических изменений устойчиво превосходит скорость адаптации к ним со стороны фирм и работников, то тогда технологическая безработица может наблюдаться не только в краткосрочном, но также и в долгосрочном периоде. Иными словами, при определенных условиях технологический прогресс может становиться причиной повышения «естественной» (равновесной) нормы безработицы.
Так, он может усиливать склонность фирм к увольнениям и ослаблять их склонность к открытию вакансий [Aghion, Howitt, 1994]. Одно из главных последствий изменений в технологиях — устаревание знаний и навыков, накопленных работниками. Это, с одной стороны, должно подталкивать фирмы к тому, чтобы быстрее избавляться от имеющихся у них работников с морально устаревшим человеческим капиталом, а с другой — к тому, чтобы менее активно нанимать новых работников, поскольку в условиях частых технологических сдвигов ожидаемая продолжительность мэтчинга (соединения работников с рабочими местами) будет короче (причина — все то же ускоренное обесценение знаний и навыков). В то же время поскольку технологический прогресс способствует росту производительности труда, постольку отдача от каждого дополнительно созданного рабочего места будет выше, а это должно стимулировать фирмы, наоборот, к более активному открытию вакансий. В ситуации, когда последний эффект оказывается слабее двух первых, внедрение новых технологий будет вести к повышению «естественной» нормы безработицы[222].
Однако такой результат нельзя считать предопределенным. Технологический прогресс может принимать различные формы: иногда он требует ликвидации существующих рабочих мест, но иногда все ограничивается лишь их реновацией [Mortensen, Pissarides, 1998]. В последнем случае работники адаптируются к требованиям новых технологий, обновляя и пополняя свои знания и навыки, но оставаясь при этом на прежних рабочих местах. И если технологический прогресс в форме создания/ликвидации рабочих мест действительно способен повышать «естественную» норму безработицы, то в форме их реновации он должен, напротив, способствовать ее снижению.
Как часто встречаются эпизоды со сверхвысокой краткосрочной технологической безработицей? Экономическая история показывает, что отыскать примеры, когда ускорение технологического прогресса вело бы к резкому скачку общей безработицы, крайне сложно. В начале XX в. появление автомобилей не вызвало массовой безработицы среди извозчиков, кузнецов и шорников; в конце того же века появление компьютеров не вызвало массовой безработицы среди машинисток. Это означает, что чаще всего скорость технологических изменений и скорость подстройки к ним оказываются сопоставимы. В прошлые периоды внедрение новых технологий, как правило, не носило взрывного характера, растягиваясь на более или менее длительный период, достаточный, для того чтобы фирмы и работники успевали адаптироваться к изменившимся условиям. Благодаря этому обычно удавалось избегать каких-либо резких скачков безработицы, обусловленных технологическими факторами. (Скажем, в США, где, как мы упоминали, оборот рабочей силы превышает 120 млн в год, чтобы ощутимо повлиять на общий уровень безработицы, разовый выброс в нее, вызванный внедрением новых технологий, должен был бы составить не менее 0,5–1 млн человек.)
Тем не менее некоторые авторы склонны связывать текущие проблемы на рынках труда развитых стран с действием именно технологических факторов. Так, еще недавно Ю. Бринйолфссон и Э. Макафи предлагали чисто технологическое объяснение устойчиво высокому уровню безработицы, который поддерживался в экономике США на протяжении нескольких лет после окончания Великой рецессии [Brynjolfsson, McAfee, 2011]. Однако сейчас, когда безработица в экономике США упала заметно ниже отметки 4 %, стало очевидно, что новые технологии были здесь не причем.
Но, возможно, в ближайшем будущем нас все-таки ожидает бурный всплеск технологической безработицы, как и предсказывают техноалармисты? При ближайшем рассмотрении подобное развитие событий представляется маловероятным, причем сразу по нескольким причинам.
Во-первых, как показывает эмпирический анализ, современный технологический прогресс ориентирован не столько на ликвидацию, сколько на реновацию рабочих мест. Так, компьютеризация способствовала масштабному замещению людей машинами в процессе выполнения рутинных производственных операций (подробнее об этом см. следующий раздел). Но, как подсчитала на данных по Германии за 1979–1999 гг. А. Спиц-Онер, это на 99 % произошло за счет уменьшения выполняемых работниками рутинных операций внутри существующих профессий (т. е. без их отмирания!) и лишь на 1 % за счет ликвидации профессий, являвшихся целиком рутинными [Spitz-Oener, 2006]. Но такая форма технологического прогресса, как уже отмечалось, связана скорее с расширением занятости, чем с ее сжатием.
Во-вторых, многие алармистские прогнозы строятся исходя из упрощенного деления всех занятых на две группы — низко- и высококвалифицированных. И если считать, что новые технологии уменьшают спрос на первых, но увеличивают спрос на вторых, то отсюда легко прийти к выводу о неизбежности масштабной технологической безработицы, поскольку по понятным причинам вытесняемые машинами малоквалифицированные работники не в состоянии претендовать на рабочие места, требующие высокой квалификации. Однако деление всех занятых на две полярные группы — это всего лишь исследовательский прием, облегчающий анализ. В реальности существует огромное множество градаций в зависимости от качества рабочей силы. Нет ничего невозможного в том, чтобы при определенных условиях работники, находившиеся на «дне» профессиональной иерархии, смогли подняться на одну ступеньку вверх; работники занимавшие эту ступеньку ранее, также продвинулись на шаг вперед и так далее вплоть до самой вершины. Возможность такой «цепной» субституции между различными группами работников резко снижает риск возникновения внезапного всплеска технологической безработицы.
В-третьих, продвижение новых технологий может наталкиваться не только на инженерные, но также на правовые, социальные и этические препятствия, снижающие скорость их распространения. Скажем, массовый переход на беспилотные автомобили невозможен без радикальной ревизии законодательства об ответственности при ДТП, но для такой ревизии может потребоваться много лет[223]. Когда же процесс диффузии технологических инноваций оказывается достаточно постепенным, подстройка к нему на рынке труда может успешно идти, не порождая высокой технологической безработицы даже в краткосрочном периоде.
Но, пожалуй, самое главное, что пока (вопреки предсказаниям техноалармистов) ничто не указывает на ожидающее нас в ближайшем будущем резкое ускорение технологического прогресса. Как показывает табл. XV.1, последнее десятилетие можно считать одним из худших периодов в экономической истории развитых стран. В эти годы в них наблюдались самые низкие с начала XX в. темпы роста не только ВВП, но также совокупной факторной производительности, что можно рассматривать как свидетельство явного замедления технологического прогресса. Можно, конечно, возразить, что такие разочаровывающие показатели — это не более чем результат отрицательного влияния Великой рецессии 2008–2009 гг. Однако при ближайшем рассмотрении отсылка ней оказывается неубедительной.
Таблица XV.1
Среднегодовые темпы прироста ВВП и совокупной факторной производительности (СФП), развитые страны, 1890–2015 гг., %
Источник: [Bergeaud et al., 2017].
Во-первых, долговременное замедление роста производительности началось в развитых странах за несколько лет до наступления Великой рецессии (в США — с 2005 г.) [Gordon, 2016]. Во-вторых, даже после корректировки на ее последствия темпы прироста СФП для развитых стран в 2005–2015 гг. все равно остаются более низкими, чем в другие периоды [Fernald, 2015]. В-третьих, вполне естественно, что рецессии негативно влияют на темпы роста ВВП, но не так легко понять, почему они должны негативно влиять также на темпы технологического прогресса. Скажем, в США десятилетие Великой депрессии (1930-е годы) считается самым «инновационным» периодом в истории страны [Field, 2003].
Сегодня большинство исследователей согласны с тем, что произошедшее в развитых странах резкое ухудшение динамики ВВП и динамики производительности — это не краткосрочный эпизод; что с середины 2000-х годов все они перешли на более низкую долговременную траекторию экономического роста; наконец, что в первую очередь это было связано с замедлением темпов СФП, т. е. — технологического прогресса. Из американских экономистов только Бринйолфссон и Макафи, принадлежащие к числу убежденных технооптимистов, продолжают настаивать на том, что уже в ближайшее время годовые темпы прироста СФП в США ускорятся до 2 % [Brynjolfsson, McAfee, 2011]. Однако с того момента, когда ими впервые был высказан этот прогноз, прошло уже немало лет, но никаких признаков обещанного ускорения по-прежнему не заметно. Все остальные авторитетные исследователи экономического роста в США (Д. Джоргенсон, Р. Гордон, Дж. Ферналд, С. Олинер и многие другие), напротив, ожидают серьезного замедления темпов прироста СФП до 0,5–1 %. По их оценкам, американской экономике в лучшем случае предстоит возврат к показателям, наблюдавшимся в «застойное» двадцатилетие 1972–1995 гг.[224]
Но если это так, то тогда уже по одной этой причине нет смысла ожидать в скором времени какого-либо скачка технологической безработицы. Если темпы технологических изменений, как следует из большинства прогнозов, будут даже ниже исторической «нормы», то и приспосабливаться к ним будет не сложнее, а легче, чем раньше. В свете этого даже краткосрочный всплеск технологической безработицы в ближайшие годы представляется малоправдоподобным.
Конечно, технологическое развитие — это труднопрогнозируемый процесс, который таит в себе много неожиданностей, так что ситуация может поменяться очень быстро. Возможно, уже где-то на подходе находятся новые прорывные технологии, которые в очередной раз преобразят мир. Но пока доступные данные рисуют совершенно иную картину: похоже, что впереди у мировой экономики длительный период не слишком быстрого по историческим меркам технологического развития и, как следствие, достаточно вялого роста производительности.
В то же время в дискуссиях о технологической безработице нередко забывают, что новые технологии могут влиять не только на спрос, но также и на предложение труда. И если эффекты на стороне спроса — это в значительной мере область догадок и предположений, то эффекты на стороне предложения уже реальность.
Традиционно помимо денежных потерь безработные несли не менее значительные неденежные (психологические) издержки, попадая в ситуацию вынужденного бездействия и социальной изоляции. Однако благодаря компьютерам и Интернету такие издержки стали на порядок меньше: теперь незанятым есть чем заняться (скажем, проводить время за видеоиграми) и есть с кем общаться (через социальные сети). И в той мере, в какой возросла ценность досуга, должны были ослабеть стимулы к поиску и получению оплачиваемой занятости на рынке. Иными словами, непредвиденным результатом распространения новых технологий могло стать снижение уровня занятости, причем особенно сильное — среди молодежи.
Действительно, в работе [Aguiar et al., 2016] показано, что в США кривые предложения труда у всех демографических групп сместились под действием ИКТ вниз, но сильнее всего — у молодых мужчин (21–30 лет) с низким образованием (не обучавшихся в колледже). За 2000–2015 гг. уровень занятости упал у них на 10 п.п. — с 82 до 72 % и при этом резко — с 10 до 22 % — выросла доля тех, кто в течение всего предыдущего года не трудился ни одного часа. Что касается средней продолжительности отработанного времени в расчете на одного человека, то она сократилась у них на 300 (!) ч в год. Баланс времени изменился следующим образом: время, посвящаемое работе на рынке, снизилось на 3,5, а посвящаемое работе по дому, — почти на 2 ч в неделю; время, посвящаемое учебе, выросло на 1, а посвящаемое досугу, — более чем на 4 ч в неделю. Еще интереснее, что за компьютером молодые мужчины с низким образованием стали проводить в течение недели на 6,5 ч больше, в том числе за видеоиграми — на 5 ч больше, чем раньше. Согласно эконометрическим оценкам авторов, от четверти до половины всего сокращения отработанного времени у этой группы объяснялось переключением на «компьютерные» формы проведения досуга. Иначе говоря, расширение доступа к новым «досуговым» технологиям привело к тому, что молодые американские мужчины с низким образованием стали работать в течение года на 75–150 ч меньше. Аналогичные тренды, хотя и в более ослабленном виде, фиксируются и для остальных демографических групп [Ibid.][225].
В этом смысле есть основания утверждать, что сегодня серьезным вызовом для экономической и социальной политики является не столько влияние новых технологий на спрос на труд, сколько их влияние на его предложение.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ПРОФЕССИИ
В последние два десятилетия появилось большое число исследований, где тема «технологический прогресс/спрос на труд» начала рассматриваться под принципиально новым углом зрения, а именно — через призму изменений в профессиональной структуре занятости. В них природа современного технологического прогресса определяется исходя из того, как он влияет на спрос на те или иные группы рабочей силы, на те или иные профессии. Что же касается самого термина «профессия», то им обозначается определенный ограниченный набор задач (трудовых функций), выполнение которых по ходу производственного процесса вменяется работнику.
Технологический прогресс неизбежно порождает сдвиги в экономике, которые в случае рынка труда выражаются в перестройке структуры рабочих мест. Рабочие места неоднородны по своим характеристикам: одни предполагают высокую, другие — низкую квалификацию работников; одни связаны с высокой, другие — с низкой оплатой; одни отличаются привлекательными, другие — непривлекательными условиями труда. Природу технологического прогресса можно определить, поняв, как под его воздействием меняется структура рабочих мест — от «хороших» к «плохим» (как думали Смит и Маркс), от «плохих» к «хорошим» или как-то еще. Естественно, что в разные исторические периоды характер влияния технологического прогресса на структуру занятости мог меняться.
Ранние исследования, появившиеся в начале 1990-х годов, фокусировались на вопросе о том, как компьютерная революция и распространение информационных технологий изменили спрос на труд разной квалификации. В простейшем варианте выделялись две группы занятых — низкоквалифицированные (без высшего образования) и высококвалифицированные (с высшим образованием). Опыт показывает, что современные компьютерные технологии тесно связаны с процессом накопления человеческого капитала, поскольку для их внедрения и использования необходимы квалифицированные работники с высоким формальным образованием [Katz, Murphy, 1992]. Можно сказать, что ИКТ комплементарны по отношению к высококвалифицированной, но выступают как субституты по отношению к неквалифицированной рабочей силе. Такой тип технологических изменений получил название «технологического прогресса, смещенного в пользу высококвалифицированной рабочей силы» (skill-biased technological change — SBTC). SBTC предполагает последовательное повышение спроса на квалифицированный труд и снижение — на неквалифицированный. Его следствиями будут: улучшение структуры рабочих мест (вместо «плохих» рабочих мест будут создаваться «хорошие»); повышение производительности труда и заработной платы, причем как у низко-, так и у высококвалифицированных работников; увеличение разрыва в оплате труда между этими группами (иными словами — рост «премии» за высшее образование); углубление неравенства в трудовых доходах.
Действительно, как показала первая же работа, где была сформулирована концепция SBTC, в США на протяжении 1970–1980-х годов численность высококвалифицированных работников росла темпом 3 % в год, в то время как относительная численность и относительная заработная плата низкоквалифицированных работников устойчиво снижались [Ibid.]. Позднее аналогичный результат был получен также для нескольких стран ОЭСР с той, правда, оговоркой, что снижение относительной оплаты труда работников с низкой квалификацией наблюдалось только в англосаксонских странах, но не в странах континентальной Европы [Machin, Van Reenen, 1998]. Скорее всего, это было связано с различиями в институтах рынка труда. При этом наибольший сдвиг в пользу высококвалифицированной рабочей силы отмечался в фирмах и секторах, сильнее всего затронутых компьютеризацией [Autor et al., 1998; Machin, 1996].
Однако круг профессиональных обязанностей может сильно варьировать даже у работников, принадлежащих к одной и той же квалификационной группе. Это обстоятельство никак не учитывалось в концепции SBTC, но стало отправным пунктом для альтернативной концепции «технологического прогресса, направленного на вытеснение рутинного труда» (routine-biased technological change — RBTC) [Autor et al., 2003]. Сторонники идеи RBTC предложили более дробную классификацию рабочих мест в зависимости от того, какие задачи надлежит решать работникам, принадлежащим к той или иной профессии: физические или интеллектуальные, рутинные или креативные. Соответственно были выделены три укрупненных кластера видов занятий — нерутинные физические; нерутинные когнитивные; рутинные (независимо от того, идет ли речь о рутинной физической или рутинной когнитивной деятельности).
К рутинным относятся трудовые операции, носящие заданный, монотонный, повторяющийся характер. С одной стороны, такие операции предполагают следование строго определенному протоколу, так что они легко поддаются кодификации и программированию с помощью современных ИКТ. С другой — рутинный труд более всего характерен для профессий, располагающихся на средних этажах квалификационной иерархии (банковских кассиров, конторских служащих, учетчиков и т. д.). В то же время многие профессии, не требующие особой квалификации (официантов, сиделок и др.), плохо поддаются компьютеризации, потому что здесь необходимы быстрая реакция, умение вступать в личные контакты с клиентами и т. д. Еще хуже поддаются кодификации и программированию профессии, находящиеся на вершине квалификационной иерархии (менеджеров, специалистов и т. д.), где нужно обладать способностью решать сложные проблемы, интуицией, креативностью, даром убеждения и т. д. В результате современные технологии выступают как комплементарные по отношению к высококвалифицированной и как нейтральные — по отношению к низкоквалифицированной рабочей силе, но как субституты — по отношению к рабочей силе средней квалификации.
Из концепции RBTC вытекают три главных предсказания. Первое: в общем массиве задач, решаемых работниками, следует ожидать сдвига от рутинных операций (как физических, так и интеллектуальных) к нерутинным, поскольку выполнение первых во все большей мере берут на себя машины. Эмпирические подтверждения тенденции к снижению удельного веса рутинных задач были получены для англосаксонских стран, стран континентальной Европы и Японии [Autor et al., 2006; Goos, Manning, 2007; Goos et al., 2009; Ikenega, Kambayashi, 2010]. Второе: следствием RBTC будет поляризация структуры занятости. В середине профессиональной шкалы будет наблюдаться провал, тогда как рост занятости будет происходить на полюсах, где концентрируются, с одной стороны, «худшие» (наименее оплачиваемые), а, с другой — «лучшие» (наиболее оплачиваемые) рабочие места. Подобные изменения были зафиксированы для многих развитых стран [Autor et al., 2006; Goos, Manning, 2007; Goos et al., 2009; Ikenega, Kambayashi, 2010; Oesch, Rodríguez Menés, 2011]. Так, по имеющимся оценкам, за период 1993–2006 гг. в странах Западной Европы доля занятых средней квалификации сократилась на 8 п.п. [Goos et al., 2009]. При этом самый быстрый рост доли занятых в сегменте «плохих» рабочих мест наблюдался в странах с более гибкими рынками труда, такими как Великобритания[226]. Третье: RBTC будет сопровождаться поляризацией также и структуры оплаты труда. Иными словами, рост заработной платы по краям шкалы распределения должен опережать ее рост в середине шкалы. Это вполне логичный результат, поскольку сокращая спрос на работников средней квалификации, RBTC должен вести к относительному снижению их заработков. Правда, подобный исход нельзя считать предрешенным. Так, новые технологии могут быть комплементарны по отношению к сохранившим занятость работникам средней квалификации, что будет способствовать повышению их заработной платы [Autor, Dorn, 2013]. Кроме того, работники средней квалификации, вытесненные со своих прежних рабочих мест, могут в очень разных пропорциях распределяться затем между «плохим» (низкооплачиваемым) и «хорошим» (высокооплачиваемым) сегментами занятости; в случае их активной миграции на «хорошие» рабочие места средней уровень заработной платы может у них даже вырасти [Acemoglu, Autor, 2011]. Тем не менее тенденция к поляризации структуры оплаты труда также была подтверждена для рынков труда многих стран [Autor, Dorn, 2013; Firpo et al., 2011; Atkinson, 2008; Dustmann et al., 2009]. В настоящее время концепция RBTC является «мейнстримной» и принимается большинством экономистов, занимающихся изучением взаимосвязи между технологическими изменениями и изменениями в структуре занятости[227].
Здесь, однако, стоит отметить, что разные технологии могут неодинаково влиять на разные группы рутинных профессий. Скажем, если компьютеризация по большей части способствует отмиранию рутинных интеллектуальных видов занятий (таких как конторские служащие), то роботизация — физических (таких как операторы станков). Соответственно порождаемые ими изменения в структуре занятости не обязательно будут совпадать. Так, в ряде исследований утверждается, что роботизация в отличие от компьютеризации ведет к снижению спроса на низко- и увеличению спроса на высококвалифицированную рабочую силу, но не к падению спроса на работников средней квалификации, как то предполагает каноническая версия концепции RBTC [Graetz, Michaels, 2015]. Иными словами, от роботизации следует ожидать скорее улучшения (upgrading) структуры рабочих мест, чем ее поляризации.
Как видно из этого краткого обзора, долгое время экономистов интересовало почти исключительно то, как технологический прогресс связан с изменениями в профессиональной структуре занятости. К не менее важному вопросу о том, как, меняя ее, он может влиять на общий уровень занятости, они обратились лишь недавно.
Из этой новой серии работ наибольший резонанс получило исследование двух британских экономистов, К. Фрея и М. Осборна, представивших прогноз изменений в занятости по профессиям для американской экономики [Frey, Osborne, 2013]. Их общий вывод выглядит более чем пессимистически: по оценкам Фрея и Осборна, в ближайшие 10–20 лет высокому риску полной автоматизации будет подвержено огромное множество самых разных профессий, на долю которых в настоящее время приходится суммарно почти половина (47 %) всех занятых в США. Используя предложенную ими методологию, другие исследователи получили не менее устрашающие цифры: 35 % для Финляндии [Pajarinen, Rouvinen, 2014], 59 % для Германии [Brzeski, Burk, 2015], 45–60 % для стран Европейского союза [Bowles, 2014]. Более поздний прогноз компании МакКинзи для экономики США практически совпал с прогнозом Фрея и Осборна — 45 % [Chui et al., 2015]. Эксперты компании ПрайсуотерхаусКупер были более умеренны: по их прогнозным оценкам, представленным в 2017 г., к началу 2030-х годов в США под действием автоматизации исчезнут профессии, охватывающие «только» 38 % общей численности занятых [Bailey, 2017]. Наконец, по данным Всемирного банка, в странах ОЭСР в следующие два десятилетия в результате автоматизации будет ликвидировано 57 % всех существующих сегодня рабочих мест [World Bank, 2016].
Эти количественные показатели настолько колоссальны, что не могли не вызвать шока у политиков и широкой публики. Поэтому, наверное, имеет смысл прояснить методологию, с помощью которой они были получены.
Как полагают Фрей и Осборн, современный мир вступил в полосу беспрецедентно высокой технологической безработицы. Под влиянием технологических изменений знания и навыки, имеющиеся у работников, будут устаревать с такой скоростью, что ни их переквалификация, ни повышение уровня их образования не смогут исправить ситуацию. Все дело в том, что автоматизация начнет активно вытеснять людей не только из рутинных, но также и из нерутинных видов деятельности, будь то вождение автомобилей или услуги, предоставляемые вспомогательным юридическим персоналом (paralegals). Технологическая безработица не грозит только тем профессиям, где автоматизация наталкивается на инженерные «узкие места», поскольку задачи, выполняемые в рамках таких профессий, пока не поддаются переводу на язык кодифицированных правил.
Фрей и Осборн выделяют три формы человеческой активности, плохо поддающиеся автоматизации: восприятие и манипулирование; креативность; социальный интеллект. В тех профессиях, где их удельный вес велик, человеческий труд еще долго будет сохранять сравнительные преимущества перед машинным (так, создание новых идей и артефактов, ведение переговоров, уход за другими в обозримом будущем будут по-прежнему оставаться уделом самих людей). При таком подходе массив рутинных (точнее — потенциально автоматизируемых) видов труда оказывается намного больше, чем это следует из концепции RBTC.
В своих расчетах Фрей и Осборн использовали данные о 702 профессиональных группах из справочника O*NET (издание 2010 г.), разрабатываемого Министерством труда США. (Более ранние издания этого справочника публиковались под названием «Dictionary of Occupational Titles».) Они отобрали из этого массива 70 профессий и представили их описания (без указания названий) участникам семинара Факультета инженерных наук Оксфордского университета с просьбой оценить, насколько велик риск полной автоматизации подобных видов деятельности в ближайшие одно-два десятилетия. Полученные экспертные оценки с помощью специальных статистических процедур были распространены на остальные 632 профессии. Затем, используя фактические данные о численности занятых по профессиям в США, авторы распределили всех работников по трем группам в зависимости от того, насколько велик риск автоматизации профессий, к которым они принадлежат. Вероятность до 30 % рассматривалась как низкий, вероятность от 30 до 70 % — как средний и вероятность свыше 70 % — как высокий уровень риска. В первую группу попали 33 % всех занятых в настоящее время в США, во вторую — 20 % и в третью — 47 %. Иными словами, по оценкам Фрея и Осборна, уже совсем скоро должны исчезнуть профессии, по которым сегодня трудится примерно половина всех американцев! Из их анализа также следовало, что вопреки предсказаниям концепции RBTC о поляризации занятости, максимальному риску автоматизации подвержен труд работников низкой, а не средней квалификации.
Однако количественные оценки Фрея и Осборна, а также всех, кто использовал их методологию, выглядят достаточно сюрреалистично. Как заметил Бессен, за несколько лет, прошедших после высказанного ими прогноза, из 37 профессий, которым они сулили скорую смерть (бухгалтеры, аудиторы, банковские служащие по выдаче кредитов, курьеры, посыльные), не была автоматизирована ни одна [Bessen, 2016]. Он подсчитал также, что из почти 300 профессий, существовавших в США в 1950 г., к 2010-му по причине автоматизации исчезла… одна! Это — операторы лифтов, потребность в услугах которых отпала после того, как лифтовые кабины стали оснащаться автоматическими дверями [Ibid.].
Вот еще несколько примеров подобного рода. На появление банкоматов техноалармисты отреагировали предсказаниями о полном исчезновении с рынка труда такой профессии, как банковские кассиры (bank tellers). Но на практике их численность (в эквиваленте полной занятости) выросла в США с 400 тыс. в 1990 г. до 450 тыс. в настоящее время — и это на фоне увеличения количества банкоматов со 100 тыс. до 425 тыс. [Ibid.]. После оснащения касс считывающими устройствами должна была, казалось бы, отмереть профессия кассиров в магазинах (cashiers). Но и их число возросло с 2 млн до 3,2 млн человек. Наконец, численность вспомогательного юридического персонала — а Фрей и Осборн, как мы упоминали, предвидят неминуемое исчезновение этой профессии — увеличилась в США с 85 тыс. до 280 тыс. [Bailey, 2017]. (Интересно, что все это профессии средней квалификации, которые, согласно концепции RBTC, должны активно вытесняться машинами.)
На методологическом уровне главный недостаток расчетов Фрея и Осборна был выявлен в работе М. Арнтц с соавторами [Arntz et al., 2016]. В ней подчеркивается, что практически все известные профессии крайне неоднородны по своему внутреннему содержанию и представляют собой набор из самых разнообразных — как рутинных, так и нерутиных — функций. Поэтому в подавляющем большинстве случаев автоматизации подвергаются не те или иные профессии целиком, а лишь некоторые вменяемые им функции (задачи). (См. выше ссылку на работу [Spitz-Oener, 2006].) В результате автоматизация чаще ведет не к отмиранию целых профессий, а к изменениям в структуре задач, решаемых в их рамках: количество времени, уделяемого работниками рутинным операциям, сокращается, тогда как уделяемого нерутинным операциям — возрастает. Однако методология Фрея и Осборна этого не учитывает.
Как показали Арнтц с соавторами [Arntz et al., 2016], при переходе от анализа на уровне целых профессий к анализу на уровне отдельных задач, доля рабочих мест с высоким риском подвергнуться в ближайшие 10–20 лет полной автоматизации снижается до 9 % (усредненная оценка по 21 развитой стране). По отдельным странам этот показатель варьирует от 7 % для Южной Кореи до 12 % для Австрии[228]. В случае США он тоже составляет 9 %, что представляет разительный контраст с 47 % из работы Фрея и Осборна. Причина таких, гораздо более низких, оценок проста: все дело в том, что едва ли не все существующие профессии в большей или меньшей степени завязаны на формы человеческой активности (такие, например, как личное взаимодействие с другими людьми), которые сами Фрей и Осборн рассматривают в качестве труднопреодолимых инженерных «узких мест» на пути автоматизации. Но если это так, то тогда потенциал автоматизации целых профессий (в отличие от автоматизации отдельных задач) оказывается далеко не так велик, как они предполагают.
Объясняя причины наблюдаемой межстрановой вариации, Арнтц с соавторами ссылаются на действие нескольких факторов [Ibid.]. Во-первых, меньший риск потерь в занятости при внедрении новых технологий отмечается в странах с более образованной рабочей силой. (Вслед за Фреем и Осборном они также отмечают, что максимальному риску автоматизации подвержен труд низко-, а не среднеквалифицированных работников.) Во-вторых, многое зависит от принципов организации труда в тех или иных странах. Там, где организация труда базируется на принципах групповой работы и тесного личного взаимодействии с другими работниками, возможности для автоматизации также оказываются уже. В-третьих, важное значение имеет то, как далеко продвинулась та или иная страна по пути технологического прогресса. Поскольку в технологически более отсталых странах неиспользованный потенциал для автоматизации больше, масштабы предстоящего замещения людей машинами также оказываются значительнее — просто потому, что в технологически более передовых странах такое замещение по большей части произошло уже раньше.
Но даже свои собственные оценки Арнтц с соавторами считают сильно завышенными [Ibid.]. Во-первых, их анализ строится на тех же субъективных экспертных данных (с выделением трех инженерных «узких мест»), что и анализ Фрея и Осборна. Но опыт показывает, что эксперты, как правило, склонны сильно преувеличивать скорость распространения новых технологий. Во-вторых, и оценки Фрея и Осборна, и оценки Арнтц с соавторами говорят только о технической возможности автоматизации в тех или иных сферах, но не о ее экономической целесообразности. В зависимости от того, каковы относительные цены на факторы производства, фирмам может быть невыгодно внедрение определенных инноваций, если те не смогут окупить связанных с ними издержек. В-третьих, работники устаревающих профессий не обязательно должны «выдавливаться» в безработицу: многие из них могут успешно приспосабливаться к изменившимся условиям, переключаясь с выполнения одних задач на выполнение других и осваивая навыки и умения, комплементарные по отношению к новым технологиям. В-четвертых, как уже отмечалось, переход на новые технологии может идти со значительным временны́м лагом после их появления из-за различных препятствий — экономических, правовых, этических, возникающих на их пути. Их внедрение может тормозиться отсутствием квалифицированного персонала, способного работать с новым оборудованием; серьезным барьером могут выступать правовые ограничения (см. обсуждение в предыдущем разделе ситуации с беспилотными автомобилями); в обществе могут существовать сильные этические предпочтения в пользу выполнения определенных видов работ людьми, а не машинами (как, скажем, в случае ухода за больными и престарелыми). Все это должно замедлять темпы распространения новых технологий и соответственно делать приспособление к ним менее болезненным. Наконец, ни в работе Фрея и Осборна, ни в работе Арнтц с соавторами никак не учитывается действие макроэкономических компенсирующих механизмов. Однако, как мы видели, технологический прогресс ведет не только к ликвидации «старых», но также и к активному созданию «новых» рабочих мест, причем последний эффект может значительно перевешивать первый.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наиболее общие итоги нашего анализа можно представить так: в долгосрочной перспективе сокращение спроса на труд под действием новых технологий является не более чем теоретической возможностью, которая до сих пор никогда не была реализована на практике; на уровне отдельных фирм между технологическими инновациями и ростом занятости наблюдается устойчивая положительная связь; на секторальном уровне технологические изменения вызывают разнонаправленную реакцию занятости, поскольку разные отрасли находятся на разных стадиях жизненного цикла; на макроуровне технологический прогресс выступает в качестве положительного либо нейтрального, но не отрицательного фактора; вопрос о влиянии на занятость роботизации остается открытым, разные исследователи приходят к неоднозначным выводам; всплеск технологической безработицы даже в краткосрочной перспективе представляется крайне маловероятным, поскольку по историческим меркам темпы самого технологического прогресса будут в предстоящие десятилетия, по-видимому, недостаточно высокими; влияние новых технологий на предложение труда может представлять более серьезную проблему, чем их влияние на спрос на труд; технологические изменения гораздо сильнее воздействуют на структуру занятости, чем на ее уровень; что касается профессий, то современный технологический прогресс связан не столько с изменениями в их номенклатуре, сколько с изменениями в их внутреннем содержании, а именно — с вытеснением рутинных задач нерутинными в рамках существующих видов занятий.
И последний комментарий по поводу «футурологии» сторонников идеи технологической безработицы. По большому счету, к их предсказаниям едва ли стоит относиться серьезно, поскольку они строятся при игнорировании того фундаментального факта, что человечество живет и будет продолжать жить в условиях ограниченности ресурсов. Но, как отмечали А. Алчиян и Р. Аллен [Alchian, Allen, 1972], в мире редкости (scarcity) всегда будет существовать неограниченное число (потенциальных) рабочих мест (см. их высказывание, послужившее эпиграфом к настоящей работе). В таком мире множество желаний людей остаются неудовлетворенными, потому что попытки удовлетворить их обходились бы слишком дорого, говоря иначе — требовали бы непомерно больших затрат ресурсов. Повышая производительность, технологический прогресс высвобождает ресурсы, создавая тем самым возможности для удовлетворения потребностей, удовлетворять которые раньше люди просто физически не могли себе позволить. Но неудовлетворенное желание одного человека есть потенциальное рабочее место для другого человека [Boudreaux, 2017]. А это значит, что пока какие-то потребности людей будут оставаться неудовлетворенными, не будет недостатка и в рабочих местах. Тотальная замена людей машинами представима только в ситуации полного насыщения всех человеческих потребностей, т. е. в воображаемом мире, в котором проблема редкости перестала бы существовать [Nordhaus, 2015]. Но, как писал еще Адам Смит [Смит, 2007, кн. 1, гл. 11, ч. 2], если стремление к пище имеет своим пределом вместимость желудка, то страсть к разнообразию не имеет пределов…
ЛИТЕРАТУРА
Гимпельсон В., Капелюшников Р. «Поляризация» или «улучшение»? Эволюция структуры рабочих мест в России в 2000-е годы // Вопросы экономики. 2015. № 7. С. 87–119.
Маркс К. Капитал. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. М.: Госполитиздат, 1960.
Рикардо Д. Начала политической экономии и принципов налогообложения: избранное / пер. с англ. М.: Эксмо, 2007.
Смит А. Исследование о причинах и природе богатства народов. М.: Эксмо, 2007.
Acemoglu D., Autor D. Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings // Handbook of Labor Economics. Vol. 4b. Amsterdam: Elsevier, 2011. P. 1043–1171.
Acemoglu D., Restrepo P. Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets / NBER Working Paper. No. 23285. Cambridge, МА: NBER, 2017.
Alchian A. A., Allen W. R. University Economics. 3rd ed. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1972.
Aghion P., Howitt P. Growth and Unemployment // Review of Economic Studies. 1994. Vol. 61. No. 3. P. 477–494.
Arnold D., Butschek S., Müller D. et al. Digitalisierung am Arbeitsplatz. Aktuelle Ergebnisse einer Betriebs- und Beschäftigtenbefragung. Berlin: Forschungsbericht im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 2016.
Auguiar M., Bils M., Charles K. et al. Leisure and Luxuries and the Labor Supply of Young Men. Unpubl. manuscript, 2016.
Antonucci T., Pianta M. Employment Effects of Product and Process Innovation in Europe // International Review of Applied Economics. 2002. Vol. 16. No. 3. P. 295–307.
Arntz M., Gregory T., Zierahn U. The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis / OECD Social, Employment and Migration Working Paper 189. Paris: OECD Publishing, 2016.
Atkinson A. The Changing Distribution of Earnings in OECD Countries. Oxford: Oxford University Press, 2008.
Autor D., Dorn D. The Growth of Low Skill Service Jobs and the Polarization of the U. S. Labor Market // American Economic Review. 2013. Vol. 103. No. 5. P. 1553–1597.
Autor D. H., Dorn D., Hanson G. H. Untangling Trade and Technology: Evidence from Local Labor Markets // Economic Journal. 2015. Vol. 125. No. 584. P. 621–646.
Autor D., Katz L., Kearney M. Measuring and Interpreting Trends in Economic Inequality — The Polarization of the U. S. Labor Market // American Economic Review. 2006. Vol. 96. No. 2. P. 189–194.
Autor D., Katz L., Krueger A. Computing Inequality: Have Computers Changed the Labor Market? // Quarterly Journal of Economics. 1998. Vol. 113. No. 3. P. 1169–1213.
Autor D., Levy F., Murnane R. The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration // Quarterly Journal of Economics. 2003. Vol. 118. No. 4. P. 1279–1333.
Autor D., Salomons A. Robocalypse Now — Does Productivity Growth Threaten Employment? Paper presented at the NBER Conference in Toronto. 2017. 13–14 September. .
Bailey R. Are Robots Going to Steal Our Jobs? // Reason Magazine: [online serial]. 2017. July. -robots-going-to-steal-our-jobs.
Bergeaud A., Cette G., Lecat R. Total Factor Productivity in Advanced Countries: A Long-term Perspective // International Productivity Monitor. 2017. No. 32. Spring. P. 6–24.
Bessen J. How Computer Automation Affects Occupations: Technology, Jobs, and Skills / Boston University School of Law. Law and Economics Paper No. 15–49. Boston, 2017.
Bessen J. Automation and Jobs: When Technology Boosts Employment / Boston University School of Law. Law and Economics Paper No. 17–09. Boston, 2017.
Blanchflower D. G., Burgess S. M. New Technology and Jobs: Comparative Evidence from a Two Country Study // Economics of Innovation and New Technology. 1998. Vol. 5. No. 2. P. 109–138.
Blien U., Ludewig O. Technological Progress and (Un)employment Development / IZA Discussion Paper. No. 10472. Bonn: IZA, 2017.
Bogliacino F., Pianta M. Innovation and Employment. A Reinvestigation Using Revised Pavitt Classes // Research Policy. 2010. Vol. 39. No. 6. P. 799–809.
Bogliacino F., Vivarelli M. The Job Creation Effect of R&D Expenditures // Australian Economic Papers. 2012. Vol. 51. No. 2. P. 96–113.
Boltho A., Glyn A. Can Macroeconomic Policies Raise Employment? // International Labour Review. 1995. Vol. 134. No. 4–5. P. 451–470.
Boudreaux D. Quotation of the Day… Cafe Hayek. 2017. January 17. -of-the-day-1959.html.
Bowles J. The Computerization of European Jobs. Brussels: Bruegel, 2014.
Brynjolfsson E., McAfee A. Race Against the Machines: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy. Lexington, MА: Digital Frontier Press, 2011.
Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. N. Y.: WW Norton & Company, 2014.
Brynjolfsson E., Rock D., Syverson Ch. Artificial Intelligence and the Modern Productivity Paradox: A Clash of Expectations and Statistics / NBER Working Paper. No. 24001. Cambridge, MА: NBER, 2017.
Brzeski C., Burk I. Die Roboter kommen. Folgen der Automatisierung für den deutschen Arbeitsmarkt // ING DiBa Economic Research. 2015. -diba.de/binaries/content/assets.
Buerger M., Broekel T., Coad A. Regional Dynamics of Innovation: Investigating the Co-Evolution of Patents, Research and Development (R&D), and Employment // Regional Studies. 2012. Vol. 46. No. 5. P. 565–582.
Chui M., Manyika J., Miremadi M. Four Fundamentals of Workplace Automation // McKinsey Quarterly. 2015. November.
Ciriaci D., Moncada-Paternò-Castello P., Voigt P. Innovation and Job Creation: A Sustainable Relation? // Eurasian Business Review. 2016. Vol. 6. No. 2. P. 189–213.
Clark J. A Vintage-Capital Simulation Model // Technical Change and Full Employment / ed. by C. Freeman, L. Soete. Oxford: Basil Blackwell, 1987.
Coad A., Rao R. The Firm-Level Employment Effects of Innovations in High-Tech US Manufacturing Industries // Journal of Evolutionary Economics. 2011. Vol. 21. No. 2. P. 255–283.
Cortés G. M., Salvatori A. Task Specialization within Establishments and the Decline of Routine Employment. Unpubl. manuscript. Manchester: University of Manchester. 2015. /~/media/Documents/research/seminars/2016/cortes-011916.pdf.
Dustmann C., Ludsteck J., Schönberg U. Revisiting the German Wage Structure // Quarterly Journal of Economics. 2009. Vol. 124. No. 2. P. 843–881.
Evangelista R., Savona M. The Impact of Innovation on Employment in Services: Evidence from Italy // International Review of Applied Economics. 2002. Vol. 16. No. 3. P. 309–318.
Feldmann H. Technological Unemployment in Industrial Countries // Journal of Evolutionary Economics. 2013. Vol. 23. No. 5. P. 1099–1126.
Fernald J. Productivity and Potential Output before, during and after the Great Recession // NBER Macroeconomics Annual 2014. 2015. Vol. 29. P. 1–51.
Field A. J. The Most Technologically Progressive Decade of the Century // American Economic Review. 2003. Vol. 93. No. 4. P. 1399–1413.
Firpo S., Fortin N., Lemieux T. Occupational Tasks and Changes in the Wage Structure / IZA Discussion Paper. No. 5542. Bonn: IZA, 2011.
Ford M. Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future. N. Y.: Basic Books, 2015.
Frey C., Osborne M. The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation? / Working Paper. Oxford: Oxford Martin School, 2013. -of-employment.pd.
Gaggl P., Wright G. C. A Short-Run View of What Computers Do: Evidence from a UK Tax Incentive / University of Essex. Department of Economics. Working Paper. No. 752. Essex, 2014.
Goos M., Manning A. Lousy and Lovely Jobs: The Rising Polarization of Work in Britain // Review of Economics and Statistics. 2007. Vol. 89. No. 1. P. 118–133.
Goos M., Manning A., Salomons A. Job Polarization in Europe // American Economic Review. 2009. Vol. 99. No. 2. P. 58–63.
Gordon R. J. The Rise and Fall of American Growth. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016.
Graetz G., Michaels G. Robots and Work / IZA Discussion Paper. No. 8938. Bonn: IZA, 2015.
Greenan N., Guellec D. Technological Innovation and Employment Reallocation // LABOUR. 2000. Vol. 14. No. 4. P. 547–590.
Gregory T., Salomons A., Zierahn U. T. Technological Change and Regional Labor Market Disparities in Europe / Centre for European Economic Research. Discussion Paper. No. 16–053. Mannheim, 2016.
Hall B. H., Lotti F., Mairesse J. Employment, Innovation, and Productivity: Evidence from Italian Microdata // Industrial Corporation Change. 2008. Vol. 17. No. 4. P. 813–839.
Harari Y. N. Homo Deus: А Brief History of Tomorrow. N. Y.: Harper Collins, 2017.
Harrison R., Jaumandreu J., Mairesse J. et al. Does Innovation Stimulate Employment? A Firm-Level Analysis Using Comparable Micro-Data from Four European Countries // International Journal of Industrial Organization. 2014. Vol. 35. No. 1. P. 29–43.
Ikenaga T., Kambayashi R. Long-term Trends in the Polarization of the Japanese Labor Market: The Increase of Non-routine Task Input and Its Valuation in the Labor Market. Unpubl. manuscript. Hitotsubashi University Institute of Economic Research. Working Paper. 2010. -u.ac.jp/Common/pdf/dp/2009/dp464_2.pdf.
Jäger A., Moll C., Som O. et al. Analysis of the Impact of Robotic Systems on Employment in The European Union. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. .
Kalmbach P., Kurz H. D. Micro-electronics and Employment: A Dynamic Input-output Study of the West-German Economy // Structural Change and Economic Dynamics. 1990. Vol. 1. No. 2. P. 371–386.
Katz L., Murphy K. Changes in Relative Wages, 1963–1987: Supply and Demand Factors // Quarterly Journal of Economics. 1992. Vol. 107. No. 1. P. 35–78.
Keynes J. M. Economic Possibilities for our Grandchildren // Keynes J. M. Essays in Persuasion. L.: Macmillan, 1931.
Klette T. J., Førre S. E. Innovation and Job Creation in a Small Open Economy — Evidence from Norwegian Manufacturing Plants 1982–92 // Economics of Innovative Technologies. 1998. Vol. 5. No. 2. No. 247–272.
Lachenmaier S., Rottmann H. Effects of Innovation on Employment: A Dynamic Panel Analysis // International Journal of Industrial Organization. 2011. Vol. 29. No. 2. P. 210–220.
Layard R., Nickell S. The Causes of British Unemployment // National Institute Economic Review. 1985. Vol. 111. No. 1. P. 62–85.
Leontief W. W. Machines and Man // Scientific American. 1952. September. P. 150–160.
Leontief W., Duchin F. The Future Impact of Automation on Workers. Oxford: Oxford University Press, 1986.
Machin S. Changes in the Relative Demand for Skills in the U. K. Labour Market // Acquiring Skills: Market Failures, Their Symptoms and Policy Responses / ed. by A. Booth, D. Snower. Cambridge, MА: Cambridge University Press, 1996.
Machin S., Van Reenen J. Technology and Changes in Skill Structure: Evidence from Seven OECD Countries // Quarterly Journal of Economics. 1998. Vol. 113. No. 4. P. 1215–1244.
Mokyr J., Vickers C., Ziebarth N. L. The History of Technological Anxiety and the Future of Economic Growth: Is This Time Different? // Journal of Economic Perspectives. 2015. Vol. 29. No. 3. P. 31–50.
Mortensen D. T., Pissarides C. A. Technological Progress, Job Creation, and Job Destruction // Review of Economic Dynamics. 1998. Vol. 1. No. 4. P. 733–753.
Nickell S., Kong P. Technical Progress and Jobs / London School of Economics. Centre for Labour Economics. Discussion Paper. No. 366. L., 1989.
Nordhaus W. D. Are We Approaching an Economic Singularity? Information Technology and the Future of Economic Growth / NBER Working Paper. No. 21547. Cambridge, MА: NBER, 2015.
Oesch D., Rodriguez Menés J. Upgrading or Polarization? Occupational Change in Britain, Germany, Spain and Switzerland, 1990–2008 // Socio-Economic Review. 2011. Vol. 9. No. 3. P. 503–531.
Padalino S., Vivarelli M. The Employment Intensity of Economic Growth in the G-7 Countries // International Labour Review. 1997. Vol. 136. No. 2. P. 191–213.
Pajarinen M., Rouvinen P. Computerization Threatens One Third of Finnish Employment. ETLA, 2014. ETLA Brief 22. -content/uploads/ETLA-Muistio-Brief-22.pdf.
Pellegrino G., Piva M., Vivarelli M. Are Robots Stealing Our Jobs? / IZA. Discussion Paper. No. 10540. Bonn: IZA, 2017.
Pfeiffer S., Suphan A. The Labouring Capacity Index: Living Labouring Capacity and Experience as Resources on the Road to Industry 4.0 / University of Hohenheim. Working Paper. No. 2. Hohenheim, 2015.
Piacentini Р., Pini Р. Growth and Employment // ed. by M. Vivarelli, M. Pianta. The Employment Impact of Innovation: Evidence and Роliсу / L.: Routledge, 2000. Р. 44–76.
Pianta M. The Employment Impact of Product and Process Innovations // The Employment Impact of Innovation: Evidence and Policy / ed. by M. Vivarelli, M. Pianta. L.: Routledge, 2000.
Pini P. An Integrated Cumulative Growth Model: Empirical Evidence for Nine OECD countries, 1960–1990 // Labour. 1996. Vol. 10. No. 1. P. 93–150.
Piva M., Vivarelli M. Innovation and Employment: Evidence from Italian Microdata // Journal of Economics. 2005. Vol. 86. No. 1. P. 65–83.
Piva M., Vivarelli M. Technological Change and Employment: Were Ricardo and Marx Right? / IZA Discussion Paper. No. 10471. Bonn: IZA, 2017.
Regev H. Innovation, Skilled Labour, Technology and Performance in Israeli Industrial Firms // Economics of Innovation and New Technology. 1998. Vol. 5. No. 2. P. 301–323.
Rifkin J. The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era. N. Y.: Putnam, 1995.
Samuelson P. A. Ricardo Was Right! // Scandinavian Journal of Economics. 1989. Vol. 91. No. 1. P. 47–62.
Sacristán Díaz M., Quirós Tomás F. J. Technological Innovation and Employment: Data From a Decade in Spain // International Journal of Productivity Economics. 2002. Vol. 75. No. 3. P. 245–256.
Schumpeter J. History of Economic Analysis. N. Y.: Oxford University Press, 1954.
Simonetti R., Taylor K., Vivarelli M. Modelling the Employment Impact of Innovation // The Employment Impact of Innovation: Evidence and Policy / ed. by M. Vivarelli, M. Pianta. L.: Routledge, 2000.
Sinclair P. J. N. When Will Technical Progress Destroy Jobs? // Oxford Economic Papers. 1981. Vol. 31. No. 1. P. 1–18.
Smolny W. Innovations, Prices and Employment: A Theoretical Model and an Empirical Application for West German Manufacturing Firms // Journal of Industrial Economics. 1998. Vol. 46. No. 3. P. 359–381.
Spitz-Oener A. Technical Change, Job Tasks, and Rising Educational Demands: Looking outside the Wage Structure // Journal of Labor Economics. 2006. Vol. 24. No. 2. P. 235–270.
Summers L. H. Economic Possibilities for Our Children. The 2013 Martin Feldstein Lecture // NBER Reporter. 2013. No. 4. P. 1–6.
Van Reenen J. Employment and Technological Innovation: Evidence from U. K. Manufacturing Firms // Journal of Labor Economics. 1997. Vol. 15. No. 2. P. 255–284.
Vivarelli M. The Economics of Technology and Employment: Theory and Empirical Evidence. Aldershot: Elgar, 1995.
Vivarelli M. Innovation and Employment: A Survey / IZA Discussion Paper. No. 2621. Bonn: IZA, 2007.
Vivarelli M., Evangelista R., Pianta M. Innovation and Employment in Italian Manufacturing Industry // Research Policy. 1996. Vol. 25. No. 7. P. 1013–1026.
Wicksell K. Lectures on Political Economy. L.: Routledge & Kegan, 1961.
Whitley J. D., Wilson R. A. Quantifying the Employment Effects of Micro-electronics // Futures. 1982. Vol. 14. No. 6. P. 486–495.
Whitley J. D., Wilson R. A. Quantifying the Impact of Information Technology on Employment Using a Macroeconomic Model of the United Kingdom Economy // Information Technology and Economic Prospects. Paris: OECD, 1987. P. 176–220.
World Bank. World Development Report 2016: Digital Dividends. W.: World Bank, 2016.
Yang C. H., Lin A. Developing Employment Effects of Innovations: Microeconometric Evidence from Taiwan // Development Economics. 2008. Vol. 46. No. 2. P. 109–134.
XVI Феномен старения населения: экономические эффекты[229]
Человечество вступает на неизведанную территорию, связанную с его предстоящим быстрым старением.
О феномене старения (эйджинга) можно говорить, когда возрастная структура населения резко сдвигается в пользу лиц пожилого возраста. Конкретно старение населения выражается в повышении среднего и медианного возрастов, а также в уменьшении удельного веса младших и увеличении удельного веса старших когорт в общей численности населения. По прогнозам, во всем мире доля пожилых (65+), составляющая в настоящее время 10 %, удвоится к 2050 г. и утроится к 2100-му, а доля очень пожилых (80+), не превышающая в настоящее время 2 %, вырастет вдвое к 2050 г. и вчетверо к 2100-му. Даже в странах, где процесс старения населения стартовал уже достаточно давно (например, Японии), он еще далек от завершения. С точки зрения всего человечества смещение возрастной структуры населения в пользу пожилых только начинает набирать обороты.
В научной литературе процесс, в ходе которого население движется от первоначально высоких показателей смертности и рождаемости с преобладанием молодых когорт к низким показателям рождаемости и смертности с преобладанием пожилых когорт, получил название «демографического перехода» [Вишневский, 2005]. Хотя сегодня в него уже включены практически все страны мира, протекает он крайне неравномерно: одни государства находятся на самых ранних его стадиях, другие — на существенно более поздних. В финальной точке, до которой, впрочем, пока еще достаточно далеко, человечество ожидает глобальное постарение. Сочетание снижающихся показателей смертности со снижающимися показателями рождаемости делает перспективу эйджинга неизбежной.
У многих наблюдателей подобная картина будущего вызывает серьезную тревогу. Эксперты ООН предупреждают, что «старение населения беспрецедентно; оно не имеет параллелей в человеческой истории, и в XXI столетии мы станем свидетелями еще более быстрого старения, чем то, что наблюдалось в прошлом веке» [United Nations, 2008]. Высказываются опасения, что «глобальный эйджинг может вызвать кризис, способный потрясти мировую экономику и даже подорвать основы самой демократии» [Peterson, 1999, p. 55]. Согласно этой точке зрения он представляет собой «более реальную и более серьезную угрозу, чем угрозы, связанные с разработкой химического оружия, распространением ядерного оружия или этническими конфликтами» [Ibid.].
Что служит основанием для таких алармистских предсказаний?
Население любой страны можно условно разделить на две большие части: «экономически зависимое» (получающее «даровые» ресурсы от других) и «экономически независимое» (направляющее «даровые» ресурсы другим). Принадлежность к той или иной группе определяется в первую очередь возрастом, поскольку способности и потребности людей меняются по ходу жизненного цикла. Соответственно первая включает преимущественно детей и пожилых, тогда как вторая — главным образом лиц среднего возраста. Однако границы между детством и взрослостью, зрелостью и старостью исторически и географически специфичны и меняются как во времени, так и в пространстве. В современной международной статистике граница между детством и взрослостью условно определяется порогом в 20 лет (другой возможный вариант — 15 лет), а граница между зрелостью и старостью — порогом в 65 лет (другой возможный вариант — 60 лет). Интуитивно понятно, что меняющееся соотношение между зависимым и независимым населением способно оказывать сильнейшее влияние на функционирование экономики, причем по многим самым разным каналам: «Соотношение между потреблением и производством, как правило, выше в детстве и старости и ниже в рабочих возрастах. Это означает, что ключевые драйверы экономического роста, такие как предложение труда, производительность, потребление и сбережения будут варьироваться в зависимости от того, на какой стадии жизненного цикла находится большинство населения» [Bloom et al., 2011, p. 13].
В первом приближении представление о бремени демографической и экономической зависимости можно получить, сопоставив величины двух этих сегментов. Соотношение между численностью зависимого и численностью независимого населения принято обозначать термином «коэффициент зависимости» (dependency ratio)[230]. Это дробь, где в числителе находится численность населения в возрасте до 20 лет (альтернативный вариант — до 15 лет) и 65+ лет (альтернативный вариант — 60+ лет), а в знаменателе — численность населения в возрасте 20–64 лет (альтернативный вариант — 15–59 лет). Она показывает, сколько экономически зависимых индивидов приходится на одного экономически независимого индивида, и может рассчитываться не только для всей совокупности экономически зависимых индивидов, но также для отдельных ее составляющих, скажем, только детей или только пожилых. Показатель, обратный коэффициенту зависимости, когда числитель и знаменатель меняются местами, обозначается термином «коэффициент поддержки» (support ratio). Он соответственно показывает, сколько экономически независимых индивидов приходится на одного экономически зависимого индивида[231].
Старение населения неизбежно ухудшает соотношение между зависимым и независимым сегментами населения, вызывая скачок в коэффициентах зависимости (или, что то же самое, провал в коэффициентах поддержки). Если бы каждый человек жил автономно в полной изоляции, то динамика показателей зависимости не имела бы большого значения. Тогда людям было бы безразлично, каков средний возраст окружающих, сколько среди них молодых и сколько пожилых, как долго тем предстоит работать и жить и т. д. Эйджинг выступал бы в таком случае экономически нейтральным фактором. Но поскольку жизнь одних поколений частично накладывается на жизнь других, это подталкивает их к тому, чтобы вступать друг с другом в самые разнообразные экономические взаимодействия — как через прямые контакты на рынке, так и через косвенные связи в форме нерыночных межпоколенческих трансфертов. Тогда эйждинг может становиться серьезным вызовом для общества, подрывая (при определенных условиях) его благосостояние: «Экономические эффекты старения населения будут иметь место всегда, когда некоторое экономическое взаимодействие (продажа товаров или услуг, получение выплат от правительства и т. д.) сводит вместе людей, чье участие в этом взаимодействии является функцией их возраста. В подобной ситуации изменения в относительных размерах двух групп, различающихся по возрасту, станут требовать изменений в поведении по меньшей мере от одной из них. …Пенсии по старости, содержание детей, соединение капитала пожилых с трудом молодых — во всех этих случаях изменения в относительной численности участников на любой из сторон взаимодействия будут иметь значимые последствия» [Weil, 2006, p. 2–3].
В результате здесь возникает множество сложных вопросов, ответы на которые неочевидны. В какой мере сокращение предложения труда, вызванное старением населения, станет замедлять экономический рост? Способно ли повышение качества рабочей силы (уровня ее образования) компенсировать убыль ее количества? Окажется ли постаревшая рабочая сила менее производительной и менее инновативной, тормозя скорость технологического прогресса? Будет ли наплыв на рынок труда пожилых работников вытеснять с него молодых? Будет ли старение населения сопровождаться ростом капиталовооруженности труда и снижением отдачи от капитала, «обваливая» таким образом курс акций? Или же капитал будет перетекать в страны с более молодым населением, так что отдача от него в развитых странах будет оставаться высокой? Может ли старение населения стать причиной вековой стагнации, «уронив» темпы экономического роста в развитых странах, а возможно, и во всем мире до исторических минимумов? Окажется ли резко возросшее бремя экономической зависимости по силам для занятой части населения? Каковы шансы на спасение действующих сегодня в большей части стран мира солидарных пенсионных систем, созданных много десятилетий тому назад в совершенно иных демографических и экономических условиях, от угрозы неминуемого, как предсказывают многие, финансового краха вследствие предстоящего драматического «обмеления» трудовых ресурсов? Насколько велика опасность возникновения острых политических конфликтов между молодой и пожилой частями общества за куски сжимающегося бюджетного «пирога»? Ответить на все эти вопросы тем более сложно, что извлечь какие-либо уроки из прошлого исторического опыта, чтобы понять, как можно предотвратить или смягчить последствия эйджинга, невозможно по вполне банальной причине — просто потому, что приобрести такой опыт у человечества еще не было возможности.
Вместе с тем нельзя забывать, что как для индивидов, так и для всего общества в целом процесс старения населения порождает не только издержки, но и выгоды [Lee, 2016][232]. Благоприятные условия для снижения первых и повышения вторых возникают из-за неравномерности его протекания в отдельных странах: какие-то из них находятся еще только в самом начале пути, другие приближаются уже к его концу. Эта неравномерность создает большие межстрановые различия как в обеспеченности основными факторами производства (трудом и капиталом), так и в ценах на них, делая возможной частичную нейтрализацию негативных эффектов старения населения через международные торговые потоки, а также международные потоки труда и капитала [Börsch-Supan, 2006]. Развитые страны, находящиеся в «авангарде» процесса старения населения, могут до известной степени снижать связанные с ним издержки, как бы экспортируя эйджинг в развивающиеся страны.
Старение населения имеет множество разнообразных и зачастую противоположно направленных экономических и социальных последствий. Но, как ни странно, осознается это далеко не всегда. Так, если говорить о дискуссиях в России, то практически все они сводятся к обсуждению двух узко прагматических тем — надо или не надо повышать пенсионный возраст и как быть с дефицитом ПФР. Цель настоящей работы — представить по возможности максимально широкий спектр экономических проблем, порождаемых старением населения, в том числе и не имеющих прямого отношения к политике государства. Работа носит обзорный характер и не претендует на то, чтобы предлагать ответы на те или иные практические вопросы, возникающие в связи с эйджингом в российском контексте.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ПРОБЛЕМЫ СТАРЕНИЯ
Прежде чем говорить об ожидаемых экономических эффектах старения населения, необходимо понять, какова, собственно, демографическая природа этого процесса. Какими причинами он вызывается? Насколько он универсален? Какова его динамика? Можно ли повернуть его вспять или хотя бы замедлить его ход? Без ответов на эти вопросы нам едва ли удастся адекватно оценить масштабы и глубину экономических проблем, которыми, как показывает анализ, он может сопровождаться.
Старение населения и демографический переход. Генератором изменений в возрастной структуре населения выступает процесс демографического перехода, занимающий в общей сложности примерно три столетия и включающий три основные стадии [Вишневский, 2005; Демографическая модернизация России, 2006; Bloom, Luca, 2016; Lee, 2003]. До старта демографического перехода человечество жило в мальтузианском мире, в котором поддерживались стабильно высокие показатели как рождаемости, так и смертности[233]. Из-за того что они взаимно погашали друг друга, темпы роста численности населения были близки к нулевым. В результате на протяжении многих веков она оставалась почти стационарной.
Ситуация стала меняться, когда на фоне остававшихся по-прежнему высокими показателей рождаемости сначала в странах Западной Европы и Северной Америки (на рубеже XVIII–XIX вв.), а затем и в развивающихся странах (в первой половине XX в.) началось быстрое снижение показателей смертности — вследствие улучшения питания, прогресса медицины, повышения качества санитарных условий, распространения более здорового образа жизни, роста уровня образования. Естественным результатом подобного сочетания стал взрывной рост численности населения [Вишневский, 2005; Bloom, Luca, 2016; Lee, 2003].
Снижение смертности означает более долгую жизнь и более позднюю смерть: число лет, проживаемых людьми в каждом из возрастов, в таком случае увеличивается. Однако прирост продолжительности жизни может распределяться между различными фазами жизненного цикла крайне неравномерно. На начальной стадии демографического перехода этот прирост концентрируется по большей части на самых ранних этапах жизни (благодаря сокращению младенческой смертности), в результате чего доля младших возрастов в численности населения начинает быстро повышаться. Вступление во взрослую жизнь этих более многочисленных когорт оборачивается затем увеличением общего числа рождений, так что представительство младших возрастов в численности населения возрастает еще больше. Все это приводит, во-первых, к сильному омоложению возрастной пирамиды и, во-вторых, к существенному повышению общего коэффициента демографической зависимости (или, что эквивалентно, к снижению общего коэффициента демографической поддержки). По длительности эта начальная стадия демографического перехода занимает обычно не меньше полувека [Bloom, Luca, 2016; Lee, 2003].
На второй стадии демографического перехода вслед за показателями смертности вниз устремляются показатели рождаемости, так что темпы прироста численности населения начинают затухать, хотя все еще остаются положительными. В развитых странах начало этой стадии демографического перехода датируется приблизительно концом XIX в., а завершение — концом XX в.; развивающиеся страны вступили на нее позже — в середине-конце XX столетия [Ibid.]. Как показывает анализ, этот радикальный сдвиг в репродуктивном поведении людей вызывался тремя главными факторами: удорожанием «стоимости» детей, повышением уровня образования и появлением более эффективных средств контрацепции. Важнейшим среди них являлся, безусловно, первый [Becker, 1981].
Начавшееся снижение рождаемости приводит к тому, что доля младших когорт в численности населения сокращается, тогда как доля когорт среднего возраста увеличивается. В то же самое время доля пожилых когорт остается (до определенного момента) более или менее стабильной. Как следствие — соотношение между численностью населения в нерабочих и рабочих возрастах заметно улучшается. Падение общего коэффициента демографической зависимости, когда в изменившихся условиях каждый работающий должен «содержать» значительно меньшее число иждивенцев, становится мощным катализатором экономического роста. Временно́й лаг между началом падения коэффициента зависимости детей и началом повышения коэффициента зависимости пожилых создает благоприятное окно экономических возможностей, обозначаемое в исследовательской литературе термином «демографический дивиденд». (Если говорить о России, то в ней, как показывают данные, его пиковые значения пришлись на нулевые годы нынешнего столетия.)
Однако на третьей стадии демографического перехода продолжающееся снижение показателей смертности приводит к сдвигам в возрастной структуре населения уже в пользу пожилых [Вишневский, 2005; Bloom, Luca, 2016; Lee, 2003]. Во-первых, пожилого возраста достигают многочисленные когорты, появившиеся на свет еще в тот период, когда рождаемость поддерживалась на высоком уровне, и во-вторых, значительно возрастает средняя продолжительность жизни. Как уже упоминалось, когда смертность начинает падать с очень высоких значений, основная «прибавка» к продолжительности жизни приходится на детские годы. Однако при дальнейшем падении, когда смертность достигает уже достаточно низких уровней, основная «прибавка» достается лицам пожилого возраста. В США в начале XX столетия лишь 20 % общей «прибавки» к продолжительности жизни доставалось пожилым (65+) [Eggleston, Fuchs, 2012]. Сегодня же ситуация выглядит совершенно иначе: подсчитано, что в США за последнюю четверть века 75 % общего прироста в продолжительности жизни пришлось на группу 65+ и лишь 25 % — на тех, кто еще не достиг этого возрастного порога [Ibid.]. В развитых странах практически все снижение показателей смертности концентрируется в настоящее время вблизи конца жизни. В дальнейшем, по мере того как вероятности дожития для младших и средних возрастов будет асимптотически приближаться к единице, уже весь дополнительный выигрыш в увеличении продолжительности жизни будет доставаться только пожилым и очень пожилым. Верхний предел репродуктивного возраста для женщин оценивается в 45 лет. Анализ показывает, что, когда вероятность их дожития до этого возраста приближается к единице, дальнейшее падение смертности уже не повышает числа рождений, как это было раньше, и может увеличивать численность населения только за счет пожилых [Lee, 2016].
В то же самое время продолжающееся снижение показателей рождаемости приводит к тому, что через какое-то время начинается сокращение абсолютных размеров когорт, находящихся в рабочих возрастах, а соответственно, и их относительной доли в общей численности населения. Можно сказать, что доля лиц в рабочих возрастах описывает как бы полный круг: на первой стадии демографического перехода она снижается, на второй — возрастает, но на третьей — вновь устремляется вниз.
Как следствие, на третьей стадии демографического перехода общий коэффициент демографической зависимости начинает быстро повышаться: хотя на одного работающего теперь приходится меньше детей, но зато больше пожилых, причем первый (благоприятный) эффект, как правило, намного перекрывается вторым (неблагоприятным). Население вступает в полосу старения: демографический дивиденд из положительного становится отрицательным, превращаясь (потенциально) в серьезный тормоз на пути дальнейшего экономического роста. (В России этот перелом в трендах, по-видимому, можно условно датировать 2010-ми годами.)
Когда показатели рождаемости и смертности наконец стабилизируются на новых более низких уровнях (впрочем, когда именно это произойдет, пока не вполне ясно), рост численности населения прекратится и может даже смениться ее убылью [Bloom, Luca, 2016; Lee, 2003]. Тогда переход от исходной низкой стационарной к конечной высокой, но тоже стационарной численности населения можно будет считать завершенным. В этом смысле старение населения предстает как естественная финальная точка демографического перехода, в которую раньше или позже предстоит прийти всему человечеству. По мере приближения к ней возрастная пирамида населения подвергается неизбежному переформатированию: ее основание (младшие возрасты) истончается, а вершина (старшие возрасты), наоборот, резко разбухает.
Демографический переход — историческая закономерность, имеющая универсальный характер. Хотя опыт отдельных стран может сильно варьироваться в широких пределах, все они раньше или позже, быстрее или медленнее проходят через одни и те же его фазы. В развитых странах, как упоминалось, этот процесс начался намного раньше (примерно на 100 лет), но зато и протекал гораздо медленнее, чем это происходит сегодня в развивающихся странах. Можно сказать, что развивающиеся страны повторяют путь развитых, но только по ускоренной программе. В частности, хотя они намного позднее сталкиваются с проблемой старения населения, из-за гораздо более высоких темпов она, как ожидается, будет становиться все более и более острой.
В настоящее время большинство развитых и даже развивающихся стран вышли на завершающую стадию демографического перехода. Скажем, в Японии это произошло в 1970 г., в Китае — в 2012 г. [Lee, 2016]. В таком контексте старение населения предстает уже не как проблема каких-то отдельных стран, а как проблема (и неизбежное будущее) всего человечества. Тем не менее все они находятся лишь в начале пути (даже Япония, продвинувшаяся по нему дальше других). При текущих значениях показателей рождаемости и смертности ни в одной из стран мира процесс эйджинга не может считаться завершенным.
Механика старения. Как уже отмечалось, фундаментальной причиной старения населения является взаимодействие двух вековых трендов — возрастающей продолжительности жизни (вследствие снижающейся смертности) и падающей рождаемости[234]. Снижение смертности повышает средний возраст, в котором люди умирают, тогда как снижение рождаемости уменьшает частоту, с какой они появляются на свет [Weil, 1997]. В первом случае средний возраст становится больше, потому что увеличение продолжительности жизни меняет пропорцию между числом лет, проживаемых людьми в старших возрастах, и числом лет, проживаемых ими в младших возрастах, в пользу первых. Во втором он становится больше, потому что снижение рождаемости меняет соотношение между численностью поколений, родившихся недавно, и поколений, родившихся давно, в пользу последних.
Эффект от падения рождаемости однозначен: сокращая численность населения сначала в младших, а затем и в рабочих возрастах, оно даже при неизменной продолжительности жизни будет вести к старению населения. Сложнее обстоит дело с падением смертности и вытекающим отсюда увеличением продолжительности жизни. С одной стороны, ускоряя рост населения, снижающаяся смертность делает население моложе, поскольку в момент появления на свет поколения, родившиеся позже (при более низкой смертности), оказываются больше по численности, чем поколения, родившиеся раньше (при более высокой смертности). С другой стороны, она делает население старше, потому что представители каждого поколения начинают в среднем жить дольше. Как следствие, в странах с высокой и низкой рождаемостью результирующая двух этих эффектов будет разной: в первом случае средний возраст будет уменьшаться (население молодеет), во втором — увеличиваться (население стареет).
К этому следует добавить, что хотя и падение рождаемости, и увеличение продолжительности жизни (как результат снижающейся смертности) ведут к старению населения, их последствия с точки зрения индивидов различны [Ibid.]. Изменения в показателях рождаемости никак не влияют на то, какую часть жизни человеку предстоит провести в той или иной возрастной категории, тогда как изменения в показателях смертности обладают именно таким эффектом (при раннем наступлении смерти люди проживают бо́льшую часть жизни молодыми, при позднем — зрелыми и пожилыми).
Вклад снижающейся рождаемости и снижающейся смертности в процесс старения населения не одинаков, как не одинаковы и возможности компенсации негативных эффектов, которые они могут порождать. Скажем, если средняя ожидаемая продолжительность жизни возрастает вследствие снижения смертности среди пожилых, то при улучшении состояния их здоровья и повышении производительности их труда издержки, связанные со старением населения, могут быть в значительной мере уменьшены (поскольку при хорошем физическом состоянии ничто не мешает пожилым продолжать оставаться на рынке труда). Однако таким образом невозможно нейтрализовать (даже частично) вызовы эйджинга, связанные с более низкой рождаемостью и более низкими (или даже отрицательными) темпами роста населения. Надежды на то, что пронаталистская политика государства сможет повернуть вспять долгосрочный понижательный тренд в показателях рождаемости, выглядят достаточно эфемерными [Lee, 2016].
При этом анализ показывает, что главным драйвером старения населения выступает как раз падение рождаемости. По имеющимся оценкам, в США рост удельного веса пожилых был на 2/3 обусловлен снижением рождаемости и лишь на 1/3 — увеличением продолжительности жизни [Ibid.][235]. Согласно прогнозам, это соотношение сохранится и в будущем на протяжении всего XXI в. [Sheiner et al., 2006]. Сходные оценки относительных вкладов снижающейся рождаемости и возрастающей ожидаемой продолжительности жизни получены для Китая и Индии [Bloom, Luca, 2016].
В открытых экономиках к падению рождаемости и увеличению продолжительности жизни добавляется еще один фактор, способный заметно скорректировать масштабы и темпы старения населения, — международная миграция. Во многих развитых странах в течение последних десятилетий миграционный прирост являлся главным источником роста численности населения, намного превышая значение естественного прироста. Но среди мигрантов абсолютное большинство составляют лица молодого и среднего возраста. Соответственно, их приток способен значительно улучшать соотношение между численностью населения в нерабочих и рабочих возрастах в принимающих странах. К тому же мигранты из развивающихся стран отличаются, как правило, значительно более высокой фертильностью. По мере того как их дети взрослеют и достигают совершеннолетия, это может еще больше снижать общий коэффициент демографической зависимости. (Дополнительный выигрыш для стран-реципиентов состоит в том, что они получают «готовую» (взрослую) рабочую силу, не неся никаких издержек, связанных с ее формированием, — образованием, уходом и поддержанием здоровья в детском возрасте и т. д., — которые приходится нести старшим возрастным группам в странах-донорах.)
Однако видеть в миграции надежное и эффективное средство борьбы со старением населения, как это делают многие политики, нет достаточных оснований. Она способна дать лишь временную отсрочку, но может еще больше обострять проблему эйджинга в долгосрочной перспективе [Lee, 2016]. Хотя в начальный момент мигранты оказываются в среднем моложе коренного населения, с течением времени они также стареют. В результате, для того чтобы сохранять возрастную структуру населения хотя бы неизменной, миграционный приток пришлось бы безостановочно наращивать. Если же этого не делать, избежать старения населения становится невозможно. Анализ показывает, что для развитых стран массированная иммиграция чревата еще более сильным долгосрочным старением населения [Goldstein, 2009].
Кроме того, потенциал миграционного фактора не следует переоценивать. По имеющимся оценкам, за период 1945–1985 гг. активный приток мигрантов в страны ОЭСР понизил средний возраст их населения менее чем на год и сократил долю пожилых менее чем на 1 п.п. [Le Bras, 1991]. Перспективы крупномасштабного «импорта» рабочей силы из-за рубежа выглядят не слишком реалистично также и по сугубо политическим соображениям, поскольку, как правило, он наталкивается на резко негативную реакцию со стороны коренного населения. Наконец, нельзя забывать и того, что, облегчая проблему старения для стран-реципиентов, международная миграция усугубляет ее для стран-доноров.
Панорама глобального эйджинга. Увидеть общую картину старения человечества не только в настоящем, но и в будущем позволяют демографические прогнозы ООН (обновляются каждые два года). В дальнейшем обсуждении мы будем опираться преимущественно на средний вариант последней версии этого прогноза, выпущенной в 2017 г. [United Nations, 2017].
На рис. XVI.1 представлена динамика численности мирового населения за полтора столетия — с 1950 по 2100 г. (для интервала 2015–2100 гг. оценки прогнозные). Если в начале этого периода численность пожилых (65+) не превышала 130 млн, то к 2015 г. она выросла до 600 млн и должна увеличиться, как ожидается, до 1,6 млрд к 2050-му и затем до 2,5 млрд к 2100 г. За те же полтора столетия численность престарелых (80+) должна будет вырасти, по расчетам экспертов ООН, почти в 100 (!) раз: с 10 млн в 1950 г. до 910 млн в 2100.
Контингент пожилых (65+) неуклонно увеличивался и, как ожидается, будет продолжать увеличиваться не только в абсолютном, но также и в относительном выражении. Об этом красноречиво свидетельствует «хроника» его доли в мировом населении: 1950 г. — 5 %, 2015 г. — 8 %, 2050 г. — 16 %, 2100 г. — 23 %. Важно отметить, что это универсальный тренд, затрагивающий все без исключения страны. В этом отношении ожидаемая в XXI в. ситуация будет радикально отличаться от той, что наблюдалась во второй половине XX в., когда в большей части стран доля пожилых не увеличивалась, а сокращалась.
Рис. XVI.1. Динамика численности мирового населения, 1950–2100 гг., млрд человек
Источник: [United Nations, 2017], средний вариант прогноза.
При построении диаграммы, представленной на рис. XVI.1, мы использовали данные среднего сценария демографического прогноза ООН. Если показатели рождаемости в предстоящие десятилетия окажутся ниже, чем предполагается этим сценарием, доля пожилых вырастет еще сильнее. Так, при реализации низкого варианта прогноза ООН она выйдет к 2100 г. на отметку 30 %, так что почти треть мирового населения будет находиться в пожилых возрастах (рис. XVI.2). Правда, третий (высокий) вариант этого же прогноза выводит на существенно более низкую оценку — 17 %. Но и он предполагает не менее чем двукратный рост доли пожилого населения в течение текущего столетия.
С точки зрения масштабов старения населения развитые страны намного превосходят развивающиеся: в настоящее время доли пожилых когорт (65+) соотносятся в них как 17,6 % против 6,4 % соответственно (рис. XVI.3). Однако в предстоящие десятилетия развивающиеся страны, как ожидается, будут стареть гораздо более высокими темпами, чем развитые. Хотя к 2100 г. их «отставание» от развитых стран не исчезнет полностью, оно станет заметно меньше, сократившись с 11 до 8 п.п.
Рис. XVI.2. Динамика доли пожилых (65+) в общей численности населения мира, три варианта демографического прогноза, 2015–2100 гг., %
Источник: [United Nations, 2017].
В развитых странах и фактические, и ожидаемые траектории старения населения достаточно близки (рис. XVI.4). Безусловными лидерами выступают здесь Япония и Южная Корея, где к 2100 г. свыше трети населения будет старше 64 лет. Вплотную к ним примыкают страны Западной Европы, в которых доля пожилых, как ожидается, вырастет с 20 % в настоящее время до 30–33 % к концу века. Явно особняком стоят США, где демографическая ситуация и сейчас, и в будущем выглядит намного благоприятнее. Хотя и в США доля пожилых за период 2015–2100 гг. увеличится с 15 до 28 %, это все же заметно меньше прогнозных оценок по другим развитым странам.
Рисунок XVI.5 показывает фактическую и ожидаемую динамику доли пожилых (65+) в странах БРИК (Бразилии, России, Индии и Китае). Мы видим, что текущая демографическая ситуация в России выглядит менее благополучно, чем в трех других странах — членах БРИК: доля пожилых в ней сейчас в 1,5–2 раза выше, чем в них. Однако это «лидерство» сугубо временное. Бразилия и Китай стремительно стареют, так что уже через 1,5–2 десятилетия они «догонят» Россию, а к концу столетия доля пожилых будет в них почти в 1,5 раза выше, чем в России. Более того, в последней четверти века даже Индия сумеет сначала нагнать, а затем и обойти Россию. Все указывает на то, что в долгосрочной перспективе эйджинг будет представлять для экономик Бразилии, Индии и Китая намного более серьезный вызов, чем для экономики России. Связано это с тем, что, как показывает рис. XVI.5, примерно с середины XXI в. процесс дальнейшего старения российского населения практически прекратится. К концу столетия с показателем 24 % Россия окажется в более выигрышном положении даже по сравнению с США.
Другим наглядным проявлением старения населения выступает повышение медианного возраста. По среднему варианту демографического прогноза ООН, медианный возраст мирового населения должен увеличиться с 30 лет в 2015 г. до 42 лет в 2100-м, причем в развивающихся странах его повышение будет идти вдвое быстрее, чем в развитых (рис. XVI.6). К концу столетия практически во всех развитых странах он приблизится к порогу в 50 лет или даже превысит его (рис. XVI.7). Столь же «почтенного» медианного возраста к 2100 г. достигнут Бразилия и Китай (рис. XVI.8). Из рассматриваемых стран ниже всего он будет оставаться в России — 44 года (против 39 лет в настоящее время).
Рис. XVI.3. Динамика доли пожилых (65+) в общей численности населения по укрупненным регионам, 1950–2100 гг., %
Источник: [United Nations, 2017], средний вариант прогноза.
Как уже отмечалось, старение населения можно рассматривать как результат взаимодействия двух базовых демографических процессов — динамики рождаемости и динамики смертности (см. предыдущий подраздел). Если говорить о рождаемости, то в предстоящие десятилетия она продолжит снижаться во всем мире (рис. XVI.9). В развитых странах ее показатели уже находятся на очень низких уровнях, так что здесь снижение окажется более чем скромным — с 11 рождений на 1000 человек в 2015 г. до 10 рождений в 2100. В отличие от этого развивающиеся страны ожидает настоящий «обвал»: с 21 рождения на 1000 человек в 2015 г. до 12 рождений в 2100 г. В результате столь стремительного падения к концу столетия развивающиеся страны будут фактически находиться в том же состоянии, в каком в настоящее время находятся развитые страны.
Рис. XVI.4. Динамика доли пожилых (65+) в общей численности населения, развитые страны, 1950–2100 гг., %
Источник: [United Nations, 2017], средний вариант прогноза.
Рис. XVI.5. Динамика доли пожилых (65+) в общей численности населения, страны БРИК, 1950–2100 гг., %
Источник: [United Nations, 2017], средний вариант прогноза.
Из развитых стран только две — Франция и США — будут иметь в 2100 г. общие коэффициенты рождаемости, превышающие уровень 10 рождений на 1000 человек (рис. XVI.10). В Бразилии, Индии и Китае соответствующие показатели, как ожидается, упадут в течение нынешнего столетия настолько сильно (в 1,5–2 раза), что опустятся до значений, ассоциирующихся сегодня с развитыми странами (рис. XVI.11). Хотя снижение рождаемости продолжится также и в России[236], но из-за уже достигнутого более низкого уровня оно будет идти намного медленнее, чем в других странах БРИК. Это позволит России, подобно Франции и США, сохранять к концу XXI в. рождаемость на уровне выше 10 рождений на 1000 человек.
Хотя возрастные коэффициенты смертности, по имеющимся прогнозам, продолжат устойчиво снижаться во всем мире, в странах с быстро стареющим населением общий коэффициент смертности будет при этом расти, поскольку вероятность смерти у более пожилых когорт по понятным причинам намного выше, чем у более молодых. Отсюда закономерность: чем быстрее стареет население той или иной страны, тем большего прироста общего коэффициента смертности можно в ней ожидать. Действительно, если в развитых странах за период 2015–2100 гг. он увеличится лишь на 10 %, то в развивающихся — примерно на 50 % (рис. XVI.12). Как следствие, к концу столетия развивающиеся страны практически сравняются в этом отношении с развитыми: если в 2015 г. общая смертность была выше в развитых странах — около 10 смертей на 1000 человек против 7 в развивающихся странах, то в 2100 г. и в тех и в других она будет составлять одинаковую величину — примерно 11 смертей на 1000 человек.
Рис. XVI.6. Динамика медианного возраста по укрупненным регионам, 1950–2100 гг., лет
Источник: [United Nations, 2017], средний вариант прогноза.
Рис. XVI.7. Динамика медианного возраста, развитые страны, 1950–2100 гг., лет
Источник: [United Nations, 2017], средний вариант прогноза.
Рис. XVI.8. Динамика медианного возраста, страны БРИК, 1950–2100 гг., лет
Источник: [United Nations, 2017]), средний вариант прогноза.
Рис. XVI.9. Динамика общего коэффициента рождаемости по укрупненным регионам, 1950–2100 гг., число рождений на 1000 человек, усредненные оценки по пятилетиям
Источник: [United Nations, 2017], средний вариант прогноза.
В развитых странах прирост общего коэффициента смертности за период 2015–2100 гг. будет варьироваться в пределах 10–20 % (единственное исключение — Южная Корея, где он, как ожидается, должен удвоиться) (рис. XVI.13). В отличие от них в Бразилии, Индии и Китае смертность под влиянием старения населения увеличится примерно вдвое (рис. XVI.14). В России общая смертность в первой половине XXI столетия также будет расти, однако во второй начнет постепенно снижаться. Связать это можно с тем, что, как уже упоминалось, примерно с середины века процесс старения российского населения окажется практически заморожен.
Рис. XVI.10. Динамика общего коэффициента рождаемости, развитые страны, 1950–2100 гг., число рождений на 1000 человек, усредненные оценки по пятилетиям
Источник: [United Nations, 2017], средний вариант прогноза.
Рис. XVI.11. Динамика общего коэффициента рождаемости, страны БРИК, 1950–2100 гг., число рождений на 1000 человек, усредненные оценки по пятилетиям
Источник: [United Nations, 2017], средний вариант прогноза.
Рис. XVI.12. Динамика общего коэффициента смертности по укрупненным регионам, 1950–2100 гг., число смертей на 1000 человек, усредненные оценки по пятилетиям
Источник: [United Nations, 2017], средний вариант прогноза.
Сочетание снижающихся общих коэффициентов рождаемости и повышающихся общих коэффициентов смертности приведет к резкому замедлению темпов прироста численности населения — во многих случаях до нулевых или даже слабо отрицательных значений. Но если в развивающихся странах численность населения будет все же продолжать пусть медленно, но расти, то в большинстве развитых стран рост сменится убылью (рис. XVI.15). Отметим, что уже в 2015 г. две из них, Италия и Япония, демонстрировали отрицательные темпы изменения численности населения. Из развитых стран в 2100 г. только в трех — Великобритании, США и Франции — будут все еще наблюдаться положительные темпы прироста населения (рис. XVI.16). В остальных они станут отрицательными, причем быстрее всех будут терять население Южная Корея и Япония. Хотя во всех странах БРИК темпы изменения численности населения также переместятся в зону отрицательных значений, в России они останутся близкими к нулевым, тогда как в Бразилии, Индии и Китае опустятся до внушительных отрицательных величин — порядка –0,5 % (рис. XVI.17)[237].
Рис. XVI.13. Динамика общего коэффициента смертности, развитые страны, 1950–2100 гг., число смертей на 1000 человек, усредненные оценки по пятилетиям
Источник: [United Nations, 2017], средний вариант прогноза.
Рис. XVI.14. Динамика общего коэффициента смертности, страны БРИК, 1950–2100 гг., число смертей на 1000 человек, усредненные оценки по пятилетиям
Источник: [United Nations, 2017], средний вариант прогноза.
Рис. XVI.15. Годовые темпы прироста численности населения по укрупненным регионам, 1950–2100 гг., %, усредненные оценки по пятилетиям
Источник: [United Nations, 2017], средний вариант прогноза.
Одним из главнейших источников старения населения выступает рост ожидаемой продолжительности жизни (см. об этом выше). На протяжении нынешнего столетия она, как прогнозируется, будет быстро увеличиваться во всем мире, возрастая за каждое десятилетие примерно на один год (рис. XVI.18). По этому показателю развитые страны имеют сейчас ощутимое преимущество (9 лет) перед развивающимися и, по прогнозам, сохранят его практически неизменным (8 лет) к концу столетия. В 2100 г. почти во всех развитых странах ожидаемая продолжительность жизни при рождении будет уже достигать 90 лет и выше (рис. XVI.19). Вплотную к этому порогу приблизятся Бразилия и Китай, в то время как Индия и Россия будут находиться на значительном отдалении от него — 81 и 83 года соответственно (рис. XVI.20). Приведенные оценки показывают, что к концу XXI в. распределение стран по величине ожидаемой продолжительности жизни не претерпит особых изменений и останется почти таким же, как сейчас.
Рис. XVI.16. Годовые темпы прироста численности населения, развитые страны, 1950–2100 гг., %, усредненные оценки по пятилетиям
Источник: [United Nations, 2017], средний вариант прогноза.
Представление о степени ресурсного давления, которое может исходить от населения, живущего «за чужой счет», дают коэффициенты демографической зависимости. Как показывает рис. XVI.21, общий коэффициент демографической зависимости, рассчитываемый для населения всего мира, немного вырос за первые два десятилетия (1950–1970) рассматриваемого нами полуторавекового периода — со 105 до 112 %; затем на протяжении последующих 50 лет он последовательно снижался, достигнув в 2015 г. минимального значения — 74 %, но, как ожидается, вновь станет расти в течение оставшейся части столетия. К 2100 г. прибавка должна составить 12 п.п.
Рис. XVI.17. Годовые темпы прироста численности населения, страны БРИК, 1950–2100 гг., %, усредненные оценки по пятилетиям
Источник: [United Nations, 2017], средний вариант прогноза.
Рис. XVI.18. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении по укрупненным регионам, 1950–2100 гг., лет
Источник: [United Nations, 2017], средний вариант прогноза.
Рис. XVI.19. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении, развитые страны, 1950–2100 гг., лет
Источник: [United Nations, 2017], средний вариант прогноза.
Рис. XVI.20. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении, страны БРИК, 1950–2100 гг., лет
Источник: [United Nations, 2017], средний вариант прогноза.
Рис. XVI.21. Динамика общего коэффициента демографической зависимости по укрупненным регионам, 1950–2100 гг., %
Источник: [United Nations, 2017], средний вариант прогноза.
В развитых странах этот показатель отстает сейчас от того, что демонстрируют развивающиеся страны, примерно на 10 п.п. Объясняется это тем, что в последних гораздо выше доля когорт младше 20 лет (37 % против 22 % соответственно). Однако достаточно скоро развитые и развивающиеся страны поменяются местами: в первых общий коэффициент зависимости достигнет к концу столетия 100 % (прирост на 35 п.п.), тогда как во вторых поднимется лишь до 84 % (прирост менее чем на 10 п.п.). Причина этой асимметрии проста: если в развивающихся странах увеличение доли пожилых будет в значительной мере компенсироваться сокращением доли детей, то в развитых такая компенсация будет едва заметной[238].
В большинстве развитых стран общий коэффициент демографической зависимости колеблется в настоящее время в пределах 65–75 % (аутлайер — Южная Корея, где он не дотягивает даже до отметки 50 %). Однако к концу столетия он достигнет в этих странах отметки 100 % или даже превысит ее, так что на каждого экономически независимого индивида в них будет приходиться свыше одного экономически зависимого (рис. XVI.22). Единственное исключение — США, где общий коэффициент демографической зависимости будет все еще оставаться ниже порога 100 %.
Ожидаемая динамика общего коэффициента зависимости в странах БРИК будет схожей (рис. XVI.23). Но если Бразилия и Индия стартуют сегодня примерно с того же уровня (64–78 %), что и развитые страны, то Китай и Россия — с существенно более низкого (50–53 %). Однако к концу столетия можно ожидать частичной рокировки: Бразилия и Китай, подобно развитым странам, перешагнут порог 100 %, тогда как в Индии и России общий коэффициент демографической зависимости будет продолжать удерживаться на значительно более низком уровне — 86–87 %. Как видно, хотя на протяжении XXI в. соотношение между экономически зависимым и экономически независимым населением будет ухудшаться во всех без исключения странах, для России это ухудшение окажется наименее критичным.
Однако для нас больший интерес представляют ожидаемые изменения не в общих коэффициентах зависимости, а в коэффициентах зависимости пожилых[239]. За период 2015–2100 гг. этот показатель, как прогнозируется, вырастет глобально с 14 до 42 %, в том числе в развитых странах — с 29 до 60 %, а в развивающихся — с 11 до 40 % (рис. XVI.24). Таким образом, разрыв между развитыми и развивающимися странами в размере 20 п.п. сохранится, и это при том, что в первых нагрузка со стороны пожилых увеличится вдвое, тогда как во вторых — вчетверо.
В большинстве развитых стран коэффициент зависимости пожилых варьируется в настоящее время в пределах 25–35 % с двумя явными аутлайерами: если в Южной Корее он не достигает даже отметки 20 %, то в Японии приближается уже к 50 % (рис. XVI.25). К концу столетия в большинстве развитых стран нагрузка со стороны пожилых увеличится примерно вдвое, а в Южной Корее даже вчетверо. В результате каждому человеку рабочего возраста придется «содержать» не менее 0,6–0,8 пожилых.
Рис. XVI.22. Динамика общего коэффициента демографической зависимости, развитые страны, 1950–2100 гг., %
Источник: [United Nations, 2017], средний вариант прогноза.
Рис. XVI.23. Динамика общего коэффициента демографической зависимости, страны БРИК, 1950–2100 гг., %
Источник: [United Nations, 2017], средний вариант прогноза.
Рис. XVI.24. Динамика коэффициента зависимости пожилых по укрупненным регионам, 1950–2100 гг., %
Источник: [United Nations, 2017], средний вариант прогноза.
В странах БРИК коэффициенты зависимости пожилых до сих пор удерживаются на крайне низких отметках: оценка для России едва превышает 20 %, а оценки для Бразилии, Индии и Китая оказываются и того меньше — можно сказать, «жалкие» 10–15 % (рис. XVI.26). Тем поразительнее рывок, который этим странам предстоит сделать к концу текущего столетия: в Бразилии, Индии и Китае этот показатель должен вырасти в 4–5 раз (!) и даже в России в 2 раза. В результате этих сдвигов к 2100 г. Бразилия и Китай сравняются по степени старения населения с развитыми странами: на каждого человека в рабочих возрастах в них будет приходиться 0,65–0,70 пожилых. Хотя в Индии и России эта пропорция окажется значительно ниже (0,45–0,48), но и для них это будет рекордно высокими, по историческим меркам, показателями.
Рис. XVI.25. Динамика коэффициента зависимости пожилых, развитые страны, 1950–2100 гг., %
Источник: [United Nations, 2017], средний вариант прогноза.
Рис. XVI.26. Динамика коэффициента зависимости пожилых, страны БРИК, 1950–2100 гг., %
Источник: [United Nations, 2017], средний вариант прогноза.
Итак, в XXI в. все страны мира ожидает сверхбыстрое старение населения. Его масштабы будут больше в развитых странах, но темпы выше в развивающихся. В результате к 2100 г. демографическая ситуация в ряде крупнейших развивающихся стран окажется практически такой же, как в наиболее развитых. Очевидно, что глобальное перераспределение людских ресурсов из состояния экономической независимости в состояние экономической зависимости наложит сильнейший отпечаток на дальнейшую траекторию развития мировой экономики. Но повторим еще раз: на фоне того, что ждет в недалеком будущем подавляющее большинство других стран, предстоящее старение населения в России не представляется сверхкритичным и уж тем более аномальным.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗАВИСИМОСТИ/ПОДДЕРЖКИ
Как упоминалось во введении, наиболее популярными количественными индикаторами, широко используемыми при анализе проблемы эйджинга, являются коэффициенты демографической зависимости или обратные им коэффициенты демографической поддержки. Их предназначение — измерять величину экономического бремени, налагаемого на работающую часть населения его неработающей частью. Однако с этой задачей, как нетрудно показать, они справляются не слишком хорошо.
Во-первых, далеко не все представители когорт среднего возраста являются занятыми, участвуя в создании ВВП, и далеко не все представители молодежных и пожилых когорт являются незанятыми, не участвуя в его создании. С одной стороны, многие индивиды покидают рынок труда задолго до достижения «старости» (скажем, официального пенсионного возраста), с другой — многие продолжают оставаться на нем уже после ее достижения. В этом смысле полезно различать коэффициенты демографической зависимости и коэффициенты экономической зависимости, которые могут не только не совпадать по величине, но и перемещаться во времени по несовпадающим траекториям. Очевидно, что ресурсная нагрузка на работающее население определяется не только демографическими, но и экономическими факторами: так, при прочих равных условиях она тем меньше, чем выше показатели занятости и участия в рабочей силе.
К тому же с возрастом меняются не только уровни занятости, но и уровни заработной платы работников. Заработки бывают низкими в начале трудовой карьеры, становятся высокими в ее середине и вновь снижаются ближе к ее концу. Если в составе занятых доминируют высокооплачиваемые возрастные группы, то бремя экономической зависимости оказывается относительно ниже, а если низкооплачиваемые, то относительно выше. Причина проста: один и тот же по абсолютной величине объем «иждивенческой» нагрузки будет составлять меньшую долю от совокупного фонда оплаты труда в первом случае и бо́льшую — во втором. Соответственно, в первом случае экономически независимые индивиды смогут поддерживать собственное потребление на более высоком уровне, чем во втором. Но если благоприятные изменения в возрастной структуре рабочей силы уменьшают нагрузку, возлагаемую на общество экономически несамостоятельным населением, а неблагоприятные — ее увеличивают, то коэффициенты зависимости должны оцениваться с учетом этого обстоятельства.
Во-вторых, стандартные индикаторы зависимости/поддержки по умолчанию предполагают, что функциональные возможности людей одного и того же возраста не меняются ни во времени, ни в пространстве. Но их едва ли можно считать одинаковыми для 30-летних индивидов, живших, скажем, в 1900 и 2000 гг., или для 60-летних индивидов, живущих в настоящее время, скажем, в Японии и Кении. Основания думать так дает не только громадный прогресс, достигнутый современной медициной, но и значительные различия в потенциале и эффективности существующих национальных систем здравоохранения. С точки зрения функционального статуса сегодняшние 70 лет жизни могут быть эквиваленты 60 годам жизни полвека тому назад, сегодняшние 60 лет — 50 годам полвека тому назад, а сегодняшние 50 лет — 40 годам полвека тому назад [National Research Council, 2012]. В этом смысле полезно разграничивать хронологический возраст и перспективный возраст — иначе говоря, возраст, скорректированный на различия в состоянии здоровья и дееспособности, характерные для каждого отдельно взятого исторического периода. С учетом достижений современной медицины можно предполагать, что стандартные индикаторы зависимости/поддержки будут преувеличивать степень реального старения современных обществ, во всяком случае если говорить о наиболее развитых странах.
В-третьих, стандартные индикаторы зависимости/поддержки неявно предполагают, что потребности людей не меняются с возрастом: они остаются одними и теми же и в детстве, и в зрелости, и в старости. Это предположение также далеко от реальности. Представим, что в ранние годы жизни средний уровень потребления в 1,5 раза ниже, чем в зрелые; в таком случае ресурсное давление на лиц в рабочих возрастах окажется намного меньше. Напротив, представим, что в старости средний уровень потребления в 1,5 раза выше, чем в зрелости; в таком случае ресурсное давление на лиц в рабочих возрастах окажется намного больше. Картина старения населения, которую будут рисовать индикаторы зависимости/поддержки, скорректированные на различия в потребностях разных возрастных групп, может сильно отличаться от той, что дают стандартные индикаторы.
Коэффициенты зависимости: демографической и экономической. На рис. XVI.27 представлена динамика четырех альтернативных версий общего коэффициента зависимости для России за период 1992–2035 гг. (начиная с 2018 г. оценки прогнозные)[240]. Это, во-первых, «официальный» показатель демографической зависимости, рассчитанный как отношение численности населения нетрудоспособного возраста (женщины 0–15 и 55+, мужчины 0–15 и 60+) к численности населения трудоспособного возраста (женщины 16–54 и мужчины 16–59); во-вторых, международно сопоставимый показатель демографической зависимости, рассчитанный как отношение населения в нерабочих возрастах (0–19 и 65+) к численности населения в рабочих возрастах (20–64); в-третьих, показатель экономической зависимости, рассчитанный как отношение численности всего незанятого населения к численности всего занятого населения; наконец, скорректированный показатель экономической зависимости, рассчитанный как отношение численности незанятого населения к численности занятого населения с учетом возрастных различий в уровнях трудовых доходов (за единицу принимался средний уровень заработной платы для группы 30–49 лет)[241]. Достаточно неожиданно, но эти альтернативные индикаторы не только располагаются на разных уровнях, но и движутся по несхожим траекториям.
Рис. XVI.27. Динамика альтернативных общих коэффициентов зависимости, Россия, 1992–2035 гг., %
Источники: Росстат.
Ниже всех лежит кривая международно сопоставимого коэффициента демографической зависимости, колеблющегося в диапазоне от 51 до 71 %. Выше лежит кривая «официального» коэффициента демографической зависимости — 59–85 %. Как можно убедиться, при переходе от официальных к международно сопоставимым показателям демографическая ситуация в России начинает выглядеть менее драматично — не только не хуже, но даже значительно лучше, чем в большей части развитых стран (соответствующие межстрановые сопоставления см. в предыдущем подразделе). Что касается коэффициентов экономической зависимости, то они оказываются лежащими не просто выше коэффициентов демографической зависимости, но и значительно выше порога в 100 %. Как следствие, если «демографические» индикаторы говорят о том, что в России каждый независимый индивид должен содержать менее одного зависимого, то «экономические» — что на каждого независимого индивида приходится более одного зависимого: из рис. XVI.27 следует, что в некоторые периоды неработающее российское население в 1,5 раза превосходило по численности работающее!
Как видим, общепринятые оценки могут существенно искажать степень реального ресурсного давления, исходящего от зависимого населения. Иными словами, у нас нет оснований считать показатели демографической зависимости «хорошим» субститутом показателей экономической зависимости: в российском случае они дают явно искаженную картину масштабов неучастия населения в создании ВВП. Например, в 2017 г. каждый работающий россиянин должен был поддерживать своим трудом свыше одного неработающего, тогда как на одного трудоспособного приходилось 0,79 нетрудоспособного, а на одного человека в рабочих возрастах приходилось 0,58 человека в нерабочих возрастах.
Еще более неожиданно — траектории изменения этих показателей кардинально различались. Самую драматичную картину рисуют «официальные» коэффициенты демографической зависимости. Этот показатель составлял 77 % в 1992 г., уменьшился до 59 % в середине 2000-х (зона положительного демографического дивиденда), но затем пошел обратно вверх, вернувшись в 2016 г. на исходный уровень (77 %), а к 2035 г. он должен, как ожидается, повыситься еще больше — до 85 %. По сравнению с наиболее благоприятным периодом нулевых годов это предполагает усиление давления на экономику со стороны нетрудоспособного населения почти в 1,5 раза! Неудивительно, что, исходя из этих данных, многие экономисты и политики рисуют апокалиптическую картину трудностей, ожидающих в недалеком будущем российскую экономику.
В отличие от этого динамика международно сопоставимых коэффициентов демографической зависимости не дает особых поводов для беспокойства. В самом начале рассматриваемого периода (1992) этот показатель составлял 68 %, к 2011 г. скатился резко вниз (на 17 п.п.), после чего начал постепенно повышаться. Как ожидается, к 2024 г. он вернется на исходную отметку, затем подрастет еще немного (пик — 71 % в 2028 г.), но в 2035 г. будет составлять ровно столько же, сколько в 1992, — 68 %. Конечно, ситуация будет существенно хуже, чем в 2000-х, но не хуже, чем в 1990-х годах. В этом смысле будущая демографическая ситуация не сулит российской экономике ничего экстраординарного[242].
Еще один сценарий, совершенно не похожий на два предыдущих, дают коэффициенты экономической зависимости. Эти показатели отличаются наибольшей волатильностью, что неудивительно, поскольку помимо прочего они отражают перепады экономической конъюнктуры. Максимально высокие значения, когда на двух работающих приходилось трое неработающих, фиксируются в нижней точке трансформационного кризиса в 1998 г. Начиная с 1999 г. наблюдается отчетливый понижательный тренд с минимумом в 2012 г., когда между работающими и неработающими установился фактический паритет — 1:1. В последующие годы начинается медленное устойчивое повышение, так что к 2035 г., как можно ожидать, на каждого работающего будет приходиться 1,2–1,3 неработающих. По сути, это станет возвратом к ситуации 2003 г. — далеко не самого «провального» с экономической точки зрения. Из рис. XVI.27 видно, что российская экономика знавала худшие времена, так что ожидаемый прирост нагрузки со стороны неработающего населения представляется хотя и значительным, но не сверхдраматичным.
Наконец, как показывает тот же рисунок, на протяжении всего рассматриваемого периода траектории нескорректированного и скорректированного коэффициентов экономической зависимости двигались строго параллельно. Это предполагает, что изменения в возрастной структуре занятых крайне слабо влияли на их распределение по заработной плате: бремя экономической зависимости от этого почти не менялось.
Насколько может изменить ситуацию начатое повышение планки пенсионного возраста до 60 лет у женщин и до 65 лет у мужчин? По нашим расчетам, максимальный прирост занятости, который способна обеспечить пенсионная реформа, составляет не более 1,5 млн человек [Gimpelson, Kapeliushnikov, 2017]. В случае такой прибавки коэффициенты экономической зависимости окажутся в 2035 г. лишь на 5 п.п. ниже, чем показано на рис. XVI.27, составив 113–125 % вместо 118–130 %. Иными словами, если говорить о возможном ослаблении ресурсного давления со стороны неработающего населения, то в этом отношении эффект начатой пенсионной реформы, скорее всего, окажется едва заметным: никакого качественного изменения ситуации не произойдет.
Рисунок XVI.28 показывает динамику тех же четырех альтернативных коэффициентов зависимости за период 1992–2035 гг., но не для всего, а только для пожилого населения. «Официальный» коэффициент демографической зависимости пожилых достиг минимума (32 %) в середине нулевых годов, после чего начался его ускоренный рост. В 2017 г. он уже превысил отметку 45 %, а к 2035 г., как ожидается, вырастет еще на 10 п.п. — до 55 %. Иными словами, если в начале 2000-х годов пропорция между индивидами трудоспособного и старше трудоспособного возраста составляла 3:1, то достаточно скоро она будет составлять лишь 2:1.
Что касается трех других показателей, то у них минимальные значения фиксировались в 2011 г. (если не считать начальные годы переходного периода), после чего они также пошли в рост. К настоящему времени международно сопоставимый коэффициент демографической зависимости пожилых вырос уже на 4 п.п., достигнув отметки 23 %, и, по прогнозам, должен к 2035 г. вырасти еще почти на 11 п.п. Коэффициенты экономической зависимости пожилых увеличатся сильнее — на 14–15 п.п.[243] Как показывают наши расчеты, из этого ожидаемого прироста запланированное повышение пенсионного возраста сможет «отыграть» максимум 3–4 п.п.
Рис. XVI.28. Динамика альтернативных коэффициентов зависимости пожилых, Россия, 1992–2035 гг., %
Источник: Росстат, расчеты автора.
Таким образом, представленные оценки подтверждают, что в ближайшие десятилетия нагрузка, связанная с поддержкой пожилых, резко увеличится. Однако при условии поддержания текущих высоких показателей участия в рабочей силе и занятости российская экономика, как показывает рис. XVI.27, вполне способна избежать взрывного роста общих коэффициентов демографической и экономической зависимости, которого опасаются многие российские политики и экономисты.
Методологический урок, который можно вынести из этой части нашего обсуждения, достаточно прост: привычка ссылаться на индикаторы демографической зависимости так, как если бы они являлись индикаторами экономической зависимости, далеко не безобидна и может давать искаженное представление о действительной остроте проблем, порождаемых старением населения[244].
Коэффициенты зависимости: хронологические и перспективные. Рост ожидаемой продолжительности жизни может принимать две принципиально разные формы — добавочного числа лет, проживаемых людьми либо в «хорошем», либо в «плохом» функциональном состоянии [Eggleston, Fuchs, 2012]. Это разграничение особенно важно, когда речь идет об удлинении срока жизни в преклонном возрасте: если в первом случае потенциальные издержки, возлагаемые на общество пожилым населением, могут снижаться, то во втором — должны увеличиваться. Если медицинское вмешательство сохраняет жизнь обладателям плохого здоровья и они живут дольше, оставаясь больными, то это повышает бремя экономической зависимости. Но если медицина удлиняет ту часть жизни, в течение которой пожилые остаются в хорошей физической и ментальной форме, то это способно, наоборот, его снижать — по крайней мере потенциально.
Анализ показывает, что в современных обществах при увеличении ожидаемой продолжительности жизни пропорция между числом «здоровых» и «нездоровых» лет взрослой жизни остается более или менее константной [Lee, 2016]. Это означает, что в абсолютном выражении прибавка к количеству лет здоровой жизни всегда оказывается больше прибавки к количеству лет нездоровой жизни (поскольку первая в среднем длиннее второй).
Таким образом, пожилое население становится не только более многочисленным, но и заметно более здоровым. В этом контексте демографы и специалисты по медицинской статистике говорят о феномене «компрессии заболеваемости», когда люди начинают сталкиваться с серьезными заболеваниями, во-первых, позже и, во-вторых, с меньшим их числом [Eggleston, Fuchs, 2012]. Если же растет продолжительность не просто жизни, но здоровой жизни, то это существенно меняет общую картину старения населения. Если состояние здоровья пожилых с течением времени улучшается, то, во-первых, они могут дольше оставаться на рынке труда, участвуя в создании ВВП, а во-вторых, спрос с их стороны на медицинские услуги и услуги по уходу снижается, высвобождая ресурсы, которые могут благодаря этому направляться на другие цели. Сочетание повышающихся коэффициентов дожития со снижающимися коэффициентами заболеваемости стимулирует участие пожилых в рабочей силе, увеличивая совокупное предложение труда, — но, конечно, только в том случае, если этому не мешают действующие институты (программы досрочного выхода на пенсию, установление низкой официальной планки пенсионного возраста, высокие налоги на фонд оплаты труда, из которых осуществляется финансирование пенсионных выплат, и т. д.)[245].
Соответственно, другая возможная корректировка стандартных коэффициентов зависимости/поддержки связана с учетом улучшения физического и ментального состояния пожилых людей в настоящее время по сравнению с тем, что наблюдалось когда-то в прошлом. Сегодня они сталкиваются с гораздо меньшим числом ограничений жизнедеятельности, чем даже несколько десятилетий тому назад (в большинстве стран коэффициенты заболеваемости и инвалидности для лиц пожилого возраста продолжают устойчиво снижаться). Иными словами, наблюдается значительное улучшение физиологического статуса лиц, достигающих преклонного возраста. Но в таком случае едва ли будет корректно считать «ровесниками» тех, кому исполнилось, допустим, 60 лет в начале XXI в., и тех, кто достиг этого возраста в начале или даже в середине XX в. [Fogel, 2004; Freedman et al., 2013]. В настоящее время благодаря прогрессу медицины 60-летний европеец имеет такую же ожидаемую продолжительность жизни, как 43-летний в 1800 г. [Lee, 2014]. Сегодня многие из тех, кого 100–200 лет назад сочли бы стариками, воспринимаются как люди среднего возраста. Но хотя ожидаемая продолжительность жизни стала совсем другой, стандартные показатели демографической зависимости/поддержки никак этого не учитывают.
К сожалению, универсальных критериев состояния здоровья, которые позволяли бы учесть происходящие изменения в функциональном статусе пожилых людей, не существует. Однако это затруднение удается преодолеть, если признать, что важнейшим результатом долговременного тренда к улучшению здоровья населения выступает сам факт увеличения ожидаемой продолжительности жизни.
В этом контексте исследователи предлагают различать показатели «номинального» и «реального» [Fuchs, 1984] или «хронологического» и «перспективного» [Sanderson, Scherbov, 2008; 2010] возраста. Предполагается, что де-факто у каждого человека есть два возраста, которые не всегда и не обязательно совпадают: «хронологический», измеряемый числом дней рождения, которые он имел в прошлом, и «перспективный», измеряемый числом дней рождения, которые, как ожидается, он будет иметь в будущем. Можно сказать, что первый смотрит «назад», тогда как второй «вперед». Использование показателя возраста, определяемого исходя из остающейся ожидаемой продолжительности жизни, многое меняет в привычной картине старения населения.
При стандартном подходе условным критерием наступления старости выступает определенное число лет хронологического возраста — чаще всего 65 или 60. При альтернативном подходе критерием ее наступления становится определенное число лет перспективного возраста, т. е. остающаяся ожидаемая продолжительность жизни меньше той или иной пороговой величины, скажем, 15 лет и менее [Ibid.]. С этой точки зрения старость — это не достижение того или иного хронологического возраста (60 или 65 лет), а дистанция до предполагаемого срока наступления смерти[246].
Перспективный возраст — показатель, имеющий реальное поведенческое значение. Так, анализ показывает, что величина издержек, связанных с медицинским обслуживанием пожилых и уходом за ними, зависит не столько от числа прожитых ими лет, сколько от числа лет, которые им еще предстоит прожить: в два-три последних года жизни человека эти издержки скачкообразно возрастают [Sanderson, Scherbov, 2008]. Важно отметить, что расходы на медицинские услуги кратно повышаются примерно за два-три года до смерти человека независимо от достигнутого им хронологического возраста [From Red to Gray, 2007].
Оценки степени старения населения при использовании хронологического и перспективного подходов заметно отличаются. Согласно первому, доля пожилых в численности населения всего мира составляла в начале 1950-х годов 5,3 %, поднялась в начале 2000-х до 7,4 % и, как ожидается, вырастет до 15,2 % к середине текущего столетия. Согласно второму, она составляла 8 % в начале 1950-х годов, упала до 6,5 % в начале 2000-х и не сильно превысит свой исходный уровень к середине текущего столетия, поднявшись до 10,9 %. При таком подходе прирост доли пожилых за период 1950–2050 гг. оказывается в несколько раз меньше — 3 п.п. против 10 п.п. Интересно также, что для второй половины XX в. подход, базирующийся на понятии перспективного возраста, вообще рисует принципиально иную картину — не старения, а, скорее, омоложения населения мира [Sanderson, Scherbov, 2008].
Введение понятия перспективного возраста неизбежно требует переосмысления конвенциональных показателей демографической зависимости/поддержки. В международной статистике «хронологические» коэффициенты зависимости пожилых рассчитываются как отношение численности лиц в возрасте 65 и старше к численности лиц в возрасте от 20 до 64 лет (см. обсуждение в предыдущем разделе). В отличие от этого перспективные коэффициенты зависимости пожилых можно представить как отношение численности лиц в возрасте 20 лет и старше с остающейся ожидаемой продолжительностью жизни не более 15 лет к численности лиц в возрасте 20 лет и старше с остающейся ожидаемой продолжительностью жизни свыше 15 лет [Ibid.]. При переходе к этому альтернативному показателю изменения в демографической нагрузке со стороны пожилых во времени, равно как и вариация в ней между отдельными странами, приобретают во многом иной вид.
Так, в начале 2000-х годов конвенциональный коэффициент демографической зависимости пожилых для населения всего мира равнялся 13,3 % и к середине столетия должен, как ожидается, удвоиться, составив 26,5 %[247]. Иные оценки мы получаем при обращении к перспективному коэффициенту зависимости пожилых: 11,9 % в начале 2000-х и 17,7 % — к середине столетия [Sanderson, Scherbov, 2008]. Как видим, увеличение «реального», а не «номинального» демографического давления со стороны пожилого населения оказывается примерно в 1,5 раза меньше.
В таблице XVI.1 представлены оценки конвенционального и перспективного коэффициентов зависимости пожилых для пяти крупнейших экономик мира. При использовании стандартного подхода в настоящее время на 1-м месте с точки зрения демографической нагрузки со стороны пожилых оказывается Япония, сохраняющая это «лидерство» и в 2045 г. Однако при использовании альтернативного подхода она опускается к середине столетия с 1-го на 4-е место, пропуская вперед Германию, Китай и Россию. Страной с самым старым населением оказывается тогда Германия. Интересно также отметить, что согласно конвенциональным показателям к середине столетия ситуация в России и США с точки зрения демографической нагрузки со стороны пожилых будет практически одинаковой: в обеих странах численность пожилого населения составит чуть более трети численности населения в рабочих возрастах. Однако если исходить из значений перспективных показателей, тогда к середине столетия Россия должна оказаться в 1,5 раза «старее» США: 30 % против 21 % соответственно.
Таблица XVI.1
Стандартные и перспективные коэффициенты зависимости пожилых в крупнейших экономиках мира, 1955–2045 гг.
Примечание: При расчете представленных в настоящей таблице оценок использовались данные Демографического прогноза ООН за 2005 г. (средний вариант).
Источник: [Sanderson, Scherbov, 2008].
Анализ через призму показателей перспективного возраста важен, поскольку в условиях растущей ожидаемой продолжительности жизни номинально пожилые люди начинают отказываться от «стариковских» стереотипов поведения и вести себя так, как было когда-то свойственно более молодым. По мере роста остающейся ожидаемой продолжительности жизни у них повышается склонность к инвестированию в свой человеческий капитал и долгосрочные финансовые инструменты. Возрастают и показатели участия в рабочей силе, поскольку здоровье и дееспособность пожилых улучшаются, тогда как требования, предъявляемые современным рынком труда к физическому состоянию работников, снижаются. Учет перспективного возраста может повысить эффективность государственных и частных систем поддержки пожилых, если такая поддержка направляется определенным группам (реально в ней не нуждающимся) по инерции — просто потому, что возрастные критерии ее предоставления были установлены много десятилетий назад применительно к поколениям, находившимся в несравненно худшем физическом и ментальном состоянии[248]. Как следствие, в странах, где остающаяся ожидаемая продолжительность жизни пожилых увеличивается параллельно с улучшением их функционального статуса, это открывает возможности для повышения официальной планки пенсионного возраста.
Однако до недавнего времени эти возможности оставались практически неиспользованными. Оценки по 47 странам за период 1965–2005 гг. показали, что между приростом ожидаемой продолжительности жизни и повышением официального возраста выхода на пенсию наблюдалась отрицательная корреляция (–0,21): чем продолжительнее становилась жизнь людей, тем раньше они начинали выходить на пенсию [Bloom, Luca, 2016]. В развитых странах тренд к повышению официального возраста выхода на пенсию, по существу, заработал лишь с начала 1990-х годов. Но даже после этого, несмотря на непрерывно улучшающийся функциональный статус пожилых, темпы прироста официального возраста выхода на пенсию сильно отставали от темпов прироста остающейся ожидаемой продолжительности жизни[249].
С учетом непрерывного улучшения физического и ментального состояния пожилых старение населения едва ли следует воспринимать как фундаментальную экономическую проблему. Основная трудность, которая здесь возникает, связана скорее с тем, что существующие институты и общественное мнение жестко ориентированы на возраст 65 лет как некий «нормативный» срок наступления старости, автоматически дающий право выхода на «заслуженный отдых». (Так обстоит дело в развитых странах; в России общественное мнение ориентировано, скорее, на возраст 60 лет как «нормативный» срок наступления старости.) По-видимому, главный вызов, с которым сталкиваются современные общества в ситуации старения населения, — это плохая адаптируемость институтов и массовых представлений к непрерывно меняющимся демографическим реалиям.
Коэффициенты поддержки: невзвешенные и взвешенные. Как уже отмечалось, старение населения имеет значение, потому что способности и потребности людей меняются с возрастом [Lee, 2014]. Дети не могут содержать себя и не имеют самостоятельных источников дохода; они меньше, чем взрослые, нуждаются в «обычных» предметах потребления, но требуют значительно больших инвестиций в человеческий капитал (образование и здоровье). Большинство пожилых имеют нулевые трудовые доходы, но при этом могут получать достаточно внушительные доходы от накопленных ранее активов; потребность в «обычных» товарах и услугах у них также, как правило, ниже, чем у лиц в рабочих возрастах, но зато они предъявляют на порядок более высокий спрос на медицинские услуги и услуги по уходу. В результате средний уровень потребления детей оказывается обычно ниже, чем у взрослых, но что касается пожилых, то тут возможны варианты: средний уровень потребления может быть у них и ниже, и выше, а может быть практически таким же, как у лиц среднего возраста. (Насколько выше или ниже — вопрос эмпирический.) По-видимому, в более ранние исторические периоды уровни потребления пожилых сильно отставали от уровней потребления лиц рабочих возрастов, однако за последние десятилетия ситуация стала меняться. Главная причина — резкий скачок в объеме и стоимости медицинских услуг и услуг по уходу, предоставляемых людям преклонного возраста (особенно в экономически наиболее развитых странах).
Впервые оценки относительных уровней потребления для различных возрастных групп были представлены в известной работе Дэвида Катлера с соавторами, строившейся на данных по США [Cutler et al., 1990]. По их оценкам, в 1980-е годы в США уровни потребления зрелых (20–64) и молодых (0–19) когорт соотносились как 1:0,72, а зрелых и пожилых (65+) когорт как 1:1,27 [Ibid.][250]. Хотя в более поздних работах эти оценки уточнялись и корректировались, общая картина оставалась неизменной: сегодня в большинстве развитых стран молодые потребляют в среднем меньше, тогда как пожилые больше, чем лица среднего возраста.
Но с возрастом меняются не только потребности людей, но и их доходы. Если говорить о трудовых доходах, то у тех, кто находится в середине жизни, они по понятным причинам оказываются в среднем намного выше, чем у тех, кто находится в ее начале или в конце. Отсюда необходимость в поддержке последних со стороны первых, которым вдобавок к этому приходится также откладывать сбережения, чтобы позднее суметь обеспечить самих себя в старости. (В противоположность пожилым, которые по большей части выступают в роли «расточителей», «проедая» накопленные ранее активы.)
В результате возникает асимметричная ситуация, когда дети и пожилые потребляют больше, чем зарабатывают, тогда как лица среднего возраста, наоборот, зарабатывают больше, чем потребляют. Часть этой разности между заработанным и потребленным передается в форме частных и/или государственных трансфертов из середины возрастной пирамиды на ее края.
На рис. XVI.29 представлены возрастные профили относительных показателей потребления и трудовых доходов в развитых и развивающихся странах (за единицу приняты средние уровни трудовых доходов лиц в возрасте 30–49 лет в соответствующих странах)[251]. Видно, что если в молодости и старости трудовые доходы повсеместно оказываются намного ниже, чем в зрелости, то потребление на протяжении практически всей взрослой жизни поддерживается примерно на одном и том же уровне. В развивающихся странах молодежь раньше выходит на рынок труда и зарабатывает больше (в относительном выражении), чем в развитых, но и пик заработков достигается в них также в более раннем возрасте. Это можно связать с тем, что в развитых странах молодежь дольше учится, не зарабатывая ничего или зарабатывая очень мало в период обучения, а также с тем, что трудовая деятельность в развитых странах из-за особенностей профессиональной структуры занятости сопряжена в среднем с меньшей физической нагрузкой. Более раннее падение трудовых доходов после достижения ими пика, наблюдающееся в развитых странах, имеет достаточно простое объяснение: доступность значительных по величине пенсий, финансируемых государством, порождает стимулы, подталкивающие индивидов к как можно более раннему уходу с рынка труда после того, как достигнут пенсионный возраст. После 65 лет трудовые доходы в развитых странах становятся почти нулевыми, тогда как в развивающихся даже после 80 лет остаются весьма ощутимыми.
Рис. XVI.29. Возрастные профили средних уровней потребления и трудовых доходов по семи развитым и семи развивающимся странам, нормализованные значения; трудовые доходы группы 30–49 лет в соответствующих странах = 1
Примечание: Развитые страны — Австрия, Германия, Испания, США, Швеция, Финляндия, Япония; развивающиеся страны — Бразилия, Индия, Индонезия, Кения, Коста-Рика, Нигерия, Филиппины.
Источник: National Transfer Accounts: Understanding the Generational Economy. 2018. .
Что касается душевого потребления, то у детей в развитых странах его уровень оказывается значительно выше (в относительном выражении), чем в развивающихся (рис. XVI.29). Причина — намного более активные инвестиции в человеческий капитал детей (их образование и здоровье) в первых по сравнению со вторыми. (Во многих развивающихся странах семьи до сих пор предпочитают больше инвестировать в количество детей, а не в их «качество».)
Еще более поразительным является межстрановый контраст в показателях душевого потребления у пожилых: если в развивающихся странах оно остается в старости практически на том же уровне, что и в зрелости, то в развитых идет круто вверх (особенно после 80 лет)[252]. Отсюда можно сделать вывод, что в развитых странах, где пожилые меньше работают и больше потребляют, старение населения должно обходиться обществу существенно «дороже», чем в развивающихся [Lee, 2014].
Интересно, что «загиб» вверх кривой потребления у пожилых — сравнительно новый для развитых стран феномен [Ibid.]. Так, в США еще на рубеже 1950–1960-х годов уровень душевого потребления начинал заметно снижаться после достижения индивидами 60-летнего возраста. Однако в последующие десятилетия, когда в стране заработали мощные программы медицинского страхования и медицинской помощи для пожилых, ситуация изменилась, и этот показатель пошел резко вверх. Параллельно с этим у пожилых выросли частные расходы на медицинские услуги, а также на «обычные» предметы потребления. (Если в США полвека назад расходы пожилых на «обычные» предметы потребления начинали убывать после 60 лет, то в настоящее время — только после 80.) Сходные тенденции отмечаются и в других развитых странах. Представляется очевидным, что основной причиной произошедшего в них за последние десятилетия резкого скачка в душевом потреблении пожилого населения стало непрерывное разрастание программ государства благосостояния.
Понятно, что в зависимости от того, как соотносятся уровни потребления детей и пожилых, с одной стороны, и лиц среднего возраста — с другой, величина экономической нагрузки, которую первые станут возлагать на вторых, будет меняться. Если уровни потребления у экономически зависимых групп меньше, чем у экономически независимых, нагрузка будет ниже; если наоборот, то выше. Старение населения означает увеличение доли пожилых, у которых, как это наблюдается сегодня во многих развитых странах, с одной стороны, трудовые доходы близки к нулю, а с другой — уровни потребления заметно превышают уровни потребления лиц в рабочих возрастах. Правда, этот эффект может погашаться параллельным уменьшением доли молодых, у которых трудовые доходы также близки к нулю, но уровни потребления намного ниже, чем у лиц среднего возраста. Однако как показывает опыт подавляющего большинства стран, такая компенсация может быть лишь частичной. Так, в США растущая щедрость социальных программ привела к тому, что за 1960–2007 гг. соотношение между уровнями потребления населения в возрасте 80 лет и в возрасте 20 лет удвоилось, поднявшись с 83 до 167 % [Lee, 2014].
Стандартные показатели демографической зависимости/поддержки не учитывают колебаний в потреблении и трудовых доходах на разных этапах жизненного цикла. Соответственно, при переходе от них к показателям, взвешенным по возрастным уровням потребления и трудовых доходов, количественные оценки бремени, связанного со старением населения, могут заметно меняться.
Так, в США доля пожилого населения 65+ составляла 9,1 % в 1960 г., выросла до 13,1 % в 2011 г. и, по прогнозам, поднимется до 21,4 % в 2050-м. В то же время доля пожилых в совокупном потреблении равнялась 9,4 % в 1960 г., повысилась до 18,9 % в 2011-м и, как ожидается, составит 30 % в 2050-м [Ibid.]. Очевидно, что опережающий рост потребления пожилых должен значительно усилить ресурсное давление с их стороны на население в рабочих возрастах.
В исследованиях, где проблема старения населения обсуждается с учетом возрастных различий в уровнях потребления и трудовых доходов (некоторые из них были уже указаны выше), в качестве основного аналитического инструмента обычно используются коэффициенты поддержки (support ratios) — показатели, обратные коэффициентам зависимости (dependency ratios). Помимо того что в них числитель и знаменатель меняются местами, они в большинстве случаев строятся в ином формате (см. введение). Действительно, если нас интересует общее соотношение между «производителями» и «потребителями», то, поскольку все «производители» одновременно являются и «потребителями», коэффициенты поддержки следует рассчитывать как отношение численности занятых к численности всего (а не одного только незанятого!) населения. В простейшем варианте это не что иное, как доля работающих в общей численности населения.
Однако с учетом возрастной вариации, во-первых, в уровнях занятости и трудовых доходов и, во-вторых, в уровнях потребления возможны три более содержательные версии такого расчета. Коэффициент поддержки может быть оценен: 1) как отношение численности занятых, скорректированной на возрастные различия в трудовых доходах, к общей численности населения (см. выше); 2) как отношение численности занятых к общей численности населения, скорректированной на возрастные различия в уровнях потребления; 3) как отношение численности занятых, скорректированной на возрастные различия в трудовых доходах, к общей численности населения, скорректированной на возрастные различия в уровнях потребления. С экономической точки зрения наиболее корректной представляется последняя из этих альтернативных версий.
Именно она используется в международной статистической базе «Национальные трансфертные счета», включающей в настоящее время данные по 47 странам[253]. На рис. XVI.30 и XVI.31 приведены соответствующие оценки по пяти развитым и пяти развивающимся странам за период 1950–2050 гг.[254] В Японии соотношение между нормализованной численностью «производителей» и нормализованной численностью «потребителей» достигало максимума (т. е. было наиболее благоприятным) в 1980–2000 гг., в Германии — в 1990–2000 гг., в США — в 2000–2010 гг., в Южной Корее — в 2010-е годы. Особый случай представляет Швеция, где коэффициент поддержки с небольшим перерывом практически монотонно снижался начиная с 1950 г. К середине нынешнего века коэффициенты поддержки в большинстве развитых стран снизятся, как ожидается, примерно на четверть — с текущих уровней 80–95 % до 60–80 %. За исключением Южной Кореи и США, это будут самые низкие исторические значения, когда-либо наблюдавшиеся в этих странах.
Во второй группе стран Китай прошел пик соотношения между «производителями» и «потребителями» в 2010 г., тогда как Бразилии, Индии и Индонезии предстоит пройти его в 2030–2040-е годы, а в Кении оно все еще будет продолжать улучшаться даже во второй половине текущего столетия. В 2050 г. в развивающихся странах коэффициенты поддержки, нормализованные по возрастным уровням потребления и трудовых доходов, будут в среднем на 20 п.п. выше, чем в развитых, и, значит, экономический рост будет сталкиваться в них с существенно меньшими демографическими ограничениями.
С точки зрения перспектив экономического развития возрастные профили потребления и трудовых доходов имеют огромное значение. Чем меньше душевое потребление в младших и старших возрастах по сравнению со средними и чем выше уровни трудовых доходов в наиболее многочисленных возрастных группах по сравнению с наименее многочисленными, тем меньше бремя «реальной» экономической зависимости. Как мы уже отмечали, учет возрастных различий в уровнях занятости значительно повышает оценки бремени экономической зависимости, поскольку среди лиц в рабочих возрастах трудятся далеко не все. Учет возрастных различий в уровнях потребления и трудовых доходов делает эти оценки еще выше. Если сравнить показатели, представленные на рис. XVI.22–XVI.23 и на рис. XVI.30–XVI. 31, то можно сделать вывод, что стандартные коэффициенты демографической зависимости, строящиеся без учета возрастной вариации в уровнях потребления, трудовых доходов и занятости, как минимум в 1,5 раза занижают «реальное» бремя экономической зависимости, которое усредненные «потребители» возлагают на усредненных «производителей»[255].
Рис. XVI.30. Коэффициенты поддержки, нормализованные по возрастным уровням потребления и трудовых доходов, развитые страны, 1950–2050 гг., %; трудовые доходы группы 30–49 лет в соответствующих странах = 100%
Источник: National Transfer Accounts: Understanding the Generational Economy, 2018. .
Рис. XVI.31. Коэффициенты поддержки, нормализованные по возрастным уровням потребления и трудовых доходов, развивающиеся страны, 1950–2050 гг., %; трудовые доходы группы 30–49 лет в соответствующих странах = 100%
Источник: National Transfer Accounts: Understanding the Generational Economy, 2018. .
Данные по России в базе данных Национальных трансфертных счетов отсутствуют. Все, что мы можем в этих условиях предпринять, — предложить сугубо иллюстративный расчет, исходя из предположения, что вариация в возрастных уровнях потребления и трудовых доходов в России совпадает с тем, как они варьируются в Венгрии (стране с тем же социалистическим прошлым, что и Россия, и с более или менее близким к ней уровнем ВВП на душу населения). Результаты этого условного расчета представлены на рис. XVI.32.
Согласно этим оценкам, наиболее благоприятное соотношение между нормализованной численностью «производителей» и нормализованной численностью «потребителей» наблюдалось в России, по-видимому, в 2012–2013 гг., когда на каждого усредненного потребителя приходилось 0,94 усредненного производителя. В ближайшие десятилетия это соотношение хотя и ухудшится (с 0,92 в 2017 г. до 0,84 в 2035-м), но будет крайне незначительным — ожидаемое снижение не превысит 8 п.п. Следует подчеркнуть, что эта оценка получена без учета последствий начатой пенсионной реформы: с их учетом снижение оказывается еще меньше — 5–6 п.п. Иными словами, при учете возрастной вариации в уровнях потребления и трудовых доходов предстоящее старение населения оказывается для российской экономики если не нейтральным, то почти нейтральным фактором: как ни парадоксально, но само по себе оно не представляет сколько-нибудь серьезного препятствия на пути дальнейшего экономического роста.
Рис. XVI.32. Коэффициенты поддержки, нормализованные по возрастным уровням потребления и трудовых доходов, Россия, 1992–2035 гг., %; иллюстративный расчет
Источник: Расчеты автора.
Конечно, представленный расчет, как было отмечено, является сугубо иллюстративным. В России соотношения между показателями душевого потребления в разных возрастах, скорее всего, сильно отличаются от тех, что наблюдаются в Венгрии. Так, крайне маловероятно, чтобы в России потребление в конце жизни (65+) поддерживалось на более высоком среднем уровне, чем потребление в середине жизни (20–64). Даже с учетом натуральных трансфертов от государства в пользу пожилых здесь, скорее всего, следовало бы ожидать обратного соотношения. Возрастные профили трудовых доходов в России и Венгрии также почти наверняка имеют во многом различную форму. Единственный предположительный вывод, который мы вправе пока сделать, состоит в том, что при переходе от стандартных показателей зависимости/поддержки к показателям, скорректированным по возрастным различиям в уровнях потребления и трудовых доходов, получаемые для России оценки бремени, которое пожилое население возлагает на население в рабочих возрастах, могут оказаться совершенно иными.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ С МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ: БАЗОВАЯ СХЕМА
Базовые механизмы взаимодействия между демографическими и макроэкономическими переменными описываются большим классом формальных моделей, разрабатываемых экономистами[256]. Что же они говорят о ключевых экономических эффектах, порождаемых феноменом старения населения?
Наиболее очевидный из них состоит в том, что в условиях старения населения число работников в расчете на душу населения начинает уменьшаться, поскольку большинство из тех, кто достигает преклонного возраста, покидают рынок труда. Иными словами, с наступлением старости бо́льшая часть занятых становятся незанятыми, и, значит, численность рабочей силы сокращается[257]. Как следствие, при любом данном уровне производительности труда старение населения будет снижать душевой ВВП страны по чисто арифметическим причинам. Этот результат интуитивно очевиден, поскольку продукция, производимая каждым отдельным работником, должна отныне «делиться» среди большего числа потребителей. Действительно, формально уровень душевого ВВП (Y / N) может быть представлен как произведение уровня производительности труда (ВВП в расчете на одного работника — Y / L) и числа работников на душу населения (L / N):
Y / N = (Y / L) × (L / N). (1)
Отсюда хорошо видно, что при прочих равных условиях снижение доли занятой части населения будет вызывать пропорциональное снижение душевого ВВП. Прологарифмировав обе части уравнения (1), имеем:
ln (Y / N) = ln (Y / L) + ln (L / N). (2)
Отсюда, в свою очередь, видно, что темп прироста душевого ВВП может быть представлен как сумма темпов прироста производительности труда, с одной стороны, и темпов прироста доли занятых в общей численности населения — с другой. Скажем, по нашим прогнозным оценкам, в России за период 2017–2035 гг. соотношение между численностью занятого и численностью всего населения уменьшится с 49 до 46 % [Gimpelson, Kapeliushnikov, 2017][258]. В таком случае только за счет этого эффекта старение населения может привести к снижению среднегодовых темпов прироста душевого ВВП в российской экономике на 0,35 п.п. Но это без учета запланированного повышения планки пенсионного возраста на пять лет как для мужчин, так и для женщин. С его учетом потери в годовых темпах экономического роста будут меньше — 0,25 п.п. вместо 0,35 п.п.
Общепризнанно, что более точным индикатором благосостояния общества следует считать уровень душевого потребления (С / N), представляющий разность между уровнем душевого ВВП (Y / N) и уровнем душевых сбережений (S / N) [Sheiner et al., 2006]:
С / N = (Y / N) — (S / N). (3)
С учетом этого можно записать:
С / N = [(Y / L) × (L / N)] — (S / N). (4)
Как видим, для того чтобы понять, какие последствия с точки зрения динамики потребления может иметь старение населения, необходимо проанализировать возможные механизмы его влияния, во-первых, на производительность труда, во-вторых, на долю занятых в общей численности населения и, в-третьих, на уровень душевых сбережений.
Неоклассическая теория экономического роста предполагает, что в стационарном состоянии уровень капиталовооруженности труда будет оставаться величиной постоянной. Говоря иначе, при приросте численности рабочей силы на 10 % объем капитала также должен будет увеличиться на 10 %, чтобы капиталовооруженность труда могла сохраняться на прежнем (равновесном) уровне. Но обеспечить такой прирост капитала невозможно без соответствующего прироста сбережений. (Скажем, в нашем условном примере сбережения должны будут вырасти настолько, насколько это окажется необходимо для увеличения объема капитала на те же 10 %.) Это условие можно выразить с помощью формулы:
S / L = (K / L) × ℓ, (5)
где ℓ — темп прироста численности занятых. Умножая обе части этого уравнения на число работников в расчете на душу населения (L / N), получаем:
S / N = (L / N) × (S / L) = (L / N) × [(K / L) × ℓ]. (6)
Возвращаясь от уровня душевых сбережений к уровню душевого потребления, имеем:
С / N = (L / N) × [(Y / L) — (K / L) × ℓ]. (7)
Данное выражение сформулировано в терминах выпуска (Y), но его легко можно переписать в терминах доходов. Так, производительность труда в правой части можно представить как фонд оплаты труда (W) в расчете на одного работника и доходы от капитала в расчете на одного работника, а последние — как произведение нормы процента (отдачи от капитала — r) на уровень капиталовооруженности (объема капитала в расчете на одного работника — K / L). После этих подстановок получаем выражение, которое «схватывает» наиболее важные взаимозависимости между интересующими нас макроэкономическими переменными [Ibid.]:
С / N = (L / N) × [(W / L) + (r × K / L) — (ℓ × K / L)] =
= (L / N) × [(W / L) + (r — ℓ) × K / L)]. (8)
Это уравнение в сжатом виде дает представление о том, по каким основным каналам старение населения способно влиять на уровень душевого потребления (иными словами, на благосостояние общества) при переходе экономики из одного стационарного состояния в другое — от экономики с еще нестарым к экономике с уже состарившимся населением [Ibid.]. Это: 1) число работников в расчете на душу населения; 2) уровень заработной платы; 3) уровень капиталовооруженности труда; 4) отдача от капитала (норма процента); 5) темп прироста рабочей силы. Ситуация осложняется тем, что переменные, входящие в правую часть уравнения (8), могут быть взаимосвязаны, так что изменение в одной из них будет генерировать изменения в других, причем характер связей между ними может меняться в зависимости от типа рассматриваемой экономики.
Так, в закрытых и открытых экономиках взаимозависимость между сбережениями, инвестициями и отдачей от капитала будет различаться [Sheiner et al., 2006]. В закрытых экономиках внутренние сбережения и внутренние инвестиции равны по определению (все внутренние сбережения инвестируются внутри страны, и все инвестиции внутри страны финансируются только за счет внутренних сбережений). В этих условиях прирост сбережений будет повышать уровень капиталовооруженности, а вслед за ним — уровни производительности труда и заработной платы. Однако дополнительный капитал, создаваемый за счет возросших сбережений, станет приносить все меньшую отдачу (вследствие закона убывающей доходности), т. е. норма процента (отдача от капитала) будет снижаться. В отличие от этого в открытых экономиках внутренние сбережения не обязательно должны равняться внутренним инвестициям: часть сбережений может направляться за рубеж, равно как и часть инвестиций может финансироваться из-за рубежа. В этих условиях динамика внутренних сбережений не будет влиять на норму процента, поскольку она станет устанавливаться на глобальном рынке. Как следствие, изменения в них не смогут оказывать влияния на какие-либо другие макроэкономические переменные — капиталовооруженность, производительность труда, заработную плату и отдачу от капитала. Соответственно, последствия старения населения для закрытых и открытых экономик могут сильно отличаться (причем в более выигрышном положении будут оказываться последние).
Большинство реально существующих экономик невозможно отнести ни к полностью закрытым, ни к полностью открытым. Так, считается, что США находятся ближе к типу закрытой экономики. То же, по-видимому, можно сказать и о современной экономике России (по крайней мере после начала санкционных войн). Это означает, что в них колебания в объеме внутренних сбережений должны оказывать определенное влияние (пусть и не такое сильное, как в случае полностью закрытых экономик) на капиталовооруженность, производительность труда, заработную плату и отдачу от капитала.
Ключевой с точки зрения благосостояния общества вопрос состоит в том, как увеличение доли пожилых в общей численности населения будет влиять на душевое потребление — уменьшать, увеличивать, оставаться нейтральным? Как отмечалось, старение населения является результатом взаимодействия снижающейся рождаемости и увеличивающейся продолжительностью жизни. Экономические последствия увеличения ожидаемой продолжительности жизни представляют собой более простой случай. Уменьшая соотношение между численностью занятого и численностью всего населения, оно приводит к тому, что каждый работник оказывается вынужден поддерживать то же, что и раньше, число детей, но при этом большее число пожилых. Отсюда — сокращение душевого потребления при любых возможных уровнях капиталовооруженности труда.
Снижение рождаемости представляет собой более сложный случай, порождая несколько противоположно направленных эффектов. С одной стороны, оно действует так же, как и увеличение ожидаемой продолжительности жизни, уменьшая долю занятых в общей численности населения и способствуя тем самым сокращению душевого потребления. Но с другой — оно замедляет темп прироста рабочей силы, который входит в уравнение (8) с отрицательным знаком. (Иными словами, при прочих равных условиях чем ниже темп прироста рабочей силы, тем выше уровень душевого потребления.) При замедлении роста численности рабочей силы потребность в сбережениях, необходимых для поддержания капиталовооруженности на равновесном уровне, становится меньше, что открывает возможности для переключения высвобождающихся средств на потребление (причем чем сильнее «капитализирована» экономика, тем бо́льшим будет этот положительный эффект). Скажем, по нашим прогнозным оценкам, в России ежегодный темп сокращения занятости за период 2017–2035 гг. может составить достаточно существенную отрицательную величину — от –0,3 до –0,7 % (при использовании различных вариантов демографического прогноза Росстата). Отсюда следует, что в российских условиях негативные последствия для потребления, порождаемые старением населения, будут частично нейтрализовываться.
В литературе негативный эффект, связанный с сокращением потребления в результате снижения числа работников в расчете на душу населения, получил название «эффект зависимости», а положительный эффект, связанный с приростом потребления в результате уменьшения потребности в сбережениях, — «эффект Солоу» (поскольку он следует из базовой неоклассической модели экономического роста Роберта Солоу) [Elmendorf, Sheiner, 2000]. Но помимо них здесь возникает еще один эффект — эффект капиталовооруженности [Ibid.]. Дело в том, что меньшая численность рабочей силы, к которой ведет снижение рождаемости, автоматически означает рост капиталовооруженности труда, так как прежний объем капитала начинает распределяться среди меньшего числа работников. Как следствие, предельный продукт капитала начинает уменьшаться, ослабляя стимулы к сбережениям. В этих условиях текущее потребление может возрасти просто за счет «проедания» части накопленного в предыдущие периоды запаса капитала, переставшего приносить желаемую отдачу. Это также способно демпфировать (по крайней мере частично) негативные последствия для потребления, которыми чревато старение населения.
Тем не менее опыт большинства стран свидетельствует о том, что эффект зависимости обычно существенно перевешивает эффект Солоу и эффект капиталовооруженности, так что общее влияние старения населения на возможности потребления все равно оказывается отрицательным. Но помимо прямого воздействия на потребление оно может воздействовать на него косвенно через другие макроэкономические переменные.
С микроэкономической точки зрения по мере того, как люди начинают жить дольше, они должны либо дольше работать, либо меньше потреблять. С макроэкономической точки зрения, если дальнейшее увеличение продолжительности жизни приходится на тот отрезок жизни пожилых, когда все они уже покинули рынок труда, это не будет вызывать изменений ни в численности рабочей силы, ни в темпах ее прироста [Sheiner et al., 2006]. Единственным каналом, по которому оно будет влиять на душевое потребление, окажется снижение числа работников в расчете на душу населения (см. выше). Насколько оно упадет, будет зависеть от того, какое соотношение между своим потреблением в рабочих возрастах и своим потреблением в старости индивиды считают для себя оптимальным. Естественно ожидать, что на возросшую продолжительность жизни они отреагируют активизацией сбережений в рабочих возрастах (за счет либо удлинения срока трудовой деятельности, либо сокращения потребления в настоящий период жизни, либо того и другого вместе). Соответственно, повысится уровень капиталовооруженности, что будет способствовать росту душевого потребления, поскольку, как видно из уравнения (8), оно положительно связано с K / L. Но нужно учитывать, что каждый последующий прирост капиталовооруженности труда будет обеспечивать все меньший и меньший прирост потребления (вследствие действия закона убывающей доходности). Общий вывод, который можно отсюда сделать, состоит в том, что при увеличении продолжительности жизни душевое потребление должно будет снизиться, но насколько сильно — априори сказать невозможно.
При уменьшении доли занятых в общей численности населения, вызванном падением рождаемости, поддерживать прежний уровень душевого потребления также оказывается невозможно. Единственный способ, как можно было бы не допустить его, — это сократить сбережения, частично перенаправив их на потребление, т. е. фактически приступив к «проеданию» капитала. Чтобы избежать его полного «проедания», душевое потребление придется снижать, повышая душевые сбережения. Таким образом, роста капиталовооруженности труда следует ожидать также и при снижении рождаемости. В результате новое равновесное состояние экономики будет достигаться при более высоком уровне капиталовооруженности со всеми вытекающими отсюда последствиями — ростом производительности труда, повышением заработной платы и падением отдачи от капитала.
С учетом возможных межпоколенческих связей ситуация еще более усложняется. При отсутствии такого рода связей многочисленность или малочисленность любого поколения, а также решения, принимаемые по ходу жизненного цикла принадлежащими к нему индивидами, никак не отражались бы на возможностях потребления последующих поколений. Однако в реальности разные поколения активно взаимодействуют. Особая роль принадлежит здесь социальным программам поддержки пожилых (пенсионного страхования, медицинского страхования и т. д.), через которые потребительские и сберегательные решения прошлых поколений начинают впрямую влиять на потребительские и сберегательные возможности настоящих и будущих поколений.
Важнейший механизм межгенерационных взаимодействий — передача трансфертов и наследств от одних поколений к другим. Но в закрытых экономиках к этому добавляются дополнительные каналы связи, действующие через такие, например, факторы, как норма сбережений или отдача от капитала. В закрытой экономике, где не существовало бы ни государственной распределительной пенсионной системы, ни внутрисемейных механизмов передачи доходов и наследств, индивидам не оставалось бы ничего другого, как сберегать на старость самостоятельно. Тогда рост ожидаемой продолжительности жизни побуждал бы их наращивать сбережения в рабочих возрастах, что повышало бы уровень капиталовооруженности труда при одновременном снижении отдачи от капитала. Но последнее уменьшало бы поток доходов от капитала (r × K), влияя таким образом на потребление не только текущего, но и всех будущих поколений. Иными словами, даже при отсутствии прямых межгенерационных связей перспектива старения нынешнего поколения ограничивала бы потребительские возможности поколений, следующих за ним. Еще более выраженными эти эффекты оказываются в экономиках с солидарными пенсионными системами и внутрисемейными механизмами передачи доходов и наследств от одних поколений другим.
«Избыточное» потребление (превышение потребления над трудовыми доходами) молодых и пожилых может финансироваться по нескольким различным каналам[259]. Во-первых, это социальные трансферты, предоставляемые государством через различные программы поддержки. Во-вторых, внутрисемейные трансферты, получаемые от других членов домохозяйств[260]. В-третьих, доход от активов (за вычетом сбережений), накопленных за время трудовой жизни.
Анализ показывает, что для детей и молодежи до 25 лет ключевое значение имеют трансферты от родителей. Важная роль принадлежит также социальным трансфертам от государства, посредством которых в значительной мере финансируются затраты на получаемое ими образование. Лица в рабочих возрастах имеют отрицательные чистые социальные трансферты, т. е. государство получает от них в виде налогов больше, чем передает им в виде выплат через различные социальные программы. Вдобавок они являются донорами частных трансфертов, направляемых прежде всего детям. Наконец, они выступают в роли главных «сберегателей», за счет накоплений которых формируются активы, используемые в экономике[261]. Если же говорить о пожилых, то в современных обществах главным источником финансирования их потребления являются социальные трансферты. Одновременно они потребляют бо́льшую часть доходов от накопленных ими ранее активов, хотя какую-то их часть могут все же продолжать сберегать (как это происходит, например, в США). Что касается частных трансфертов, то в большинстве стран их чистая величина для пожилых индивидов оказывается отрицательной: по внутрисемейным каналам они отдают в среднем больше, чем по ним получают. Так, в США даже после 65 лет пожилые продолжают направлять внутрисемейные трансферты более молодым поколениям (главным образом внукам) и только после 75 лет превращаются из чистых доноров в чистых реципиентов [Lee, 2016]. Таким образом, важнейшее различие между частными и социальными трансфертами заключается в том, что первые практически повсеместно направлены вниз (от старших к младшим), тогда как вторые — вверх (от младших к старшим).
Опыт финансирования «избыточного» потребления пожилых сильно варьируется по отдельным странам [Lee, 2014]. В одной группе стран (Швеция, Австрия, Венгрия, Бразилия, Словения) оно осуществляется почти исключительно за счет социальных трансфертов, в другой (Германия, Уругвай, Испания, Чили) — более чем наполовину. Примерно две трети стран, по которым имеются данные, используют социальные трансферты в качестве главного источника поддержки пожилых. Хотя нет ни одной страны, где бы ведущая роль принадлежала частным трансфертам, в некоторых (в основном в Юго-Восточной Азии) их доля может достигать от трети до половины суммарной величины поддержки. Существуют страны (США, Мексика, Филиппины, Таиланд, Индия), где весомый вклад (от 1/2 до 2/3 «избыточного» потребления) вносят доходы от активов. Наконец, в ряде стран (Китай, Тайвань, Южная Корея) все три источника — социальные трансферты, частные трансферты и доходы от активов — имеют примерно равное значение.
Вопрос об источниках финансирования поддержки пожилых принципиально важен. Если такое финансирование осуществляется за счет социальных или частных трансфертов, это возлагает на работающее население только дополнительные издержки (либо в виде более высоких налогов, либо в виде более значительной помощи в пределах семьи). Ситуация становится иной, если ведущая роль принадлежит доходам от накопленных активов. В этом случае старение населения приводит к росту душевых активов и затем, если полученные от них дополнительные доходы инвестируются в отечественную экономику, — к повышению капиталовооруженности, а значит, к росту производительности труда и падению отдачи от капитала. (Если они инвестируются на международных финансовых рынках, тогда внутри страны, как мы уже упоминали, не следует ожидать ни роста производительности труда, ни падения отдачи от капитала.)
В подобной ситуации старение населения генерирует дополнительный доход, увеличивая ВВП страны и снижая издержки по поддержке пожилых, падающие на работающее население. Те, кто достиг преклонного возраста, предоставляют меньше труда, но зато больше капитала. Их можно считать «иждивенцами» (т. е. экономически зависимым населением) лишь в той мере, в какой они получают доходы от других поколений в виде чистых социальных или частных трансфертов. Даже скорректированные коэффициенты зависимости, взвешенные по возрастным уровням потребления и трудовых доходов (см. предыдущий подраздел), не учитывают это важное обстоятельство.
С его учетом период, в течение которого экономика получает положительный демографический дивиденд, удлиняется, а экономические последствия старения населения оказываются значительно менее драматичными. Так, для США ожидаемое замедление годовых темпов экономического роста вследствие старения населения в течение первой половины XXI в. оценивается в 0,26 п.п. без учета эффекта активов, но сокращается до мизерных 0,06 п.п. при его учете [Ibid.]. Как видим, неучет эффекта активов может вести к завышенной оценке как преимуществ, связанных с более многочисленным работающим населением, так и издержек, связанных с более многочисленным неработающим пожилым населением.
Различия в источниках финансирования «избыточного» потребления пожилых не нейтральны по отношению к трудовому и сберегательному поведению индивидов. Анализ показывает, что трудовые доходы пожилых особенно низки в странах, где поддержка пожилых осуществляется главным образом за счет частных и/или социальных трансфертов. В странах, где большее значение имеют доходы от активов, индивиды склонны дольше оставаться на рынке труда [Lee, 2016]. Социальные и частные трансферты могут также замещать собой сбережения: когда они доступны, сберегать на старость становится, строго говоря, не обязательно. Соответственно, при прочих равных условиях норма сбережений и уровень капиталовооруженности труда будут ниже в странах, предпочитающих при финансировании поддержки пожилых делать ставку на социальные и/или частные трансферты. Как с точки зрения трудовой, так и с точки зрения сберегательной активности в выигрыше оказываются страны, где ведущую роль играет третий источник — доходы от активов.
В заключение повторим вкратце основные выводы, следующие из представленного анализа. В условиях снизившейся рождаемости та же норма сбережений будет обеспечивать более высокую капиталовооруженность, а значит, и более высокую производительность труда, и более высокую заработную плату, и более низкую отдачу от капитала, и более высокий уровень душевого потребления. Но одновременно на работающую часть населения станут возлагаться более значительные издержки по поддержке пожилых в форме социальных и/или частных трансфертов. Кроме того, поскольку для оснащения капитальным оборудованием меньшего числа работников станет требоваться меньше сбережений, часть высвободившихся средств можно будет переключить на потребление. Баланс этих противодействующих сил — возросшего уровня капиталовооруженности и уменьшения потребности в сбережениях, с одной стороны, и возросших издержек поддержки, с другой, — будет определять, каким же с точки зрения динамики душевого потребления окажется конечный эффект, положительным или отрицательным. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни точно так же будет повышать долю пожилого населения (а значит, и издержки по его поддержке) и вести к более высокой капиталовооруженности труда, но без компенсирующего эффекта в виде переключения части сбережений на потребление. В результате наиболее вероятным общим результатом для стареющих обществ оказывается снижение уровня потребления.
Однако не все выводы, получаемые для закрытых экономик, приложимы к открытым экономикам. В открытой экономике старение населения будет способствовать увеличению объема активов, приходящегося на душу населения, но не объема капитала, приходящегося на одного работника. Часть возросших сбережений станет направляться через международные финансовые рынки за рубеж, минимизируя предполагаемые эффекты старения населения (такие как повышение капиталовооруженности труда, повышение производительности труда, повышение заработной платы, снижение отдачи от капитала). В то же время доходы от активов, направляемых за рубеж, будут расти, а значит, будет расти и доход страны. Отсюда — возможность поддержания душевого потребления на более высоком уровне, чем в условиях закрытой экономики. Таким образом, межстрановые различия в сроках и степени старения населения создают благоприятные условия для снижения издержек эйджинга через международные торговые потоки, а также международные потоки труда и капитала [Börsch-Supan, 2006].
Однако тренд к снижению рождаемости является глобальным, так что по большому счету значение будет иметь не старение населения той или иной страны, а старение мирового населения. В долгосрочной перспективе именно оно будет определять относительные цены на факторы производства и интенсивность их использования во всех экономиках. Это предполагает, что в условиях глобализации повышение уровня капиталовооруженности труда, повышение заработной платы и снижение отдачи от капитала будут наблюдаться повсеместно (хотя и в неодинаковой степени) независимо от особенностей демографической ситуации в каждой отдельной стране.
Вместе с тем издержки эйджинга варьируются в широких пределах в зависимости от дизайна системы поддержки пожилых. В странах, где она ориентирована на получение пожилыми доходов от активов, эти издержки оказываются несравнимо меньше, чем в странах, где она ориентирована на предоставление социальных и/или частных трансфертов. Можно сказать, что серьезные отрицательные эффекты для экономики и общества порождаются не столько самим процессом старения населения, сколько институтами, призванными его регулировать[262]. Реформа этих институтов может ощутимо уменьшить бремя, которое поддержка пожилых возлагает на более молодые поколения.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Базовое уравнение (8), обсуждавшееся в предыдущем подразделе, дает довольно упрощенную и схематическую картину потенциальных макроэкономических последствий эйджинга. Многие важнейшие макроэкономические связи остаются за его рамками. Так, оно ничего не говорит нам о том, как старение населения может влиять на рост совокупной факторной производительности (технологический прогресс), накопление человеческого капитала (уровень образования и состояние здоровья населения), инфляцию и т. д., а также о том, в какой мере изменения в этих и других ключевых переменных могут нейтрализовывать или, наоборот, усиливать эффекты старения населения[263].
В литературе по эйджингу принято различать «счетные» (accounting) и «поведенческие» (behavioral) эффекты старения населения [Bloom et al., 2011]. В первом случае речь идет об эффектах, связанных с меняющимся соотношением между размерами групп, находящихся в начале, в середине и в конце жизни, даже если их поведение никак и ни в чем не меняется. Во втором случае речь идет об эффектах, связанных с поведенческими реакциями этих групп, которые можно ожидать в условиях падающей рождаемости и растущей продолжительности жизни. Естественно предполагать, что индивиды, семьи, государство не будут оставаться безразличными к изменениям демографической среды и начнут подстраиваться к ним, усиливая или, наоборот, ослабляя «счетные» эффекты эйджинга. Если в предыдущем подразделе в центре нашего внимания находились именно такие «счетные» эффекты, то в настоящем мы будем обсуждать преимущественно «поведенческие» эффекты старения населения.
Рынок труда. Как уже отмечалось, наиболее очевидным и наиболее фундаментальным следствием старения населения оказывается сокращение предложения труда. Пожилые имеют меньше стимулов и возможностей трудиться, так что увеличение их доли в общей численности населения почти автоматически означает сжатие рабочей силы. Когда труд становится более редким и более дорогостоящим фактором, заработная плата начинает повышаться и переговорные позиции работников в отношениях с работодателями усиливаются (см. предыдущий подраздел). В ситуации обостряющейся конкуренции между фирмами за привлечение работников можно ожидать также достаточно сильного снижения безработицы. Однако этим последствия старения населения для рынка труда не исчерпываются.
Подобно тому как старение предполагает уменьшение доли непожилых индивидов в общей численности населения и увеличение доли пожилых, оно предполагает снижение доли непожилых работников в общей численности рабочей силы и повышение доли пожилых. Но так как уровни экономической активности, занятости и безработицы сильно варьируют с возрастом, старение рабочей силы порождает множество разнообразных структурных эффектов.
Так, поскольку у представителей предпенсионных и пенсионных возрастов активность на рынке труда ниже, сдвиг возрастной структуры в их пользу способен дополнительно ухудшать показатели занятости и участия в рабочей силе для всей экономики. Но безработица среди пожилых также значительно ниже, чем среди молодых. Например, в России в 2017 г. уровни безработицы у групп 55–59 и 60–69 лет составляли лишь 4 и 3 %, тогда как у групп 20–24 и 25–29 лет — 15 и 6 %. Как следствие, старение населения должно приводить к снижению общего уровня безработицы, причем достаточно значительному. Так, по нашим оценкам, с 2008 по 2015 г. за счет сдвигов в возрастном составе рабочей силы безработица в России снизилась не менее чем на 1,5 п.п. [Российский рынок труда, 2017]. Однако ожидать, что так будет продолжаться и дальше, не приходится. Дело в том, что в России уровни участия в рабочей силе молодежных когорт настолько низки (вследствие широкого распространения высшего образования), что даже если их численность будет продолжать сокращаться, это уже не даст того сильного снижения общего уровня безработицы, какое имело место раньше. Нельзя также исключить, что резкое увеличение предложения труда со стороны пожилых и усиление между ними конкуренции за рабочие места вызовут среди них рост безработицы, что даст толчок к повышению ее общего уровня.
На определенном историческом этапе снижение рождаемости выступало фактором, способствовавшим увеличению предложения труда. Уменьшение числа детей открывало перед женщинами возможность выхода на рынок труда и стимулировало их участие в рабочей силе. В глобальном масштабе положительное влияние снижающейся рождаемости на уровни занятости и экономической активности все еще сохраняется. Подсчитано, что для мирового населения каждый процентный пункт падения общего коэффициента фертильности сопровождается повышением уровня участия в рабочей силе на 5–10 п.п. [Bloom, Luca, 2016]. Однако в более развитых странах (включая Россию) этот эффект уже почти сошел на нет. При прогнозируемом для этих стран дальнейшем снижении коэффициентов фертильности выигрыш с точки зрения повышения уровней занятости и экономической активности будет практически нулевым.
Можно назвать несколько факторов, способных с большей или меньшей эффективностью противодействовать тенденции к сокращению предложения труда. Во-первых, это повышение заработной платы, которое будет вызываться старением населения. Чем она выше, тем сильнее стимулы иметь оплачиваемую занятость и тем, следовательно, выше показатели участия в рабочей силе. Хотя и в неодинаковой степени, этот эффект будет затрагивать все возрастные группы — не только старшие возраста, но также младшие и средние. Во-вторых, это улучшение здоровья и дееспособности пожилого населения (см. выше). Если функциональный статус пожилых улучшается (а это, как мы видели, действительно так), в то время как требования, предъявляемые современными технологиями к физическому состоянию работников, снижаются, это создает благоприятные условия для активизации их участия в рабочей силе. Они становятся способны не только дольше оставаться в составе рабочей силы, но и трудиться с большей нагрузкой более продолжительное рабочее время. В-третьих, это повышение уровня образования. Как показывает опыт всех стран мира, лица с высшим образованием склонны позже покидать рынок труда, сохраняя занятость даже после достижения официального пенсионного возраста. Так, в России в 2017 г. уровни занятости у женщин с высшим образованием и без него в возрасте 55–59 лет соотносились как 67 % против 47 %, а у мужчин в возрасте 60–69 лет — как 41 % против 25 %. Соответственно, повышение уровня образования населения (прежде всего, более широкий охват высшим образованием) выступает значимым фактором, способствующим увеличению предложения труда.
Конечно, эти положительные поведенческие эффекты в лучшем случае способны лишь частично компенсировать потери в занятости и рабочей силе, возникающие в результате старения населения. Следует также иметь в виду, что в более развитых странах (включая Россию) высшее образование получило уже настолько широкое распространение, что его дальнейшая эскалация, скорее всего, будет давать сравнительно небольшой выигрыш с точки зрения динамики экономической активности и занятости. Несравненно бо́льшие резервы есть здесь у развивающихся стран.
Важнейший институциональный фактор, определяющий динамику предложения труда в любой современной экономике, — тип и состояние пенсионной системы. Общая закономерность проста: чем щедрее пенсии, тем ниже уровни занятости и участия в рабочей силе. Финансовая несбалансированность большинства современных пенсионных систем делает неизбежным их реформирование, которое может идти двумя путями. Первый путь — сохранение щедрых пенсионных выплат за счет повышения налогов на фонд оплаты труда (ФОТ). Это будет означать увеличение «налогового клина» и снижение «чистой» заработной платы, получаемой работниками «на руки». Реакцией на это станет падение предложения труда во всех возрастных группах, уход части работников в неформальный сектор и в итоге сокращение налоговой базы, из которой осуществляется финансирование пенсионных выплат. Второй путь — сокращение пенсионных выплат при неповышении или даже снижении налогов на ФОТ. Наиболее простая и популярная форма такой экономии — повышение официального возраста выхода на пенсию, что укорачивает срок, в течение которого индивид получает пенсионные выплаты. Это будет стимулировать предложение труда среди пожилых, заставляя их дольше оставаться в составе рабочей силы. Как уже упоминалось, по нашим прогнозным оценкам, запланированное в России повышение планки пенсионного возраста способно обеспечить прибавку порядка 1,5 млн дополнительных работников, компенсировав этим чуть более четверти ожидаемого до 2035 г. сокращения занятости. По расчетам Акселя Борш-Зупана, в Германии подстройка на рынке труда (по всем описанным выше каналам) способна примерно вдвое снизить издержки, связанные со старением населения в течение ближайших десятилетий [Börsch-Supan, 2001].
Изменения в относительной численности пожилых и непожилых работников могут заметно улучшать либо ухудшать их позиции на рынке труда. Здесь многое зависит от того, являются ли услуги, которые они поставляют на рынок труда, одним и тем же производственным фактором или же двумя разными[264]. (Скажем, можно предположить, что, имея дело с пожилыми работниками, фирмы предъявляют спрос прежде всего на их опыт и квалификацию, тогда как имея дело с непожилыми — на их физическую силу и быстроту мышления.)
Если это два разных производственных фактора, тогда пожилые и непожилые работники будут фактически действовать на изолированных рынках труда с отдельными кривыми спроса и предложения: у них будут различаться форма занятости, оплата, тип рабочих мест, показатели мобильности и т. д. В этом случае приток или отток пожилых никак не станет отражаться на положении непожилых (их заработках, уровне безработицы и т. д.), и соответственно наоборот. Старение населения означает сокращение предложения труда непожилых работников и увеличение предложения труда пожилых. Отсюда естественно ожидать роста заработной платы для первых и ее падения для вторых, равно как падения безработицы для первых и ее роста для вторых. В результате перспектива участия в рабочей силе может начать терять привлекательность для пожилых работников, снижая и без того невысокие показатели их экономической активности.
Ситуация будет иной, если непожилые и пожилые работники конкурируют за одни и те же рабочие места, являясь субститутами. Тогда увеличение предложения пожилых будет ухудшать положение молодых, выталкивая их в безработицу, и симметрично — сокращение предложения молодых будет улучшать положение пожилых, вытягивая их в занятость.
Существует еще один возможный сценарий, при котором пожилые и непожилые работники выступают как комплементарные факторы производства. В таком случае показатели занятости и заработной платы будут меняться у них синхронно, сдвигаясь параллельно или вверх, или вниз. Анализ схем досрочного выхода на пенсию, крайне популярных в западных странах в 1960–1980-е годы, однозначно свидетельствует, что их введение приводило не к снижению, а к повышению молодежной безработицы, а отказ от них, наоборот, обеспечивал повышение, а не снижение занятости среди молодежи [National Research Council, 2012].
Многочисленные исследования по разным странам (включая Россию) говорят о том, что реальная ситуация на рынке труда, скорее всего, находится где-то посередине между первым и третьим сценариями [Ляшок, Рощин, 2016]. Это означает, что эйджинг действительно представляет угрозу для пожилых работников, ухудшая их положение на рынке труда. В то же время повышение пенсионного возраста едва ли грозит сколько-нибудь заметным ростом молодежной безработицы: она либо не изменится, либо даже может понизиться.
Помимо этого старение населения может становиться спусковым механизмом для значительной межотраслевой и межпрофессиональной реаллокации рабочей силы. Поскольку структура потребительского спроса пожилых сильнее смещена в пользу услуг (в частности, связанных со здравоохранением, рекреацией, содержанием жилья и т. д.), естественно ожидать масштабного перераспределения рабочей силы из промышленности в сферу услуг [Aiyar et al., 2016]. Но это возможно только в том случае, если сама рабочая сила будет оставаться достаточно мобильной.
Известно, однако, что по всем показателям мобильности, будь то мобильность территориальная, профессиональная, межфирменная или любая иная, пожилые работники сильно проигрывают непожилым [Ibid.]. Исследования показывают, что, скажем, пик географической мобильности достигается в большинстве стран приблизительно в возрасте 20 лет, а затем она последовательно снижается. Пожилые работники намного реже увольняются по собственному желанию (например, в Великобритании в конце 1990-х годов коэффициент добровольных увольнений у группы моложе 25 лет был вдвое выше, чем у группы 50 лет и старше [Dixon, 2003]). Точно так же вероятность смены профессии у пожилых оказывается в несколько раз ниже, чем у молодых (хотя и может возрастать после выхода на пенсию из-за вынужденных перемещений на худшие рабочие места).
Более низкая мобильность пожилых объясняется множеством факторов. Они достигают лучшего мэтчинга с рабочими местами (поскольку у них было достаточно времени, чтобы его достичь); нередко имеют заработную плату, превышающую их производительность; располагают меньшим интервалом времени, чтобы успеть окупить издержки мобильности; обрастают со временем более плотными социальными связями и обзаводятся жильем; медленнее и хуже адаптируются к любым инновациям и т. д.
Из-за более низкой мобильности пожилых старение населения может существенно замедлять реаллокацию рабочей силы, необходимую для успешной адаптации к технологическим и структурным сдвигам, или даже становиться для нее непреодолимым препятствием. Последствия этого очевидны. Во-первых, повышение для пожилых риска долгосрочной безработицы. Во-вторых, возникновение в экономике множества узких мест, которые в течение длительного времени не поддаются расшивке. В-третьих, ухудшение мэтчинга между характеристиками работников и рабочих мест с соответствующими неизбежными потерями в производительности. В-четвертых, создание ситуации карьерного тупика для родившихся позже поколений, поскольку пробиться на верхние ступени должностной иерархии при наличии многочисленного контингента «возрастных» работников становится намного труднее. Говоря иначе, оборотной стороной старения населения может становиться резкое снижение гибкости рынков труда.
Можно также прогнозировать, что по мере старения рабочей силы иным будет становиться ее распределение по формам занятости. Известно, что среди пожилых намного выше доля работников, во-первых, имеющих неполную занятость и, во-вторых, занятых в неформальном секторе. Предпочтение неполной занятости связано с их худшим физическим состоянием, тогда как неформальная занятость обеспечивает им подработки, потребность в которых возникает при недостаточно щедрых пенсионных выплатах. Таким образом, старение рабочей силы, скорее всего, будет сопровождаться разрастанием неполной занятости и занятости в неформальном секторе.
Каковы возможные пути противодействия резкому сокращению предложения труда, порождаемому старением населения? В развитых странах (Россия здесь не исключение) у когорт среднего возраста показатели участия в рабочей силе уже настолько высоки, что резервы для их дальнейшего повышения практически отсутствуют. Повышению экономической активности молодежных когорт препятствует их установка на получение высшего образования. Ощутимый рост предложения труда, по-видимому, возможен только для пожилых когорт. Помимо прямых путей, таких как улучшение здоровья пожилых или повышение пенсионного возраста, существует еще несколько менее очевидных мер, которые могли бы иметь более или менее значимый эффект: 1) организация специальных программ переподготовки, ориентированных на пожилых; 2) меры по стимулированию неполной занятости; 3) борьба с дискриминацией пожилых на рынке труда; 4) реструктуризация рабочих мест с целью облегчения физической нагрузки, возлагаемой ими на работников; 5) отказ от широко распространенной в развитых странах системы старшинства (seniority), когда работники с бо́льшим стажем получают высокую заработную плату независимо от их реальной производительности; 6) создание программ субсидированной занятости для пожилых. Каждая из этих мер имеет свои ограничения и побочные эффекты. При этом даже в лучшем случае они могут лишь частично компенсировать потери в занятости, связанные со старением населения. Поэтому перспектива резкого сокращения предложения труда представляется практически неизбежной.
Человеческий капитал. Старение населения создает возможности и стимулы для более активных инвестиций в человеческий капитал новых поколений. Во-первых, когда число детей в семьях сокращается, у родителей высвобождаются ресурсы (как денежные, так и временны́е), для того чтобы больше заботиться о каждом ребенке, вкладывая больший объем средств в его здоровье и образование. (Грубо говоря, чем меньше детей, тем больше здоровых и хорошо образованных детей.) Во-вторых, при снижающейся рождаемости государственные расходы на образование и здравоохранение начинают распределяться среди меньшего числа детей, что также открывает возможности для увеличения инвестиций в человеческий капитал в расчете на одного ребенка. Межстрановые сопоставления свидетельствуют о существовании устойчивой отрицательной связи (коэффициент корреляции –0,85) между общим коэффициентом фертильности и средним числом лет образования (оценка на основе данных за период 1970–2000 гг.) [Bloom, Luca, 2016]. В-третьих, увеличение ожидаемой продолжительности жизни (особенно за счет падения смертности в рабочих возрастах) значительно повышает экономическую привлекательность инвестиций в человеческий капитал, так как при этом возрастает срок, в течение которого инвестор может рассчитывать на получение от них отдачи. В-четвертых, падение реального процента (см. предыдущий подраздел) означает удешевление кредита и тем самым позволяет активнее инвестировать в человеческий капитал, используя заемные средства.
В то же время старение населения может дестимулировать вложения в человеческий капитал, если уменьшение численности рабочей силы побуждает государство увеличивать налоги на ФОТ, чтобы иметь возможность не сокращать размер пенсионных выплат. В таком случае «чистая» заработная плата, получаемая работниками «на руки», снижается, т. е. ожидаемая отдача от человеческого капитала становится меньше. Возникает также опасность острых межпоколенческих конфликтов из-за дележа бюджетного «пирога». В этом отношении интересы младших и старших поколений прямо противоположны: первые заинтересованы в том, чтобы государство направляло основную часть налоговых поступлений на финансирование вложений в человеческий капитал, вторые — на финансирование пенсий. С высокой степенью вероятности победителями в этой политической борьбе будут выходить пожилые, поскольку они станут составлять все бо́льшую (причем легче мобилизуемую), тогда как молодые — все меньшую часть электората. В рамках такого негативного сценария старение населения будет сопровождаться не увеличением, а сокращением инвестиций в человеческий капитал.
Однако последствия эйджинга могут из отрицательных становиться положительными, если на смену более многочисленным когортам менее производительных работников (с меньшими запасами человеческого капитала) приходят менее многочисленные когорты более производительных работников (с бо́льшими запасами человеческого капитала). Ключевая идея состоит в том, что качество труда может быть эффективным субститутом его количества: «Если небольшие когорты работников имеют высокие уровни человеческого капитала, потому что родители и/или налогоплательщики инвестировали много в каждого ребенка, то уровень жизни может расти, несмотря на, казалось бы, неблагоприятную возрастную структуру населения» [Lee, Mason, 2010]. Тогда практически все негативные эффекты эйджинга, которые обсуждались в предыдущем подразделе, поменяют знак. Душевое потребление даже при стареющем населении сможет поддерживаться на достаточно высоком уровне; капиталовооруженность труда уменьшится (если определять ее не как объем капитала в расчете на одного работника, а как объем капитала в расчете на единицу эффективного труда с учетом различий в его качестве); как следствие, капитал станет более редким фактором производства и отдача от него возрастет; падение цен на активы затормозится; сбережения перестанут быть «избыточными», так как их начнут поглощать инвестиции в человеческий капитал (соответственно, склонность к сбережениям повысится); коэффициенты экономической зависимости станут ниже; рост заработков у новых поколений облегчит проблемы финансирования пенсий для старых поколений, возникающие в рамках солидарных пенсионных систем [Lee, 2016].
Вопрос, на который ни у кого пока нет ответа, — насколько устойчивым и долговременным может быть этот положительный эффект, связанный с активизацией накопления человеческого капитала [Ibid.]. Исчерпается ли он за одно-два поколения или будет сохраняться постоянно? Ясно, что у развивающихся стран возможности здесь намного больше, поскольку и состояние здоровья, и уровни образования их населения еще недостаточно высоки. Труднее сказать, как этот компенсационный механизм может проявить себя в развитых странах. Показатели развития формального образования уже достигли в них настолько высоких значений, что близки к «точке насыщения». Возможности для их дальнейшего количественного наращивания представляются достаточно ограниченными, особенно если учесть, что это будет еще больше сокращать предложение труда, дополнительно задерживая выход молодых работников на рынок труда. В этих условиях наиболее перспективными формами вложений в человеческий капитал следовало бы, наверное, считать, во-первых, повышение качества формального образования и, во-вторых, расширение подготовки и повышения квалификации на рабочих местах.
Производительность труда. Как уже отмечалось, одним из базовых эффектов старения населения является повышение производительности труда, поскольку из-за сокращения численности рабочей силы на каждого работника будет приходиться больший объем капитала. Однако этот вывод получен при предположении, что способности людей не зависят от возраста. Но если с возрастом они ухудшаются, тогда эффект может быть прямо противоположным: чем больше в составе рабочей силы пожилых работников, тем ниже средняя производительность труда. В экономической литературе эта проблема рассматривается на нескольких уровнях — микро- (индивиды), мезо- (фирмы) и макро- (вся экономика), причем результаты анализа нередко различаются в зависимости от избранного ракурса.
Очевидно, что физиологический статус людей варьируется с возрастом. Считается, что пик формы достигается около 25 лет, после чего физические и когнитивные способности начинают ухудшаться [De Hek, Van Vuuren, 2011]. Однако разные способности могут меняться с возрастом по разным траекториям. Анализ показывает, что с течением времени некоторые из них (физическая сила, скорость мышления, память, способность решать проблемы, обучаемость) действительно ухудшаются, другие остаются стабильными (коммуникативные навыки), третьи могут даже улучшаться (вербальные навыки, надежность, дисциплинированность) [Skirbekk, 2004]. Это означает, что в разных профессиях соотношение между уровнями производительности труда пожилых и непожилых работников может сильно различаться в зависимости от того, какие именно навыки и способности в них востребованы.
Кроме того, способности далеко не единственный фактор, которым определяется продуктивность работников. Образование и опыт могут компенсировать возрастные ограничения в способностях, так что пожилые работники будут демонстрировать производственные результаты не хуже, чем непожилые[265]. Опять-таки в разных профессиях значимость этих факторов может быть неодинаковой.
Профессии, где с возрастом индивидуальная производительность убывает, представляют строительные и промышленные рабочие; профессии, где она не зависит от возраста, — банковские и торговые служащие, инженеры-электронщики; профессии, где она с возрастом повышается, — юристы, менеджеры, преподаватели, врачи [Veen, 2008]. Имеющиеся оценки показывают, что даже в странах Евросоюза до сих пор доминируют профессии первого типа, на долю которых там приходится около половины всех занятых [Ibid.]. Можно, однако, ожидать, что в ближайшие десятилетия доля таких «недружественных» по отношению к пожилым работникам профессий (требующих большой физической нагрузки) будет постепенно сокращаться.
Соотношение между производительностью пожилых и непожилых работников может колебаться в зависимости от требований, предъявляемых к их индивидуальным характеристикам новыми технологиями. С одной стороны, поскольку в современных условиях требования к физической силе работников снижаются, тогда как требования к их психологическим и социальным качествам повышаются, возрастной разрыв в показателях производительности должен сужаться. Производительность труда пожилых может быть выше из-за лучшего мэтчинга, поскольку в их распоряжении оказывается больше времени, в течение которого они могут найти наиболее подходящие для себя рабочие места. С другой стороны, поскольку при быстрых технологических сдвигах практический опыт становится менее ценным ресурсом, тогда как способность к усвоению новой информации — более ценным, возрастной разрыв в уровнях производительности должен, наоборот, увеличиваться. Производительность любого работника в немалой степени определяется тем, как давно им были получены знания и навыки, которыми он располагает. Под действием современного технологического прогресса накопленный человеческий капитал подвергается более быстрому моральному износу, что ставит пожилых работников со «старыми» знаниями и навыками в еще более невыгодное положение. В то же время стимулы к дополнительным вложениям в человеческий капитал (например, в форме переподготовки) оказываются у них гораздо слабее, чем у более молодых работников: процесс обучения связан для них с бо́льшими психологическими издержками, а срок, в течение которого нужно успеть окупить связанные с обучением расходы, у них намного короче[266]. Наконец, менее усердный труд может быть сознательным выбором самих работников предпенсионного и пенсионного возрастов. Все дело в том, что у них и у более молодых работников разные карьерные перспективы. В этом смысле бо́льшая мотивированность более молодых работников вполне объяснима. Они могут рассчитывать на внушительный выигрыш в будущем, когда начинают подавать работодателям позитивные сигналы в форме более интенсивного, продолжительного и прилежного труда. Это делает их более мотивированными и ориентированными на успех. В отличие от них пожилым работникам, завершающим карьеру, остается работать так недолго, что «перенапрягаться» на работе для них уже не имеет смысла.
Стандартные профили заработной платы по возрасту имеют форму перевернутой буквы U с пиком в 40–45 лет [Murphy, Welch, 1990], хотя многие новейшие исследования сдвигают его на более поздний срок — к 50–55 годам [Skirbekk, 2004; National Research Council, 2012]. В терминах производительности это означает, что она низка у тех, кто только вступает на рынок труда, растет по мере накопления опыта в течение нескольких следующих десятилетий (можно сказать, что в этот промежуток позитивный эффект большего опыта перевешивает негативный эффект ухудшающихся способностей); достигает пика приблизительно за 10–15 лет до окончания трудовой карьеры; наконец, начинает сильно и быстро снижаться в пожилом возрасте (доминирующим становится негативный эффект ухудшающихся способностей). Таким образом, профили заработной платы по возрасту позволяют, казалось бы, сделать вывод о явно более низкой производительности пожилых работников.
Однако здесь возникает несколько серьезных возражений [Lee, 2016]. Во-первых, стандартные профили заработной платы по возрасту смешивают возрастной и когортный эффекты: работники в возрасте 60–65 лет могут зарабатывать меньше, чем работники в возрасте 50–55 лет, не потому что они старше, а потому что они родились в другое время и принадлежат к другому поколению. Во-вторых, в случае пожилых работников мы сталкиваемся с очень сильным эффектом самоотбора в занятость. Когда пожилые работники начинают в массовом порядке покидать рынок труда, многое здесь будет зависеть от того, кто из них уходит с него раньше, а кто позже: те, у кого способности и производительность выше, или те, у кого они ниже. В первом случае стандартные оценки будут преувеличивать возрастной разрыв в заработной плате, во втором — преуменьшать его. Оба варианта равновероятны: более производительные пожилые работники могут отправляться на «заслуженный отдых» раньше, потому что успели накопить значительные активы; менее производительные могут отправляться на «заслуженный отдых» раньше по причине худшей физической формы. В-третьих, стандартные оценки исходят из предположения, что индивидуальные различия в заработках адекватно отражают индивидуальные различия в производительности. Но это не обязательно так. Для дисциплинирования своего персонала фирмы могут прибегать к неявным контрактам с отложенным вознаграждением, в рамках которых они «откладывают» часть оплаты работников на будущее, недоплачивая им в начальный период и переплачивая в более поздний. Соответственно, у молодых работников заработная плата будет ниже их производительности, тогда как у пожилых — выше. В таком случае пожилые работники будут казаться более производительными, чем они есть на самом деле. Наконец, если пожилые работники подвергаются дискриминации на рынке труда, то даже при равной производительности с более молодыми работниками они будут получать более низкую заработную плату.
Исследования, где вместо показателей заработков использовались прямые измерители индивидуальной производительности, свидетельствуют, что с возрастом она снижается меньше, чем обычно считается [Skirbekk, 2004]. Тем не менее даже скорректированные возрастные профили производительности действительно имеют форму перевернутой буквы U и их пик действительно приходится где-то на середину трудовой жизни работников (если у синих воротничков он достигается еще до 40 лет, то у белых воротничков с временны́м лагом, составляющим 15–20 лет). Общий вывод, который можно из этого сделать, состоит в том, что старение рабочей силы крайне слабо влияет на динамику производительности труда, почти не меняя ее средний уровень [Börsch-Supan, 2001; National Research Council, 2012]. Этот вывод подтверждается нашими прогнозными оценками для России. Согласно этим оценкам, изменения в возрастной структуре занятости, прогнозируемые для периода 2015–2030 гг., практически не отразятся на средней производительности работников, увеличив ее на незначимые 0,1 п.п. [Gimpelson, Kapeliushnikov, 2017].
Связь возраста с производительностью может анализироваться и на уровне отдельных фирм: как увеличение или уменьшение доли пожилых работников в численности персонала влияет на их рентабельность, объем продаж и т. д.? Эти исследования рисуют еще более благоприятную картину: хотя некоторые из них обнаруживают, что доля пожилых работников отрицательно связана с показателями деятельности фирм, другие демонстрируют положительную связь [Bloom, Sousa-Poza, 2013; Aiyar et al., 2016]. Но, по-видимому, наилучших результатов достигают не чисто «молодые» или чисто «пожилые» команды, а команды, в которых труд молодых в определенных пропорциях комбинируется с трудом пожилых [Lee, 2016]. Это не удивительно, если они действительно являются комплементарными факторами производства (см. выше).
Возможен также анализ на более агрегированных уровнях — отраслевом, региональном, национальном. Такой анализ особенно важен, если влияние старения на производительность труда не сводится к сугубо композиционным эффектам, связанным с уменьшением доли молодых и увеличением доли пожилых в численности рабочей силы. Нельзя исключить существования здесь экстернальных эффектов, когда разрастание численности пожилых работников начинает влиять — со знаком плюс или минус — на производительность труда других возрастных групп. Эконометрический анализ подтверждает, что такого рода экстернальные эффекты действительно имеют место и их значение чрезвычайно велико.
Так, в работе Николь Маэстас с соавторами на данных по отдельным штатам США за период 1980–2010 гг. было установлено, что при увеличении доли пожилых работников в численности занятых на 10 п.п. производительность труда во всех возрастных группах снижается в среднем на 3–5 п.п. [Maestas et al., 2016]. Механизмы столь мощного отрицательного влияния эйджинга не вполне ясны. Авторы указанной работы предполагают, что это может быть связано с более ранним уходом с рынка труда наиболее производительных пожилых работников. Уходя, они уносят с собой ценные навыки и опыт, которые обеспечивали их высокую производительность, — вместо того чтобы передавать их более молодым поколениям. В результате производительность труда в других возрастных группах начинает снижаться. Однако с этим предположением плохо согласуется тот факт, что дольше всех на рынке труда склонны задерживаться пожилые работники с высшим образованием, отличающиеся, как правило, более высокой производительностью. Более правдоподобно выглядит другая гипотеза, согласно которой, когда контингент пожилых работников очень велик, они начинают блокировать более молодым работникам доступ к высоким должностным позициям, которые занимают сами [Liang et al., 2014]. Это лишает следующие поколения ценного опыта и навыков, которые можно приобрести только находясь на этих позициях, отрицательно влияя и на их индивидуальную производительность, и на среднюю производительность во всей экономике. Наконец, возможно, что все дело в значительно меньших адаптивности и инновативности пожилых работников: замедляя темпы технологического прогресса, это будет тянуть вниз показатели производительности во всей экономике в целом [Feyrer, 2007].
Технологический прогресс. Вопрос о возможном влиянии старения населения на темпы технологического прогресса имеет огромное значение. Потенциальные негативные эффекты, обсуждавшиеся в предыдущем подразделе, предполагают переход экономики с более высокой на более низкую долговременную кривую экономического роста, но не обязательно подразумевают уменьшение угла наклона этой кривой [Lee, 2016]. Речь идет о неблагоприятном, но все-таки одномоментном сдвиге: при этом ничто не мешает темпам роста оставаться после этого перехода такими же высокими, как раньше. Ситуация будет иной, если эйджинг способен замедлять скорость технологического прогресса, меняя (в худшую сторону) угол наклона долговременной кривой экономического роста. Кумулятивные потери от этого могут кратно превышать издержки, связанные со «счетными» эффектами старения населения [Ibid.]. Даже небольшой откат в темпах роста ВВП будет обходиться обществу намного дороже.
Современные теории эндогенного экономического роста исходят из того, что его главным «мотором» являются новые идеи [Jones, 1995; 1999]. Но идеи создаются людьми (в современных обществах прежде всего теми, кто вовлечен в НИОКР). С этой точки зрения скорость технологического прогресса предстает как функция от численности населения и/или темпов его роста: чем оно многочисленнее и чем быстрее растет, тем больше потенциальных инноваторов и генерируемых ими новых идей[267]. Кроме того, новые прорывные идеи чаще рождаются в головах еще достаточно молодых людей: по мере сокращения когорт, вступающих или лишь недавно вступивших во взрослую жизнь, общество может становиться менее инновационным. Таким образом, замедляя рост населения и «вымывая» из его состава более молодые когорты, эйджинг может выступать серьезным тормозом на пути дальнейшего технологического прогресса [Feyrer, 2007].
Впрочем, все это справедливо лишь по отношению к странам, находящимся на фронтире технологического развития, таким как США, Япония, Германия и др. В отличие от них технологически отсталые страны имеют возможность успешно развиваться не столько за счет разработки новых идей, сколько за счет освоения уже имеющихся, выдвинутых ранее. Однако в настоящее время мы являемся свидетелями того, как на передний край технологического прогресса начинают постепенно выходить страны с гигантским по численности населением, такие как Индия или Китай. В обозримой перспективе подключение к НИОКР огромной массы достаточно молодых людей из этих стран способно ускорить темпы технологического прогресса, более чем компенсируя потери, связанные с сокращением численности и старением населения в развитых странах.
Однако возможное отрицательное влияние старения населения на технологический прогресс этим не исчерпывается. Пожилые не только реже генерируют новые идеи, но также медленнее осваивают новые идеи, выдвинутые другими: представители более молодых когорт обычно первыми начинают использовать новые технологии и новые продукты в своей производственной и потребительской практике [Feyrer, 2007]. Благодаря этому путь от появления новаций до их всеобщего применения сокращается, от чего выигрывает все общество. Отсюда опасность, что старение населения начнет снижать не только скорость, с которой генерируются научные, технические и организационные открытия и изобретения, но и скорость, с которой они распространяются. Этот отрицательный эффект эйджинга в равной мере касается как развитых, так и развивающихся стран. Эконометрические оценки показывают, что межстрановые различия в расходах на НИОКР положительно связаны с долей возрастной группы 40–49 лет и отрицательно — с долей более пожилых групп в общей численности населения [Aiyar et al., 2016; Jones, 2010].
В других версиях современной теории эндогенного экономического роста ключевым драйвером технологического прогресса признается человеческий капитал [Lucas, 1988; Romer, 1990]. Действительно, сегодня в мире генераторами новых прорывных идей чаще всего оказываются люди с высоким образованием. Они же первыми начинают осваивать новые технологии и новые продукты, показывая пример всем остальным. Это предполагает, что чем выше темпы накопления человеческого капитала, тем активнее генерируются новые, ранее не существовавшие знания и тем быстрее они распространяются затем по всему обществу [Капелюшников, 2008]. Поскольку же, как мы видели, сокращение рождаемости открывает возможности для наращивания инвестиций в человеческий капитал каждого ребенка, а увеличение ожидаемой продолжительности жизни усиливает стимулы к таким инвестициям, старение населения может сопровождаться не замедлением, а, напротив, ускорением технологического прогресса. Так будет происходить, если с точки зрения скорости генерирования новых идей человеческий капитал является более важным фактором, чем численность или возрастной состав населения [Prettner, 2013].
Однако старение населения может менять не только темпы, но также и направление технологического прогресса. В условиях сокращения предложения труда и роста заработной платы он, скорее всего, начнет смещаться в пользу трудосберегающих технологий (таких как робототехника). Одновременно логично ожидать его предметной переориентации: к примеру, старение населения будет давать сильные стимулы к разработке новых технологий в области медицинских услуг и услуг по уходу, поскольку спрос на них будет расти ускоренными темпами (в частности, в некоторых странах уже появились специализированные роботы, способные осуществлять уход за престарелыми).
Наконец, нельзя забывать, что «эйджинговое» торможение технологического прогресса может осуществляться через политические механизмы. Если пожилые более консервативны и меньше расположены к тому, чтобы экспериментировать со стилем жизни, они будут опасаться любых перемен, в том числе и связанных с появлением новых технологий. Это, естественно, должно отражаться на их политических установках и предпочтениях. Поэтому нельзя исключить, что доминирование пожилого электората рано или поздно будет оборачиваться сокращением государственных расходов на образование и науку.
Одна из главных причин, почему пожилые работники могут быть инновационно пассивнее, чем молодые или зрелые, связана с тем, что у них гораздо выше аверсия к риску. Можно считать твердо установленным фактом, что c возрастом готовность людей рисковать монотонно снижается [Dohmen et al., 2017]. Соответственно, чем старше человек, тем меньше его склонность к участию в рискованных проектах, даже если в случае успеха они сулят огромный выигрыш. Иными словами, увеличение доли пожилых практически неизбежно подрывает предпринимательский потенциал экономики. Но чем меньше рискованных проектов, базирующихся на новых идеях, тем ниже спрос на инвестиции, тем меньше нововведений и тем медленнее темпы технологического прогресса. Более низкая инновативность пожилых может быть связана также и с тем, что они медленнее приспосабливаются к новым условиям и менее креативны при решении новых проблем [Skirbekk, 2004].
Данные по патентной активности в США показывают, что она быстро повышается с 30–35 лет, достигает пика примерно в 45 лет и резко падает после 50 лет [Jones, 2010]. Скорость освоения новых идей тоже оказывается отрицательно связана с возрастом. Как продемонстрировали Дарон Аджемоглу с соавторами, среди топ-менеждеров американских корпораций более молодые намного чаще внедряют радикальные инновации, чем более пожилые [Acemoglu et al., 2014].
Сможет ли дальнейший рост образования населения компенсировать эти отрицательные воздействия на темпы будущего технологического прогресса? Сказать трудно, но нам все же представляется более вероятным, что старение населения будет сопровождаться достаточно серьезными потерями в инновационности, динамизме и предпринимательском духе современных экономик. Этот вывод согласуется с имеющимися эконометрическими оценками. Например, в странах зоны евро увеличение доли пожилой рабочей силы (55+) на 1 п.п. в 1995–2015 гг. снижало годовые темпы прироста совокупной факторной производительность на 0,1 п.п., а в 2015–2035 гг., по прогнозам, будет снижать еще сильнее — на 0,2 п.п. [Aiyar et al., 2016]. С учетом того, что прогнозные оценки темпов прироста душевого ВВП в зоне евро составляют для этого периода менее 1 %, это означает, что старением населения в этом регионе будет «съедена» примерно четверть ожидаемого экономического роста.
Сбережения. Как уже говорилось, сберегательное поведение меняется с возрастом. В молодости большинство людей мало зарабатывают и поэтому активно привлекают заемные средства; в среднем возрасте, когда заработки становятся высокими, они начинают погашать ранее сделанные долги и копить на старость; в старости, когда трудовые доходы падают до нуля, они приступают к «проеданию» накопленных ранее сбережений, превращаясь в чистых «расточителей» (dissavers). Считается, что основной побудительной причиной, заставляющей индивидов делать сбережения, является их желание сгладить, насколько это возможно, колебания в уровнях потребления на разных стадиях жизненного цикла. Другие возможные мотивы — желание иметь страховку на случай наступления непредвиденных событий (скажем, на случай резкого удорожания в период старости стоимости медицинских услуг), а также желание оставить потомкам наследство. Среди современных исследователей ведутся острые дискуссии о том, какие из этих факторов более, а какие менее важны.
Отсюда ясно, что старение населения должно сильно «ронять» норму сбережений, поскольку главных сберегателей (лиц в рабочих возрастах) становится все меньше, тогда как главных «расточителей» (лиц пожилого возраста) — все больше. Это «счетный» эффект, который обсуждался в предыдущем подразделе. Ему противостоит «поведенческий» эффект, связанный с тем, что увеличение продолжительности того отрезка жизни, который людям предстоит провести в старости, не имея трудовых доходов, должно подталкивать их, напротив, к бо́льшим сбережениям в рабочих возрастах. Результат наложения двух этих трендов может быть различным, однако, как правило, доминирующим оказывается первый.
Одним из возможных возражений против этого вывода может служить то, что в реальности пожилые люди, как правило, очень далеки от того, чтобы становиться в старости агрессивными «расточителями». На данных по США было показано, что даже к 75 годам индивиды сохраняют примерно 75 % запаса активов, накопленного ими к моменту выхода на пенсию [From Red to Gray, 2007]. Однако даже если они «проедают» лишь меньшую часть своих накоплений, оставляя бо́льшую их часть потомкам в виде наследств, это все равно должно отрицательно влиять на норму сбережений: тогда сберегательная активность начнет снижаться — из-за получаемых наследств — у последующих поколений. К тому же увеличение ожидаемой продолжительности жизни может оказаться бессильным в качестве триггера, подталкивающего к более активным сбережениям, если индивиды, привыкшие действовать в рамках солидарных пенсионных систем, будут полагаться на социальные трансферты в качестве главного источника средств для содержания себя в старости. Более того, если государство, чтобы удержать эти системы на плаву, решит повысить налоги на фонд оплаты труда, склонность к сбережениям упадет еще сильнее.
Разрастание другой группы экономически зависимого населения — самых молодых, которая точно так же получает значительные социальные трансферты от государства, — должно иметь аналогичный эффект. Однако, как показывает анализ, влияние пожилых оказывается в этом отношении намного сильнее, чем молодых: при повышении на 1 п.п. коэффициента зависимости молодых норма сбережений снижается на 0,3 п.п., тогда как при повышении на 1 п.п. коэффициента зависимости пожилых — на 0,6 п.п. [Loayza et al., 2000]. Другие исследования выводят на еще более высокие показатели: так, согласно подсчетам экспертов Всемирного банка, повышение на 1 п.п. коэффициента зависимости пожилых сопровождается падением нормы сбережений на целых 1,16 п.п. [From Red to Gray, 2007].
Еще одним прогнозируемым последствием старения населения, вызывающим серьезные опасения, является так называемое обрушение цен на активы (asset meltdown). Как уже упоминалось, можно ожидать, что после выхода на пенсию многочисленных пожилых когорт (например, бэби-бумеров в США) они начнут распродавать накопленные ими ранее активы (акции, недвижимость и т. д.). Поскольку в условиях эйджинга численность продавцов этих активов окажется наверняка намного больше численности их покупателей, цены на них могут действительно обрушиться. Такое обвальное обесценение накопленного богатства будет означать фактическое обеднение всего общества.
Кроме того, что старение населения будет подрывать спрос на активы, оно может также менять его структуру. Известно, что разные возрастные группы отдают предпочтение разным инвестиционным портфелям, поскольку у пожилых аверсия к риску намного выше, чем у непожилых (см. выше). Естественно ожидать, что после выхода на пенсию пожилые начнут в массовом порядке переводить свои активы из более рискованных форм в менее рискованные — скажем, избавляться от акций, переключаясь на облигации. Данные по США показывают, что вероятность владения акциями действительно монотонно возрастает до 59 лет, а затем начинает быстро снижаться [Ibid.]. Сочетание всплеска в предложении акций со всплеском в спросе на облигации приведет к тому, что цены на первые упадут, а на вторые — вырастут. Эконометрические оценки возможного снижения курса акций в развитых странах под влиянием эйджинга (более конкретно — при переориентации портфеля ценных бумаг пенсионных фондов с акций на облигации) варьируются в диапазоне от 1 до 15 % [Ibid.].
Тем не менее большинство исследователей считают сценарий обрушения цен на активы вследствие старения населения практически невероятным. Они обращают внимание на то, что старение — чрезвычайно медленный процесс, который участники фондового рынка могут предвидеть заранее. Поэтому ожидаемые последствия этого процесса (например, распродажа акций бэби-бумерами) должны быть учтены в стоимости ценных бумаг уже сейчас. Большинство эмпирических исследований подтверждает, что старение населения не оказывает на курс акций практически никакого влияния [Lee, 2016].
Как уже отмечалось (см. предыдущий подраздел), в условиях старения населения мы можем ожидать резкого сокращения не только сбережений, но и инвестиций. Рост капиталовооруженности ведет к падению отдачи от капитала, что неизбежно подрывает стимулы к его накоплению. Эти стимулы еще более ослабевают, когда акции начинают резко терять в цене из-за того, что многочисленные когорты пожилых приступают к их активной распродаже. В этом смысле общества со стареющим населением можно охарактеризовать как дезинвестирующие[268].
Реальный процент и перспектива «вековой стагнации». Вопрос о влиянии старения населения на динамику реального процента не имеет однозначного ответа, потому что оно, как было показано выше, ведет к снижению как желаемых сбережений, так и желаемых инвестиций. Если желаемые сбережения упадут сильнее желаемых инвестиций, реальный процент начнет повышаться; если соотношение окажется обратным — понижаться.
Как отмечалось в предыдущем подразделе, наиболее вероятным результатом старения населения является рост капиталовооруженности труда, за которым следует падение отдачи от капитала. Тем самым неявно предполагается, что сбережения сократятся не так сильно, как инвестиции, так что реальный процент установится на более низком равновесном уровне. При определенных условиях равновесная норма реального процента может настолько далеко уйти в область отрицательных значений, что породит огромный разрыв между желаемыми сбережениями и желаемыми инвестициям. Отсюда — опасения «вековой стагнации», т. е. долговременного падения темпов экономического роста практически до нуля.
Идея «вековой стагнации» была впервые выдвинута в 1930-е годы в одной из работ Джона Мейнарда Кейнса [Keynes, 1937] и тогда же популяризована Элвином Хансеном, которому принадлежит сам этот термин [Hansen, 1939]. Вскоре она была прочно и надолго забыта, но после Великой рецессии 2008–2009 гг., когда развитые страны начали демонстрировать беспрецедентно вялые по историческим меркам темпы роста, интерес к ней возродился [Summers, 2013; 2014; Teulings, Baldwin, 2014]. Суть этой идеи, как она была сформулирована Кейнсом, состоит в том, что замедление роста населения должно подрывать спрос на капитал (поскольку для оснащения меньшего числа работников необходимыми средствами производства его будет требоваться все меньше и меньше). Но чем меньше инвестиций, тем медленнее долговременные темпы роста.
В современных дискуссиях «вековую стагнацию» чаще всего связывают с ситуацией, когда равенство между сбережениями и инвестициями, необходимое для обеспечения полной занятости, достигается только при отрицательной естественной (равновесной) норме процента [Капелюшников, 2015]. Старение населения и замедление его роста могут подталкивать к ней, если под их влиянием предложение сбережений сокращается незначительно (или не сокращается вообще), тогда как спрос на инвестиции уходит в пике. Но если в результате этого естественная норма процента опустится настолько сильно, что перейдет в зону отрицательных значений, то исправить ситуацию с помощью традиционного инструментария денежной политики окажется невозможно. Связано это с тем, что у номинальных ставок процента существует ограничение снизу в виде нулевого уровня. Как следствие, они не могут принимать отрицательных (по крайней мере, сильно отрицательных) значений: когда они достигают нулевой отметки, их уже чисто технически почти невозможно снижать дальше[269]. В подобной ситуации фактическая норма реального процента будет устойчиво превышать его естественную норму и экономика окажется в перманентном состоянии неполной занятости ресурсов со всеми вытекающими отсюда последствиями (в том числе для темпов экономического роста).
Есть несколько причин, почему при замедлении роста населения спрос на сбережения (т. е. инвестиции) может сокращаться намного сильнее, чем их предложение [Там же]. Во-первых, чем медленнее растет население, тем ниже становятся ожидаемые темпы прироста как ВВП, так и совокупного потребления. Соответственно, рынок, на котором могла бы найти покупателей продукция, произведенная в рамках новых инвестиционных проектов, сужается. Во-вторых, рост заработной платы и снижение отдачи от капитала (см. предыдущий подраздел) будут делать инвестиции намного менее привлекательными. При снижении предельной производительности капитала становится труднее изыскивать инвестиционные возможности, которые приносили бы достаточно высокую прибыль. В-третьих, старение населения будет порождать серьезные изменения в структуре потребительского спроса. Естественно ожидать, что в условиях эйджинга опережающими темпами станет расти спрос на медицинские услуги и услуги по уходу, но так как эти виды деятельности характеризуются относительно невысокой капиталоемкостью, смещение потребительского спроса в их пользу будет еще сильнее подтачивать потребности экономики в дополнительном капитале. И все это — на фоне предполагаемого общего падения спроса на инвестиции в связи с развитием ИКТ, которые, как считается, гораздо менее капиталоемки по сравнению с предшествующими типами технологий.
Итак, спрос на инвестиции со стороны фирм может снижаться, так как: 1) чем медленнее растет население, тем меньше ожидаемый будущий спрос на потребительские товары; 2) чем выше капиталоемкость, тем ниже отдача от капитала; 3) чем меньше предложение труда, тем выше его цена; 4) чем медленнее растет численность занятых, тем меньше потребность в дополнительном капитальном оборудовании для их оснащения им; 5) чем старее население, тем выше спрос на некапиталоемкие виды услуг.
В то же время спрос со стороны индивидов на активы, необходимые для поддержания приемлемого уровня потребления в старости из-за непрерывно увеличивающейся ожидаемой продолжительности жизни «на пенсии», может снижаться незначительно или не снижаться вообще. В современной мировой экономике к этому добавляется огромный приток сбережений, идущий из развивающихся стран в развитые. Это расхождение в спросе и предложении сбережений может оказать настолько сильное понижательное давление на естественную норму процента, что она уйдет далеко вниз, в зону отрицательных значений, загоняя экономику в ловушку «вековой стагнации».
Что может помешать событиям развиваться по этому сценарию? Прежде всего повышение пенсионного возраста [Lee, 2016]. Увеличивая предложение труда, оно будет дестимулировать предложение сбережений (из-за укорочения периода жизни индивидов в статусе пенсионеров) и одновременно стимулировать спрос на них, поскольку, для того чтобы оснастить оборудованием большее число работников, потребуется больше капитала. Как ни странно, другой возможный вариант— увеличение пенсионных выплат в рамках солидарных пенсионных систем, поскольку возросшие пенсионные выплаты сделают какую-то часть сбережений индивидов излишней. И то и другое будет способствовать повышению естественной нормы процента.
Однако тезис о скатывании экономик развитых стран к сильно отрицательной естественной норме процента (–4 % или даже ниже) остается в значительной мере гипотетическим. Заметное ускорение в последние годы темпов экономического роста в этих странах ставит его, на наш взгляд, под большое сомнение. Более того, в последнее время стали появляться работы, из которых вырисовывается картина, прямо противоположная той, на которой настаивают сторонники концепции вековой стагнации. В них доказывается, что в условиях старения населения сбережения будут сокращаться сильнее, чем инвестиции, так что в ближайшие десятилетия следует ожидать не снижения, а, скорее, повышения естественной нормы процента [Juselius, Takats, 2016; 2018; Goodhart, Pradhan, 2017].
Ожидания обвального падения инвестиций под влиянием эйджинга могут оказаться преувеличенными по нескольким причинам. Так, спрос на активы в виде жилья не снизится, если даже в преклонных годах пожилые будут предпочитать оставаться в собственных домах, а не переезжать для совместного проживания к детям. В условиях эйджинга капитал станет менее редким и, значит, менее дорогостоящим фактором производства, стимулируя тем самым корпоративный сектор к более активным инвестициям. Удорожание рабочей силы активизирует инвестиции в трудосберегающие технологии. Накопление человеческого капитала будет способствовать повышению отдачи от физического капитала, делая вложения в него более привлекательными. Наконец, не очевидно также, что представления о низкой капиталоемкости современных медицинских технологий соответствуют реальности.
В то же время предложение сбережений под воздействием эйджинга может сократиться намного сильнее, чем предполагают сторонники концепции вековой стагнации. В условиях старения населения контингент «сберегателей» резко сожмется, тогда как контингент «расточителей» расширится (см. выше). Солидарные пенсионные системы приучили индивидов к тому, чтобы считать главным источником средств обеспечения себя в старости не собственные сбережения, а социальные трансферты, предоставляемые государством. Поэтому на увеличение продолжительности той части жизни, которую им предстоит проводить на «заслуженном отдыхе», они вполне способны ответить практически нулевым приростом сбережений[270]. Потребность в сбережениях будет заметно ниже, если пожилые (что более чем вероятно) станут дольше задерживаться на рынке труда — как по причине лучшего физического состояния, так и по причине постепенного повышения официальной планки пенсионного возраста. Наконец, в ближайшей перспективе следует ожидать постепенного иссякания главного источника сбережений, который на протяжении нескольких последних десятилетий подпитывал мировую экономику: речь идет об уменьшении их потока, шедшего из Китая. Но если сбережения снизятся сильнее, чем инвестиции, то это даст толчок к повышению реального процента.
Таким образом, вопрос о влиянии эйджинга на норму реального процента остается в значительной степени открытым. То, какой сценарий в конечном счете будет реализован — с ее постепенным повышением или ее дальнейшим снижением, — во многом определит траекторию развития мировой экономики в ближайшие десятилетия.
Инфляция. По вопросу о возможном влиянии эйджинга на инфляцию среди исследователей также нет единства. Опыт Японии, где в 1990-х годах старение населения шло на фоне сверхнизкой инфляции, переходившей временами в дефляцию, заставлял многих предполагать, что эффект эйджинга должен быть дефляционным [Yoon et al., 2014]. В этом контексте указывалось на действие нескольких возможных механизмов. Главный из них — замедление самого экономического роста, способное, как считается, оказывать на темпы инфляции сильное понижательное давление. Выход на пенсию многочисленных пожилых когорт может спровоцировать «обвал цен на активы (см. об этом выше): так, в Японии старение населения сопровождалось резким снижением цен на землю» [Ibid.]. В этом же направлении могут действовать изменения в структуре потребительского спроса, если у пожилых она сильнее смещена в пользу товаров и услуг, цены на которые растут медленнее.
Наконец, нельзя сбрасывать со счетов политико-экономические факторы. Реакция на инфляцию у молодых и пожилых может сильно различаться. Если молодые, находясь на ранних стадиях жизненного цикла, чаще выступают в роли заемщиков и, следовательно, оказываются заинтересованы в высокой инфляции, то пожилые, находясь на поздних стадиях жизненного цикла, чаще выступают в роли заимодавцев и, следовательно, оказываются заинтересованы в низкой инфляции [Juselius, Takats, 2018]. Если это так, тогда политика, проводимая денежными властями, окажется под сильным дезинфляционным давлением, которое станет исходить от многочисленного стареющего электората. Это может служить еще одним аргументом в пользу того, чтобы ожидать в условиях эйджинга поддержания низких темпов инфляции.
Некоторые ранние эмпирические исследования действительно приходили к выводу о дефляционных последствиях старения населения: чем выше доля пожилых, тем ниже при прочих равных условиях наблюдаемые темпы инфляции [Yoon et al., 2014]. Однако в более поздних работах этот вывод был поставлен под серьезное сомнение. Было показано, что он стал возможен только благодаря некорректной спецификации оцениваемых моделей, когда в них учитывались не все составляющие возрастной структуры населения, а только некоторые из них (скажем, доля населения 65+ включалась в состав регрессоров, а доля населения 0–19 не включалась). При более корректном подходе результат оказывается прямо противоположным: старение населения способствует не торможению, а, напротив, разгону инфляции [Juselius, Takats, 2018][271]. Подсчитано, что, например, в США из кумулятивного снижения инфляции, произошедшего за период 1955–2014 гг., 6,5 п.п. было обеспечено сугубо демографическими факторами [Goodhart, Pradhan, 2017].
Но как в таком случае можно объяснить тот факт, что в развитых странах инфляция продолжает оставаться чрезвычайно низкой? Все дело в том, что положительная связь прослеживается у нее с относительными размерами всех групп зависимого населения — не только пожилыми, но и молодыми. До настоящего времени дефляционный эффект от сокращения доли молодых перевешивал инфляционный эффект от увеличения доли пожилых, чем и обеспечивалось сохранение низких темпов роста цен. Однако уже в ближайшие десятилетия ситуация может измениться, так как ведущим фактором станет инфляционное давление, которое будет исходить от дальнейшего увеличения доли пожилого населения.
С действием каких механизмов может быть связан этот эффект? В отличие от экономически независимых групп, которые выступают одновременно в качестве и производителей, и потребителей, экономически зависимые группы являются чистыми потребителями — именно это делает их потенциальным источником инфляционного давления. Наиболее вероятным эффектом старения населения является снижение сбережений (см. предыдущий подраздел). Если из-за этого они оказываются недостаточными, чтобы профинансировать потребление растущего контингента пожилых, то единственным способом покрытия возникшего разрыва становится повышение налогов на фонд оплаты труда. Однако маловероятно, чтобы работники остались равнодушными к такому неблагоприятному для них повороту событий. В условиях старения населения труд становится более редким и более дорогостоящим фактором. Пользуясь своей сильной переговорной позицией, работники, скорее всего, начнут требовать повышения заработной платы, что будет вести к ускорению инфляции.
В конечном счете инфляционность или дефляционность старения населения будет, по-видимому, определяться тем, по какому пути пойдет реформирование солидарных пенсионных систем. В сценарии с сохранением щедрых пенсионных выплат за счет повышения налогов на фонд оплаты труда эффект, скорее всего, будет инфляционным; в сценарии с сокращением пенсионных выплат при неповышении налогов на фонд оплаты труда — скорее всего, дефляционным[272]. Можно согласиться с выводом, который делают Микаэль Юзелиус и Элод Такаш, что механизмы влияния старения населения на инфляционные процессы остаются до сих пор в значительной мере «загадкой» [Juselius, Takats, 2018][273].
В табл. XVI.2 приводятся эконометрические оценки влияния, которое различные демографические группы оказывают на ключевые макроэкономические переменные [Aksoy et al., 2015]. Получены они для выборки из 21 развитой страны за период 1990–2007 гг. Из этих оценок следует, что группы экономически зависимого населения — как молодые, так и пожилые — чаще всего оказывают на ключевые макроэкономические переменные влияние, противоположное тому, какое оказывает на них экономически независимое население. Так, мы видим, что чем выше доля пожилых, тем медленнее экономический рост: каждый процентный пункт ее увеличения сопровождается падением ежегодных темпов прироста ВВП на 0,14 п.п. Едва ли удивительно, что увеличение доли как молодых, так и пожилых в общей численности населения оборачивается резким сокращением количества отработанных человеко-часов. Помимо этого, старение населения резко отрицательно влияет как на инвестиции, так и на личные сбережения, причем во втором случае эффект оказывается намного сильнее. Отсюда следует, что в условиях эйджинга реальный процент должен не снижаться, а, наоборот, повышаться. Наконец, если говорить об инфляции, разрастание экономически зависимых групп способствует ее разгону. Только в этом случае давление, исходящее от молодых, оказывается существенно сильнее, чем давление, исходящее от пожилых. Это может служить возможным объяснением, почему, несмотря на быстрое старение населения развитых стран, инфляция в них до сих пор остается очень низкой.
Таблица XVI.2
Экономические эффекты демографических сдвигов: изменения макроэкономических переменных при увеличении на 1 п.п. доли различных когорт в общей численности населения, п.п.
Источник: [Aksoy et al., 2015].
Заключение
Старение населения представляет собой последнюю стадию процесса демографического перехода. «Общества стариков» — та реальность, в которой начиная со следующего века, по-видимому, предстоит жить всему человечеству. В одних странах старение населения идет уже давно, в других — только начинает набирать обороты. Тем не менее все они еще очень далеки от предполагаемой финальной точки процесса демографического перехода — «окончательно» состарившегося общества со стационарной численностью населения и высокой долей пожилых. Хотя в развитых странах старение населения началось значительно раньше, в развивающихся оно идет в настоящее время намного более высокими темпами и по этой причине, скорее всего, будет порождать гораздо более серьезные препятствия на пути экономического роста. Никаких чудодейственных политических рецептов, которые могли бы обратить процесс старения населения вспять или хотя бы резко его затормозить, не существует.
На фоне других стран будущая демографическая ситуация в России выглядит, по прогнозам, как одна из самых благополучных. Как ожидается, процесс старения ее населения остановится примерно в середине нынешнего столетия, так что к концу XXI в. она будет иметь едва ли не самые низкие показатели демографической зависимости среди всех крупных экономик мира. Конечно, в ближайшие несколько десятилетий соотношение между экономически зависимым и экономически независимым населением неизбежно и достаточно сильно ухудшится, но это ухудшение, как можно предполагать, будет менее значительным, чем в большинстве других стран, и гораздо менее драматичным, чем опасаются многие российские экономисты и политики. На это, в частности, указывают альтернативные показатели зависимости/поддержки, дающие более точные и адекватные оценки экономического бремени, которое неработающая часть населения возлагает на работающую часть, по сравнению с общепринятыми стандартными показателями.
Ключевые драйверы экономического роста — предложение труда, производительность, инвестиции и сбережения — сильно варьируются в зависимости от того, на какой стадии жизненного цикла находится большинство населения страны. Когда доля пожилого населения становится высокой или сверхвысокой, это может становиться серьезным тормозом для экономического роста. Главный вызов, с которым сталкиваются экономики в условиях старения населения, — это, конечно, резкое сокращение предложения труда. При сильном «обмелении» трудовых ресурсов соотношение между незанятым и занятым населением начинает ухудшаться, автоматически вызывая замедление темпов роста душевого ВВП и душевого потребления. Однако эйджинг влияет не только на предложение труда, но и на многие другие макроэкономические переменные, причем далеко не всегда со знаком минус. К тому же было бы абсурдно предполагать, что рациональные экономические агенты будут оставаться безучастными к изменениям демографической среды и никак не отреагируют на новую ситуацию, возникающую в условиях старения населения. Изменения в их трудовом, образовательном, потребительском, сберегательном и инвестиционном поведении способны нейтрализовать если не все, то бо́льшую часть потенциальных негативных экономических эффектов, порождаемых эйджингом.
Из анализа взаимодействий между старением населения и экономикой на микро- и макроуровнях следуют несколько общих выводов. Первый: само по себе старение населения не представляет фундаментальной экономической проблемы, угрожающей благосостоянию общества. Есть определенная ирония в том, что если на протяжении всей истории человечества возможность трудиться меньше рассматривалась как безусловное благо, то теперь она почти повсеместно рассматривается как нечто вредоносное и опасное [Eggleston, Fuchs, 2012]. Второй: если здесь и возникают серьезные трудности, то связаны они не столько со старением как таковым, сколько с необходимостью приспособления к новым демографическим реалиям. Если адаптация окажется успешной, темпы экономического роста смогут оставаться по-прежнему достаточно высокими. Третий: реальные угрозы для экономики исходят не от собственно старения населения, а от сложившихся институтов поддержки пожилых, созданных в начале — середине XX в. в совершенно иных демографических и экономических условиях без учета долговременных проблем, которые они способны породить. Философия, которой руководствовались идеологи и конструкторы этих институтов, хорошо описывается известным высказыванием Кейнса: «В долгосрочном периоде все мы будем покойниками». А если так, то зачем задумываться и уж тем более заботиться о возможных долговременных последствиях каких бы то ни было институциональных нововведений? Голоса тех, кто предупреждал о неотвратимости масштабного кризиса государств благосостояния, не были услышаны. Эксперты с большим опозданием осознали, в какую институциональную ловушку были заведены современные экономики, а большинство политиков не осознали этого до сих пор.
Если в прежние времена главным каналом, через который осуществлялась поддержка пожилых, были семьи, то теперь им стало государство. По справедливому замечанию Виктора Фьюкса, «проблема старения населения — это по большей части производное от косных и устаревших институтов и политик, а вовсе не от демографического перехода как такового» [Eggleston, Fuchs, 2012, p. 152]. Очевидно, что связь между старением населения и экономикой опосредуется институтами. К ситуации с высокой и непрерывно растущей долей пожилых должны подстраиваться пенсионная система, налоговая система, система здравоохранения, институты рынка труда и рынка капитала. Но политическая санкция на такую крупномасштабную подстройку должна исходить от стареющего электората, чьи интересы и предпочтения могут радикально отличаться от интересов и предпочтений более молодых избирателей [Bloom et al., 2011].
Сегодня главным дестимулятором предложения труда выступают пенсионные системы, а главные надежды по демпфированию негативных последствий эйджинга оказываются связаны с перспективой улучшения здоровья пожилых и активизацией накопления человеческого капитала. Разные страны имеют сильно различающиеся культурные ценности и институциональные структуры, так что и экономические эффекты эйджинга неизбежно будут в них сильно различаться. В одних странах пожилые продолжают трудиться, в других — рано уходят на пенсию; в одних они долго сохраняют дееспособность, в других — рано ее теряют; в одних главным источником доходов пожилых выступают семьи, в других — государство, в третьих — ранее накопленные ими самими активы; в одних пожилые потребляют больше, чем молодые, в других — столько же или даже меньше. Очевидно, что старение должно порождать гораздо меньше проблем там, где зависимость пожилых от трансфертов, поступающих к ним от более молодых поколений, не слишком велика. Поэтому если накопительные и частные пенсионные системы хотя бы частично ослабляют эффекты институциональной ловушки, в которой оказались современные экономики, то солидарные системы их многократно усиливают. Изобретение солидарных пенсионных систем сыграло злую шутку, резко увеличив экономическую зависимость пожилых и превратив эту зависимость в глубоко укоренившуюся социальную норму. Именно существование солидарных пенсионных систем, а не феномен старения населения как таковой, послужило источником множества трудно разрешимых (если вообще разрешимых) проблем. Они вносят настолько сильные искажения во все звенья экономической системы, что перестройка трудового, образовательного, потребительского, сберегательного и инвестиционного поведения индивидов, которой требует старение населения, оказывается практически заблокированной.
К сожалению, отказ от солидарных пенсионных систем, изначально строившихся по принципу финансовых пирамид, и замена их альтернативными конструкциями, в которых в определенных пропорциях сочетались бы элементы накопительных и частных пенсионных схем, затруднены тем, что в переходный период обществу пришлось бы нести двойную нагрузку, связанную с одновременным финансированием (прямым или косвенным) как первых, так и вторых[274]. Как можно с минимальными потерями выбраться из этой институциональной ловушки, пока не ясно. Остается лишь надеяться, что выход из нее не будет сопровождаться масштабными финансовыми и/или политическими потрясениями.
Литература
Вишневский А. Г. Демографическая революция // Вишневский А. Г. Избранные демографические труды: в 2 т. Т. 1. М.: Наука, 2005. С. 5–214.
Демографическая модернизация России, 1900–2000 / под ред. А. Г. Вишневского. М.: Новое издательство, 2006.
Иванова М., Балаев А., Гурвич Е. Повышение пенсионного возраста и рынок труда // Вопросы экономики. 2017. № 3. С. 22–39.
Капелюшников Р. И. Идея «вековой стагнации»: три версии // Вопросы экономики. 2015. № 5. С. 104–133.
Капелюшников Р. И. Записка об отечественном человеческом капитале / Препринт WP3/2008/01. Сер. WP3. Проблемы рынка труда. М.: ГУ ВШЭ, 2008.
Ляшок В. Ю., Рощин С. Ю. Молодые и пожилые работники на российском рынке труда: субституты или нет? / Препринт WP15/2016/03. Сер. WP15. Научные труды Лаборатории исследований рынка труда. М.: НИУ ВШЭ, 2016.
Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения / под общ. ред. В. Е. Гимпельсона, Р. И. Капелюшникова, С. Ю. Рощина. М.: ЦСР, 2017.
Синявская О. В. Российская пенсионная система в контексте демографических вызовов и ограничений // Экономический журнал ВШЭ. 2017. Т. 21. № 4. С. 562–591.
Acemoglu D., Akcigit U., Celik M. A. Young, Restless and Creative: Openness to Disruption and Creative Innovations / NBER Working Paper. No. 19894. Cambridge, MА: NBER, 2014.
Aiyar Sh., Ebeke Ch., Shao X. The Impact of Workforce Aging on European Productivity / IMF Working Paper. WP16/238. Washington: IMF. 2016.
Aksoy Y., Basso H. S., Smith P. R. et al. Demographic Structure and Macroeconomic Trends / Documentos de Trabaja. No. 1528. Madrid: Banco de España, 2015.
Becker G. S. A Treatise on the Family. Chicago: Chicago University Press, 1981.
Bloom D. E., Canning D., Fink G. Implications of Population Aging for Economic Growth / NBER Working Paper. No. 16705. Cambridge, MА: NBER, 2011.
Bloom D. E., Luca D. L. The Global Demography of Aging: Facts, Explanations, Future // Handbook of the Economics of Population Aging. Vol. 1A. Amsterdam: Elsevier, 2016. P. 3–56.
Bloom D. E., Sousa-Poza A. Ageing and Productivity: Introduction / IZA Discussion Papers. No. 7205. Bonn: IZA, 2013.
Börsch-Supan A. Labor Market Effects of Population Aging / NBER Working Paper. No. 8640. Cambridge, MА: NBER, 2001.
Börsch-Supan A. Demographic Change, Saving and Asset Prices: Theory and Evidence // Demography and Financial Markets / ed. by C. Kent, A. Park, D. Rees. Melbourne: Australian Government, The Treasury, Reserve Bank of Australia, 2006.
Börsch-Supan A. H. Entitlement Reforms in Europe Policy Mixes in the Current Pension Reform Process // Fiscal Policy After the Financial Crisis / ed. by A. Alesina, F. Giavazzi. Chicago: University of Chicago Press, 2013.
Cutler D. M., Poterba J., Sheiner L. M. et al. H. An Aging Society: Opportunity or Challenge? // Brookings Papers on Economic Activity. 1990. No. 1. P. 1–73.
De Hek P., Van Vuuren D. Are Older Workers Overpaid? A Literature Review // International Tax and Public Finance. 2011. Vol. 18. No. 4. P. 436–460.
Dixon S. Implications of Population Ageing for the Labour Market // Labour Market Trends. 2003. No. 2. P. 67–76.
Dohmen Th., Falk A., Golsteyn B. H. et al. Risk Attitudes Across the Life Course // Economic Journal. 2017. Vol. 127. No. 605. P. 95–116.
Eggleston K. N., Fuchs V. R. The New Demographic Transition: Most Gains in Life Expectancy Now Realized Late in Life // Journal of Economic Perspectives. 2012. Vol. 26. No. 3. P. 137–156.
Elmendorf D. W., Sheiner L. M. Should America Save for Its Old Age? Fiscal Policy, Population Aging, and National Saving // Journal of Economic Perspectives. 2000. Vol. 14. No. 3. P. 57–74.
Feyrer J. Demographics and Productivity // Review of Economics and Statistics. 2007. Vol. 89. No. 1. P. 100–109.
Fogel R. W. The Escape from Hunger and Premature Death, 1700–2100. Cambridge, MА: Cambridge University Press, 2004.
Freedman V. A., Spillman B. C., Andreski P. M. et al. Trends in Late Life Activity Limitations in The United States: An Update from Five National Surveys // Demography. 2013. Vol. 50. No. 2. P. 661–671.
From Red to Gray: The «Third Transition» of Aging Populations in Eastern Europe and the Former Soviet Union. Washington: The World Bank, 2007.
Fuchs V. R. «Though Much Is Taken»: Reflections on Aging, Health, and Medical Care // The Milbank Memorial Fund Quarterly: Health and Society. 1984. Vol. 62. No. 2. P. 142–166.
Gimpelson V., Kapeliushnikov R. Age and Education in the Russian Labour Market Equation / IZA Discussion Paper Ser. No. 11126. Bonn: IZA, 2017.
Global, Regional, and National Disability-Adjusted Life-Years (DALYs) for 315 Diseases and Injuries and Healthy Life Expectancy (HALE), 1990–2015: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2015 // Lancet. 2016. Vol. 388. October. P. 1603–1658.
Goldstein J. R. How Populations Age // International Handbook of Population Aging / ed. by P. Uhlenberg. Dordrecht: Springer, 2009. P. 7–17.
Goodhart Ch., Pradhan M. Demographics Will Reverse Three Multi-Decade Global Trends, 2017 / BIS Working Paper. No. 656. Geneva: BIS, 2017.
Hansen A. H. Economic Progress and Declining Population Growth // American Economic Review. 1939. Vol. 29. No. 1. P. 1–15.
Jones B. Age and Great Invention // Review of Economics and Statistics. 2010. Vol. 92. No. 1. P. 1–14.
Jones C. I. Growth: With or Without Scale Effects? // American Economic Review. 1999. Vol. 89. No. 2. P. 139–144.
Jones C. I. R&D-Based Models of Economic Growth // Journal of Population Economics. 1995. Vol. 103. No. 4. P. 759–783.
Juselius M., Takats E. The Age-Structure-Inflation Puzzle / Discussion Paper. No. 4. Helsinki: Bank of Finland, 2016.
Juselius M., Takats E. The Enduring Link Between Demography and Inflation / BIS Working Paper. No. 722. Geneva: BIS, 2018.
Keynes J. M. Some Economic Consequences of a Declining Population // Eugenics Review. 1937. Vol. 29. No. 1. P. 13–17.
Le Bras H. Demographic Impact of Post-War Migration in Selected OECD Countries // Migration: The Demographic Aspects. Pаris: OECD, 1991. P. 15–28.
Lee R. The Demographic Transition: Three Centuries of Fundamental Change // Journal of Economic Perspectives. 2003. Vol. 17. No. 4. P. 167–190.
Lee R. How Population Aging Affects the Macroeconomy // Re-Evaluating Labor Market Dynamics / Jackson Hole Symposium. Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Conference Proceedings, 2014. P. 261–283.
Lee R. Macroeconomics, Aging and Growth / NBER Working Paper. No. 22310. Cambridge, MА: NBER, 2016.
Lee R., Mason A. Some Macroeconomic Aspects of Global Population Aging // Demography. 2010. Vol. 47. Supplement. P. S151–S172.
Liang J., Wang H., Lazear E. P. Demographics and Entrepreneurship / NBER Working Paper. No. 20506. Cambridge, MА: NBER, 2014.
Loayza N., Schmidt-Hebbel K., Servén L. What Drives Private Saving around the World? / World Bank Policy Research. Working Paper. No. 2309. Washington: The World Bank, 2000.
Lucas R. E. On the Mechanics of Economic Development // Journal of Monetary Economics. 1988. Vol. 22. No. 1. P. 3–42.
Maestas N., Mullen K. J., Powell D. The Effect of Population Aging on Economic Growth, the Labor Force and Productivity / NBER Working Paper. No. 22452. Cambridge, MА: NBER, 2016.
Murphy K., Welch F. Empirical Age-Earnings Profiles // Journal of Labor Economics. 1990. Vol. 8. No. 2. P. 202–229.
National Research Council. Aging and the Macroeconomy. Long-Term Implications of an Older Population. Committee on the Long-Run Macroeconomic Effects of the Aging U. S. Population. N. Y.: National Academies Press, 2012.
Peterson P. G. Gray Dawn: The Global Aging Crisis // Foreign Affairs. 1999. Vol. 78. No. 1. P. 42–55.
Prettner K. Population Aging and Endogenous Economic Growth // Journal of Population Economics. 2013. Vol. 26. No. 2. P. 811–834.
Romer P. Endogenous Technological Change // Journal of Political Economy. 1990. Vol. 98. No. 5. P. 71–102.
Samuelson P. Optimum Social Security in a Life-Cycle Growth Model // International Economic Review. 1975. Vol. 16. № 3. P. 539–544.
Samuelson P. The Optimum Growth Rate for Population: Agreement and Evaluations // International Economic Review. 1976. Vol. 17. No. 2. P. 516–525.
Sanderson W. C., Scherbov S. Rethinking Age and Aging // Population Bulletin. 2008. Vol. 63. No. 4. P. 1–16.
Sanderson W. C., Scherbov S. Remeasuring Aging // Science. 2010. Vol. 329. No. 5997. P. 1287–1288.
Sheiner L., Sichel D., Slifman L. A Primer on the Macroeconomic Implications of Population Aging / Staff Working Papers in the Finance and Economics Discussion Series (FEDS). 2007–01. Washington: Federal Reserve Board, 2006.
Skirbekk V. Age and Individual Productivity: A Literature Survey // Vienna Yearbook of Population Research. 2004. Vol. 2. P. 133–153.
Summers L. IMF Economic Forum: Policy Responses to Crises / Speech at the IMF Fourteenth Annual Research Conference. Washington: IMF, 2013.
Summers L. H. U. S. Economic Prospects: Secular Stagnation, Hysteresis, and the Zero Lower Bound // Business Economics. 2014. Vol. 49. No. 2. P. 65–73.
Teulings C., Baldwin R. Introduction // Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures / ed. by C. Teulings, R. L. Baldwin. CEPR: CEPR Press, 2014. A VoxEU.org eBook.
Veen S. Demographischer Wandel, alternde Belegschaften und Betriebsproduktivität. Munich: Rainer Hampp Verlag, 2008.
Ulmer J. T., Steffensmeier D. The Age and Crime Relationship: Social Variation, Social Explanations // The Nurture Versus Biosocial Debate in Criminology: On the Origins of Criminal Behavior and Criminality / ed. by K. M. Beaver, J. C. Barnes, B. B. Boutwell. L.: SAGE Publications Ltd, 2014.
United Nations. World Population Ageing: 1950–2050. N. Y.: United Nations, 2008.
United Nations. World Population Prospects. The 2017 Revision. N. Y.: United Nations, 2017.
Weil D. Population Aging / NBER Working Paper. No. 12147. Cambridge, MА: NBER, 2016.
Weil D. The Economics of Population Aging // Handbook of Population and Family Economics / ed. by M. Rosenzweig, O. Stark. Amsterdam: North Holland, 1997.
Yoon J.-W., Kim J., Lee J. Impact of Demographic Changes on Inflation and the Macroeconomy / IMF Working Paper. WP/14/210. Washington: IMF, 2014.
Примечания
* Опубликовано: Истоки. Экономика — мрачная наука? Вып. 9 / под ред. В. С. Автономова и др. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2019. С. 126–166.
В сочинениях Карлейля имя Мальтуса упоминается лишь дважды [Dixon, 1999]. Более или менее развернутый «мальтузианский» пассаж обнаруживается в его очерке «Чартизм»: «Споры о Мальтусе, „Принципе Народонаселения“, „Превентивном Сдерживании“ и тому подобном, которые уже долгое время терзают слух публики, поистине достаточно прискорбны. Безотрадное, тоскливое, мрачное чувство, без надежды на этом или том свете, вызывают все эти признания превентивного сдерживания и отрицания превентивного сдерживания. Антимальтузианцы, ссылающиеся на свою Библию, чтобы отрицать очевидные факты, представляют собой неприглядное зрелище. С другой стороны… о чудесные мальтузианские пророки! Неужели, по-вашему, возможно, чтобы сорок миллионов работающих людей одновременно объявили забастовку… и, объединенные во всеобщем профсоюзе, проявили решимость ничего больше не делать, пока ситуация на рынке труда не станет удовлетворительной?» [Carlyle, 1840, р. 109]. Хотя используемый здесь набор эпитетов (dreary, stolid, dismal) частично дублирует тот, что присутствует в «Речи» (dreary, desolate, abject, distressing, dismal), очевидно, что он отражает отношение Карлейля не столько к содержанию доктрины Мальтуса, сколько к нескончаемым бессмысленным спорам вокруг нее. Карлейль дает понять, что считает такие споры пустопорожней болтовней. Стоит добавить, что Мальтус сам признавал, что его взгляды на человеческую жизнь имеют «несколько меланхолический оттенок» (цит. по: [Dixon, 1999, р. 3]). Однако в позднейших изданиях «Опыта о законе народонаселения» он смягчил свою исходную позицию, предположив, что использование средств превентивного сдерживания (контроль за рождаемостью) способно затормозить рост населения и что поэтому «наши перспективы касательно будущего … далеки от того, чтобы быть полностью обескураживающими» (цит. по: [Ibid.]). Что же касается традиции связывать выражение «мрачная наука» с доктриной Мальтуса, а не с антирасистскими и антирабовладельческими установками экономистов-классиков, то начало ей, по-видимому, положил американский экономист Амаса Уолкер [Levy, 2001a]. Такая переадресовка была впервые совершена в его учебнике политической экономии «Наука богатства» (1866), изданном после окончания Гражданской войны в США, когда публичная демонстрация симпатий к идеям расового рабства сделалась неприличной.
Эта расширенная версия примерно вдвое больше первоначального варианта, опубликованного в «Журнале Фрейзера для города и деревни».
По подсчетам Д. Леви, из 69 упоминаний «мрачной науки» в статьях, опубликованных за последние десятилетия в 10 ведущих экономических журналах, это выражение в 47 случаях употреблялось в связке со словами «Мальтус» или «мальтузианство» и лишь в 2 случаях в связке со словами «негр» или «ниггер» [Levy, 2001c].
По-английски quirky — пройдошливый, а по-шотландски croudy — воркующий.
В XIX столетии слава Карлейля гремела по всей Британии. В рассказе А. Конан-Дойля «Этюд в багровых тонах» д-р Ватсон убеждается в полном выпадении Шерлока Холмса из круга образованных людей, когда узнает, что Холмс, во-первых, никогда не слышал имени Карлейля и, во-вторых, не знает, что Земля вращается вокруг Солнца.
Стоит пояснить, что в британских университетах того времени ректорство было почетным званием, а не административной должностью.
«Квоши» (Quashee) — принятое во времена Карлейля презрительное обозначение чернокожих жителей Британской Вест-Индии, которое они получили после отмены рабства (от англ. to quash — аннулировать).
Эта скрытая полемика Карлейля со Смитом подробно обсуждается в работах Д. Леви [Levy, 2001a; 2001b].
В свете антисмитовских идей Карлейля показательно выглядят его нападки не только на обмен, но и на язык: так, он выражал пожелание, чтобы хотя бы у одного поколения людей отрезали языки, запретили литературу и оно прожило жизнь в полном безмолвии [Carlyle, 1850, сh. V].
По определению Карлейля, чернокожие — это всего лишь двуногие животные без перьев: «С некоторых пор здесь в Англии стали принимать за достоверное, что свободны все двуногие животные без перьев. „Вот, — кричат, — несчастный негр, который леность предпочитает труду, разве он не должен быть свободен, чтобы иметь право выбора между тем и другим? Разве он не человек и не брат наш?“. Несомненно, у него две ноги и он лишен перьев» [Carlyle, 1850, p. 317]. Определение человека как двуногого животного без перьев восходит к Платону. Чтобы опровергнуть его, Диоген, по преданию, решил предъявить всем общипанного петуха.
Последняя фраза пародирует агитацию, которую широко использовали борцы за права рабов в Великобритании. Речь идет об изображении негра в цепях, обращающегося к читателю со словами: «Разве я не человек и не брат твой?».
На «Речь» Карлейля Дж. С. Милль дал развернутый критический ответ в статье, опубликованной в 1850 г. в том же «Журнале Фрейзера для города и деревни» [Милль, 2019]. Возражая Карлейлю, он среди прочего напоминал, что первые высокоразвитые цивилизации, известные истории, создали жители Африки.
Естественно, экономисты объясняли такое поведение иначе, не усматривая в нем каких-либо расхождений с общими принципами политической экономии. Если чернокожие жители Ямайки отказываются наниматься на работу, значит, предлагаемая им заработная плата недостаточно высока. По мнению Милля, следует не осуждать, а приветствовать сложившуюся на Ямайке ситуацию, когда труд бывших рабов, долгие годы прозябавших в нищете, приобрел такую высокую цену, что она позволяет им жить в относительном комфорте. Что касается массовой безработицы в Ирландии, то она, как объяснял Милль, есть следствие архаичных институтов, регулирующих земельные отношения. (На это Карлейль не преминул саркастически заметить: пусть так; но какая «раса» создала подобную форму организации (arrangement) землевладения? Впрочем, в ответ на его замечание Милль мог бы не менее резонно возразить, что эти институты были насаждены как раз не низшей («кельтской»), а высшей («саксонской») расой.) Наконец, Милль обращал внимание на странную асимметрию в рассуждениях Карлейля: он рисует картину повального безделья среди «квошей» исходя из информации о забастовке с требованиями повысить заработную плату в Демараре (одной из Британских колоний в Вест-Индии), но при этом почему-то забывает о точно таких же забастовках, организуемых белыми рабочими, сообщения о которых приходят из Манчестера и других английских городов чуть ли не ежедневно.
Практически одновременно с Карлейлем идея трудовых армий была высказана в «Манифесте коммунистической партии» К. Марксом и Ф. Энгельсом [Маркс, Энгельс, 1955, т. 4]. В XX в. она была реализована на практике Л. Троцким.
Чтобы заставить неработающих трудиться, Карлейль был готов применять самые сильнодействующие средства: «Каждому из вас я скажу тогда: вот работа для вас — отдайтесь ей, как подобает мужчинам, как подобает солдатам, с послушанием и усердием. …Если вы будете отказываться отдавать ей себя, уклоняться от тяжкого труда, не подчиняться правилам, я стану предостерегать и попытаюсь вразумить вас; если это окажется тщетно, я подвергну вас порке; и, наконец, если и это окажется тщетно, я пристрелю вас и освобожу от вас Божий мир» [Carlyle, 1850, p. 59].
Работорговля плоха тем, что несовместима с карлейлевским идеалом пожизненной занятости. Ведь каждая сделка по купле-продаже раба приводит к тому, что он меняет «место работы», а подчас даже и сферу занятий.
В «Капитале» Маркс так комментировал позднейшие высказывания Карлейля на этот счет (уже применительно к объяснению причин Гражданской войны в США): «Наконец, раздался голос оракула, г-на Томаса Карлейля. …В короткой притче он сводит единственное великое событие современной истории, Гражданскую войну в Америке, к тому обстоятельству, что Петр с Севера изо всех сил стремится проломить череп Павлу с Юга, так как Петр с Севера нанимает своего рабочего „поденно“, а Павел с Юга „пожизненно“. …Так, лопнул, наконец, мыльный пузырь симпатии тори к городским, — но отнюдь не к сельским! — наемным рабочим. Суть этих симпатий называется рабством!» [Маркс, 1960, т. 23, c. 266].
Сходную судьбу он пророчил и ирландцам: «Пришло время, когда либо нравы ирландского населения должны быть хоть немного улучшены, либо в противном случае оно должно быть истреблено (exterminated)» (цит. по: [Levy, 2001a, p. 14]).
В карлейлевских высказываниях об «организации труда» легко просматриваются следы его увлечения идеями А. Сен-Симона и сенсимонистов.
В «Памфлетах последнего дня» Карлейль именует политическую экономию «новейшим Евангелием серафического д-ра М’Крауди» [Carlyle, 1850, p. 21].
Единственное, что в мире laissez faire связывает низшие и высшие классы, иронизировал Карлейль, — это возможность заразиться тифом [Carlyle, 1843].
Карлейль не уставал повторять, что идеализированный образ низших классов, который усвоила себе политическая экономия, имеет мало общего с действительностью: в душе у них не повиновение, а лень, обжорство и мятежи [Carlyle, 1853, p. 308]. По его саркастическому замечанию, ему никогда не доводилось видеть несчастных белошвеек, по которым проливают слезы филантропы, а вот о белошвейках, требующих оплату побольше, со здоровым аппетитом на выпивку и закуску он слышит на каждом углу [Carlyle, 1850, p. 359]. Ясно же, что такого рода публику нельзя оставлять без присмотра, предоставляя ее самой себе! По Карлейлю, проблема бедности решается просто: надо принудить каждого исполнять свои обязанности и тогда не останется ни одного бедняка [Ibid., p. 201–202].
Примечательно, что призыв Карлейля к ликвидации рабовладения силой касался только двух стран — Кубы и Бразилии, выступавших в то время главными конкурентами Британской империи на мировом рынке сахара. Он не имел ничего против того, чтобы в странах, не производящих сахара, рабство сохранялось.
* Опубликовано: Экономическая социология. 2018. Т. 19. № 3. С. 25–49; № 4. С. 12–42.
При первой публикации «Протестантской этики» (1904–1905) слово «дух» в названии работы фигурировало в кавычках, чем подчеркивалась его цитатность. Во втором издании (1920) кавычки были сняты.
«Самой общей предпосылкой… новейшего капитализма является рациональный расчет капитала… Дальнейшими предпосылками являются: 1. Присвоение частными автономными промышленными предприятиями свободной собственности на вещные средства производства (землю, приборы, машины, орудия и т. п.). Это явление известно только нашему времени… 2. Вольный рынок, т. е. свобода рынка от нерациональных стеснений обмена, например, от сословных ограничений… 3. Рациональная, т. е. строго рассчитанная и поэтому механизированная техника как производства, так и обмена… 4. Рациональное, т. е. твердо установленное право. Чтобы капиталистический порядок мог функционировать рационально, хозяйство должно опираться на твердые правовые нормы суда и управления… 5. Свободный труд, т. е. наличность таких людей, которые не только имеют право свободно продавать на рынке свою рабочую силу, но и экономически принуждены к этому… Рациональный капиталистический расчет мыслим лишь на почве свободного труда, т. е. лишь в тех случаях, когда наличие рабочих, с формальной стороны добровольно предлагающих свой труд, фактически же вынужденных к тому бичом голода, дает возможность, на основании условленной заработной платы, заранее определенно вычислять издержки производства. 6. Коммерческая организация хозяйства, под которой здесь разумеется широкое применение ценных бумаг для установления прав участия в предприятиях и прав на имущество, словом: возможность исключительной ориентировки при покрытии потребностей на рыночный спрос и доходность предприятия» [Вебер, 2001, с. 255–257].
Вебер поясняет: не везде, где имеются крупные профсоюзы, присутствует «дух тред-юнионизма» или «синдикализма»; наличие большой армии не обязательно порождает «дух милитаризма»; если у страны есть колонии, это еще не значит, что в ней царит «дух империализма»; наконец, не все тексты, написанные профессорами, проникнуты «профессорским духом» [Weber, 2002]. Точно так же нет ничего противоестественного в капитализме без «капиталистического духа».
Как видно из этого фрагмента, Вебер сам признавал, что капитализм в достаточно развитых формах существовал задолго до возникновения протестантизма.
В переводе «Протестантской этики» на английский язык Т. Парсонс использовал для передачи веберовской метафоры «стального панциря» выражение «железная клетка» [Weber, 2001]. С его легкой руки концепт «железной клетки» стал широко использоваться в последующей социологической литературе.
Интересно, как бы Вебер определил такую фигуру, как Генри Форд — как «авантюристического» или же все-таки как «рационального» капиталиста?
«В новых условиях капитализм может вполне комфортно продолжать существовать, но либо (как это происходит по большей части сегодня) в качестве фаталистически принимаемой неизбежности, либо (как это было в эпоху Просвещения и сохраняется до сих пор в либерализме современного толка) в качестве неплохо зарекомендовавшего себя относительно оптимального средства для сотворения… относительно лучшего из всех относительно лучших миров. Но для серьезно настроенных наблюдателей капитализм не является более внешним выражением определенного строя жизни, основанного на глубинном, неделимом и всеобъемлющем единстве личности. И было бы большой ошибкой полагать, что этот факт может остаться без последствий, если иметь в виду место капитализма в рамках общей культуры, прежде всего с точки зрения порождаемых им результатов, но также и с точки зрения его внутреннего устройства, а в конечном счете и с точки зрения его судьбы» [Weber, 2002, p. 294–295].
«Именно абсолютная суверенность Бога вызывает обусловленное практическим религиозным интересом желание хоть разок заглянуть в его карты, ведь узнать свою судьбу в потустороннем мире — элементарная потребность каждого человека» [Вебер, 2017, с. 183].
«Значение имеет не этическое учение религии, а та форма этического поведения, за которую, в зависимости от характера и обусловленности соответствующих средств к спасению, предлагаемых данной религией, даются премии… В пуританизме это была определенная методически-рациональная система жизненного поведения… За „доказывание“ своей избранности перед Богом предоставлялась премия в виде гарантии спасения во всех пуританских деноминациях; за „доказывание“ своей избранности перед людьми — премия в виде социального самоутверждения внутри пуританских сект. Оба принципа дополняли друг друга, действуя в одном и том же направлении» [Вебер, 1990, с. 290 (с изменениями)].
В настоящее время эти лингвистические изыскания Вебера признаются безусловно ошибочными [Giddens, 2001, p. 20].
Говоря языком современной экономической теории, усвоение норм протестантской этики позволяло успешно решать проблему «отлынивания», т. е. уклонения работников от выполнения ими своих контрактных обязательств, освобождая предпринимателей от обременительных издержек по мониторингу и контролю за их поведением и ускоряя тем самым накопление капитала. Это был как бы подарок капитализму от протестантской этики.
«Мирской аскет по своей природе — прирожденный профессионал, не задающийся вопросом о конечном смысле своих занятий в миру и считающий это ненужным, ведь ответственность за мир несет не он, а Бог, а ему самому достаточно сознания, что своими рациональными действиями он выполняет волю Божью» [Вебер, 2017, с. 187].
Одним из ярких примеров логической непоследовательности Вебера служат как раз его комментарии к Бакстеру, которого он цитирует в «Протестантской этике» чаще, чем любого другого автора. Вебер признает, что Бакстер фактически отказался от идеи «двойного декрета», иными словами — от доктрины предопределения [Вебер, 1990, с. 217, 248]. Но это признание нисколько не мешает ему продолжать ссылаться на высказывания Бакстера для иллюстрации того, как доктрина предопределения влияла на экономическое поведение верующих.
На самом деле речь у Маккиннона идет не о логических неувязках, а о поведенческом неправдоподобии веберовской аргументации. Если смотреть на ситуацию глазами верующих, то все вроде бы в порядке: столкнувшись с дилеммой, следовать наставлениям проповедников или же обрести знание своей будущей судьбы, они выбирают второе. Но самим протестантским проповедникам Вебер, по существу, вменяет шизофреническое раздвоение: сегодня они рассказывают пастве о том, что нельзя служить одновременно Богу и Мамоне и что мирские дела отвлекают от дел духовных, а завтра рассказывает ей о том, что только через мирской успех можно узнать, предназначен ты к вечной жизни или к вечной смерти. Психологически ситуация совершенно непредставимая. Этот центральный пункт маккинноновской критики был Заретом проигнорирован или же просто не понят.
У веберовской экзегезы имеется еще одна странная «теологическая» лакуна, не отмеченная Маккинноном. Возводя этику мирской аскезы к кальвинистскому учению о предопределении, Вебер, как мы видели, приписывает ее также целому ряду протестантских сект, не разделявших этого учения. Каким образом носителями подобной этики могли оказываться представители сект, генетически никак не связанных с кальвинизмом, остается неясным. Что еще сверх и помимо доктрины предопределения могло быть ее источником и основой?
Вот совсем иное суждение о различиях между протестантским и католическим «этосами», высказанное И. Тэном в его «Заметках об Англии» (1862): «Зарабатывать много и потреблять много — таково правило. Англичанин не бережет деньги, не думает о будущем; самое большее он застрахует свою жизнь. Он представляет собой прямую противоположность французу, который бережлив и „воздержан“» (цит. по: [Samuelsson, 1961, p. VII]).
В этом смысле трудно сказать, какое общество, исходя из веберовских определений, следовало бы считать более рациональным — докапиталистическое, когда нерациональные средства использовались в рациональных целях, или капиталистическое, когда рациональные средства стали использоваться в иррациональных целях. Рассуждая о специфике поведения носителей капиталистического духа, Вебер неизменно подчеркивает «иррациональность подобного образа жизни с точки зрения личного счастья, образа жизни, при котором человек существует для дела, а не дело для человека» [Вебер, 1990, с. 89–90].
Такое понимание достаточно далеко от общепринятого: Homo oeconomicus экономической теории можно назвать «машиной для получения удовлетворений», но нельзя назвать «машиной для получения дохода». Вебер мог знать об этом хотя бы потому, что читал Т. Веблена и ссылался на его работы.
Вообще анализ Вебером ситуации на рынке труда в эпоху раннего капитализма производит впечатление попытки усидеть на двух стульях. С одной стороны, он повторяет стандартную историю о том, что в период своего возникновения капитализм нуждался в многочисленной «резервной армии» неквалифицированных работников, которых и получил в свое распоряжение благодаря обезземеливанию, огораживанию и т. д. («не подлежит сомнению, что для развития капитализма необходим некоторый избыток населения, обеспечивающий наличие на рынке дешевой рабочей силы» [Вебер, 1990, с. 82]). (Отметим, что новейшие исследования этого не подтверждают: в Англии уже в середине XIII в. примерно половина всех занятых трудились по найму.) С другой стороны, он рассказывает уже свою собственную историю о том, что на первых шагах капитализму были необходимы квалифицированные работники, которых очень кстати предоставил аскетический протестантизм («Религиозная аскеза предоставляла трезвых, добросовестных, чрезвычайно трудолюбивых рабочих, рассматривавших свою деятельность как угодную Богу цель жизни» [Вебер, 1990, с. 202]). В итоге рынок труда того времени пребывал, можно сказать, в лучшем из возможных миров, располагая достаточным количеством рабочей силы одновременно двух сортов: 1) недисциплинированной, необученной, немотивированной, высокомобильной; 2) дисциплинированной, обученной, мотивированной, ориентированной на постоянную занятость.
«Классовость» подхода Вебера тем более удивительна, что, по его же собственным словам, «безусловно самым важным критерием», по которому пуританин мог судить о том, угодна или не угодна Богу его профессиональная деятельность, выступала ее доходность (!) [Вебер, 1990, с. 190].
При этом Вебер не находит нужным пояснить, что первый из этих текстов представляет собой частное письмо.
Любопытно, что по ходу изложения Вебер благополучно забывает о том, что сам сконструировал этот текст, и начинает именовать его ни больше ни меньше как «трактатом Франклина» [Вебер, 1990, с. 205].
Тенденциозность Вебера отчетливо проявляется в главном содержательном пункте. По его утверждению, для Франклина стремление к наживе являлось самоцелью и было свободно от каких бы то ни было эвдемонических моментов. Но при знакомстве с текстами Франклина любому становится ясно, что и моральные принципы, которые он выработал для себя, и практические советы, которые давал другим, всегда имели одну и ту же цель — достижение счастья.
На деле история с Фуггером является апокрифом: он заявлял лишь о том, что не хочет бросать один малоудачный проект и намерен довести его до конца. Впоследствии его слова были искажены [Samuelsson, 1961].
При ближайшем рассмотрении это самое известное изречение Франклина оказывается парафразой высказывания древнегреческого философа Теофраста (372–287 до н. э.): «Время — дорогая вещь».
Для полноты картины приведем также наставления японского автора Шимаи Сошицу (1539–1615), где веберовский «дух капитализма», похоже, достигает апогея: «Когда человек располагает капиталом, каким бы малым этот капитал ни был, он не должен позволять себе расслабляться в делах, касающихся домашних проблем или ведения бизнеса, и должен все время продолжать зарабатывать деньги, считая это своей главной жизненной задачей. Это его пожизненный долг. Если имея капитал, он начинает расслабляться, покупать вещи, которых вожделеет, вести себя расточительно, гнаться за модой и делать все, что хочет, деньги скоро кончатся… Он должен полностью отдаться работе с того момента, как у него появился капитал. Недопустимо думать о загробной жизни, пока ты не достигнешь возраста 50 лет. Мысли об этом — только для старого человека или членов сект дзедо и дзен… Но более всего недопустимо обращение в христианство. Христианство представляет собой величайшее несчастье для человека, чья задача управлять хозяйством» (цит. по: [Samuelsson, 1961, p. vii — viii]).
«Если… ограничение потребления соединяется с высвобождением стремления к наживе, то объективным результатом этого будет накопление капитала посредством принуждения к аскетической бережливости» [Вебер, 1990, с. 198–199].
Ср. у Вебера о «духе капитализма»: «Позитивно-капиталистическое мироощущение „Приобретать должен ты, приобретать“ встает перед нами во всей своей иррациональности и первозданной чистоте как некий категорический императив» [Вебер, 1990, с. 265]. Вполне в духе марксизма звучат и веберовские высказывания об эксплуатации труда (см. выше, начало настоящего раздела).
Отсюда устойчивые негативные коннотации, связанные с термином «капитализм». Для сравнения приведем определение капитализма, которое давал Й. Шумпетер. По его словам, это «такая форма основанной на частной собственности экономики, в которой инновации осуществляются за счет заимствованных денег» [Schumpeter, 1939, vol. 1, p. 223].
Мы оставляем в стороне работы ряда историков и социологов, которые, используя личные документы (дневники, автобиографии, письма), пытаются установить, действительно ли в тот или иной исторический период существовали «веберианские» психологические типы, скажем — «носители протестантской этики» или «носители духа капитализма». Хотя результаты таких работ разнятся, чаще они оказываются отрицательными [Cohen, 2002; Jacob, Kadane, 2003]. Впрочем, Вебер мог бы возразить, что у него речь идет об идеальных, а не реальных поведенческих типах.
Похоже, Хейуард и Кеммельмейер не вполне корректно интерпретируют собственные результаты. Они констатируют, что особой разницы в экономических установках между активно верующими протестантами и католиками нет. Но это предполагает, что ее не было и в XVI–XVII вв., когда активно верующими были все. В таком случае положительное влияние протестантизма на развитие капитализма (если оно вообще было) не могло быть связано со специфической трудовой этикой, присущей протестантским деноминациям.
В более поздней версии работы Барро и Макклири была получена меньшая по абсолютному значению оценка: –0,2 п.п. [Barro, McCleary, 2006].
Отметим, что авторы не упоминают о том, что в рассматриваемый период католики подвергались на территории Германской империи активной дискриминации (см. об этом выше) и что это могло как-то повлиять на полученные результаты.
* Опубликовано: Экономическая социология. 2019. Т. 20. № 3. С. 185–205. Настоящий текст представляет собой реплику на статью И. В. Забаева «Ницшеанский взгляд на стодолларовую купюру: чтение веберовской „Протестантской этики“ в связи с замечаниями современного экономиста» [Забаев, 2019], где содержатся пространные критические комментарии по поводу моей работы «Гипноз Вебера», посвященной анализу дискурсивных практик в «Протестантской этике» М. Вебера [Капелюшников, 2018a; 2018b]. См. также раздел II наст. изд.
А. Межиров. «Серпухов» (1954).
Напомню, что у истоков практики обозначать центральную идею «Протестантской этики» как Тезис стоял сам Вебер.
Именно в этом контексте И. В. Забаев обращается к этическим представлениям Ф. Ницше, оказавшим определенное влияние на мировоззрение Вебера [Забаев, 2019, с. 40–43].
Так и подмывает спросить: нам — это кому?
«…Требуется работа, аналогичная проделанной Вебером в „Протестантской этике“, т. е. работа по прописыванию возможного направления связи между на первый взгляд очень далекими друг от друга доменами жизни» [Забаев, 2019, с. 49].
«Мне действительно кажется, что она — „Протестантская этика“ — не о том, о чем пишет профессор Капелюшников» [Там же, с. 22].
На самом деле подходы Маккиннона и Зарета чрезвычайно близки: просто первый не стесняется сильных выражений по адресу Вебера, тогда как второй предпочитает сохранять по отношению к Веберу традиционный для социологов пиетет [MacKinnon, 1994].
Получается так, что когда И. В. Забаев комментирует разделы веберовского текста, посвященные моральным установкам различных протестантских деноминаций, то он занимается этикой, но когда те же самые разделы комментирую я, то это никакого отношения к этике не имеет. А почему? Откуда такая асимметрия?
Про «дух капитализма» нам, с одной стороны, сообщают, что «„стремление к предпринимательству“, „стремление к наживе“, к денежной выгоде, к наибольшей денежной выгоде само по себе ничего общего не имеет с капитализмом» [Вебер, 1990, с. 47]. Но с другой — рассказывают, что «Summum bonum этой этики прежде всего в наживе при полном отказе от наслаждения, даруемого деньгами, от всех эвдемонистических или гедонистических моментов: эта нажива в такой степени мыслится как самоцель, что становится чем-то трансцендентным и даже просто иррациональным по отношению к „счастью“ или „пользе“ отдельного человека» [Вебер, 1990, с. 75].
Рискуя показаться мелочным занудой, все же не могу не заметить, что обсуждение таблицы Оффенбахера занимает менее 10 % моего текста, а не 25 %, как утверждает И. В. Забаев.
Пострациональный — это определение, предлагаемое мной исходя из характера веберовской аргументации; у самого Вебера его, конечно, нет.
Должно быть понятно, что нижеследующее описание реконструирует ход занимавшей Вебера культурной эволюции не такой, какой она могла быть «на самом деле», а такой, какой она виделась ему.
Ср.: «Нас интересует здесь в первую очередь происхождение тех иррациональных элементов, которые лежат в основе… любого… понятия „призвания“» [Там же, с. 96].
Власть вещей — это то, что И. Кант называл гипотетическим императивом. В кантовских терминах можно было бы сказать, что в «Протестантской этике» Вебер прослеживает культурную эволюцию от категорического императива, направлявшего деятельность носителей протестантской этики, к гипотетическому императиву, ставшему определять жизнь его современников (бездушных профессионалов/бессердечных сластолюбцев). В этом трагизм веберовского ви́дения.
Это еще один пример «оницшеанивания» (на сей раз — Франклина), к которому испытывает влечение И. В. Забаев.
Здесь мы в очередной раз сталкиваемся с нередким у И. В. Забаева смешением понятий. Он не видит разницы между методичностью и машинальностью. Но методичность — это поведение при всегда включенном сознании, а машинальность — это поведение при отключенном сознании. Жизнь Франклина можно назвать методичной, но машинальной?..
«Позитивно-капиталистическое мироощущение „Приобретать должен ты, приобретать“ встает перед нами во всей своей иррациональности и первозданной чистоте как некий категорический императив» [Вебер, 1990, с. 265].
Как писал Дж. М. Кейнс, накопление капитала без инноваций за одно-два поколения привело бы к тому, что он перестал бы быть редким фактором [Кейнс, 1978]. (В оригинале это звучит красивее: он утратил бы свою scarcity-value.)
Говоря о непреходящем интересе к «Протестантской этике», И. В. Забаев спрашивает: «Почему все-таки веберовский „гипноз“ удается? У меня, как и профессора Капелюшникова, нет ответа на этот вопрос» [Забаев, 2019, с. 44]. На самом деле у меня-то он есть; может быть, наивный, нелепый, глупый, но есть. В своей статье я замечаю по поводу веберовского Тезиса: «Это едва ли не самая красивая, самая завораживающая идея из всех, когда-либо высказанных в социальных исследованиях. Возможно, этим объясняется, почему она обладает поистине гипнотической властью над умами людей. Раз узнав о ней, затем уже невозможно избавиться от ее воздействия и смотреть на мир вне внушенной ею оптики: везде и всюду начинают чудиться ее подтверждения» [Капелюшников, 2018б, с. 35]. Можно сказать, что если И. В. Забаева в работе Вебера больше всего привлекает этика, то меня эстетика.
* Опубликовано: Истоки. Экономика в контексте истории и культуры. Вып. 5 / под ред. Я. И. Кузьминова, В. С. Автономова и др. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. С. 513–540. Настоящая работа представляет собой критический комментарий к статье академика В. М. Полтеровича «Пределы расширенного порядка» [Полтерович, 2004]. Первоначально обе работы были представлены в виде докладов на конференции, посвященной столетнему юбилею Ф. А. Хайека (1899–1991) (Москва, ВШЭ, май 1999 г.).
Первые Л. Лахманн называл «внутренними», а вторые — «внешними» институтами [Lachmann, 1970].
Что касается утверждения Дж. Ходжсона, на которое ссылается А. Е. Шаститко, о том, что Хайек подобно неоклассикам принимал стандартную модель Homo oeconomicus, то его трудно оценить иначе как чистое недоразумение.
Хайек признавал, что «шкала целей» человека является намного более устойчивой, чем шкала средств. Это означает, что применение стандартной модели Homo oeconomicus оправданно в определенных институциональных контекстах и при решении определенного класса задач.
Напомним, речь идет не только и не столько о формализованном научном знании, сколько о неявных личностных знаниях, рассредоточенных среди миллионов людей.
Мысль Ф. Хайека полнее раскрывается в его анализе конкретного исторического эпизода — Промышленной революции в Англии XVIII в. Соглашаясь с К. Марксом, что «капитализм создал пролетариат», он вкладывал в это утверждение совсем иной смысл. Пролетариат появился не в результате массового разорения крестьян, ремесленников и мелких торговцев, которым не оставалось ничего другого как превратиться в «наемных рабов». Капитализм дал пролетариату жизнь в буквальном смысле слова: он обеспечил условия для выживания беднейших слоев населения, которых раньше подстерегала бы голодная смерть и которые в иных условиях были бы не в состоянии прокормить своих детей. Другими словами, в доиндустриальном обществе целая вереница поколений так и осталась бы нерожденной. Спасенные жизни — вот главный результат, который принесло утверждение капиталистических порядков наиболее обездоленным группам населения (cм.: [Hayek, 1967б]). Поэтому в работах Хайека можно встретить и такую формулировку: более эффективным следует признать тот набор институтов, при котором увеличиваются шансы на достижение целей у наименее состоятельных членов общества.
С эпистемологической точки зрения это сделало бы человека существом менее разумным. Легко, например, представить, какой массив знаний был бы безвозвратно утерян и какие провалы в социальной координации могли бы возникнуть, если бы обществу пришлось перейти от использования естественного языка (скажем, русского) на какой-либо искусственный (скажем, эсперанто).
За это единомышленники Хайека упрекали его в непоследовательности. По их мнению, его предложения носили «конструктивистский» характер.
Частное замечание по поводу опыта польских реформ. В. М. Полтерович характеризует политику налогового ограничения доходов, применявшуюся в Польше, как «гетеродоксальную» [Полтерович, 2004]. Но это весьма необычная «гетеродоксальность», если вспомнить, что политику налогового ограничения доходов пропагандировали крупнейшие западные экономисты (например, Р. Лэйард), что ее поддерживали ведущие международные экономические организации и что она была взята на вооружение всеми странами Восточной Европы. Не стала исключением и Россия, где, по оценкам специалистов, был реализован один из самых жестких ее вариантов (налог на сверхнормативный фонд оплаты труда был отменен с 1996 г.).
Дело в том, что на старте рыночных реформ были широко распространены опасения, что усилия по макроэкономической стабилизации могут быть сорваны требованиями профсоюзов о повышении заработной платы. Установление специального налога на фонд или рост заработной платы рассматривалось как один из наиболее эффективных механизмов противодействия инфляции. Однако в ретроспективе опыт применения налоговой политики ограничения доходов в переходных экономиках оценивается весьма негативно (см.: [Paying the Price, 1998]). Но если в странах с мощными профсоюзами, как Польша или Болгария, она, возможно, еще имела какой-то смысл, то необходимость ее применения в России представляется крайне проблематичной. Хотя с фискальной точки зрения налоги на фонд оплаты труда чрезвычайно привлекательны ввиду легкости их сбора, их введение чревато многими негативными последствиями на микроуровне — нарушением связи между заработной платой и производительностью труда; переносом налогового бремени на наиболее эффективные предприятия; использованием неденежных форм вознаграждения за труд; уводом значительной части заработной платы «в тень».
По его собственной оценке, слепое следование принципу laissez faire нанесло делу либерализма огромный вред.
Как писал известный американский экономист Ф. Бэйтор, неоклассическая теория антисептически чиста от какого бы то ни было институционального контекста [Bator, 1957, p. 31].
Характерно, что В. М. Полтерович пишет о «совершенном» рынке услуг по координации, как если бы существование несовершенного рынка уже само по себе являлось достаточным основанием для вмешательства государства.
Идеологию «государства благосостояния» Хайек называл «холодным социализмом» в отличие от «горячего социализма», выступавшего за централизованное планирование и отмену частной собственности на средства производства.
Обсуждение критериев, исходя из которых правила могут оцениваться как справедливые или несправедливые, занимает значительное место в работах Хайека (см., в частности: [Hayek, 1960]).
Характерный эпизод из более позднего времени. В 1970-х годах В. Леонтьев выступал за введение в США системы индикативного планирования, основанной на разработке таблиц затраты — выпуск. Хайек опубликовал статью с критическим разбором этого предложения, которую позднее решил включить в сборник своих избранных работ. Узнав об этом, Леонтьев прислал издателю Хайека специальное письмо. В нем он потребовал отказаться от републикации хайековской статьи, поскольку ему не удалось обнаружить никаких документальных свидетельств, которые подтверждали бы компетенцию ее автора в исследовании вопросов… планирования [Hayek, 1978].
* Опубликовано: Либерализм в России: сб. ст. М.: Агентство «Знак». 1993. С. 7–20. Сокращенная версия настоящей работы была представлена на конференции Фонда экономической свободы «Россия: есть ли у либерализма шанс?» (М., декабрь 1992 г.).
«Гражданский союз» был создан в середине 1992 г. как политический блок центристской ориентации (А. И. Вольский, А. В. Руцкой и др.). В 1992–1993 гг. являлся одной из наиболее влиятельных политических сил России.
* Опубликовано: Экономическая политика. 2000. Т. 15. № 1. С. 1–32. В основу настоящего текста положена лекция, прочитанная на площадке InLiberty в рамках цикла публичных лекций «Природа человека: что о нас знает наука?» (М., 26 ноября 2018 г.).
«Политическая экономия полностью абстрагируется от всех других мотивов и страстей за исключением тех, что могут рассматриваться как постоянно противодействующие желанию богатства, а именно — отвращения к труду и желания скорейшего удовлетворения наших дорогостоящих прихотей. Они так или иначе учитываются в ее расчетах, потому что вступают в конфликт со стремлением к богатству не просто иногда, как другие, но сопровождают его в качестве преград или тормозов всегда» [Mill, 1967, p. 131].
Конечно, обозначать пирамиду потребностей Маслоу в качестве «человека психологического» значит сильно упрощать реальную ситуацию, существующую в психологии, где предлагается целая коллекция самых разных моделей человека, среди которых модель Маслоу — лишь одна из многих.
Во многих политологических исследованиях — как бы в подражание максимизирующему поведению REMM — политическим агентам вменяются специфические целевые функции, такие как максимизация партийной кассы (партийные функционеры), максимизация голосов избирателей (публичные политики), максимизация влияния на законодательный процесс (лоббисты), максимизация ведомственного бюджета (бюрократы) и т. д. Следует, однако, иметь в виду, что подобные цели являются промежуточными и сами по себе ничего не говорят о том, какова на самом деле природа поведения, направленного на их достижение. Теоретически политик может стремиться к максимизации голосов избирателей исходя из чисто альтруистических конечных целей — чтобы, придя к власти, как можно лучше отстаивать интересы общества.
Это видно хотя бы по тому, какое важное место в современной теоретической социологии заняла проблема agency — человека-деятеля. При этом нетрудно убедиться, что альтернативные модели, предлагавшиеся такими видными социологами, как Р. Будон, Э. Гидденс, К.-Д. Опп и др., — это не более чем конкретизации все той же базовой схемы Homo oeconomicus, только с введением в нее тех или иных дополнительных ограничений, насыщением ее теми или иными эмпирическими наблюдениями. Замечу попутно, что едва ли не вся социологическая литература, посвященная изучению ценностей, страдает фундаментальной двусмысленностью из-за неразличения общих и предельных величин. Пусть некто сообщил, что для него нет ничего важнее безопасности. Но что это значит: что высоко ценя безопасность и направляя на ее достижение много сил и средств, он обеспечил себе ее высокий общий уровень или же что окружающая его среда настолько опасна, что даже ничтожно малое приращение безопасности ценится им выше, чем что-либо еще?
* Опубликовано: Журнал Новой экономической ассоциации. 2017. № 1. С. 162–166. Выступление на Круглом столе «Рациональность и иррациональность в экономической теории», организованном Новой экономической ассоциацией (М., декабрь 2016 г.).
Еще дальше, чем поведенческая экономика, идет нейроэкономика, которая задается вопросом, можно ли считать человеческое поведение рациональным на субъиндивидуальном уровне (на уровне отдельных участков головного мозга). Про нее «старые» экономисты, наверное, могли бы сказать, что это уже не экономика, а биология.
* Опубликовано: Журнал экономической теории. 2018. Т. 15. № 3. С. 359–376.
В поведенческой литературе ошибки, обусловленные внутренней несогласованностью предпочтений, принято именовать «аномалиями выбора», а ошибки, обусловленные нарушениями базовых принципов теории вероятностей, — «аномалиями суждения» [Loewenstein, Haisley, 2006].
Весьма нетривиальную позицию в этом вопросе занимает Г. Демсец [Demsetz, 1996]. Критикуя взгляды Ф. Найта, А. Алчиана и Г. Саймона, он замечает, что в условиях совершенной информации обладание рациональным мышлением было бы излишним: потребность в нем возникает только в условиях несовершенной информации. Иными словами, рациональность — это наша способность справляться с проблемами, порождаемыми ограниченностью информации.
«Если ограниченно рациональные процедуры принятия решений, нарушающие жесткие аксиоматические требования, обеспечивают больше денег, здоровья или счастья, чем процедуры, которые соответствуют более строгим аксиоматическим представлениям о рациональности, то тогда перед нами любопытный пример напряжения, возникающего при множественности нормативных метрик» [Berg, 2014, p. 378].
В настоящем разделе при обсуждении ограниченно рационального поведения мы будем исходить из доминирующей концепции, связанной с определениями (1) и (3).
Ср. характерное высказывание Д. Канемана: «Поведение агентов направляется не тем, что они способны подсчитать, а тем, что им в данный момент случается видеть» [Kahneman, 2003a, p. 1469]. Выстраивается простой силлогизм: поведение людей определяется тем, что предстает их глазам; то, что они видят, насквозь пронизано оптическими иллюзиями; следовательно, их поведение по определению не может быть рациональным.
Ср.: «Нечего и говорить, что существование оптической иллюзии, заставляющей нас зрительно воспринимать одну из двух одинаковых линий более длинной, чем другая, нисколько не умаляет важности проведения точных измерений. Напротив, такие иллюзии демонстрируют безусловную потребность в тех, кто мог бы управлять нами (rulers)!» [Thaler, 1991, p. 138].
Приведем аналогичный пример, не связанный с оптическими иллюзиями. Речь в нем идет об эффекте фреймирования (от англ. frame — рамка), когда исход выбора определяется не его содержательным наполнением, а формальными характеристиками рамки (фрейма), в которую он помещен. Хрестоматийный случай из медицинской практики: когда пациентам сообщают, что из всех, кто пять лет назад подвергся некой операции, 90 % остались в живых, то большинство соглашаются на ее проведение; когда же им сообщают, что из всех, кто пять лет назад подвергся этой операции, 10 % скончались, то большинство от нее отказываются. Но логически это два абсолютно эквивалентных высказывания. Получается, что даже в жизненно важных ситуациях люди меняют свои решения в зависимости от ничего не значащих особенностей контекста (в зависимости от того, сослался врач на долю благоприятных или на долю неблагоприятных исходов). Это с несомненностью свидетельствует об их иррациональности. Как в подобном случае следует поступать врачу? Очень просто: использовать формулировку, которая будет подталкивать пациентов к лучшим для них решениям! Однако критики обращают внимание на то, что в приведенном примере пациентам просто не предоставляется полной информации, необходимой для принятия рационального решения [Gigerenzer, 2015]. Им сообщают, каково соотношение благоприятных и неблагоприятных исходов в случае проведения операции, но не сообщают, каково оно в случае ее непроведения. В условиях ограниченности информации они начинают мыслить как социальные существа, ориентируясь на то, какой фрейм (какая конкретная формулировка) был избран врачом. Упоминание о доле остающихся в живых воспринимается ими как неявная рекомендация соглашаться на операцию, упоминание о доле умерших — как неявная рекомендация от нее отказаться. (Таким образом эта информация из незначимой превращается в значимую.) Эксперименты показывают, что при предоставлении пациентам полной информации, необходимой для принятия рационального решения, никакой асимметрии выбора, никакого эффекта фреймирования, никакой зависимости от контекста не наблюдается [Gigerenzer, 2015]. Налицо артефакт, являющийся продуктом использования экспериментаторами манипулятивных техник.
Дополнительную привлекательность пенсионным планам 401(k) придает то, что к взносам самих работников обычно добавляются взносы компаний, где они трудятся (эти отчисления также освобождаются от уплаты подоходного налога).
Само понятие эвристик пришло из компьютерных наук. Там этим термином обозначаются упрощенные и быстрые процедурные приемы, которые обеспечивают приемлемое решение проблемы при значительно меньших издержках, чем те, которых потребовало бы использование алгоритмов — методов, гарантирующих получение оптимальных решений [Lopes, 1991].
Сходную позицию занимает Г. Демсец, определяющий рациональность как способность достигать поставленных целей [Demsetz, 1996].
Сошлемся также на определение экологической рациональности, принадлежащее экономисту, лауреату Нобелевской премии В. Смиту: «Поведение какого-либо индивида, какого-либо рынка, какого-либо института или какой-либо другой социальной системы, охватывающей коллектив индивидов, является экологически рациональным в той мере, в какой оно адаптировано к структуре окружающей их среды» [Smith, 2003, p. 769].
Удовлетворительное решение — это решение хуже наилучшего, но лучше наихудшего. Однако какую конкретно точку внутри этого широкого интервала значений (и почему) индивид захочет определить для себя в качестве «удовлетворительной»?
Среди прочего множественность нормативных метрик означает, что менее консистентное поведение не обязательно должно признаваться менее рациональным. В определенных ситуациях большее число отклонений от эталона полной внутренней согласованности предпочтений может сопровождаться достижением лучших результатов и в этом смысле быть более рациональным.
Аналогичные результаты были бы получены, если бы вместо МНК использовались другие регрессионные модели — пробит, логит и т. д. Возражение, что полученные коэффициенты статистически незначимы, также бьет мимо цели: произвольно увеличив в приведенном примере число наблюдений, можно было бы легко добиться стандартных уровней статистической значимости [Berg, 2014].
Можно сказать, что в отличие от поведенческих экономистов сторонники концепции экологической рациональности видят свою главную задачу не в том, чтобы подталкивать людей в нужном направлении, а в том, чтобы пытаться научить их, как можно подталкивания распознавать и им сопротивляться.
«Идея о том, что „люди-иррациональны-и-наука-доказала-это“, служит полезной пропагандой для любого, кто захотел бы торговать рациональностью» [Lopes, 1991, p. 78].
Опубликовано: Вопросы экономики. 2019. № 7. С. 119–146; № 8. С. 98–126.
«Институциональные различия определяли динамику экономического роста на протяжении всех эпох» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 172].
Одно из немногих исключений — работа В. В. Арсланова [Арсланов, 2016].
Можно сказать, что если объяснения первого уровня занимаются причинами, то объяснения второго уровня — причинами причин экономического роста. Отсюда приставка «мета» в их обозначении.
Характерно, что в книге Аджемоглу и Робинсона глава, посвященная критическому разбору альтернативных объяснений, так и называется — «Теории, которые не работают».
Согласно их представлениям, все дело в том, что если права собственности регулируют отношения между «обычными» людьми и сильными мира сего (прежде всего, правителями), то контрактные права регулируют отношения «обычных» людей между собой.
Норт сам с готовностью признавал, что его подход является продолжением и развитием неоклассического анализа: «Моя аналитическая схема, — замечал он, — представляет собой модификацию неоклассической теории» [Норт, 2004, с. 89].
Как и на любом другом рынке, на рынке идей следует различать предложение и спрос: процесс генерирования идей, с одной стороны, и процесс их отбора — с другой. Факторы, под действием которых может осуществляться отбор на этом рынке, обсуждаются в работах: [Boyd, Richerson, 1985; 2005].
Нетождественность идеологий и культур подробно обосновывает Ш. Берман: «Культуры и идеологии… можно и нужно разграничивать. Культуры ассоциируются с группами, которые опознаются по определенным специфическим и, как правило, легко различимым характеристикам, преимущественно аскриптивного характера. Индивиды обычно не подключаются к культуре сами и не переключаются с одной на другую, они просто принадлежат ей — обычно той, в которой родились или были социализированы в раннем возрасте. Кроме того, культуры не направлены на достижение каких-либо определенных целей… (помимо, возможно, выживания в данной среде). Они обеспечивают лишь… самые общие ориентиры и правила поведения, которые регулируют социальную и даже политическую и экономическую жизнь людей. Идеологии отличны от культуры в обоих отношениях. Хотя они также ассоциируются с определенными группами, эти группы не задаются их предсуществующими (аскриптивными) характеристиками. Идеологии создают свои собственные сообщества, состоящие из индивидов, объединенных лишь принятием самой идеологии и приверженностью ей. …Более того, в отличие от культур, идеологии вырабатываются для достижения определенных целей. …Одним словом, идеологии… отличаются способностью создавать свои собственные сообщества сторонников, а также эксплицитным целедостигающим характером» [Berman, 2013, p. 224–225].
Убедительные аргументы в поддержку идеационного подхода приводят Ш. Муканд и Д. Родрик [Mukand, Rodrik, 2018]. Его резкую критику, исходящую из представления о всесилии интересов, см.: [Тамбовцев, 2019].
Вот лишь одно из наиболее характерных высказываний: «Переход от ограниченного доступа к открытому происходит в два шага. Каждый из этих шагов должен соответствовать эгоистическим интересам элит (Kурсив мой. — Р. К.)» [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 401].
Сходным образом Аджемоглу и Робинсон утверждают, что культура есть «следствие работы определенных институтов» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 83].
Норт, Уоллис и Вайнгаст отказываются признавать, что идеи могут иметь самостоятельное значение, поскольку не подкрепленные институционально, они беспомощны и не в состоянии ничего изменить [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 433]. Идеи, существующие сами по себе в отрыве от институтов, остаются абстракциями и, следовательно, их влияние эфемерно [Weingast, 2016]. Уязвимость подобной аргументация в том, что она легко поддается инверсии. С таким же успехом можно сказать, что институты, не опирающиеся ни на какую идеологию, становятся проформой и потому, взятые сами по себе, мало на что способны повлиять.
Еще пример: Аджемоглу и Робинсон отмечают, что отмена работорговли и рабовладения в Британской империи в начале XIX в. стала финалом широкой общественной кампании, развернутой аболиционистами [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 345]. Но британцы, являвшиеся налогоплательщиками, никак не могли быть материально заинтересованы в принятии подобного решения, так как при отмене рабства государству пришлось взять на себя обязательство по выплате бывшим рабовладельцам солидной денежной компенсации.
«Возможно, Ким Ир Сен и члены коммунистической партии на Севере верили в конце 1940-х годов, что коммунистическая политика будет лучше для страны и экономики. Однако к 1980 г. стало ясно, что коммунистическая экономическая политика на Севере не работает. Продолжающиеся попытки лидеров цепляться за такую политику и за сохранение власти можно объяснить только их стремлением преследовать свои интересы за счет остального населения. Плохие институты остаются в силе явно не в интересах всего общества в целом, а в интересах правящей элиты и подобное положение вещей просматривается в большинстве случаев институциональных провалов» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 406–407].
Это, конечно, не означает, что я предлагаю заменить один монокаузальный подход (институциональный) на другой монокаузальный подход (идеационный). Речь идет лишь о том, что при анализе «критических развилок» в экономической истории (термин Аджемоглу и Робинсона) не стоит переоценивать роль интересов и недооценивать роль идей. Возможно, наиболее точная формулировка по вопросу о соотношении между ними была предложена в свое время Максом Вебером: «Интересы (материальные и духовные), а не идеи господствуют непосредственно над деятельностью людей; но „картины мира“, создаваемые „идеями“, очень часто служили вехами, указывающими путь, по которому динамика интересов направляла действия» [Вебер, 2006, с. 223].
«Гарантии прав собственности», «запреты на использование насилия», «защита от экспроприации», «защита от конфискационных налогов», «свобода контрактов», «открытый вход на рынок», «свободное перемещение товаров и людей во времени и пространстве», «свобода конкуренции», «доступ к справедливому суду», «равенство перед законом», «верховенство права», «отсутствие дискриминации» и т. д.
«Поскольку государственная власть является одновременно ограниченной и достаточно широко распределенной между различными общественными группами, могут появиться и развиваться экономические институты, способствующие процветанию» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 64]. Рассредоточение политической власти уменьшает опасность, что государство станет орудием в руках каких-либо заинтересованных групп и что через него они начнут перераспределять ресурсы общества в свою пользу.
В данном пункте панинституционализм жестко оппонирует теории модернизации, где роли распределяются обратным образом. В ней предполагается, что общества, которым удалось достаточно далеко продвинуться по пути социально-экономической модернизации, рано или поздно отказываются от авторитаризма и переходят к демократии [Lipset, 1959]. Не демократизация служит триггером экономического роста, а, напротив, экономический рост служит триггером демократизации. Отсюда понятно то категорическое неприятие, с каким нортианцы относятся к теории модернизации [Acemoglu et al., 2005b; 2008; 2009]. Не вдаваясь в детали этого спора, отметим, что ни та ни другая сторона не допускают, что их объяснительные схемы могут сталкиваться с проблемой пропущенной переменной. Нельзя исключить, что ни экономическая «инклюзивность» не обусловливает напрямую политическую «инклюзивность», ни наоборот. И та и другая могут быть производными от действия некого третьего, общего для них фактора. Наиболее вероятным кандидатом на эту роль являются, по-видимому, идеи: именно идеологический сдвиг, имевший место в XVIII в., мог стать той силой, которая подтолкнула к переходу как от мальтузианского к шумпетерианскому экономическому росту, так и от авторитарного правления к современной демократии.
Парадоксально, но панинституционалисты не замечают, что предлагаемая ими логика неприложима к генезису главнейшего для них самих института — правам собственности, которые «по возрасту» намного старше государства. Как известно, люди начали заниматься земледелием и скотоводством (которые были бы невозможны без разграничения прав собственности) задолго до того, как на историческую арену вышло государство.
«Боязнь созидательного разрушения — это главная причина, по которой рост уровня жизни, начиная с неолитической эпохи и до промышленной революции, не был устойчивым» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 252].
Подсчитано, что если в развитых странах крупные столкновения с применением силы возникали в среднем один раз в 60 лет, то в развивающихся один раз в 8 лет [Cox et al., 2015].
Тезис панинституционалистов о том, что переход от «плохих» (авторитарных) к «хорошим» (демократическим) политическим институтам всегда и везде являлся сознательным выбором элит, также плохо согласуется с известными фактами. Из примерно 200 изученных случаев лишь в 6–8 % из них демократизация была результатом сознательного выбора правящих групп, тогда как во всех остальных — результатом ошибок и просчетов, которые — при попытках сохранения «плохих» политических институтов — они совершали [Treisman, 2017].
Первый такой эпизод датируется как минимум третьим тысячелетием до н. э.
Как показывает анализ, вероятность возникновения «расцветов» была выше: 1) в местах активного взаимодействия различных культур и идей; 2) в центрах международной торговли; 3) в периоды консолидации общества после серьезных социальных и политических потрясений. В то же время их почти никогда не наблюдалось в изолированных обществах, а также в периоды длительной социальной и политической стабильности, когда в социуме воцарялся конформизм, подкрепляемый обычаями и предпочтениями элит [Goldstone, 2002].
По прошествии времени потомки начинали ностальгически вспоминать об этих периодах как о минувших «золотых веках».
В том же духе высказывается Б. Вайнгаст: «Средневековый мир был лишен… надежных прав собственности, защиты контрактов, верховенства права и отсутствия насилия» [Weingast, 2016, p. 191].
Исторические неточности в книге Аджемоглу и Робинсона подробно разбираются в работе: [Арсланов, 2016].
«Средневековая Англия отличалась поразительной институциональной стабильностью. Большинство ее жителей могли не опасаться посягательств ни на свою личность, ни на собственность. Рынки товаров, труда, капитала и даже земли в целом были свободными. Собственно, если применять к средневековой Англии критерии, обычно используемые Международным валютным фондом и Всемирным банком при оценке того, насколько сильны экономические стимулы, то она получит намного более высокий рейтинг, чем все современные богатые экономики, включая и современную Англию» [Кларк, 2012, с. 213].
Параллельно с ростом организационной сложности происходит и рост институциональной: в рамках хрупких естественных государств можно говорить лишь о зачатках права [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 101]; в базисных — формируются развитые институты публичного права [Там же, с. 102]; в зрелых — к ним добавляются институты частного права [Там же, с. 146]. По ходу этого процесса права собственности становятся постепенно более надежными, менее подверженными рискам ограничения или экспроприации — в первую очередь, конечно, у элит, но отчасти также и у других социальных групп.
«Все граждане получают возможность формировать экономические, политические, религиозные или социальные организации, призванные выполнять любые мыслимые функции» [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 422].
«Пороговые условия являются необходимыми, но недостаточными условиями перехода от естественного государства к порядку открытого доступа» [Там же, с. 322].
«Когда элиты создают больший открытый доступ к политическим и экономическим организациям для самих себя, иногда у них возникают стимулы расширить доступ в некоторых пограничных областях и для не принадлежащего к элите населения» [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 75].
«Обеспечение конкуренции в условиях открытого доступа — это фундаментальное требование для государства, в политике оно реализуется посредством создания организованных политических партий, а в экономике — посредством создания организованных бизнес-единиц» [Там же, с. 415].
Сами авторы «Насилия и социальных порядков» упоминают только о трех таких случаях — античной Греции, республиканском Риме и городах-государствах Северной Италии эпохи Возрождения [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2016, с. 266].
По мнению Норта и его соавторов, так происходит по нескольким причинам [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2016, с. 222–226]. Во-первых, чтобы снизить риски, связанные с превратностями рынка, возникает потребность в масштабных программах социального страхования. Во-вторых, учет интересов более многочисленных групп населения расширяет диапазон производимых государством общественных благ. В-третьих, чтобы ограничить влияние групп со специальными интересами, требуется сложно организованная и, следовательно, дорогостоящая государственная машина с широким разделением властей и множественностью точек вето. В-четвертых, из-за подключения к политическому процессу больших масс граждан (инклюзивность) становится невозможно избежать той или иной формы перераспределения доходов.
«Распределение ресурсов в обществе является неизбежно конфликтным и поэтому политическим решением» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 394].
«Хотя экономические институты являются важным фактором, обусловливающим экономические результаты, сами по себе они являются эндогенными и определяются политическими институтами и распределением ресурсов общества» [Там же, с. 392].
Это среди прочего исключает возможность заключения «общественного договора», что бы по этому поводу ни утверждали его теоретики [Acemoglu et al., 2005а, p. 429].
Политическая теорема Коуза, как она формулируется Аджемоглу и его соавторами, предполагает, что экономически неэффективные институты должны быть нежизнеспособны, так как сделки по принципу «введение лучшего института в обмен на выплату компенсации тем, кому выгоден существующий худший институт» будут быстро вести к их исчезновению. В подобных условиях выживали бы только экономически эффективные институты. Но поскольку в реальном мире политическая теорема Коуза не выполняется, неэффективные институты оказываются устойчивыми и могут сохраняться сколь угодно долго.
«Поскольку многие из членов парламента занимались торговлей и производством, в их интересах было обеспечить соблюдение прав собственности» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 262].
«Крупное событие или стечение обстоятельств может разрушить сложившийся баланс экономических и политических сил и стать точкой перелома на пути институционального развития страны» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 88].
«На какой путь институционального развития встанет страна, зависит… от того, какая из враждующих групп одержит верх, какие группы смогут составить коалицию с другими, какие политические лидеры смогут повернуть ситуацию в свою пользу» [Там же, с. 91].
Отсюда видно, что нередко встречающиеся обвинения Норта, Аджемоглу и их единомышленников в «институциональном детерминизме» полностью безосновательны.
Нельзя не признать также, что называть «широкой» коалицию, представляющую интересы 2 % населения, уже само по себе достаточно экстравагантно.
Один из видных политических деятелей Великобритании XVIII в. Чарльз Фокс утверждал, что в Европе есть только два конституционных государства — Англия и Вюртемберг.
К этому можно добавить, что во многих случаях английский парламент сам проводил рентоориентированную политику, подрывавшую экономический рост: в течение долгого времени он сохранял такие «экстрактивные» институты, как рабовладение и работорговлю; активно поддерживал колониальную систему; широко прибегал к различным меркантилистским мерам (таким как запретительные тарифы во внешней торговле).
По словам Аджемоглу и его соавторов, Европа Средних веков и раннего Нового времени была неспособна на экономический рост «из-за отсутствия прав собственности для землевладельцев, купцов и протопромышленников» [Acemoglu et al., 2005a, p. 393].
Аджемоглу и Робинсон поясняют: «Архаичная система прав собственности на большую часть земли делала инвестиции в нее рискованными, поскольку землю во многих случаях нельзя было продать. Все изменилось после Славной революции» [Аджемоглу, Робинсон, 2016, с. 143].
Ср. также с итоговой оценкой Дж. Ходжсона: «Славная революция не создала новых законов относительно собственности. Она произвела на свет лишь несколько указов, обеспечивших увеличение значимости парламента. Ее непосредственным результатом не стало укрепление гарантий прав собственности и ускорение темпов экономического роста или увеличение экономического веса буржуазии» [Ходжсон, 2017, с. 85].
«Система патентов практически не защищала большинство инноваций… и любые новшества быстро перенимались другими производителями. …Последняя серьезная реформа патентной системы была произведена в 1689 г., более чем за 100 лет до того, как повышение эффективности приняло повсеместный характер. Кроме того, патентная система сама по себе сыграла незначительную роль в большинстве инноваций времен английской промышленной революции» [Кларк, 2012, с. 333].
Опубликовано: Вопросы экономики. 2018. № 5. С. 110–128. Настоящий текст представляет собой переработанную версию доклада, представленного на XVII ежегодной конференции из цикла «Леонтьевские чтения» «Экономическая теория: триумф или кризис?» (СПб., 16–17 февраля 2018 г.).
Аналогичным — преимущественно «блогосферным» — образом происходило формирование и так называемой современной денежной теории (modern monetary theory), завоевавшей в самые последние годы огромную популярность.
Как сказано, такую атеоретическую установку разделяют далеко не все современные экономисты. Многие по-прежнему считают теоретическое осмысление получаемых эмпирических результатов необходимой и критически важной частью научного анализа. Так, нулевую или положительную реакцию занятости неквалифицированной рабочей силы на повышение минимальной заработной платы они интерпретируют как свидетельство того, что рынок труда для таких работников является монопсонистическим. (Как известно, в этом случае повышение заработной платы будет обеспечивать расширение занятости.) Но здесь стоит сделать два уточнения. Первое: если спросить тех, кто так рассуждает, на каком основании они делают вывод о существовании монопсонии для неквалифицированных работников, то последует ответ: да на том, что, как показывают эконометрические оценки, эластичность спроса на труд этих работников является нулевой или положительной! Перед нами пример циркулярной аргументации: нулевая/положительная эластичность спроса — потому что монопсония; монопсония — потому что нулевая/положительная эластичность спроса. Второе: начиная со знаменитой работы Д. Карда и А. Крюгера [Card, Krueger, 1994], подавляющее большинство современных исследований по проблеме минимальной заработной платы строится на данных по занятым на предприятиях фастфуда. Но само предположение о том, что работники всех этих понатыканных чуть ли не на каждом углу макдональдсов, бургеркингов, пиццахатов и т. д. страдают от монопсонии, выглядит как сверхгероическое: если оно о чем-то и говорит, то, пожалуй, только о чрезвычайно развитом воображении тех, кто его высказывает.
Кстати сказать, самая первая работа, где был сделан вывод об отсутствии какого-либо влияния повышения минимальной заработной платы на занятость неквалифицированных работников, строилась как раз таки на квазиэкспериментальных данных [Card, Krueger, 1994].
В этом же направлении в последние десятилетия сдвигалась и теория роста. В новейших исследованиях предметом наиболее активного обсуждения стал вопрос о глубинных факторах экономического развития: какие из них имеют наибольшее, а какие — наименьшее значение: природные условия, институты, культура? Анализ ведется с использованием квазиэкспериментальной методологии, без попыток построения какой-либо общей теории, способной объяснить, как эти факторы взаимодействуют друг с другом и почему одни могут быть важнее других. Усмотреть какую-либо теорию за утверждением «институты важнее культуры» так же невозможно, как и за прямо обратным утверждением «культура важнее институтов». Фактически вся «теория» сводится здесь к рассуждениям и оценкам в терминах больше/меньше.
В известном смысле всю современную эконометрику можно рассматривать как одну гигантскую надстройку над маршалловским ceteris paribus.
Можно, конечно, сказать, что в данном примере теория предоставляется другой дисциплиной — физиологией, у которой экономический анализ оказывается как бы «на подхвате». (Аналогично в знаменитой серии экспериментальных исследований о влиянии размера школьных классов на развитие способностей учащихся он оказывается «на подхвате» у педагогической психологии.) В этом смысле более чистый случай дает поведенческая экономика, где под каждый эксперимент, под каждую поведенческую аномалию принято создавать свою особую формальную модель (по сути — строить отдельную «теорию»). Проблема с таким подходом состоит в том, что для отдельно взятого эмпирического факта можно построить с десяток различных формальных моделей, описать его в терминах десятка разных «теорий». Де-факто исследовательская практика поведенческой экономики означает разрыв с гипотетико-дедуктивным пониманием природы научного знания, утвердившимся в философии науки после К. Поппера. В совсем упрощенном изложении: формулируется некая общая теоретическая схема, не подлежащая непосредственной эмпирической проверке; из нее выводится (дедуцируется) некое высказывание более низкого уровня, которое уже поддается проверке на эмпирических данных; если результаты проверки не противоречат этому эмпирическому высказыванию, то оно принимается, а вместе с ним принимается и общая теоретическая схема, из которой оно было выведено. По сути, поведенческая экономика возвращается к более примитивному допопперовскому индуктивистскому пониманию науки, при котором фильтр отбора гипотез оказывается на порядок менее жестким: ведь при гипотетико-дедуктивном подходе эмпирическое высказывание «подтверждается» не только проверкой на фактах, но также и тем, что оно не противоречит, во-первых, общей теоретической схеме и, во-вторых, другим эмпирическим предсказаниям, которые из нее вытекают. (Я не выступаю здесь с «сильным» утверждением, что экономическая наука реально строилась как гипотетико-дедуктивная; достаточно того, что она пыталась ею быть и что большинство экономистов считали ее именно таковой.)
Приведем еще один пример, на этот раз — из экономики развития. Известно, что в развивающихся странах школьные учителя часто манкируют своими обязанностями, либо не являясь в школы вообще, либо формально отбывая в них положенное время, но не ведя реальных занятий. В ставшем классическим эксперименте, Э. Дюфло и Р. Ханна показали, как слабость стимулов и недостаточный мониторинг могут становиться причиной учительского абсентеизма [Duflo, Hanna, 2005]. Эксперимент проводился в нескольких небольших деревнях, разбросанных в гористой местности округа Удайпур в индийском штате Раджастхан, где обучение учащихся всех классов ведет, как правило, один учитель. В этой части Индии уровень учительского абсентеизма (доля учебных дней, когда учителя вообще не появлялись в школах) оценивался в 44 %. Было отобрано 120 деревень, 60 из которых случайным образом попали в экспериментальную и 60 в контрольную группы. Месячная заработная плата учителей в первой группе варьировала от 500 до 1300 рупий, во второй составляла 1000 рупий. По условиям эксперимента учителя из первой группы должны были ежедневно фиксировать на фотокамеру время своего прихода в школу и ухода из нее. За каждый день, когда они проводили в школе не менее 5 ч, им выплачивалась премия в размере 50 рупий (примерно 1 долл. США по официальному обменному курсу). Схема, сочетающая денежное стимулирование с эффективным мониторингом, обеспечила почти двукратное снижение уровня учительского абсентеизма в экспериментальной группе — до 22 %. Таким образом, благодаря использованию экспериментального дизайна исследователям удалось не только достоверно идентифицировать действовавшие в данном случае причинные механизмы, но и точно оценить их эффект. Эксперимент продемонстрировал, как можно успешно бороться с учительским абсентеизмом в развивающихся странах.
Этот пример интересен еще и тем, что он наглядно иллюстрирует неявный дрейф целей, который за последние десятилетия претерпела экономика развития: если раньше она фокусировалась на обсуждении таких общих проблем, как выбор между рынком и централизованным планированием, между частной и государственной собственностью, между инвестированием в физический и в человеческий капитал и т. д., то теперь ее внимание привлекают почти исключительно узко прикладные, локальные темы: как снизить в развивающихся странах уровень абсентеизма школьных учителей, как повысить в них уровень вакцинации детей, как подтолкнуть фермеров к использованию современных удобрений и т. д.? Но, скажем, Э. Дюфло видит в таком «ускромнении» исследовательских задач скорее достоинство, чем недостаток. (Отметим, что она считается одним из признанных лидеров в применении экспериментальных методов к проблемам экономики развития и недавно стала лауреатом Нобелевской премии по экономике.) С ее точки зрения, развивающимся странам лучше держаться философии малых дел, которую олицетворяет экспериментальный подход, чем пытаться заигрывать с теми или иными идеями масштабного переустройства общества, которые за долгие десятилетия так и не смогли помочь им выбраться из ловушки бедности.
Подробнее об «эмпирическом повороте» в экономической науке см.: [Backhouse, Cherrier, 2017].
О преобладающей интервенционистской направленности современной экономической науки среди прочего свидетельствует тот простой факт, что при публикации работы от автора практически в обязательном порядке требуется включение в нее раздела Policy implications. В свое время лауреат Нобелевской премии по экономике Дж. Бьюкенен призывал экономистов перестать давать политические советы исходя из установки, будто они наняты для этого неким благожелательным деспотом [Buchanan, 1987]. Бьюкенен не был услышан и подавляющее большинство современных экономистов продолжают воспринимать себя так, как если бы они действительно состояли на службе у благожелательного деспота — государства.
Некоторые более радикальные критики предлагают также отказаться от обязательного построения макроэкономических моделей на микроэкономических основаниях и вернуться к более ранней (кейнсианской) практике использования чисто эмпирических наблюдаемых закономерностей, не выводимых из оптимизирующего поведения индивидов [Wren-Lewis, 2018].
К сходному выводу недавно пришел П. Кругман [Krugman, 2018].
* Опубликовано: Вопросы экономики. 2017. № 4. С. 117–139.
В дальнейшем при цитировании этой работы для краткости будут приводиться только номера страниц без указания самого источника.
Одна из причин, почему неравенство в распределении богатства всегда превосходит неравенство в распределении доходов, заключается в том, что оценки богатства отражают владение только материальными активами и не учитывают владение нематериальными (человеческим капиталом).
Различия в уровнях благосостояния зависят также от неравенства в распределении времени досуга. В США за последние десятилетия прирост часов досуга у низкодоходных групп был значительно больше, чем у высокодоходных [Attanasio, Pistaferri, 2016].
Картина с динамикой другого показателя неравенства — коэффициента Джини — оказывается еще более пестрой [Atkinson, Morelli, 2014]. В США коэффициент Джини по доходам достигал 0,5 в 1930-е годы, снизился до 0,4 во время Второй мировой войны, колебался вокруг этого уровня до начала 1980-х годов и вырос до примерно 0,45 к настоящему времени. Великобритания: довоенный период — 0,45, период войны — 0,35, 1970-е годы — 0,25, настоящее время — возврат на уровень 0,35. Германия: снижение с 0,30 в 1950-е годы до 0,25 в 1970-е годы с постепенным приближением к отметке 0,30 в настоящее время. Дания: резкое снижение с 0,50 в конце 1940-х годов до 0,35 в настоящее время. Италия: снижение с 0,5 в 1900 г. до 0,3 в 1990 г. с последующим повышением до 0,35. Нидерланды: снижение с 0,4 в 1960-е годы до 0,35 в 1970-е годы с последующей стабилизацией. Финляндия: начало 1960-х годов — 0,3, середина 1970-х годов — снижение до 0,2, возвратный рост до 0,25 к началу 2010-х годов. Франция: почти монотонное снижение с 0,4 в середине 1950-х годов до 0,3 в настоящее время. Швеция: в начале 1950-х годов — примерно 0,3, падение до 0,2 к концу 1980-х годов, возвратный рост почти до 0,3 в настоящее время. Япония: минимальный рост с 0,37 в начале 1960-х годов до 0,4 в настоящее время. (Оценки непригодны для межстрановых сопоставлений, так как рассчитывались исходя из разных определений дохода.)
Следует оговориться, что альтернативные оценки, рассчитываемые и публикуемые Бюджетным управлением конгресса США, показывают рост неравенства в доходах в расчете на одного члена домохозяйства [Congressional Budget Office, 2014].
Любопытно, что М. Фридман еще в конце 1930-х годов подверг метод капитализации сокрушительной критике [Friedman, 1939]. По его мнению, такой метод измерения богатства обладает настолько фатальными неустранимыми недостатками, что оценки, полученные с его помощью, просто не имеют смысла.
Это напоминает концепцию Т. Пикетти, согласно которой 1930–1970-е годы следует считать аномальным периодом в истории капитализма: только из-за уникального стечения обстоятельств — войн, экономических кризисов, политических потрясений — неравенство в этот период резко пошло вниз [Piketty, 2014]. Однако последовавшая за тем стабилизация привела к тому, что капитализм стал возвращаться к «естественному» для него уровню неравенства.
Все это очень плохо вяжется с идеей «патримониального капитализма» Т. Пикетти (о ней кратко упоминается в статье К. Джомо и В. Попова), согласно которой в составе верхнего 1 % непрерывно должна возрастать доля богатых наследников, выступающих в роли рантье [Piketty, 2014].
Параллельно с этим шло быстрое сокращение неравенства в полученном образовании. За шесть десятилетий глобальное неравенство по образованию для всего взрослого населения (коэффициент Джини) снизилось с 0,64 в 1950 г. до 0,34 в 2010 г., в том числе в развитых странах — с 0,38 до 0,19, а в развивающихся — с 0,73 до 0,36. Для группы 15–24 лет снижение было еще более радикальным и сейчас по неравенству в полученном образовании молодежь в развивающихся странах почти сравнялась с молодежью в развитых: коэффициенты Джини для них соотносятся соответственно как 0,25 против 0,16 [Benaabdelaali et al., 2012].
В этом контексте Э. Аткинсон замечает, что динамику неравенства лучше рассматривать в терминах эпизодов, чем в терминах трендов [Atkinson, 2015].
Впрочем, противореча самим себе, они замечают, что углубление неравенства в последние десятилетия не сопровождалось каким-либо ростом «организованного социального протеста» [с. 155]. Означает ли это, что оно, по их мнению, сопровождалось ростом неорганизованного социального протеста?
Интересно также отметить, что ни один из этих механизмов не предполагает непосредственного влияния неравенства на экономический рост. Во всех четырех случаях его воздействие на рост осуществляется через посредство каких-либо иных факторов. Так, например, в объяснениях, фокусирующихся на инвестициях в детей (механизмы 2 и 4), таким фактором выступает высокий уровень бедности (логическая цепочка: большое неравенство ⇨ высокая бедность ⇨ низкие инвестиции в качество/высокие инвестиции в количество детей ⇨ низкие темпы роста).
На российских данных анализ этой статистической иллюзии представлен в работах: [Капелюшников, 2009; 2014].
Расхождение между этими индексами связано не только с использованием разной методологии, но также и с тем, что их оценки базируются на разных по составу корзинах товаров и услуг: в одном случае это — потребленные товары и услуги (включая импортные), в другом — произведенные товары и услуги (включая экспортные).
На этом выводе строится, например, концепция справедливости Р. Дворкина [Dworkin, 2000].
Это, впрочем, не мешает тем же авторам высказывать прямо противоположные суждения о том, что сверхвысокие налоги на богатых необходимы, чтобы устранить экстернальный эффект, связанный с их избыточным потреблением (таково, например, мнение П. Кругмана).
Впрочем, при более внимательном анализе обнаруживается, что сторонники конфискационных налогов и усиления государственного контроля за экономикой вовсе не против влияния на государство тех, кто разделяет их политические установки (например, профсоюзов государственных служащих): они против влияния на него лишь тех, кто их взглядов не разделяет [Cochrane, 2014].
* Опубликовано: Republic. 4 сентября 2017. .
* Опубликовано: Вопросы экономики. 2019. № 4. C. 91–106.
* Сокращенный вариант опубликован: Вопросы экономики. 2015. № 5. С. 104–133.
В отличие от других авторов, идущих вслед за Хансеном, Коуэн предпочитает пользоваться определением «великая», а не «вековая» стагнация.
При этом Коуэн специально оговаривается, что в подавляющем большинстве стран низко висящие плоды по-прежнему сохраняются в изобилии, поскольку ничто не мешает им заимствовать технологии и институциональные идеи из США, Европы или Японии.
Первыми выражение «новая нормальность» для обозначения ожидаемого долговременного замедления экономического роста начали использовать не академические экономисты, а бизнес-аналитики [El-Erian, 2009]. (Подробнее об этом см.: [Афонцев, 2014].) Но со временем оно проникло также и в академические публикации.
Впрочем, Гордон не отрицает того, что наблюдавшееся в последние годы снижение уровня экономической активности могло происходить также и под действием циклических факторов, так что после преодоления последствий рецессии оно может быть частично отыграно назад.
Существует еще один серьезный повод для тревоги за будущее американского экономического роста: это — потеря экономикой США былого предпринимательского динамизма. Процесс созидательного разрушения, когда более производительные фирмы рождаются, а менее производительные умирают, более производительные рабочие места создаются, а менее производительные ликвидируются, является важнейшим драйвером повышения производительности труда. Согласно имеющимся оценкам, в США с конца 1970-х годов коэффициент рождаемости фирм снизился с 15 до 8 %, тогда как коэффициент их смертности сохранялся примерно на одном и том же уровне 9–10 %. За этот же период коэффициент перераспределения рабочих мест (представляющий собой сумму коэффициентов их создания и ликвидации) упал на 10 п.п. — с 36 до 26 % [Hathaway, Litan, 2014]. Столь значительное ослабление предпринимательской активности также могло способствовать более вялому росту экономики США.
Впрочем, он не упускает случая заметить, что именно таким «черепашьим» темпом росла экономика Англии в доиндустриальный период — 1300–1700-е годы.
Среди российских экономистов сторонником идеи «инновационной паузы» является В. М. Полтерович [Полтерович, 2009].
К этому можно добавить, что падение темпов роста производительности в период 2004–2013 гг. было сосредоточено в секторах, производящих или интенсивно использующих продукты информационных технологий [Fernald, 2014].
В терминах неокейнсианской теории это предполагает, что цены и заработная плата могут оставаться жесткими бесконечно долго.
* Опубликовано: Вопросы экономики. 2017. № 11. С. 70–101.
«Мы поражены новой болезнью, названия которой, возможно, некоторые читатели не слышали, но о которой они будут часто слышать в ближайшие годы, а именно — технологической безработицей» [Keynes, 1931, p. 358].
Еще в начале 1950-х годов он писал: «Труд будет становиться все менее и менее важным. …Все больше и больше работников будут вытесняться машинами. Я не понимаю, как новые отрасли смогут занять всех, кто захочет работать» [Leontief, 1952] (цит. по: [Acemoglu, Restrepo, 2017, p. 1]).
В то же время Рикардо оговаривался, что сокращение занятости под действием новых технологий может иметь место только тогда, когда их внедрение сопровождается уменьшением национального дохода [Samuelson, 1989]. Но ситуация, когда технологический прогресс будет вызывать падение ВВП, представляется настолько редкой, что ее можно считать практически невероятной. С этой точки зрения трактовка Рикардо предстает скорее как теоретический курьез, чем как попытка осмысления экономической реальности.
В «Истории экономического анализа» Й. Шумпетер так комментировал позицию Рикардо: «Он никогда ясно не осознавал того существеннейшего факта относительно капиталистических „машин“, что они производят то, что в количественном и качественном отношении вообще не могло бы быть произведено без них, или, говоря иначе, что они „вытесняют“ рабочих, которые никогда и не рождались на свет» [Schumpeter, 1954, p. 684].
В условиях несовершенной конкуренции компенсирующий эффект будет достигаться не столько за счет снижения цен для потребителей, сколько за счет роста доходов у предпринимателей и работников (см. ниже).
Ссылку Т. Мальтуса и С. Сисмонди (см.: [Vivarelli, 2007]) на то, что первоначальное падение занятости под действием новых технологий будет сопровождаться не ростом, а сокращением совокупного спроса (поскольку часть работников лишится дохода), едва ли можно признать действенным контраргументом, поскольку отмеченный ими эффект является преходящим и способен вызывать повышение безработицы лишь в краткосрочном периоде.
Однако прирост занятости, порожденный «продуктовыми» инновациями в технологически передовых отраслях, может сводиться на нет потерями рабочих мест в «традиционных» отраслях, чья продукция из-за появления на рынке новых видов товаров может начинать выходить из употребления.
Если более эффективные фирмы наращивают рабочие места, тогда как менее эффективные их теряют, то это ведет к повышению общего уровня производительности труда в экономике. Подобная реструктуризация занятости выступает одним из важнейших источников экономического роста.
В то же время новые технологии могут также сокращать время и повышать эффективность поиска на рынке труда. В этом смысле есть основания полагать, что появление ИКТ должно было способствовать, напротив, снижению «естественной» нормы безработицы.
Скажем, по прогнозу Бостон консалтинг груп, к 2035 г. доля беспилотных автомобилей в общем автомобильном парке США составит не более 10 % (цит. по: [Arntz et al., 2016]). Это довольно скромные темпы, явно не предвещающие никакого взрывного роста технологической безработицы на американском рынке труда.
В более поздней работе Бринйолфcсон был вынужден признать, что пока технологии нового поколения не оказывают значимого влияния на динамику производительности, чем и объясняется резкое замедление темпов экономического роста в развитых странах. Чтобы их эффект проявился, потребуется время (возможно, достаточно длительное). Во-первых, распространение таких технологий должно достичь определенного критического уровня. Во-вторых, необходимы инвестиции в комплементарные по отношению к ним факторы. Таким образом, то, что мы наблюдаем сейчас, — это всего лишь переходный период в преддверии будущего «спурта» показателей производительности [Brynjolfsson et al., 2017].
Новые технологии, связанные со Второй промышленной революцией, имели противоположный эффект: существенно облегчив работу по дому, они способствовали массовому выходу на рынок труда женщин, т. е. обеспечили огромное увеличение предложения труда.
Анализ этой проблемы на российских данных см. в работе [Гимпельсон, Капелюшников, 2015].
В то же время некоторые авторы подвергают ее серьезной критике. В частности, они отмечают неясность и расплывчатость критериев при выделении рутинных и нерутинных профессий [Pfeiffer, Suphan, 2015]. По мнению критиков, в основе концепции RBTC лежит логически порочный круг: сначала дается определение рутинных рабочих мест как рабочих мест, легче всего поддающихся автоматизации; затем демонстрируется, что именно такие рабочие места и подвергаются автоматизации чаще всего!
Близкий результат был получен в одном недавнем опросе немецких работников. Лишь 12 % посчитали вероятным, что в ближайшие 10 лет их могут заменить машины [Arntz et al., 2016].
* Опубликовано: Экономическая политика. 2019. № 2. С. 8–63; 2019. № 3. С. 8–55. Автор признателен за поддержку А. Г. Вишневскому, М. Б. Денисенко и А. В. Шаруниной.
В российской статистике английскому термину «dependency ratio» соответствует термин «коэффициент демографической нагрузки». Однако он, как нам кажется, недостаточно адекватно выражает суть возникающих в этом случае экономических отношений. Мы предпочитаем использовать для их обозначения выражение «коэффициент зависимости», хотя подобное словоупотребление не принято в русскоязычной демографической и экономической литературе.
В литературе можно встретить несколько различных определений коэффициента поддержки. Хотя в некоторых работах он рассчитывается как отношение численности независимого населения к численности только зависимого населения, во многих других — как отношение численности независимого населения к численности всего населения (как доля лиц рабочих возрастов в общей численности населения).
Так, один из ожидаемых положительных эффектов эйджинга связан со снижением преступности. В современных обществах пик участия индивидов в криминальной деятельности, как правило, приходится на возраст 20–24 года [Ulmer, Steffensmeier, 2014]. Соответственно, снижение удельного веса этой возрастной группы по ходу старения населения должно по чисто арифметическим причинам вести к заметному сокращению показателей преступности.
С учетом исходного мальтузианского состояния можно считать, что демографический переход включает не три, а четыре стадии.
Отметим, что когда мы говорим о вековом тренде к снижению смертности, то имеем в виду снижение ее возрастных коэффициентов. Непосредственным выражением этого тренда оказывается рост ожидаемой продолжительности жизни. При этом по мере того как старшие когорты становятся все более многочисленными, общий коэффициент смертности должен с определенного момента начать повышаться, поскольку вероятность смерти в более пожилых возрастах по понятным причинам намного выше, чем в более молодых.
Если говорить о динамике доли младших когорт в общей численности населения, то для нее контраст оказывается еще резче: например, в США снижение доли младших когорт в течение последних десятилетий на 90 % объяснялось падением рождаемости и лишь на 10 % — увеличением продолжительности жизни (иными словами, снижением смертности) [Bloom, Luca, 2016].
В этом контексте повышение рождаемости в России в 2005–2015 гг. может рассматриваться как временная флуктуация, связанная со спецификой возрастной пирамиды.
Нулевые или слабо отрицательные темпы прироста населения можно рассматривать как сигнал, что демографический переход в данной стране завершился или близок к завершению.
Но здесь есть существенная разница. Требуя немалых денежных и временны́х издержек, уход за детьми в то же время служит для родителей источником значительных психологических удовлетворений. Уход за престарелыми родителями не порождает для взрослых детей сопоставимых положительных психологических эффектов либо даже имеет достаточно сильные отрицательные эффекты.
Строго говоря, считать всех пожилых и даже всех неработающих пожилых «экономически зависимыми» не вполне корректно. Они могут участвовать в создании ВВП не своим трудом, а своим капиталом, т. е. накопленными ими ранее сбережениями. В таком случае их было бы некорректно причислять к «иждивенцам», живущим за счет других (подробнее об этом см. далее).
В основу прогноза численности занятых для периода 2018–2035 гг. положен средний вариант демографического прогноза Росстата: Федеральная служба государственной статистики. Демографический прогноз до 2035 года. /#. Расчет строился исходя из предположения, что на протяжении всего этого периода уровни занятости для одногодичных когорт (отдельно по мужчинам и женщинам) будут оставаться такими же, какими они были в 2017 г. Таким образом, возможный эффект от повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 и для женщин до 60 лет не учитывался. Подробнее об используемой нами методике подсчета см.: [Gimpelson, Kapeliushnikov, 2017]. Следует также иметь в виду, что результаты демографического прогноза Росстата и демографического прогноза ООН для России (см. предыдущий подраздел) могут различаться. Несколько иной набор альтернативных показателей зависимости/поддержки обсуждается на российских данных в работе [Синявская, 2017].
При оценке этого показателя использовались данные о заработной плате для одногодичных возрастных когорт (отдельно по мужчинам и женщинам). Обследования заработной платы по профессиям (ОЗПП) Росстата за 2015 г. Расчет строился исходя из условного предположения о неизменности распределения заработной платы по возрасту на протяжении всего рассматриваемого периода 1992–2035 гг.
Следует отметить также, что если официальные оценки говорят о том, что период положительного демографического дивиденда в российской экономике длился полтора десятилетия, с 1992 по 2006 г., то международно сопоставимые — что он длился 17 лет, с 1995 по 2011 г.
Коэффициенты экономической зависимости пожилых рассчитывались как отношение численности незанятых в возрасте 65+ к общей численности занятых.
Стандартные оценки уровня занятости решают проблему лишь частично, так как рассчитываются по отношению к численности только взрослого, а не всего населения.
В то же время более продолжительное пребывание в рабочей силе означает более поздний переход к жизни на ранее сделанные сбережения (после ухода на «заслуженный отдых»), что должно отрицательно влиять на склонность к сбережениям. Обсуждение этого вопроса см. ниже, в последующих подразделах работы.
По оценкам Росстата, в настоящее время ожидаемая продолжительность жизни у российских мужчин в возрасте 60 лет составляет около 16 лет, а у российских женщин в возрасте 55 лет — около 26 лет (см: Федеральная служба государственной статистики. Демографический ежегодник России. М.: Росстат, 2017). Соответственно, если исходить из нормативного критерия наступления старости, предложенного Уореном Сандерсоном и Сергеем Щербовым (15 лет остающейся ожидаемой продолжительности жизни), то поднимать планку пенсионного возраста для российских мужчин сейчас вообще не следовало бы, но для российских женщин она могла бы быть поднята на 10 лет. Сходная картина вырисовывается при использовании альтернативного показателя — ожидаемой продолжительности здоровой жизни при рождении. По имеющимся оценкам, в России в 2015 г. она составляла 58 лет для мужчин (т. е. недотягивала даже до прежней официальной планки пенсионного возраста), но 66 лет для женщин [Global, Regional, and National, 2016]. Об этой гендерной асимметрии в российских условиях см. также: [Синявская, 2017].
Приводимые оценки строились исходя из более ранней версии демографического прогноза ООН 2005 г., использованного в работе [Sanderson, Scherbov, 2008].
Интересный, но малоисследованный вопрос заключается в следующем, от возраста какого типа сильнее зависят электоральные предпочтения избирателей — хронологического или перспективного? Как будут склонны голосовать номинально пожилые люди с большой остающейся ожидаемой продолжительностью жизни — как «старики» или как люди, находящиеся в середине жизни?
С этого периода пенсионный возраст в развитых странах стал повышаться в среднем примерно на один год за десятилетие. Тем не менее этот процесс шел намного медленнее, чем увеличивалась остающаяся ожидаемая продолжительность жизни пожилого населения [Lee, 2014].
В работе Дугласа Эльмендорфа и Луиз Шейнер приводятся еще более контрастные оценки: 1:0,64 в первом случае и 1:1,37 — во втором [Elmendorf, Sheiner, 2000].
При расчете уровней потребления учитывались не только прямые денежные расходы домохозяйств, но также натуральные трансферты от государства в виде предоставления бесплатного образования, здравоохранения, жилья, продуктов питания. При оценке трудовых доходов помимо заработной платы наемных работников учитывались также вмененные заработки самозанятых и неоплачиваемых семейных работников. Средний уровень трудовых доходов вычислялся как частное от деления общей суммы трудовых доходов в том или ином возрасте на общую численность индивидов этого возраста (т. е. с включением как занятых, так и незанятых).
Впрочем, в некоторых развитых странах этого скачка в уровнях потребления у пожилых пока еще не наблюдается.
National Transfer Accounts: Understanding the Generational Economy, 2018. .
При интерпретации этих оценок нужно иметь в виду, что в базе данных Национальных трансфертных счетов условные границы между периодами детства, зрелости и старости определяются несколько иначе, чем это делается обычно и чем делалось в предыдущих подразделах настоящей работы: младшие возраста — когорты 0–14 лет, рабочие возраста — когорты 15–64 лет, старшие возраста — когорты 65+ лет.
Напомним, что показатели зависимости, представленные на рис. XVI.22– XVI.23, определялись как отношение численности экономически зависимых к экономически независимым группам, тогда как показатели поддержки, представленные на рис. XVI.30–XVI.31, наоборот, как отношение численности экономически независимых к экономически зависимым группам.
См., например, серию классических работ на эту тему Пола Самуэльсона: [Samuelson, 1975; 1976].
Исключение — ситуация, когда увеличение доли пожилых полностью компенсируется снижением доли детей. Однако в реальности, даже когда такая компенсация имеет место, она почти всегда оказывается лишь частичной.
При условии реализации среднего варианта демографического прогноза Росстата. Случай России примечателен тем, что общая численность российского населения в 2035 г. останется фактически такой же (по среднему варианту демографического прогноза Росстата), какой она была в 2017 г., — 146 млн человек. Это предполагает, что прогнозируемое сокращение занятости (на 5,5 млн человек при неповышении пенсионного возраста и на 4 млн — при его повышении) можно рассматривать как «чистый» эффект старения населения. Близкие прогнозные оценки падения численности рабочей силы и занятых для России получены в работе [Иванова и др., 2017].
«Избыточное» потребление можно представить в виде следующего простого тождества: (потребление — трудовой доход) = доходы от активов — сбережения + полученные трансферты — переданные трансферты [Lee, 2014].
Исследователи выделяют три основные формы межпоколенческих трансфертов: денежные выплаты, предоставление услуг в натуральной форме, совместное проживание [Ibid.].
Интересно отметить, что, скажем, в США индивиды (независимо от их возраста) направляют на сбережения лишь часть доходов от своих активов, тогда как другую их часть «проедают» (направляют на потребление). Это предполагает, что накапливаемые ими активы могут формироваться не столько за счет собственных сбережений, сколько за счет наследств, получаемых от старших поколений [Lee, 2016].
Ср.: «Наиболее важный канал, по которому эйджинг влияет на совокупный выпуск, — это искажения от налогов, предназначаемых для финансирования пенсий в рамках распределительных пенсионных систем» [Weil, 2006].
Некоторые из этих факторов можно учесть, внеся определенные дополнения в уравнение (7). Например, его можно переписать в следующем виде:
С / N = (L / N) × [(Y / L) — (K / L) × (ℓ + a + d]),
где a — темп экзогенного технологического прогресса, а d — норма амортизации [Sheiner et al., 2006].
Подробное обсуждение этого круга вопросов см. в работе [Ляшок, Рощин, 2016].
Ср.: «Более пожилые работники устойчиво оцениваются менеджерами как имеющие более позитивные установки, более надежные и обладающие лучшими трудовыми навыками по сравнению со средним работником, но они оцениваются хуже него, когда речь заходит о физическом состоянии, гибкости при решении новых задач и готовности к переподготовке» (цит. по: [Börsch-Supan, 2006, p. 17–18]).
По этой же причине стимулы инвестировать в человеческий капитал пожилых работников оказываются слабее не только у них самих, но также у фирм, где они трудятся.
Еще одно важное обстоятельство состоит в том, что чем многочисленнее население, тем больше размер рынка и тем больше шансов на то, что инновации смогут окупиться, найдя для себя достаточно большое количество потребителей/пользователей.
В России и других постсоциалистических экономиках обрушение курса акций в связи со старением населения тем более маловероятно, что в них сбережения населения занимают в общей структуре сбережений несравненно меньшее место, чем в развитых странах [From Red to Gray, 2007]. Кроме того, в этих экономиках отдача от капитала все еще остается достаточно высокой (во всяком случае значительно выше, чем в развитых странах). Наконец, в этих экономиках сохраняется очень высокий спрос на жилье.
Этим, собственно, и объясняется потребность в нетрадиционных мерах денежной политики, таких как политика количественного смягчения.
По имеющимся свидетельствам, увеличение ожидаемой продолжительности жизни на «заслуженном отдыхе» повышает норму сбережений в странах с накопительной пенсионной системой, но не повышает ее в странах с солидарной пенсионной системой [Bloom, Luca, 2016].
Здесь стоит добавить, что для разных частей пожилого населения результаты могут различаться. Так, согласно одному недавнему исследованию эффект увеличения доли населения в возрасте 65–79 лет инфляционен, тогда как эффект увеличения доли населения 80+ дефляционен [Juselius, Takats, 2018]. Возможно, это связано с тем, что очень пожилые люди склонны передавать наследства более молодым членам семьи (прежде всего внукам).
Отметим, что повышение пенсионного возраста не более чем одна из возможных форм сокращения пенсионных выплат.
Так, вопреки политико-экономической гипотезе увеличение доли пожилых имеет инфляционный, а не дезинфляционный эффект (табл. XVI.2).
Как отмечает Борш-Зупан, в развитых странах возможность для отказа от солидарных пенсионных систем и их полной замены накопительными/частными пенсионными системами существовала примерно 30 лет назад, но была упущена [Börsch-Supan, 2013]. В настоящее время демографическая ситуация изменилась настолько сильно, что это стало уже технически и финансово невозможно. Поэтому при любых вариантах реформ будущие пенсионные системы в развитых странах неизбежно будут включать в качестве одной из своих подсистем солидарную (распределительную) компоненту.





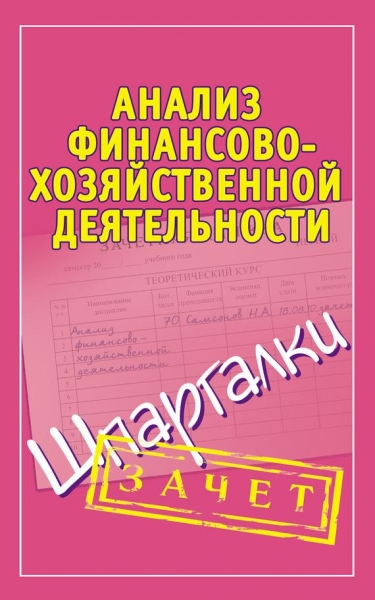
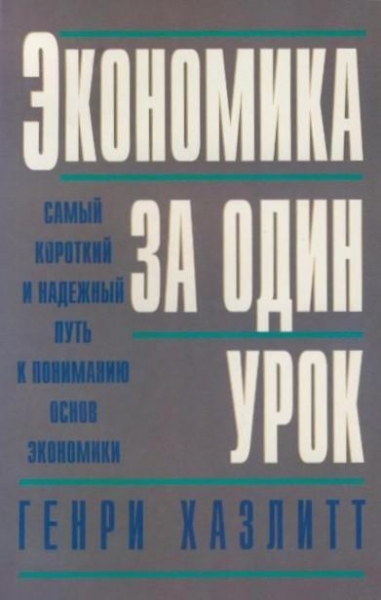


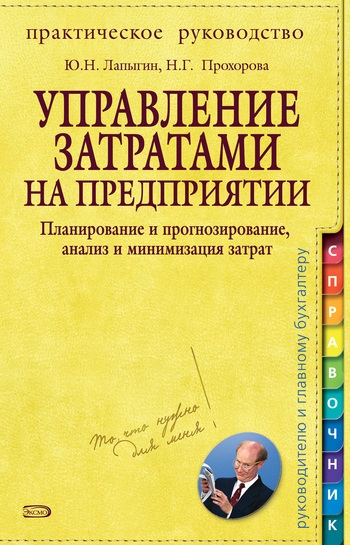
Комментарии к книге «Экономические очерки. История идей, методология, неравенство и рост», Ростислав Исаакович Капелюшников
Всего 0 комментариев