Лики любви Евгений Крушельницкий
Бывают на свете ужасные преступления, но худшее из них —
убить любовь.
© Евгений Крушельницкий, 2019
ISBN 978-5-4496-9014-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Эти истории документальны и случились в нашем веке, а некоторые — и в наши дни. Из них можно было бы составить своеобразную книгу рекордов Гиннесса, посвящённую любви. Но в любви не бывает рекордов. Зато эта вечная тема каждый век являет нам свои поучительные примеры, чтобы мы могли восхититься величием человеческого духа.
Лики любви очень разные, как и люди. А люди — не ангелы, каждый делает, что может. Потому и здесь мы видим как возвышенные примеры благородного чувства, перед которыми смолкают слова, так и затеи совсем другого рода, достойные разве что презрительной усмешки.
Однажды философ мрачно заметил: кто не способен на любовь, довольствуется браком. Наверное, старый холостяк Ницше догадывался, что настоящая любовь не только не признаёт законов, но и часто бывает трагична. Да и законы, кстати сказать, пишут не с думами о любви. Поэтому мы лишь напомним, на что способен homo amans — человек любящий. А любовь на его долю может выпасть разная — злая и слепая, безответная и безоглядная, роковая и даже запрещённая…
Прервём этот бесконечный каталог — у нас ведь не монография «Введение в амурологию», которая, кстати, до сих пор не написана по простой причине — её бесполезности. Делать научные прогнозы эта наука не в силах, потому что каждая история индивидуальна, а полезные советы давно даны народом. Он восхищается: жизнь без любви, что год без весны. Напоминает: любовь закона не знает, годов не считает. Сетует: не любить — горе, а влюбиться — вдвое. Предупреждает: реже видишь — больше любишь. Смеётся: любовь и умника в дураки ставит…
Некоторые драматические события, описанные здесь, отошли в прошлое — например, когда чувствам противостояли государственные границы. О редких счастливых случаях потом писали в газетах, снимали кино. А сколько осталось неизвестных несчастных, благодаря трудам людей с горячими головами и холодными сердцами… Уж про руки говорить не будем.
Но есть немало историй, где действуют сильные характеры и сильные страсти. Многие из них повторятся ещё не раз, потому что такие сюжеты вечны. Как вечны и, казалось бы, непреодолимые стечения обстоятельств, когда в судьбу вмешивается сама природа, испытывая человека на прочность, или тот концентрат слепой воли, который часто именуют государством. Или обществом. Или даже близким окружением.
И это всё о ней
Двое в терновнике
Где мы ищем примеры человеческой верности или образцы вечной любви? Первым делом на ум приходит лишь привычный перечень певцов нежной страсти: Шекспир, Данте, Петрарка…
Но присмотримся к шекспировским Ромео и Джульетте. Ей — тринадцать, ему — чуть больше. Подросток сходит с ума по Розалине, но, увидев Джульетту, тут же забывает первую любовь: новые впечатления оказались посильнее. Шпаги, кинжалы, яд, трупы… Всё происходит очень быстро и очень страстно. Что стало бы с их неистовой любовью через месяц-другой? Для серьезных испытаний эта пара явно не годится.
Данте? Он видел Беатриче Портинари, которой посвятил много прекрасных строк, дважды в жизни — девятилетним мальчиком и спустя девять пет. Дама сердца умерла, когда ему было 25. Любовь к Беатриче ещё долго питала его музу, но к реальной земной жизни это никакого отношения не имело.
Может, Петрарка? Он намного пережил любимую Лауру, посвятив ей сотни сонетов, десятки канцон и мадригалов. А в старости в своём «Письме к потомкам» написал, что в юности страдал «жгучей любовью». Страдал бы и дальше, если бы «жестокая, но полезная смерть не погасила уже гаснущее пламя». И благодарил Господа, который избавил его «от столь презренного и всегда ненавистного (!)» рабства любви.
Что ж, оставим поэтические выдумки. Какой бывает большая любовь у обыкновенных, земных людей?
Злая любовь
У сердца свои доводы, неведомые разуму, сказал философ. Разумные соотечественники 25-летнего итальянца Андреа Пеццони никак не могут ни понять, ни одобрить его выбор. На что это похоже, когда муж годится жене в правнуки: ведь Маргерите — 93…
Общественность — она и в Италии общественность, и очень трепетно относится к любовным историям, где женщина старше мужчины. Короче, итальянцы были очень возмущены. Но на настроении «молодых» это, похоже, не отразилось: позируют себе перед кинокамерами, улыбаются, дают интервью. На одном из снимков Андреа склонился к невесте, держа в руке лилию, символ невинности и чистоты. Кстати, для Маргериты это первый брак. Раньше, по её словам, на это «как-то всё не хватало времени».
Но, может, тут не о чем размышлять? Француз Лабрюйер ещё триста лет назад заметил, что иные дамы более чем зрелых лет легко становятся добычей юнцов, у которых материальные проблемы. Однако Андреа решительно отверг эти подозрения: «У Маргериты нет большого состояния, я обеспечен даже лучше неё. Зато с Марго я обрел настоящую семью и покой».
Что ж, дело хозяйское. Молодожёнам повезло хотя бы в том, что они родились не в России: здесь им было бы не до улыбок.
…Всё началось с того, что в кошельке Ирины Петровны не сказалось двушки, а позвонить надо было обязательно. Навстречу попался какой-то парень, но у него тоже не нашлось нужной монетки. Правда, он предложил позвонить из его квартиры, поскольку всё равно автомат испорчен, а другого поблизости нет.
Ирина Петровна посмотрела на незнакомца с подозрением, но его внешность никаких опасений не внушала: высокий, светловолосый юноша. Симпатичный. Женщина всё равно вряд ли бы согласилась, но последний аргумент её убедил: «Соседи часто звонят от нас, и мама никогда не возражает».
Мама действительно не возражала, а молодой человек, который оказался Георгием и инженером, проводил Ирину Петровну до автобусной остановки. Смущённо улыбаясь, сказал, что будет рад, если она позвонит, но теперь уже ему. Спутница отшутилась. Затем несколько дней вспоминала нового знакомого — и позвонила, потому что была одинока. Встретились, потом ещё… Как-то при случае Ирина Петровна сказала Георгию, что старше его на целых семь лет — ей уже тридцать. Тот спокойно ответил, что ровесницей её не считал, но возраст ему безразличен, потому что он её любит.
Её заботы и тревоги Георгий принимал близко к сердцу. Беспокоился: где же пропадает по вечерам десятилетняя Света, которой давно пора спать? Ирина Петровна всегда находила убедительные причины: у бабушки, у подружки, забрал к себе на выходные бывший муж… Но однажды дочка вернулась домой до того, как Георгий ушёл. Светлана оказалась студенткой и выглядела ненамного моложе маминого поклонника. Она сухо поздоровалась и сразу же ушла в свою комнату. Мать расплакалась: да, ей 43, но она боялась в этом признаться.
Как ни странно, эта встреча оказалась кстати. Скрывать стало нечего, и влюблённые начали встречаться едва ли не ежедневно. Георгий познакомил подругу с родителями, потом вместе поехали в отпуск. Пролетели полтора года, и пара подала заявление в загс.
Однако родственники хотели им обоим добра и не собирались бездействовать. Родители Георгия считали его рассуждения о любви обыкновенной блажью и не допускали даже мысли, что это всерьёз. Когда он вообще перестал разговаривать на эту тему, то переключились на подругу. И та оказалась под двойным давлением: ведь Светлана тоже желала матери счастья. Тем более, то у студентки уже появился ухажер — постарше, между прочим, Георгия. Дочь заявила, что если мамин поклонник не перестанет к ним ходить, то она уйдёт в общежитие. И если на усмешки и перешёптывания сослуживцев, видевших, как парень встречал их коллегу после работы, можно было не обращать внимания, то тут требовалось уже принципиальное решение. В общем, в загс они не пошли, а Ирина Петровна стала приучать и себя, и Георгия к мысли, что лучше всего им расстаться. Даже устроила пробное расставание, на месяц, а там-де видно будет.
Разлука, конечно, получилась довольно условной, потому что молодой человек часами простаивал у дома любимой, чтобы только увидеть её. Встречал после работы и, стараясь остаться незамеченным, шёл за ней. Чтобы услышать голос, звонил по телефону, но не отзывался: уговор.
Месяц тянулся невероятно долго, и парень еле дождался дня, когда им снова можно было встретиться. Он долго звонил в дверь, но никто не открывал. Потом до глубокой ночи крутил диск телефона. А Ирина Петровна сидела дома с дочерью. Прекрасно зная, кто звонит, она пересиливала себя и не отвечала. Но нельзя всё время сидеть в квартире. Когда, наконец, вышла из подъезда, то увидела Георгия. Измученная женщина сказала: «Не нужно нам это. И прежде всего тебе». Парень не поверил и настаивал на разговоре. У неё оставалась лишь спасительная ложь: «Знаешь, у меня всё прошло…»
Конец в духе Шекспира: не сознавая, что делает, Георгий убил её. Хотел убить и себя, но это оказалось труднее.
От коллектива, где работала Ирина Петровна, выступила общественная обвинительница. Однако обвиняла она не убийцу, призывая суд учесть смягчающие обстоятельства, а погибшую, которая полтора года «шокировала коллектив своим поведением».
Верно было сказано задолго до суда: в морали не бывает безвредных заблуждений.
Слепая любовь
Эта история тоже с уголовным финалом, но здесь события разворачивались под флагом государственной безопасности, и потому сюжет получился шпионским.
Немка Габриэле Гаст, из добропорядочной западногерманской семьи, увлекалась романтической поэзией и играла на пианино Шуберта и Шопена. Аспирантка интересовалась и политическими науками, для чего по приглашению родственников отправилась в ГДР, чтобы поработать над докторской диссертацией о политической роли женщины.
Профсоюзные активистки охотно дают материал, а на всех встречах присутствует скромный русоволосый мужчина простодушного вида. Познакомились. Он автомеханик, друзья называют его Карличек. Экскурсия по городу, вечер в баре… Карличек оказывает Габриэле явные знаки внимания и не скрывает своих чувств. Договариваются встретиться ещё раз. И вот она снова в однокомнатной квартире своего друга, где разворачивается бурное продолжение романа.
Ей 25, она готова к любви, и друг появился вовремя. При этом девушка бесконечно далека от немецкого государства трудящихся. Ей кажется совершенно естественным, что простой гражданин может позволить себе роман с иностранкой из идеологически враждебного государства и властям до этого нет никакого дела.
А Карличек, почувствовав, что девушка увлечена всерьёз, осторожно рассказывает ей правду: на самом деле он не автомеханик, а офицер особого назначения министерства госбезопасности ГДР. Особое назначение заключается в том, что форму ему носить не нужно, равно как и ходить на работу в своё министерство. Его работа в других местах — профессиональном комитете или Союзе писателей — в зависимости от задания.
Девушка, конечно, растерялась, но возлюбленный заверил, что всё это не имеет отношения к его глубоким чувствам. Вот только как встречаться дальше? Ведь работа над диссертацией, в отличие от чувств, не на всю жизнь. Конечно, начальник Карличека всё понимает и обещает помочь. Но только если Габи тоже ему поможет — немножко расскажет о своей учёбе…
Что ж, тут у аспирантов секретов нет. Вскоре у неё появился фальшивый паспорт — для встреч с любимым. Понадобился и чемодан с двойным дном: надо же этот паспорт где-то прятать. Пришлось освоить тайнопись, потому что переписку с иностранцем лучше не афишировать. И ещё научиться принимать радиограммы, иначе как же ему регулярно делиться своими чувствами.
А через год — помолвка. Конечно, тайная, с речами чинов из госбезопасности.
Между тем жизнь на родине шла своим чередом. Габриэле — научный сотрудник в мюнхенском институте по международным вопросам. Неожиданно западногерманская разведка предложила способной исследовательнице поработать на благо родины. Коллеги из ГДР оперативно отреагировали радиограммой на это приятное известие. Пожелав успеха, они временно прекратили контакты и, затаив дух, ждали результата. Всё обошлось благополучно. Госбезопасность ГДР получила прекрасного, преданного (впрочем, это ещё впереди) агента, который не брал деньги за свои услуги, а спецслужба ФРГ — не менее старательного сотрудника, который был абсолютно вне подозрений.
Роман продолжался 22 года. Обычно они виделись друг с другом раз в год, во время отпуска. Ради этих встреч она и работала. Встречались в какой-нибудь третьей стране, вроде Австрии или Италии. Но и в первый год «изнемогающий от любви» Карличек не забыл напомнить, что должен привезти из отпуска несколько документов, иначе начальство не позволит ему встретиться с ней ещё раз. Сработало безотказно, а потом напоминать уже не приходилось.
Наступил 1990-й. Коммунистический режим отсчитывает последние месяцы, дело идёт к объединению Германии. На очередной встрече Карличек ждал Габи на пару с каким-то полковником разведки. Полковник поблагодарил женщину за службу, сообщил, что работа закончена, и успокоил: мол, все компрометирующие документы уничтожены.
А верную Габи беспокоит совсем другое: а как же любовь? Как семья? Пока вместо семьи у неё только усыновлённый ребенок-инвалид. Правда, Карличек, который благодаря Габи дослужился до майора, скоро остался без работы, но женщина по-прежнему ни о чём не догадывается и строит планы. Она не знает, что шпионам не следует расслабляться и рассчитывать на спокойную жизнь. Когда без работы оказались десятки тысяч бывших сотрудников МГБ, то среди них, конечно же, нашлись и обиженные. Один из них решил отомстить и предложил западногерманской контрразведке поделиться кое-какой полезной информацией…
Целый год шло следствие. Арестованную навещали мать и сын, но о любимом не было ни слуху ни духу. Вскоре, однако, арестовали и его. Габи увидела своего единственного уже в зале суда. Теперь ему не было нужды притворяться. Он демонстративно избегал бывшей подруги, предпочитая общаться через адвоката. 48-летняя женщина поняла, то все эти годы жила иллюзиями и ни о какой взаимности не может быть и речи. Ромео из спецслужбы оказался слишком мелок для своей Джульетты. Ну какая, ей-Богу, может быть любовь, если она — ради дела?
Безоглядная любовь
От предыдущих историй эта на первый взгляд отличается заурядностью. Тут нет ни шпионской экзотики, ни затяжных конфликтов с общественностью. Пересуды, само собой, были, так ведь и повод был…
Познакомились на пляже. Студентке медучилища 19, ему 23, севастопольский рыбак. Симпатия оказалась не мимолётной, и через месяц Дмитрий уже знакомился с Олиными родителями. Понравился и им. Потом наступил черёд Ольги. Волновалась: первая встреча с будущей свекровью — дело серьёзное. Домой вернулась счастливая. Словом, дело шло к свадьбе. Оставалось познакомить родителей, но это решили отложить, когда Дима, выпускник приборостроительного института, вернётся из своего первого рейса в Южную Атлантику. Пять месяцев, согласитесь, немало, но терпимо.
Больше всего радиограмм с «Апогея» летело в Севастополь от Димы. Он готовился к свадьбе и в далёких портах покупал вина в красивых бутылках. Рейс затянулся, уже восьмой месяц моряки были далеко от дома. За несколько дней до вылета из Кейптауна свободных от вахты пригласили в церковь Святого Джеймса послушать хор. Так Дмитрий Макогон оказался в церкви.
Здесь-то и сбылся тревожный сон матери Дмитрия, Надежды Яковлевны. Незадолго до того дня увидела она сына, привязанного к мачте, а ветер разметал его волосы… На самом же деле случилось иначе: в церковь ворвались террористы в масках, открыли стрельбу, забросали гранатами. Дмитрий остался жив, но ему оторвало обе ноги, а в госпитале пришлось ампутировать и правую руку. Парень был настолько плох, что телевидение поторопилось сообщить об ещё одной жертве бандитов.
Ольга не верила: «Он не мог меня оставить, он так меня любил!» — повторяла она. На следующий день телевизионщики исправили ошибку, а девушка стала собираться в дорогу. Дело это, как известно, хлопотное и дорогое, но люди помогли — и в Севастополе, и в Кейптауне. Встретились спокойно. Ольга обняла и поцеловала жениха, а тот выдохнул: «Наконец-то».
Любовь оказалась лучшим лекарством. Температура спала, моряк стал выглядеть заметно лучше.
Ну а что дальше? Разве мало было разговоров ещё в Севастополе — куда, мол, Ольгины родители смотрят? Девчонка-то по глупости жизнь себе ломает…
В Африке тоже никому объяснять не надо, что значит муж-инвалид. Первый порыв, конечно, благородный: поддержать искалеченного, которому сейчас так нужно участие, — дело святое. Но вот что касается свадьбы… Одного порыва на всю жизнь не хватит, тут нужны мотивы посерьёзнее.
Оле раздумывать над пересудами было некогда, тем более что для себя она всё уже решила. Только перед отъездом в Кейптаун спросила у матери, как бы та поступила на её месте. «Повторила бы каждый твой шаг», — услышала в ответ.
Венчались в той же самой церкви, где жених стал инвалидом. Стоять на протезах было трудно и больно. Пальцы единственной руки слушались плохо, и надеть кольцо на палец невесты Дмитрию удалось лишь после нескольких попыток.
Когда торжества, в которых участвовал весь Кейптаун, прошли, молодым нужно было учиться жить заново, начинать всё сначала, чтобы самим содержать свою семью. Вдвоём засели за компьютер и бухгалтерский учёт. А Дмитрию предстояло осваивать ещё и протезы. Южноафриканские умельцы смастерили ему протезы не только для ног, но и для потерянной руки, причём такой, который реагирует на сигналы мышц предплечья. Кроме левой, парень научился печатать и правой. Но сделать так, чтобы металл чувствовал клавиши, не может никто.
Этой стойкой парой восхищались миллионы людей в разных странах, однако скептики не спешат менять точку зрения. Во-первых, жизнь только начинается и подводить итоги рано. А во-вторых — и до Димы с Олей многие попадали в похожие ситуации. Итоги не в пользу семьи.
…Задолго до описанных событий нечто похожее произошло с другой женщиной — кстати, Олиной ровесницей. Когда её мужа парализовало, то она ушла от него к его другу, чтобы создать новую, здоровую семью. И вдобавок написала в газету — правильно ли поступила. Писем в редакцию пришло множество. Одни клеймили отступницу, другие обращались к здравому смыслу: зачем же нужен больной, когда вокруг столько здоровых? Да вы сами попробуйте в девятнадцать-то лет, и так далее и тому подобное.
Что ж, в конце концов здоровых тоже бросают, если их не любят. А что остаётся без любви, тем более в такой ситуации? Ежедневный натужный подвиг со стиснутыми зубами?
Потому и не отбросить резоны одной читательницы, которой, кстати, самой пришлось тяжело болеть и несколько лет пролежать без движения. Вот её мнение: здоровые должны жить со здоровыми, а больных надо навещать, заботиться, лечить их, но не превращать заботу о них в основное занятие (если, конечно, это не профессия).
Разве она не права? Но чего стоит эта правота в истории двух севастопольцев… Потому что там — любовь, у которой своя логика и свои законы.
Любовь — в ней-то всё и дело. Не зря же молился наш патриарх, чтобы дал Господь нам понять: выше справедливости может быть только прощение, выше права — только милость, а выше закона — только Любовь. И нет на свете ничего важнее этих чувств, на которых, по существу, и держится вся жизнь человеческая.
Но кто знает: не случись в жизни Олиной ровесницы такого испытания — может, и прожили бы они счастливо всю жизнь? Бывает же любовь без испытаний. Но ещё бывает она трудной и ранней, заочной и безысходной… Много чего бывает. Здесь важно, что из невероятных передряг она нередко всё-таки выходит победительницей. Только вот счастье приносит далеко не всем. Шекспир, например, высказался на это счёт категорично:
Да и русский философ Иван Ильин полагал, что обычная влюблённость делает сердце страдающим, и влюблённый на самом деле испытывает лишь слабый отблеск счастья. А подлинное счастье — это когда сердце поёт. Поёт же оно от неиссякающей любви. Но тут уж религиозный философ свернул на дуновение Божьих уст и тому подобные вещи. По его мнению, лишь у одарённого меньшинства, вроде Данте и Петрарки, сердце может петь от любви к женщине.
Ну вот, снова Данте с Петраркой… Но настоящая любовь, как видим, жива и сегодня. Она изредка посещает некоторых из нас, по какой-то неведомой причине избранных небесными силами. И всегда поражает людей чудесами, напоминая о своём божественном происхождении. Эрот, сын Бедности и Богатства, унаследовал от родителей жажду обладания, отвагу и бездомность. Он стремится к прекрасному, он вечный спутник Афродиты. А за прекрасное приходится платить, и часто очень дорого. Однако истинные знатоки не считают цену чрезмерной.
Запрещенная любовь
Немцы вошли в Таганрог осенью 41-го. Шестнадцатилетней Aлле Золотарёвой не удалось ни стать подпольщицей, ни уйти в партизаны. Честно говоря, об этом она не успела подумать, и потому ни о тех, ни o других даже и не слышала. Зато скоро увидела приказ явиться на биржу труда. Хорошего ничего это не сулило, но деваться некуда: родственники за неё отвечали головой. Кончилось всё товарным вагоном с конечной остановкой в Гамбурге.
Ей повезло: хозяин предприятия, куда она попала, оказался нормальным человеком, что означало для его славянских рабов довольно сносную жизнь. Во всяком случае, через два года она почувствовала, что влюбилась. В Ганса, что по советским законам уже само по себе не сулило ничего хорошего. Этот Ганс работал на том же предприятии и фашистов не одобрял. Когда восточным рабочим разрешили выходить в город без конвоя, Алла с Гансом бродили по улицам, мечтая о днях, когда закончится война и они, наконец, будут вместе.
Война закончилась, но если для Ганса испытания режимом остались позади, то для его подруги они только начинались. Мало того, что её без всяких разговоров отправляли домой, так ещё и наивный Ганс разбежался к русскому полковнику c просьбой: мол, он тут живёт недалеко, так нельзя ли, чтобы Алла до отъезда y него немного погостила… Hy, полковник немцу всё объяснил, a его подруга поехала не в Таганрог, a прямиком на Дальний Восток, чтобы в следующий раз не влюблялась во врагов. И если в Гамбурге девушка просто работала, то в советском лагере её перевоспитывали трудом, и выжить, как она потом вспоминала, помогали мысли о далёком немце.
Впрочем, выбор был. Когда после пяти лет лагерей её перевели в калужскую камеру-одиночку, то гэбэшники предложили устроить встречу с Гансом. Надо ему только весточку послать: мол, жива-здорова, учусь в институте иностранных языков, хочу приехать. B общем, родине надо сделать из Ганса советского агента. A иначе…
Алла выбрала «иначе» и оказалась в карагандинском лагере, откуда вышла только в середине пятидесятых. Ей уже тридцать, и надо жить дальше. Вышла замуж за солагерника, побывавшего в плену фронтовика. Но тому здоровья хватило ненадолго, и Алла Павловна снова стала одинокой. О Гансе не забывала и, может, потому ей и улыбнулась на склоне лет судьба: в 90-м пришло письмо из Германии. А вскоре и сам Ганс приехал. Он так и не женился, всё искал свою русскую невесту, жил надеждой на встречу. Наконец, нашёл и теперь заберёт Аллу в Германию.
Эх, Ганс, поздно. Ha седьмом-то десятке. И хоть нет уже того государства, что обоим поломало жизнь, но остаются друзья, могилы близких. A вам только письма да редкие встречи. У этой истории уже не будет счастливого конца. Счастье не состоялось.
Безысходная любовь
Где знакомятся будущие супруги? Ha работе, в классе, на танцплощадке — это чаще всего. Редко, очень редко судьбе сводит кумира и поклонницу: зачем нужна дома ещё одна обожательница, если их на каждом концерте полон зал? Дома жена нужна, как бы это попонятнее объяснить… И eсли на пути героев предыдущей истории оказались законы уголовные, пусть и недолговечные, то сейчас разговор о законах психологических.
Москвичка Лена (назовем её так) ни о какой психологии не думала. Студентка просто влюбилась в известного эстрадного певца. He пропускала ни одного концерта, сидела с цветами в первом ряду. У любимого гастроли — значит, надо ехать за ним. Хорошо ещё, что в те времена такие поездки были доступны не только артистам. Но всё равно — деньги, деньги… Даже чтобы заранее узнать, куда едет и когда, тоже надо кое-кому сделать презент. Всё более или менее ценное шло в комиссионку. Ну, a учеба? Какая yж там учеба… с ней было покончено на первой же сессии. Пошла работать — a там свои проблемы: трудовая дисциплина поездок по стране не предусматривает. Спасение одно — бюллетень. Значит, нужно научиться быстро и эффективно доводить себя до диагноза, что при некоторой фантазии оказалось несложно. Ноги в холодильник, a потом стакан горячей воды — и можно к врачу.
Впрочем, были и радости. Года через два артист начал её узнавать в толпе. Нагибается со сцены за букетом — и кивает, как старой знакомой, Но если любая страсть ведет к ошибкам, то любовная — к самым глупым. В общем, Лене казалось, что долгожданный процесс пошёл. Почему ей так казалось, поймет лишь тот, кто может звонить кумиру, чтобы только услышать его «алло» и потом неделю жить этим «алло». Недаром же говорят, что истинная любовь питается обманом.
Жизнь, между тем, шла своим чередом, подруги выходили замуж. Правда, за каких-то невзрачных студентов или даже инженеров. Сравнивать их с артистами можно было только для смеха. Что касается собственных yxaжёров, то все они куда-то исчезли, видимо, прочитав в её взгляде что-то, не оставляющее шансов. А её собственные шансы, как ей казалось, росли. В одной из провинциальных гостиниц Лене удалось пробраться к Нему в номер. У горничной на память о той встрече остался пропуск — её золотое колечко, подаренное родителями к совершеннолетию. У неё — недолгие надежды родить ребенка и изменить судьбу, свою и его. Какие остались воспоминания y него — неизвестно, зато известен финал. Прав был мудрый Соломон, говоривший, что всё проходит — и это пройдет. Со временем прошло. Осталась одинокая пожилая женщина, безразличная к жизни и злая. На себя тоже злая: «Выбросила жизнь коту под хвост, дура…»
Но любовь-то была! Да такая, за которую жизнью заплачено. Только ведь любовь не гарантирует счастья, как и свобода — сытости.
Робкая любовь
Анатоль Франс за свою долгую жизнь научился смотреть на мир снисходительно-скептически, сохраняя ироническую невозмутимость даже там, где она, на сторонний взгляд, неуместна. Даже после измены жены он постарался понять её логику и спокойно ушёл, не осуждая, но и не прощая. И всё же олимпийское спокойствие ему изменило, когда он сказал, что робость — это величайший грех против любви. Может, старик всё-таки погорячился? Мало ли грехов посерьёзнее — обман, предательство… Но история, которую описал и отправил в газету незнакомым людям некий Сергей, только подтверждает, что писатель знал, что говорил.
«Сейчас мне 60 лет, — пишет Сергей. — Много лет назад работал инженером в конструкторском бюро. К нам на работу пришла после института молоденькая девушка. Я влюбился в Галину с первого взгляда. Скромная, тоненькая, волосы до пояса. На работу не шёл, а летел — так мне хотелось поскорее увидеть мою любовь. Но вот объясниться с ней никак не получалось. Только подойду — она глаза в пол, краснеет, молчит. А потом увидел, как она идёт от проходной под ручку с кучерявым парнем — и всё понял. Не стал навязывать ухаживания, женился назло „изменщице“ и переехал в другой город. О её судьбе ничего не знал. Несколько раз разводился, вырастил двоих детей, но чего-то в жизни не хватало».
Помог случай. Мир-таки тесен, нашлись общие знакомые, которые и рассказали Сергею очень важные вещи: «Оказывается, она тоже была в меня влюблена! Ужасно стеснялась и боялась признаться, ведь я был маститый инженер, а она, по её мнению, глупенькая девчонка. А провожал её родной брат — он работал в одном из наших заводских цехов. Почему ж я, дурак, не поговорил с ней тогда? Почему испортил жизнь, проворонил своё счастье?»
Психологи, как ни странно, связывают стеснительность с излишним себялюбием. То есть человек не допускает ни малейшей возможности оказаться не на привычной высоте: а вдруг подумают, что я глупый, претендую на то, чего недостоин и т. п. Примерно так же смотрят на робость и верующие. Преподобный Амвросий Оптинский, например, усматривал в этом признак тайной гордости, боязни осуждения. И советовал лечить этот смертный грех смирением.
«Скажите, девушки, подружке вашей, что я ночей не сплю, о ней мечтая…» — поёт темпераментный, но робкий итальянец, не решаясь сказать возлюбленной о своих переживаниях. И всё же он действует — хоть и через подружек. Потому что, не сказав вовремя нужных слов, можно поломать сразу две судьбы. Впрочем, сказав не вовремя не то, рискуем получить тот же результат. Банальность? Как видим, не для всех.
Романтическая любовь
Классическая иллюстрация этой разновидности отношений — история знаменитого лейтенанта Шмидта. Ну кто ещё мог, начитавшись Достоевского, спасать падшую женщину самым радикальным способом — женившись на ней? Его женой стала уличная проститутка Домникия Павлова, с которой двадцатилетний офицер познакомился в каком-то ресторане. О том событии Пётр Петрович потом рассказывал так: «Она была моих лет. Жаль мне её стало невыносимо. И я решил спасти. Пошел в банк, у меня там было 12 тысяч, взял эти деньги и всё отдал ей. На другой день, увидев, как много душевной грубости в ней, понял: отдать тут нужно не только деньги, а всего себя. Чтобы вытащить её из трясины, решил жениться…»
Жизнь и на этот раз не пошла по сценарию мечтателя. Невежественная супруга с примитивными запросами не разделяла высоких порывов мужа и не торопилась расставаться с порочными привычками. Многие прежние знакомые прекратили с Петром Петровичем отношения, сочтя его поступок «противоречащим офицерской чести», а расстроенный отец и вовсе умер. Семейная жизнь быстро разладилась, и муж старался проводить на службе как можно больше времени, что супруге было только на руку. Но это не помешало Домникии родить сына, которого назвали Евгением. Вот он-то — единственный настоящий сын лейтенанта Шмидта. В своих воспоминаниях Евгений потом напишет: «Мать моя была настолько ужасна, что приходится поражаться нечеловеческому терпению и воистину ангельской доброте моего отца, вынесшего на своих плечах 17-летнее каторжное ярмо семейного ада».
Отец стал для него моральным авторитетом, и им овладели революционные идеи. В 1905 году 16-летний ученик реального училища находился на восставшем крейсере «Очаков», а после Февральской революции просит у Временного правительства разрешения именоваться не просто Шмидтом, а Шмидтом-Очаковским. Правительство разрешает. Но уже в ноябре 1917-го наступает прозрение: «За что ты погиб, отец! Ужели для того, чтобы сын твой увидел, как рушатся устои тысячелетнего государства, как великая нация сходит с ума, как с каждым днём, как с каждой минутой всё более втаптываются в грязь те идеи, ради которых ты пошёл на Голгофу?»
Евгений ушёл к белым и покинул Крым вместе с последними частями врангелевской армии. Советское правительство не раз предлагало ему вернуться, но сын революционера предпочёл умереть в Париже в полной нищете. В воспоминаниях написал, что у него «совершилась полная переоценка ценностей». Ясно, что о таком сыне власти предпочитали помалкивать, и потому в те сумбурные годы в стране появилось немало самозваных детей лейтенанта Шмидта.
На этом любовные чудачества лейтенанта не кончились. Не будем здесь касаться психиатрической стороны дела (он не раз лечился и даже был списан в запас, и только русско-японская война вернула его в строй: в такие времена медики не слишком придирчивы), а поговорим о романтической, которой занимаются уже не психиатры, а психологи. Согласно их наблюдениям, отличительная черта романтической души — тревожиться и переживать, верить и надеяться, любить и отчаиваться. Это душевно красивый человек, который хочет, чтобы у всех было всё хорошо, но кто и как это сделает, он не знает.
В трудной и опасной ситуации торопится пожертвовать собой. Ему важнее красиво умереть, чем выжидать, уступать. «Человеку так жить нельзя!» — заключает он и выходит из игры. Для него очень характерно чередование необоснованного энтузиазма и неоправданной печали. С возрастом количество энтузиазма уменьшается, его сменяет печаль. Не давайте такому деньги в долг: не отдаст, да ещё и обидится.
Не будем утверждать, что перечисленное характерно для всех романтиков без исключения, поскольку нас интересует лишь этот прекраснодушный лейтенант.
В не такие уж далёкие времена романтические настроения у нас активно поддерживались, и Шмидт оказался очень кстати. «Это вам, романтики, это вам, влюблённые, песня посвящается моя», — пел Марк Бернес. Была романтика дальних странствий, песен под гитару, была романтика революции. В известном фильме «Доживем до понедельника» учитель устами Вячеслава Тихонова проникновенно излагал ученикам некоторые факты шмидтовской биографии с такими комментариями: «Главный его дар — это ощущать чужое страдание более остро, чем своё. Именно этот дар рождает бунтарей и поэтов».
Так вот о деньгах. 39-летний всё ещё лейтенант, трижды списанный на берег с психиатрическим диагнозом и трижды восстановленный благодаря хлопотам его влиятельного дяди, Владимира Петровича, адмирала и кавалера почти всех орденов, стал командиром отряда из двух небольших миноносцев. Всеми закупками распоряжался командир и деньги находились у него. И вот лейтенант, забрав всю немалую наличность — две с половиной тысячи рублей — в военное время покидает корабль и отправляется в самовольную отлучку. Есть предположение, что с этими деньгами он отправился в Киев, на бега, романтически рассчитывая умножить капитал. Так он оказался в поезде, где и познакомился с симпатичной молодой женщиной, Зинаидой (Идой) Ризберг. Ехали вместе 40 минут, всё это время проговорили. Потом попутчица вышла, оставив в поезде влюблённого по уши романтика.
После расставания завязалась переписка. Он писал ей ежедневно. «Вчера, как водится, на сон грядущий перечитал Ваши письма. Всюду у письменного стола пьянящий запах Ваших духов. Всюду неотступно со мной… Вы перевернули всю мою жизнь. Понимаете ли Вы сами, сколько счастья дали мне Ваши письма? Я Вас люблю. Это страшное и святое слово. И произносить его можно, только когда оно выливается из души, как молитва…» Если отвечала не сразу, горевал: «На пять моих писем Вы отвечаете одним».
Переписка длилась несколько месяцев и дала пищу и литературе, и кинематографу, воспевших эту любовь. Что касается денег, то они куда-то исчезли. Офицера задержали, началось следствие. Шмидт врал и выкручивался, но в конце концов во всём признался. Его отстранили от должности и отдали под суд. Дела могли повернуться совсем плохо, но снова вмешался дядя: внёс деньги и устроил, чтобы племянника в очередной раз уволили, но только тихо, без указания причин.
Когда в Севастополе начались волнения, матросы «Очакова» призвали Шмидта возглавить мятеж. Он прибыл на крейсер и велел дать сигнал: «Командую флотом. Шмидт». Но на других кораблях матросы молчали, офицеры называли лейтенанта изменником, и «командующий» разрыдался: «Кругом рабы! Будь проклят рабский город! Уйдем отсюда в Одессу, в Феодосию, куда угодно!» Но уйти уже не получилось, и Шмидт с соратниками оказался в крепости.
Ида примчалась в крепость и добилась разрешения на ежедневные свидания с арестантом. «Я все ещё чувствую прикосновение Вашей руки. И Вас всю…» — писал ей Шмидт после первого свидания. А их было целых 37, и переписка продолжалась. Перешли на ты: «Голубка моя, если суждено мне прекратить жить, забудь скорее меня. Пусть тогда всё, что протекало в нашей с тобой жизни-переписке, отойдёт от тебя как сон и не налагает страданий на твою осиротевшую душу, забудь тогда и живи».
Когда Иде передали, что свиданий больше не будет, она приняла яд, её едва спасли в больнице. Но прожила ещё долго, получая персональную пенсию. Умерла в 1961 году и похоронена на Ваганьковском кладбище Москве. На камне написали: «Здесь покоится прах З. И. Русецкой-Ризберг — друга лейтенанта П. П. Шмидта, героя революции 1905 года».
Смертельная любовь
На эту тему есть две истории — одна типичная, другая — совсем наоборот. Начнем с типичной.
Дима Нестеров — сильный, красивый, любимый друзьями и родителями парень из хорошей семьи (отец — профессор, мать — врач) пренебрёг протекциями и пошёл служить в десантные войска. До ухода в армию успел сильно влюбиться в некую Лену из совсем другой семьи — с отчимом, пьянками и побоями. Из части он писал ей каждый день, иногда она отвечала. Однажды даже сумел до неё дозвониться. Было уже поздно, и она спросонья его не узнала: «Артур?» А потом, когда сказали, что девушка в больнице с воспалением лёгких, написал матери: мол, помоги, Леночка тяжело болеет. На самом деле ей сделали аборт от какого-то приятеля, но Диме об этом говорить не стали.
Когда пришёл из армии, Лена превратилась в модную женщину с кучей поклонников, и нужно было постараться, чтобы привлечь её внимание. Профессор привозил из-за границы модную одежду, а Дима вместо института пошёл зарабатывать на духи и бриллианты. Только вот со свадьбой вопрос затянулся на два года, хотя «нет» девушка не говорила. Потом укатила на юг с очередным поклонником. Новый год всё-таки пообещала встретить с Димой, но не пришла. Спустя некоторые время он сделал очередную попытку предложить руку и сердце, а в ответ получил назад все свои письма и фотографии.
Не будем заниматься самодеятельным психоанализом и описывать переживания парня. Важно то, что он повесился на кухне в собственной квартире, успев написать на зеркале чёрным фломастером: «Если не хватит сил победить, пусть хватит сил не покориться». Это была любимая присказка его армейского командира.
Во второй истории — уже два трупа, в одном из рабочих районов Челябинска, города, который вошёл в анекдоты суровостью своих мужчин. Отец 16-летней Оли повесился. Нет, ни пьяницей, ни даже чересчур суровым мужчиной Сергей не был, жену и дочку, о которых тоже никто дурного слова сказать не мог, очень любил. Дочка — красавица, училась хорошо. После гибели отца пошла работать. Время летит быстро, вот ей уже 21, пора замуж… А она тоже повесилась. Аналитики из прокуратуры тут же нашли научное объяснение: ничего не поделаешь, генетика. «Склонность к суициду часто передаётся по наследству». Звучит серьёзно и солидно. Единственный недостаток версии — что к этому конкретному случаю она отношения не имела, потому что у отца была веская, с его точки зрения, причина: подросшая дочка влюбилось… в него самого. Со всей безоглядностью и силой, на какую только способна первая любовь. Когда жена поняла, что к чему, Сергей решил поставить таким образом точку в этой скандальной истории: здесь же, прости Господи, не Бразилия, о которой у нас ещё будет повод вспомнить.
А дочка перед смертью оставила записку: «Я безумно люблю отца, не могу без него жить». Вот и ушла к нему.
…Мёртвые учат живых, говорили древние. И чему нас научили эти две истории?
Во-первых, дали повод ещё раз вспомнить библейского мудреца: всё проходит, и это пройдёт. Человеческая психика такова, что со временем многое забывается и притупляется любая боль. Только смерть непоправима. Во-вторых, подтвердили справедливость научного наблюдения, которое заключается в том, что пессимисты редко уходят из жизни добровольно — они и так ничего хорошего от неё не ждут. Обычно ломаются жизнерадостные люди. Крепкие, но хрупкие. Таких в нашей стране набирается от двадцати до сорока тысяч ежегодно — цифра зависит ещё и от того, какие в стране времена. То есть население небольшого райцентра. На самом деле, конечно, их в разы больше, потому что не у всех получается довести дело до конца, К тому же, много подобных случаев можно объяснить по-разному: случайно человек попал под машину (утонул, упал с крыши, пропал без вести) или так было задумано?
Теперь немножко статистики. Она свидетельствует о том, что возраст самоубийц снижается (тех, кому от 15 до 35-ти становится всё больше), а, значит, растёт и число погибших от неразделённой любви. Причём женщины пытаются сделать это в семь раз чаще мужчин, но всё-таки мужчин среди покойников вчетверо больше. Объясняют это тем, что мужчины гораздо реже пытаются всего лишь напугать кого-то такой попыткой, а подходят к делу основательно.
Ну и, наконец, та же статистика, пусть и с неожиданной стороны, доказывает пользу веры в Бога: атеисты убедительно лидируют среди самоубийц, причём в совершенно разных странах. Церковь же всегда считала самоубийство страшным грехом, расплачиваться за который придётся и на том свете.
Французские психиатры ещё двести лет назад попытались дать простой ответ на сложный вопрос, решив, что у самоубийц непорядок с головой. Такое объяснение пришлось по душе их советским коллегам, потому что-де только психи могли добровольно уходить из нашей счастливой жизни. Сегодня эту проблему и на западе, и у нас рассматривают гораздо шире, признав, что прежний тезис, претендовавший на универсальность, со своей задачей не справился. Понять это помогли истории, подобные нашим.
Тоже любовь?
Вопрос возник потому, что эта история наводит на размышления не столько о большой любви, сколько о нравах римской знати эпохи упадка. Законы здесь попираются не только юридические и психологические, но и нравственные. Хоть свадьба и была, но ни у родственников, ни y немногочисленных гостей особых восторгов не вызвала. Дело в том, что бразильская миллионерша Сандес Бернардс сочеталась законным браком c собственным 17-летним сыном. Чтобы брак стал законным, пришлось съездить в Таиланд, где такое не возбраняется.
Только зачем этот скандал даме, которой уже за сорок и которая успела дважды побывать замужем? Любовь, говорит мама. Ведь когда муж к тому же ещё и единственный ребенок, то получается любовь в квадрате. Hy, мама — ладно, но y ребёнка откуда нероновские наклонности? Тоже, говорит, любовь: «Мамочка с самого раннего детства была женщиной моей мечты, a в 13 лет я полюбил её по-настоящему».
Но оставим молодых в покое, y них ещё всё впереди, a вот эта пара наших соотечественников уже с десятилетним супружеским стажем. Мамы в этой семье нет, зато есть шестнадцатилетняя Наташа и её папа, которому пора на пенсию. Однажды речь зашла о неясных семейных перспективах, но дочка запротестовала: «He думай об этом. Я счастлива только с тобой и никогда в жизни не подпущу к себе ни одного мужчину». O будущем Наташа предпочитает не думать. «Я живу в своё удовольствие и считаю себя счастливой», — пишет она в редакцию.
Страсть, как болезнь‚ нельзя ни осуждать, ни оправдывать, a можно только с изумлением описывать, заметил мудрец. А потому поговорим о другом: ну что же это за таинственный недуг, от которого нет лекарств? Вернее, средств-то много, но самым надёжным считается бегство…
Таинственный недуг
35-летнего Игоря Н. привезли в Институт имени Склифосовского полумёртвым. Игорь любил жену, любил любовницу и никак не мог сделать окончательный выбор. С женой был унылый секс, зато ей можно было поплакаться и отвести душу; с любовницей — всё наоборот. Вот и отравился, но неудачно. Врач-реаниматолог заметил по поводу таких неудачников: «Они думают, что умереть легко…»
Что же это за таинственный недуг, против которого нет лекарства? Отчего одним выпадает испытать сильное чувство, а другим — нет? Проще всего сказать, что это, мол, как талант: один пишет сонеты, а другой всю жизнь изъясняется исключительно прозой. Так и с любовью: она или есть, или её нет. Но учёных такое объяснение устроить не может, и они упорно ищут тайные пружины этого загадочного чувства. Причём каждый специалист возделывает свой участок. Английские химики, например, нацелились на обоняние. Ведь у братьев наших меньших, как известно, запахи служат прелюдией ритуала продолжения рода. Наши носы, конечно, послабее, но духи тоже не зря придуманы. Парфюмеры из этого факта сделали вывод, что если к духам добавлять вещества, которые вырабатывают наши потовые железы, то противоположный пол просто обязан отреагировать на такой природный сигнал.
Приятно иметь дело с узкими специалистами: всё-то им ясно. Многие даже убеждены, что именно с их колокольни наилучший обзор. Например, для медиков любовь — это разновидность острого физиологического психоза, а влюблённый — просто больной человек. Известны и симптомы: задумчивость, сосредоточенность на собственных переживаниях, неспособность верно оценивать ни ситуацию, ни достоинства и недостатки предмета своей страсти. Причины опять-таки следует искать в естественных науках, согласно которым мозг даёт организму соответствующие команды, в результате чего вырабатываются определённые вещества. Пылкая романтическая любовь, вроде той, что прославила шекспировских героев, определяется содержанием в крови так называемых амфетаминов. Чем их больше, тем сильнее чувство, а избыток и вовсе приводит к трагическим безумствам. Но человек не может долго стоять на цыпочках, организм — тоже. Через некоторое время он привыкает к амфетаминам и перестаёт на них реагировать. Происходит это примерно через четыре года после романтической свадьбы. Так что с точки зрения физиологии семейные перспективы Ромео и Джульетты безрадостны. Через год-другой оба бы поостыли, но поскольку для романтика единственная причина охлаждения партнёра — другая любовь, то оба азартно начали бы обвинять друг друга в измене. В общем, их ждал путь от мелких конфликтов к крупным скандалам с битьём посуды.
Если же молодые вовремя подумают о духовном, то организм начнёт вырабатывать совсем другие вещества — эндорфины. От них у Ромео при мысли о возлюбленной не будет учащаться дыхание и подниматься давление, а наоборот, он будет чувствовать умиротворение и покой, как это бывает у образцовых супругов накануне золотой свадьбы. Короче говоря, кровь и мочу на анализ — и врач вам всё объяснит.
У психиатров свой взгляд на любовь. Они усматривают в ней признаки сильнейшего наркотика, и тот, кто его принимает, становится его рабом. Немецкий исследователь В. Вецк так и пишет: «Каждое употребление наркотика и женщины (!) означает, по сути, постепенную самоликвидацию». Он убеждён, что патологической зависимостью от женщин страдают именно мужчины. А его чешский коллега Я. Цимицкий убеждён в обратном и доказывает это на примерах. Так, некий алкоголик регулярно бил свою супругу — бывало, и до полусмерти. Когда его, наконец, госпитализировали, то явилась жена и попросила отпустить благоверного домой. На вопрос врача, зачем ей это нужно, та ответила: мол, как приду домой и увижу, что в квартире пусто, тихо и даже, извините, по физиономии не от кого получить, то жить становится невмоготу.
Итог подвели математики. Для них идеальная любовь — это равносторонний треугольник, который соединяет в себе страсть с духовной близостью и постоянством.
Что же, поверили-таки гармонию алгеброй? Но где в этой алгебре лунные ночи, глаза, ресницы и тому подобные приятные мелочи? Насчёт ресниц у учёных отдельный разговор. По их мнению, у каждого из нас есть генетически заложенная схема облика будущего избранника. У девушки длинные пушистые ресницы? За них-то и любит её воздыхатель, не обращая внимания на многочисленные недостатки. То есть весь секрет в сигнальных элементах, о которых писал основатель этологии — науки о поведении животных — австрийский учёный Конрад Лоренц. В общем, кому на что обращать внимание и в кого влюбляться, подскажет природа, а она, по убеждению древних, плохому не научит. Например, густые брови и увесистый мужской подбородок, небезразличный многим представительницам прекрасного пола, оказывается, всего лишь признак высокого содержания в организме тестостерона, от которого зависит склонность к неутомимому продолжению рода.
Кто физиологической прозе предпочитает поэзию души, тому лучше обратиться к психологам — это по их части. Для них любовь — не болезнь, а утверждение неповторимости другого человека. Они даже знают, почему не все способны любить. Эта способность, оказывается, родом из детства: кого любили ещё в нежном возрасте, тот сможет потом любить и сам, потому что любовь рождается только любовью.
Правда, что касается постоянства чувств, то психология, как известно, наука не точная, и потому допускает противоположные мнения. Доктор биологических наук Г. Симкин говорит так: «Изучение поведения животных привело меня к выводу о том, что парность — наивысшая форма отношений в природе». Люди просто забыли, что они тоже часть природы, отсюда и наша любвеобильность. Однако других исследователей животный мир наводит на совсем иные размышления. Если верить их изысканиям, то среди всех живых существ сохраняют супружескую верность при всех обстоятельствах лишь пиявки да креветки, да и то лишь некоторые виды. Млекопитающие же демонстрируют полную распущенность: из них только 4 процента живут семейными парами. У людей картина немногим лучше: из всех существовавших на земле обществ и культур только 15 процентов склонны к моногамии, а среди остальных 85-ти одну жену имел тот, кто не мог содержать нескольких. И вообще это вопрос не морали, а политики: демократическим обществам, сторонникам равенства мужчин и женщин, ближе моногамия, а где до демократии далеко — там не видят греха в многожёнстве, а то и в многомужестве.
Но если учёному достаточно самого процесса познания, то обыватель ждёт от науки рецептов для решения собственных проблем. Можно ли управлять любовью, этим подчас убийственным недугом? Известный политик Ленин решал задачу просто: «Самообладание, самодисциплина — не рабство; они необходимы в любви», — писал Владимир Ильич. Впрочем, насчёт этих славных качеств вождя интереснее было бы послушать «дорогого друга» — Инессу Арманд. Ну, и Надежду Константиновну, которая, видимо, из-за нехватки у мужа упомянутых достоинств не раз собиралась с ним расстаться. Но Ильич уговорил, он был мастером полемики.
Век потребления не мог пройти мимо спроса на любовь, а также и на средства-стимуляторы. В Африке, к примеру, растёт дерево йохимбе, превращающее местных мужиков в неутомимых секс-гигантов. И вот специалисты уже приспособились делать из его коры таблетки, стимулирующие организм вырабатывать тестостерон. Не забудем и о многочисленных афродизиаках, названных так не в честь выдающихся африканцев, а в память Афродиты. Этими стимуляторами, усиливающими половое чувство, могут быть духи с дразнящим запахом и чувственная музыка, медикаменты и пищевые продукты… Хватает и «антиамурных» средств, актуальных как для солдат срочной службы, так и для жертв безответной любви. Короче говоря, попытки понять тайну чувств и управлять ими не прекращаются. Как оказалось, это гораздо сложнее, чем слетать на Луну. Да только станем ли мы счастливее, управляя любовью? Или, может, станет меньше несчастных?
Спросить об этом лучше тех, кто право на ответ оплатил собственной жизнью.
Через границы
Иван и Лизхен
Сержант Иван Бывших и немка Элизабет Вальдхельм встретились в 1945-м, в Тюрингии, а маленьком городке Хейероде, куда Ивана назначили комендантом. Был ему 21 год, а в коменданты попал потому, что увлекался немецким языком и с учебником дошёл до Берлина. Конечно, парня с такими познаниями сразу определили в разведку и на подходе к Германии сделали полковым переводчиком.
Главная задача коменданта — учёт и контроль. Без его ведома ни предприятия не открыть, ни сена для коров завезти, ни кино показать: сначала его комендант должен посмотреть, и решить, можно ли такое показывать. Но самое важное — знать, где находятся люди на подведомственной территории. Составить списки немцев, вернувшихся с восточного фронта, проверить, все ли встали на учёт.
Вернувшийся из плена солдат Гюнтер Вальдхельм на учёт не встал, и комендант с двумя автоматчиками пошёл к нему сам. На Банхофштрассе, 18.
Конечно, такой визит нагнал на всех страху. Гюнтера дома не было, и испуганная мать предложила русским пройти в комнаты и убедиться самим. Обыскивать дом сержант не собирался, но посмотреть, как живут здешние бюргеры, хотелось. Тут-то и состоялась судьбоносная встреча. На втором этаже за столом сидели три молодые женщины и мальчик. Они встали, а Иван уже смотрел на Элизабет. Лизхен. Лизочку, как он её с тех пор называл. Но это уже потом, а в тот день он растерялся и быстренько выскочил из дома, успев только сказать, чтобы Гюнтер пришёл в комендатуру.
Для тех, кто наслышан, как ведут себя армии-победительницы на оккупированной территории, этот эпизод может показаться рождественской сказкой. Но бывают же и исключения. В конце концов, вся эта история — редчайшее исключение из общего правила тех времён. К тому же, как потом вспоминал Иван, «я ведь до этого девчонок не только не целовал, но даже за руку не держал».
Гюнтер явился на следующий день вещами, но документы у него были в порядке, освободился из плена по болезни, и Иван отпустил немца домой. На улице его ждали мать и младшая сестра Элизабет. На радостях захотели поблагодарить коменданта и пригласили в гости.
На пылкие чувства русского, симпатичного и незлого, Лиза ответила взаимностью. Роман бурно развивался, хоть местные и поглядывали на влюблённых с неодобрением. Они же ни от кого не прятались, вместе гуляли, часто оставались вдвоём в комнатке при комендатуре. Радовались жизни, бродили по окрестным горам, танцевали. Отцы-командиры смотрели на такое сквозь пальцы, если только дело не заходило слишком далеко. В смысле серьёзности. Единственное, что омрачало жизнь — это перспектива скорой разлуки. Потом Иван опишет это в своей книжке «Ваниляйн и Лизхен» — так ласково звучат их имена на немецкий манер:
«Я вскочил на подножку отходящего вагона и обернулся. Лиза стояла у входа на вокзал, смотрела мне вслед и неторопливо махала белым платочком.
— Обратите внимание, сколько на перроне провожающих! — сказал за моей спиной один из офицеров.
Только теперь я заметил, что по всей длине перрона стояли немецкие девушки и точно так же, как моя Лиза, махали белыми платочками».
Но этот роман, где всё всерьёз, был очень некстати. Жениться на немке тогда считалось немыслимо, и обычно такая любовь заканчивалась печально. Об этом Иван, как переводчик СМЕРШа, хорошо знал. Кто-то убегал в американскую зону, кто-то пытался затеряться в Германии, но их находили и расстреливали. Один офицер кавалерийского эскадрона спрятал свою подругу в сене для лошадей. Она доехала до Минска, а там её сняли с поезда и обвинили в шпионаже. Судьба офицера осталась неизвестной, но, думается, что и он до дому не доехал.
На прощанье Лиза сунула ему в руку записку и попросила прочитать её после отправления. Так Иван узнал, что у его подруги будет ребёнок. Девочка родилась мёртвой, а Лизе вскоре пришлось навсегда уехать из родных мест: соседи не простили любовь к врагу. Потом она стала акушеркой, приняла множество родов, но своих детей у неё больше не было.
Про Ивана не забывала и надеялась, что после смерти Сталина что-то изменится. Десять лет длилась их переписка. А в начале 1956-го Ивана вызвали куда следует, показали гору распечатанных конвертов и предложили «прекратить это безобразие: «Жениться на иностранке вы по советским законам всё равно не сможете, а вот отправиться в Магадан вполне реально. Выбирайте».
Так в Германию пошло последнее письмо из Свердловска, где Иван тогда работал. В нём «Ваниляйн» написал, что собирается жениться. Через год разрешили и браки с иностранцами, но это уже не имело значения, потому что он и вправду женился, даже дважды. Да только продержались эти семьи недолго, и даже дети не сделали их прочнее.
Но с годами именно дети, узнав грустную историю отцовской любви, стали понимать и поддерживать его. Младшая дочь, увидев как-то на его столе пожелтевшие письма, попросила отца написать книжку о любви. Так и появилась эта «Ваниляйн и Лизхен» с посвящением дочери Елене.
Лизе оставалось только смириться с утратой. Она вышла замуж и переехала жить в Люксембург. Прежней любви уже не было, а был тихий и спокойный быт. Иван же, снова оставшись один, не забывал свою Лизхен, которая, собственно, и не уходила из сердца все эти годы, но его письма оставались без ответа — там, в Хейероде, уже никого не осталось из той семьи.
Но когда книжку Ивана Николаевича прочитала сотрудница Красноярского родословного общества, знавшая автора, то взялась за дело. Через знакомых в Германии она разыскала немку. Выяснилось, что Лиза переселилась в Люксембург, она замужем, однако брак не слишком удачный. Ей позвонили и осторожно спросили, помнит ли Ивана. Элизабет ответила сразу: «Я всегда его любила и люблю сейчас».
Тлевшие все эти года чувства вспыхнули с новой силой. Многочасовые телефонные разговоры кончились тем, что Лизхен отправилась в Сибирь. Она прилетела в Красноярск весной 2005 года. И ему, и ей уже перевалило за восемьдесят, но то время, что ещё осталось, они хотели провести вместе.
Для этого следовало сначала развестись с нелюбимым мужем, которому вся эта затея очень не нравилась. Да и законы Люксембурга тоже не поощряют такое. В общем, решения пришлось добиваться два года, после чего женщина переехала в Россию, бросив свой трёхэтажный особняк вместе с имуществом. И вот пара узаконила свои отношения в одном из красноярских загсов, став, наконец, мужем и женой. 62 года спустя после знакомства.
Бракосочетание решили отпраздновать скромно и тихо, ждали в гости только самых близких. Но на церемонию сбежалось столько журналистов, что тихо не вышло. Прибыла даже немецкая компания «Шпигель-ТВ», которая готовила для зрителей рождественский сюжет. А тут, как уже говорилось, такая рождественская сказка-быль…
Губернатор края подарил на свадьбу двухкомнатную квартиру в новостройке. Молодежь с любопытством разглядывала необычных новобрачных, а мудрые пожилые понимающе крутили пальцем у виска. Но супруги не обращали внимания и впервые за много лет были по-настоящему счастливы. Ходили по театрам, музеям, принимали гостей — словом, старались наверстать упущенное.
Красноярские морозы непривычны для недавней жительницы Европы. Но Лиза морозам рада: тогда муж сидит дома. Она не любит, когда он уходит из дома. Ждёт и волнуется. Ивану Николаевичу это странно: «Чего она волнуется? Я ведь знаю, когда умру. Цыганка нагадала, давным-давно. У меня в руках буханка хлеба была, которую я получил по карточкам, а тут цыганка: „Мальчик, дай хоть кусочек“. И такая она была несчастная, что я отдал ей целую буханку. Тогда она взяла мою руку и говорит: „Ты скоро попадёшь в армию, пройдёшь всю войну, но останешься живой и невредимый, а проживёшь…“ И назвала число лет».
Число это он никому не говорил. Но беда приходит, когда её не ждёшь. И с неожиданной стороны.
— В конце 2010-го у Лизы распух палец на ноге, — рассказывал Иван Николаевич, — у нас в больнице обследовали и сказали — надо ногу ампутировать. Тогда она решила съездить в Германию. Немецкие врачи вроде бы всё сделали правильно, и жена, с которой мы созванивались, была бодра и даже шутила. Но потом вдруг перестала отвечать на звонки… Вскоре позвонила её дальняя родственница и сказала, что Лизу парализовало. Ещё через месяц сообщили, что она умерла.
Их счастье длилось недолго — всего два с половиной года. А вскоре и сам Иван Николаевич, на 89 году жизни, последовал за своей Лизхен. Он, правда, атеист, а вот его подруга верила, что они обязательно встретятся. Там, где жизнь вечная. Ведь небеса всегда были на их стороне.
От Кубани до Фламандии
Истории большой любви богаты трагическими поворотами сюжетов. Но когда в эти отношения вмешивается государство и говорит своё суровое, порой нецензурное слово, то победителей в борьбе с ним остаётся так немного, что о них потом ещё долго говорят и пишут.
Перед семнадцатилетней Викой Сориной из кубанского посёлка Хаджох после освобождения из немецкого трудового лагеря с романтическим названием «Птичье гнездо» под городом Торгау родина предстала в образе сурового представителя НКВД: «Что, сука, Родину продаёшь?» Так этот представитель отреагировал на желание Вики быть вместе с фламандцем Якобом Смейтсом, которого вместе с тысячами бельгийцев и французов оккупанты разместили в этом лагере отбывать трудовую повинность.
Смершевец был суров, потому что отстаивал правоту Родины. И ничего, что поначалу родина позволила миллионам своих граждан оказаться в оккупации и потом их эшелонами вывозили в лагеря. Они голодали, а их расстреливали за попытку выдернуть по дороге морковку с поля. В сорок третьем Вике с двумя девчонками удалось убежать, но побег продлился всего четыре дня. Им повезло: хоть и жестоко избили, но всё-таки отправили обратно в лагерь, а не на тот свет.
Но — прав был художник, за полвека до тех событий изобразивший, как из окна тюремного вагона люди любуется голубями, слетевшимися на хлебные крошки: «Всюду жизнь»… В лагере этими крошками стал забор из колючей проволоки, вдоль которого после работы выстраивались сотни людей. Мужчины — по одну сторону, женщины — по другую. Такие были у них свидания. Светловолосый, худощавый Якоб сразу понравился Вике. Их свидания продолжались более двух лет. Отыскать друг друга в толпе непросто, и Якоб придумал позывной: насвистывал мелодию из Пятой симфонии Бетховена.
Её знаменитые первые четыре такта — «тему судьбы» — слышали все. Сам Бетховен говорил об этом главном мотиве: «Так судьба стучится в дверь». И когда заключённые слышали этот пароль, то расступались по обе стороны проволоки, пропуская Якоба и Вику.
25 апреля победного года недалеко от Торгау на Эльбе войска 1-го Украинского фронта армии СССР встретились с войсками 1-й армии США. Жизнь всегда интереснее и порой непригляднее, чем её потом описывают. Вот и «встречу на Эльбе» приукрасили. Немцы успели взорвать мост и он наполовину погрузился в воду. Поэтому для лейтенанта Билла Робертсона и сержанта Фрэнка Хаффа пробраться по разрушенному мосту, чтобы встретиться с сержантом Николаем Андреевым, было рискованной затеей. Кстати, ещё до исторической встречи Робертсона могли просто убить, потому что советские войска приняли их за немцев и открыли огонь. Наконец, лейтенант едва не угодил под трибунал, потому что ему было приказано не удаляться от штаба и к реке не выходить. Но раз уж потом всё так славно получилось, то судить его передумали.
Это историческое отступление к тому, что по мосту освобожденные невольники шли не только на восток, где их ждали не с цветами, но и на запад. Сотни русских девушек. Среди них была и Виктория Сорина.
Многим даже удалось добраться до Бельгии. Только напрасно они рассчитывали на такие вещи, как границы, защита государства, сила закона. Закон был на стороне силы, в Бельгии хозяйничали воины НКВД и отлавливали «предателей». Бельгийские власти, конечно, вели себя тихо, к Якобу Вику не допустили и посоветовали встретиться с «товарищем из Советского Союза». Вот этот товарищ и взялся опекать Викторию. На её робкое возражение, что, мол, мы любим друг друга, услышала голос родины:
— Какая, к чёрту, любовь! По тебе Колыма плачет.
Хорошо, что через неделю, показавшейся вечностью, появился Якоб с документами, дававшими право находиться в Антверпене ещё три месяца, и протянул их «товарищу». Да только время летит быстро, и накануне последнего дня появился полицейский вместе с упомянутым товарищем. Тот предупредил, что завтра — домой.
Но спасительная судьба постучала в жизнь Якоба и Вики ещё раз. Ночью знакомый священник их обвенчал, и вместо Колымы началась жизнь молодожёнов Смейтс — бельгийских подданных. Якоб открыл собственную парикмахерскую, понимал и в строительстве, благодаря чему 28-летие супруги отпраздновал в новом доме. Вика учила язык, воспитывала детей, которых вскоре было уже четверо. Первенца назвали Александр-Василий-Хендрик. В Бельгии мужчины могут носить три имени, так вот второе — в честь кубанского дедушки.
И вдобавок Виктория Васильевна стала… фламандской художницей. Дело в том, что рисовала она с детства, и кубанские земляки не сомневались, что у неё в этом смысле большое будущее. Но при чём тут фламандцы — Рубенс, Ван Дейк?.. Первое-то признание пришло в лагере, где она рисовала совсем другие сюжеты: служащим-немкам понравилось, как она делала пасхальные открытки. А ко дню рождения Якоба написала его портрет. Ту давнюю работу супруг бережно сохранил, а однажды предложил: мол, покажи свои работы в институте живописи — ты же хотела стать художницей…
Вскоре вернулась взволнованная с папкой рисунков: их посмотрели и предложили учиться.
Это было только начало. После пяти лет института — частные уроки у тамошнего мэтра. Очень недешёвые. Правда, супруг тут же нашёл выход и присмотрел жилище поскромнее. И четыре года Вика осваивала опыт фламандских мастеров кисти. В итоге — золотая медаль на вернисаже в Нью-Йорке за портрет «Старик». Потом ещё шесть лет в Королевской академии художеств. Училась, конечно, она, но возможность это делать дал ей опять-таки Якоб, взвалив на себя немалую часть домашних дел. Зато теперь Виктория Васильевна, профессор Академии художеств, занялась любимым делом, её картины знают во многих странах и охотно покупают. В общем, семья, мягко говоря, не бедствует.
А потом начались регулярные поездки в родной Хаджох. Кубанцы расспрашивали землячку о жизни, разглядывали фотографии. И радовались её счастью. Ведь золотая свадьба, которая уже позади, о чём-то говорит. Время беспристрастно проверяет наши былые решения и наказывает за ошибки. Но тут супруги ни о чём не жалеют.
Родину свою женщина никогда не предавала, и родине, наверное, выгоднее (если уж для кого-то понятнее такие категории) иметь счастливую соотечественницу в счастливой семье, чем ещё одну изломанную судьбу, оправдываясь при этом извечной присказкой: время-де было такое… Только кроме России Виктория любит и Фландрию, так же как и Якоб — Россию. И кому от этого плохо?
Шпионаж в Южной Африке
Этого шпиона, приговоренного в Южно-Африканской республике к пожизненному заключению, освобождали на самом высоком уровне: наш президент Ельцин обратился с просьбой к южноафриканскому президенту, и после десяти лет отсидки агента выпустили. Конечно, сам агент был непрост: контр-адмирал, командующий военно-морской базой и много чего передавший в Москву. Работал вместе с помощницей, любимой женой, которая тоже оказалась в тюрьме. И без его освобождения Москва не соглашалась ни восстанавливать дипломатические отношения, ни торговать.
Почему же он, сидя в далекой Африке решил таким образом помочь стране трудящихся? Уже потом, оказавшись на свободе, скажет, что чувствовал себя не предателем, а политическим активистом, боровшимся против порочного режима апартеида… Как режим апартеида был связан с натовскими секретами, он не пояснил. Апартеид, конечно, и так рухнул, но по совсем другим причинам. Просто у Дитера был зуб на родную страну.
Родился в семье выходца из Германии, который очень симпатизировал нацистам. На новой родине таких не любили и во время второй мировой войны отца интернировали. На сына это произвело тяжелое впечатления. А поскольку он был трудным ребенком, то на притеснения отца отреагировал своеобразно: угнал автомобиль и попал в уголовную историю. Отец использовал прежние связи и убедил отправить парня не в тюрьму, а в армию. Там у него дела пошли хорошо, Герхардт с отличием окончил военно-морскую академию и был награждён Мечом чести. Потом женился на англичанке. Но прежние унижения не забылись и, действуя по принципу «враг моего врага — мой друг» (СССР не одобрял политику южноафриканцев), — стал искать контакты с русской разведкой.
Для начала предложил свои услуги местной компартии. Информация о ценном кадре попала в советское посольство в Лондоне, где в 1962 году и приняли «инициативника», дав ему конспиративную кличку Феликс.
Начались шпионские будни. Но со временем его Джанет поняла, чем подрабатывает муж, которого за такие дела по законам ЮАР вполне могли повесить и оставить детей (а их было уже трое) без отца. Состоялся принципиальный разговор, однако офицер был твёрд: или жена помогает мужу, или развод. Джанет выбрала развод и уехала с детьми в Ирландию. Идейного офицера это не смутило, он тут же женился на другой, по имени Рут, теперь уже из Швейцарии. Та на все предложения супруга реагировала правильно. Офицер не может быть женат на иностранке? Что ж, она принимает гражданство ЮАР. Намекнул, что работает на советскую разведку? «Я буду делать всё то, что делаешь ты, любимый».
Дружный семейный дуэт начал работу. Супруги приехали в Москву, где Рут прошла инструктаж и стала агентом под кличкой Лина. Но что она могла знать? Знать — мало, а вот узнать могла многое. Как жену высокопоставленного офицера её часто приглашали на светские рауты, где в своем кругу жены непринужденно обсуждали дела мужей. Оставалось только умело направлять разговор и запоминать. Тем более что она знала пять языков, включая африкаанс.
Дитер Герхардт снабжал советскую разведку информацией о новых образцах оружия, создаваемого на Западе. А супруга ездила в Европу для встречи со связными. Передавала фотопленки, получала инструкции, расписание радиопередач из центра, средства тайнописи и, конечно, деньги. Такого рода новости стоили дорого, счёт шёл на сотни тысяч долларов за каждую успешную операцию. А чтобы не возникало вопросов по поводу персидских ковров и недешёвой живописи, Дитер ссылался на матушкино наследство и везение на скачках.
Так продолжалось два десятка лет. Связные менялись, но всех их звали одинаково: «Боб». Их объединяло ещё и то, что все они были очень обаятельны и могли внушить искреннюю любовь к себе и своему делу.
Супруги не раз бывали и в Москве, и даже вдвоём. В столице они жили в семикомнатной квартире (там даже была бильярдная) в знаменитом Доме на набережной с видом на Кремль. Эту конспиративную квартиру Главного разведывательного управления обслуживала экономка, она же готовила еду. А помимо учёбы и инструктажей, им устраивали и обширную культурную программу. Побывали в Большом театре на премьере балета Хачатуряна «Спартак». Сидели на первом ряду, и Дитер оказался рядом с самим композитором. Впечатления были такие яркие, что потом, вернувшись на квартиру, открыли шампанское. Были и в театре кукол, ездили в Загорск, Ленинград, Сочи… Кураторы старались, чтобы ценным работникам было что вспомнить. Так и случилось: они и в Африке отмечали советские праздники — 1 мая и 7 ноября (конечно, дома, втихую). Даже своего ребёнка назвали Грегори, в честь московского «куратора», Григория Широбокова, с которым долго работали, стали друзьями и не раз откровенничали. Когда Дитер попробовал так же пооткровенничать с другими сотрудниками этой организации — в частности, высказать своё неодобрение советского вторжения в Афганистан, — то попало за это наставнику, и встречи с ним прекратились.
Но, как заметил философ, всё, что имеет начало, имеет и конец. Герхарда выдал его же коллега, двойной агент из ГРУ. Дитера арестовали в нью-йоркской гостинице в январе 1983 года, где он оказался по делам. Сначала отпирался, а когда понял, что о нём многое знают, приуныл. После одиннадцатидневных допросов выдал одного из связных, Виталия Шлыкова. Того взяли в Цюрихе, куда этот «Боб» прибыл на встречу с Рут. При нём были 100 тысяч долларов для неё. Шлыкова, конечно, арестовали и он два года провёл в швейцарской тюрьме. И считал, что очень повезло, потому что мог оказаться в южноафриканской.
В доме матери Рут сделали обыск и обнаружили оставленные дочерью на хранение микроплёнки и фальшивые паспорта. Рут тоже арестовали. Когда с ней начали серьёзно беседовать, то рассказала даже больше, чем спрашивали. Она надеялась избежать наказания и не хотела лишиться маленького сына.
В итоге Дитер получил пожизненное, а Рут — десять лет тюрьмы. Женщина смогла только воскликнуть: «Мой бедный ребёнок! Что теперь будет с Грегори?!» Похоже, что раньше эта мысль ей в голову не приходила. Но не стоит обвинять её в глупости. Как говорил один российский генерал, это просто такой ум.
ГРУ постаралось добиться освобождения Шлыкова, которому пришлось провести около двадцати месяцев в швейцарской тюрьме (ему дали три года за шпионаж). После освобождения он вылетел в Прагу, где его радушно встретили коллеги.
А вот Рут освободили только через семь лет по просьбе швейцарского правительства. Работала в Базеле, в фирме по маркетингу. Вспоминая о прошлом, порой задает себе вопрос: как же так, ведь Дитер говорил, что в случае чего Москва нас не бросит… Но после провала Москва не проявила никаких признаков жизни. Женщина просто не знала русскую поговорку: обещать — не значит жениться. Бывшие агенты, в отличие от сотрудников, никого не интересуют.
Зато и после освобождения Рут свято хранит служебную тайну. Журналист интересуется у неё, как передавала плёнки, но женщина неприступна: «Эту технику раскрыть не могу. Ведь её, возможно, применяют и поныне». И считает, что боролась за правое дело: «Русские были единственной сверхдержавой, боровшейся против апартеида… То, что мы делали, было единственным, что мы могли сделать в интересах всех южноафриканцев».
А вот в словах Джанет о бывшем муже куда меньше пафоса. Она уверена, что Дитер просто мстил властям за то, что те не жалуют сторонников нацистов. Возможно, первой жене виднее, чем подельнице шпиона. Тем не менее, именно Рут развернула кампанию за освобождение мужа. Вместо пожизненного он отсидел девять и уехал в Базель, к жене.
В этой истории шпионажа оказалось больше, чем любви. Но была и любовь. Как там у апостола Павла? Которая всё покрывает, всему верит, всего надеется. Но ведь он же продолжил: не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. А Рут была лишь верной и преданной женой. По её словам, всё, что она делала, она делала ради мужа, который командовал не только на работе, но и в семейной жизни. Жену это вполне устраивало, потому что она нуждалось в надежной опоре.
Словом, обычная семья. Из которой потом пытались сделать героев.
Наш мексиканский резидент
Самые подлые любовные истории происходят, пожалуй, с сотрудниками спецслужб или же случайно к ним причастных Мы уже познакомились с историей Габи и Карличека, где проявила себя спецслужба ГДР. У нас нравы такие же, что бы там ни наснимали в известной саге про Штирлица.
Эту историю загубленной жизни в перестроечные годы сочувственно описали журналисты «Известий». Его зовут Олег Скорик (на самом деле — Скорый, но фамилия тут журналистами изменена из конспиративных соображений. В таких историй много чего изменено, неизменной остается только мораль представителей этой специфической профессии). Так вот, родился он в 1930 году в Одесской области. Учился хорошо, поступил в университет, где был замечен и приглашен на работу в Главное разведывательное управление. И молодой человек принял решение, о котором потом не раз пожалел: согласился.
Вскоре получил первое ответственное задание: шёл 1957 год, в Москве звучали песни Международного фестиваля молодежи и студентов. Среди прочих туда приехал некая Анхелика Торраго из Мексики. Олегу показали её фото и дали ответственное задание: войти в семью Торраго и жениться на его дочери. Ни больше ни меньше. Стоит добавить, что Торраго этот работал начальником отдела виз и регистраций министерства внутренних дел Мексики. Приказ — дело святое. Но пока шла подготовительная работа к тесным отношениям, произошло непредвиденное: боец невидимого фронта влюбился в симпатичную мексиканку. Как честный человек, он тут же написал рапорт своему руководству: мол, так и так, непредвиденные осложнения… в общем, не могу. Но начальство быстро объяснило неопытному сотруднику, что офицер обязан выполнить любой приказ. А если появятся дети, то у «центра» возражений нет.
Вот так, по приказу Родины, Морис Бронильетто — так теперь звали нашего Олега Васильевича — оказался в Мексике в роли скромного швейцарского фотографа. Женился на Анхелике — всё честь по чести, с венчанием в столичном соборе.
Жизнь шла как обычно, рождались дочери — Анна, Ирэна, вот-вот появится третья… Супруг, правда, оказался со странностями: с мексиканцами не общается, утром куда-то уезжает с фотоаппаратом, возвращается поздно и запирается в своей лаборатории. А после поездки в Европу привез домой, радиопередатчик. И раскрыл карты: не из какой он не Швейцарии, а с Украины, и его профессия — разведка. Или шпионаж — это зависит, откуда смотреть.
Если тайный агент действовал в высших интересах далёкой страны, то его жена думала о семье. Мужу не мешала, но каждый раз, когда во время уборки обнаруживала микроплёнки или случайно забытую на столе карту США с какими-то пометками, то её сердце тревожно сжималось.
И что, это работа профессионала? Да начальство за такое…
Как потом рассказывал Олег Васильевич журналисту, приказ «раскрыться» дало само же начальство. Почему? Бывший агент отвечает: «Мне это до сих пор неясно». Так-таки и неясно? Ведь дальше-то события развивались очень красноречиво. Когда последовал очередной вызов в Москву, Олег забеспокоился, что может больше не увидеть семью, и потому они приехали все вместе. Начальство было довольно работой агента, встретили приветливо, приняли в партию, дали звание полковника КГБ… Оставался пустяк: как было бы славно служить родине всей семьей! И Анхелику стали склонять к сотрудничеству (не для того ли и раскрывались?) Сначала уговаривали, потом угрожали, но ничего не помогло. Наоборот, вернувшись в Мексику, она сама стала уговаривать мужа бросить все эти дела и попросить политического убежища. Но Морис отвечал, что пошел в разведку добровольно и бросить работу не может. Тогда она забрала детей и уехала к родственникам в другой город.
Её прекраснодушный супруг отправил в центр депешу: мол, служу уже 21 год, хотел бы отойти от дел, остаюсь всегда с родиной и всё такое. В центре отнесли с пониманием: хорошо, сдавай дела. Через некоторое время — новое сообщение: из Москвы вылетел генерал, с которым надо встретиться. Только не в Мексике, а в Перу. И наш агент оставил жене записку: еду на конференцию, вернусь — всё расскажу.
Вернуться уже не получилось, потому что генерал пригласил его в свою машину, закрыл дверь и раскрыл карты: «Я могу пристрелить тебя здесь и могу доставить в Москву. Выбирай». На аргументы, что, мол, тут остаётся семья, дети, посмеялся: зачем было детей плодить?
Шпиона-романтика доставили в советское посольство, где при нём открыли бутылку виски и выпили за удачную операцию. Ну, и офицер же должен выполнить любой приказ? Пришлось написать расписку, в которой указывалась сумма сданных им долларов — причем гораздо меньшая, чем на самом деле. И билет до Кубы пришлось оплатить — за себя и того генерала. Впрочем, какие низкие мелочи… На родине его ещё три недели держали в госпитале, где обращались как с психически больным, а из органов в результате уволили.
А как же семья? Поддерживать с ней связь использованному шпиону строго-настрого запретили. Олег и не пытался: «Страшно за них. Почему? В разведке всякое бывает…» Вот это уже слова умудренного жизнью мужа. Но у жены-то своя логика. И в перестроечные годы Анхелика обратилась прямо к нашему Горбачёву: «Господин президент! Нас обманул, предал и бросил на произвол судьбы не только советский секретный агент, но и советская система, советское государство. КГБ превратил нашу жизнь в настоящий ад. Я чувствовала себя раздавленной этим чудовищным механизмом, против которого была бессильна что-либо сделать. Нас использовали как вещь и за ненадобностью выбросили. Я считаю, сеньор президент, что вправе требовать от КГБ, от Советского государства компенсации за нашу загубленную и униженную жизнь…» Наивная женщина. Ей же потом ясно ответят, что ни КГБ, ни ГРУ Генштаба такого человека не знают.
Журналисты нашли-таки этого человека, но для упомянутых организаций небольшой конфуз — что божья роса. Олег Васильевич их понимает: «А кто признается? Молчание — закон разведки. „Государственный интерес“ остался и сегодня». На наивную реплику журналиста, что, мол, «спецслужбы перестроились», бывший агент только усмехнулся: «Перестроились? Вы верите в это?»
Газета опубликовала и фото это агента. Только глаза у него замазаны чёрной полосой, чтоб не узнали. Журналист понимающе пояснил: «Для него всё пережитое не просто история, а вся жизнь. И он не хотел бы, чтобы ему лишний раз напоминали о прошлом». Вот такие трепетные чувства у московского пенсионера. Фото его бывшей жены напечатали как есть. Ей, наверное, всё равно. Но фотография получилась лживая: это тогда у студента Олега Скорого были замазаны глаза, а теперь приоткрылись. Правда, не до конца: «Вообще я зла на ГРУ не держу. Это я их поставил в трудное положение: из-за меня могли отношения между странами ухудшиться. Правда, ещё в мою бытность из Мексики полпосольства выдворили…»
Все возрасты покорны…
Неравный брак нынешнего века
Эта история долгое время будоражила любителей экзотики. 60 лет разницы у «молодых» — до такого никакой Пукирев не додумается. Если полтора столетия назад художника удручила реальная история, когда юную невесту его друга выдали замуж за человека на 13 лет старше, а на картине «Неравный брак» он ещё и сгустил краски, увеличив разницу лет до 30—40, то сегодня — никаких трагедий, всё исключительно по любви. Да и для 24-летней Натальи Шевель брак с сильно пожилым актёром театра и кино, народным артистом России Иваном Краско был уже третьим. Для него — четвертым. Он читал лекции в театральном училище, она — постигала основы актерского мастерства.
Конечно, на нашем веку мы много чего видали: и Пугачёву с Галкиным с разницей в 27 лет, и Александр Градский нашел супругу на 35 лет помоложе, и Армена Джигарханян с его Виталиной, которая родилась позже супруга на 44 года — то есть, по сути годилась во внучки. Но уж вести в загс ровесницу правнучки… Понятно, когда это делает одиозный Хью Хефнер, основатель «Плейбоя», по прозвищу Хеф, которого привыкли видеть в окружении юных, так сказать, сотрудниц. С семёркой лучших из них он жил много лет в своём особняке, пока, в конце концов, уже за несколько лет до смерти, не женился на одной из них, на 60 лет моложе. Но то Хеф, а наш-то Иван Иванович до сих пор в подобном легкомыслии замечен не был. Да и традиции у нас свои.
В общем, такая непривычная любовь потребовала от влюблённых определённой стойкости. Пожилой супруг много чего наслушался насчёт седины в бороду и подоспевшего беса, а Наталье пришлось выдержать упражнения в психоанализе не только от близких, но и совсем неведомых аналитиков, причём самым безобидным был тезис, что-де любовь зла, полюбишь и… сами знаете кого. Всякие подозрения в корыстных мотивах с её стороны супруг решительно отметал: «Наташа витает в духовных сферах. Она не брала у меня ни рубля, пока я не объяснил ей, что если она хочет быть со мной, то это не «моё», а «наше». Короче говоря, «между нами и любовь, и дружба, и уважение. И всё это абсолютно взаимно».
Молодую жену надо баловать: «чашка кофе с утра — в её отдельную постель. Обязательны шутки, чтобы поднять настроение. А когда мы идём в магазин, я у неё в глазах читаю просьбу купить „киндер-сюрприз“ — ребёнок же в душе», — повествует счастливый супруг. Как видим, по таким вопросам, как кофе и шоколадки, разногласий не было. По более серьёзным отмечалась некоторая нерешительность. Если муж мечтал о ребёнке — для чего, собственно, люди и вступают в брак, — то супруга просила подождать. Сколько ждать — сроки не уточнялись. Да и то — дело молодое, успеется…
Как поётся в песне, «любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом».
Но вскоре появился повод для очередных пересудов — затяжные путешествия супруги за границу. В одиночку. Иван Иванович объяснял это поначалу тем, что перелёты требуют от него слишком много сил.
Потом стал откровеннее:
— Я знаю обо всём, что у неё происходит. Но мы уже не супруги и вопрос нашего с ней расставания неизбежен. Брак с Натальей Александровной — это же был эксперимент с моей стороны! Такой педагогический ход. Я хотел ей помочь. К тому же она с самого начала категорически была против ребенка. Я понимаю, у нас нет своего жилья и в чем-то она права. А, с другой стороны, может быть, это наивно, но если бы появился ребенок, с квартирой бы я вопрос решил.
Супруга тоже после трёх лет совместной жизни стала высказываться гораздо яснее:
— У мужчин иногда бывает идея-фикс — хочу ребёнка и всё, а как — это уже другой вопрос. Но нужно понимать, что такое ребёнок, когда нет ни квартиры, нет денег, нет постоянной работы. Я не могу на него положиться.
Да, ничто не вечно, у многих подобные эксперименты закончились буднично и невесело. А дальше что?
Краско сообщил, что возвращается к своей прежней Наталье, бывшей жене Наталье Вяль:
— Наталья Николаевна сказала, что не против, чтобы я вернулся в семью. Наталья Александровна знает об этом, для меня вопрос с Натальей Николаевной практически решен. Я вернусь к матери своих детей, ведь это для меня сейчас самое важное. К тому же, мы с ней обвенчаны, то есть перед церковью до сих пор женаты!
27-летней Шевель тоже есть над чем подумать.
— Точного плана у меня нет. Всё, что имею: веру в то, что всё будет хорошо, — говорит она.
Слухи о своей возможной эмиграции не комментирует, но признаётся:
— Я хочу попробовать начать всё заново в новой стране, где меня никто не знает, и не будет лезть в мою жизнь. Я хочу особенного мужчину, чтобы он смог заставить меня думать о нём каждый день, чтобы он заставил меня сойти с ума, чтобы я записочки писала, чтобы он на меня смотрел… Я хочу быть женщиной, хочу мужского плеча, хочу спокойствия. А я выхожу на амбразуру — нате, стреляйте! Меня столько раз на кострах сжигали за эти три года, вам и не снилось!
А пока жизнь идёт своим чередом: готовится к театральной премьере, потом собирается заняться живописью. А ещё — благотворительностью и написать книгу…
Пушкинскую строчку «любви все возрасты покорны» любят цитировать, когда речь идёт о старческом всплеске чувств. Но строчка-то вырвана из контекста! Ведь там речь вот о чём:
Впрочем, не всё так печально. Вспомним шукшинского персонажа по прозвищу Беспалый. Там тоже любовная история, из-за чего он и лишился пальцев. Правда, речь шла о заурядной измене, но герой-то как рассуждал? «Всё же, как ни больно было, это был праздник. Конечно, где праздник, там и похмелье, это так… Но праздник-то был? Был. Ну и всё».
Школьный роман
Американской учительнице Мэри Кей Летурно, которая к 34 годам имела четверых детей, понравился ее 12-летний ученик. Понравился настолько сильно, что в результате история растянулась на десятилетия, семь из которых Мэри провела тюрьме. Журналистам новостей хватило надолго, потому что не только страна, но и чуть ли не весь мир ждал подробностей и продолжения.
Ученик этот с раннего детства чувствовал себя мачо. Да и рослым был Вили Фуалаау не по годам. Смуглый, с курчавыми волосами и наглой улыбкой.
«Да со мной любая пойдет, стоит только попросить!» — говорил он своему брату.
«А училку соблазнить слабо?» — поинтересовался брат. И предложил пари на двадцать долларов.
Школа, где Мэри Кэй учила детишек, находилась в неблагополучном районе одного из пригородов Сиэтла. Там жили беженцы из Камбоджи, чернокожие, эмигранты с тихоокеанских островов Самоа. Именно с этих островов и приехала семья Вили.
Отец семьей не очень интересовался — тем более, сидя в тюрьме за вооруженное ограбление. Весь прокорм зависел от матери, которая работала в пекарне.
Что касается отношений между полами, то полинезийские традиции, которые даже на чужой земле умирают не сразу, на этот счёт позволяют многое. До брака молодёжи можно практически всё. А вот при выборе жены уже надо было учитывать некоторые запреты, самым серьёзным из которых считался брак между вождем и простой женщиной. Ясно, что на новой родине Вили этот запрет был, что называется, не в тему. Прочих назиданий, привычных для европейцев, вроде: «кушай хорошо, не испачкай штанишки, осторожней переходи улицу», не было вовсе, и потому дети отличались самостоятельностью. Эти подробности — для тех, кто никак не поймёт, как это пятикласснику могло прийти такое в голову.
Сказано — сделано, тем более что Вили уже был у учительницы в числе любимчиков.
Биография Мэри мало чем напоминала жизнь её ученика. Она была четвертым ребенком в семье преподавателя колледжа Джона Шмитца — ревностного католика и консерватора. Правда, у этого сторонника строгой морали было двое внебрачных детей, что поставило крест на политической карьере.
Зато у Мэри всё шло хорошо: вышла замуж за красавца Стива Летурно, менеджера багажной службы компании «Аляска Эрлайнз», у них был собственный дом, четверо детей. Но мать не погрязла в быту и пеленках: Мэри закончила университет и стала учительницей средней школы.
Правда, брак дал трещину: у супруги были основания думать, что муж ей изменяет. Да и с деньгами появились проблемы, о чём не давали забыть неоплаченные счета. А тут этот Вили… Он учительнице нравился — внешне выгодно отличался от одноклассников, был способнее их, к тому же неплохо рисовал и не стеснялся говорить, что думает. С некоторых пор он вдобавок старался всеми способами привлечь её внимание. «Этот его взгляд… Он меня буквально раздевал им, — вспоминает Мэри. — Было ясно, что мысли его были вовсе не об учебе». Однажды на перемене он включил маленький магнитофончик, и заиграла песня «Хей, леди, я хочу быть твоим мужчиной…» Ей было приятно, что Вили оставлял на её столе рисунки, посвященные «любимой учительнице», а также романтические стихи. Когда коллеги намекали, что её отношения с школьником смахивают на флирт, она лишь пожимала плечами: мол, какой там флирт… Тут ещё отец тяжело заболел, и трогательно влюбленный подросток, по её собственному признанию, стал для неё светом в окошке: «Однажды Вили спросил меня, сколько лет я собираюсь прожить. Я ответила: „Лет до ста точно проживу, потому что моей бабушке уже исполнилось сто“. „Тогда я не собираюсь жить дольше 80, — сказал Вили, — потому что ни дня не смогу прожить без вас“. Это были самые романтичные слова, когда-либо сказанные в мой адрес».
В апреле 1996-года занятия закончились, но Мэри и Вили продолжали встречаться. Они вместе учились на компьютерных курсах, и Вили стал часто бывать в доме Летурно. Однако муж был не рад, что в его доме вертится чужой мальчишка, а жена стала меньше заниматься хозяйством. Однажды застав дома Вили за рисованием, он его просто выгнал.
Мэри села в машину и помчалась вдогонку. Когда Вили вошёл в машину, женщина стала просить прощения за грубость мужа, а потом расплакалась. Парень обнял её и, поняв, что можно пойти и дальше, принялся целовать. Она ответила…
Было уже темно, и подозрительную машину заметили полицейские.
Страстные поцелуи взрослой женщины и подростка вызвали у офицера профессиональный интерес, и он поинтересовался, что там происходит. Мэри сказала, что она учительница, и пояснила: мать Вили работает в ночную смену и попросила присмотреть за ним.
— Сколько ему лет?
— Восемнадцать.
Полицейский заподозрил неладное: на восемнадцатилетнего мальчишка всё-таки не тянул. И тот же вопрос задал ему. Вили, похоже, не понял, что означал в этой ситуации правдивый ответ. И приврал совсем немного:
— Четырнадцать.
В результате все поехали в полицию. Но мать Вили, выручила, сказав, что полностью доверяет учительнице:
— Если мой сын с ней, всё в порядке.
Задержанных отпустили, а через некоторое время стало ясно, что учительница беременна. В общем, Вили свои доллары выиграл.
Муж узнал об этом. Узнал он также и о том, что отцом ребенка является тринадцатилетний чёрный мальчишка, часто бывавший у них в доме. Впервые за годы семейной жизни он избил жену и потребовал сделать аборт. Мать Мэри, хоть и была католичкой, тоже советовала дочери сделать это.
Но семейными разборками дело не ограничилось. Двоюродный брат Стива, не называя себя, позвонил в службу защиты детей и в школу, где работала Мэри, и всё рассказал. Дело было передано в полицию. Вили вызвали на допрос, и вскоре он во всём сознался. В тот же день Мэри Кэй, беременность которой была уже видна, арестовали прямо на уроке по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего. Во время следствия Мэри скажет, что была убеждена в том, что понятие «совращение малолетних» относится исключительно к мужчинам…
Когда Мэри выпустили под залог, она пришла в пустой дом: Стив забрал детей и уехал на Аляску. В ожидании суда она и родила своего пятого ребенка, дочь от Вили. Её назвали Одри Локлани Фуалаау. «Локлани» на языке полинезийцев, означает «райская роза»
На суде Вили утверждал, что никакая он не жертва, и психика его вовсе не травмирована. Его мать, не одобрявшая этой связи, тоже говорила, что Мэри не в чем обвинять. Но учительницу всё же признали виновной и приговорили к принудительному психотерапевтическому лечению в течение шести месяцев, к тюремным работам сроком на три месяца с последующим условным освобождением. Предельно мягкое наказание по законам штата Вашингтон.
Дочь Мэри передали бабушке Суне — матери Вили, а самой осуждённой запретили приближаться к бывшему ученику. Нарушение этого условия сулило немедленный арест.
То, что произошло потом, не очень понятно. Похоже, любовники знали, на что шли, и сознательно решились на провокацию: демонстративно занялись сексом в её автомобиле в людном месте средь бела дня. Их, разумеется, задержали. На этот раз власти решили проучить Мэри как следует, приговорив к семи с половиной годам тюрьмы без права переписки и свиданий с любимым.
Восемь месяцев спустя Мэри Кей родила дочь Джоржию-Алексис, которую у неё незамедлительно забрали и снова отдали на попечение бабушке и самому Вили. Однако отец, которому только исполнилось 15, пустился во все тяжкие: бросил школу, начал употреблять наркотики. И появилась странная привычка — он стал говорить сам с собой…
В семье Вили придерживались правила: хорошо то, что выгодно. Спустя два года он по совету матери подал в суд на свою бывшую школу, обвинив администрацию в том, что она «не сумела оградить его от коварной соблазнительницы». Но Мэри, даже после того как «истец» заявил в суде, что никогда не любил «ту самую училку», продолжала верить в него: «Я знала, что он любит меня. Мои дети во время свиданий в тюрьме всегда мне твердили: «Папа тебя любит!»
Время в тюрьме бывшая учительница даром не тратила и написала несколько книг о своей связи с учеником. В Европе они стали бестселлерами. Кроме того, Мэри Кей по собственной инициативе начала обучать малообразованных заключённых, а также увлеклась созданием аудио-книг для слабовидящих. Но примерное поведение всё же не помогло ей скостить срок.
Вили и Суна не сидели, сложа руки. Хотя они и не смогли опротестовать решение суда, но стремились привлечь к этому делу внимание публики. В 2000 году во Франции вышла книга Мэри Летурно и Вили Фуалаау под названием «Единственное преступление, любовь». А в Америке наделала много шума книга Грега Ольсена «Если ты любишь, ты — преступник».
В августе 2004 года Мэри вышла на свободу. Ей исполнилось 42 года. В документах полиции она значилась опасным насильником и каждые три месяца должна была являться в полицию для регистрации. Она продолжала утверждать, что с Вили у неё были «замечательные отношения», и жалела лишь о том, что эти отношения начались, когда она была ещё в браке.
Всё это время Вили не переставал её ждать. К тому времени ему уже исполнился 21 год, и тянуть с предложением руки и сердца он не стал. И препятствий для свадьбы никаких не было: первый муж Мэри давно с ней развёлся.
Свадебная церемония вызвала большой ажиотаж. На этом они неплохо заработали, ведь о дальнейшей судьбе «американской совратительницы» хотела знать вся страна. Солидное издание вело специальный репортаж с места события, эксклюзивные права на съемку были проданы за хорошие деньги.
Собралось более двух сотен разношерстных гостей — и бывшие ученики невесты, и её сокамерницы. Богатый стол, невеста в белоснежном платье… Свидетелями были старшая дочь Мэри и бывшая соседка по тюремной камере, а букеты несли две уже подросшие дочки и Вили.
Жизнь стала постепенно налаживаться. На деньги, заработанные на свадьбе, сняли домик на берегу моря. Вили стал диджеем, а Мэри устроилась секретарем-референтом в юридическую контору: работать учительницей ей теперь уже не придётся.
Своего прошлого супруги не стесняются и от дочек ничего не скрывают: «Они и так всё знают, ведь они росли с этим», — говорит мать. Но если Мэри ни о чём не жалеет, то Вили смотрит на события уже повзрослевшими глазами: «Я спрашиваю себя, как сложилась бы моя жизнь, если бы я тогда не повёлся на то пари. Мэри мне нравилась, но я бы ни за что не стал добиваться её, если бы мне не посулили те двадцать долларов».
Многозначительное признание. Любовь, как и предсказывали скептики, оказался не вечной: после двадцати лет бурного романа, где были и тюрьма, и счастливый 12-летний брак, супруги решили расстаться. Истинная причина неизвестна, хотя знающие люди полагают, что дело в измене. Ах, Вили, Вили…
О теле и духе
Ник Вуйчич
Австралиец Николас (или просто Ник) Вуйчич — один из самых удивительных людей нашего времени. У него нет ни рук, ни ног, что не мешает ему писать книги и выступать перед огромными аудиториями. Его слова многим помогают справиться с собственными проблемами. Со своими-то он успешно справляется, работает и хорошо зарабатывает. А вместе со своей супругой Ник воспитывает родных и приёмных детей. И самое главное — этот человек по-настоящему счастлив, хоть в это и трудно поверить. Ведь всегда можно возразить: кто там знает, что у него на душе. Разве не бывает так: человек на людях улыбается, а наедине с собой — хоть в петлю…
Да, бывает по-разному. Но мне кажется более правдоподобным другое: люди часто пытаются «уличить» и «развенчать» того, кто сумел проявить такие качества, которых у разоблачителей просто нет. Им это важно для самоуспокоения: мол, ничего он не герой, врёт и притворяется, и вообще все одинаково ничтожны. Тогда мир вокруг снова становится понятен и жизнь не требует никаких перемен.
К тому же, Ник жизнь свою не приукрашивает, а это всегда хорошо чувствуется. Не скрывает, что уже в десять лет твёрдо решил покончить с таким ущербным существованием. Сказал маме, что хочет искупаться, и попросил отнести его в ванну. Потом вспоминал: «Я пытался повернуться лицом в воду, но было очень сложно удержаться в таком положении. Ничего не получалось. Но за это короткое время я очень чётко представил картину своих похорон — вот стоят мои папа и мама… И тут я понял, что не могу причинить им боль. Ведь всё, что я видел от родителей — это огромную любовь ко мне».
Больше таких попыток не делал.
Он родился в 1982 году в Мельбурне, в семье сербских эмигрантов — медсестры и пастора. Первенца ждали долго, но радость сменилась шоком, когда увидели младенца. Его болезнь называется «синдром тетраамелии». Это очень редкое наследственное заболевание, причины которого толком не ясны. Специалисты полагают, что дело тут в мутациях одного из генов, в результате чего ребенок рождается без конечностей. А часто и внутренние органы повреждены настолько, что младенцы просто не выживают. Нику повезло, природа оставила ему шанс, хотя говорить о везении в данном случае довольно странно.
О том, что чувствовали родители, говорить излишне. Им оставалось просто жить, не заглядывая в будущее, и молиться. И хоть молитва может многое, порой даже творит чудеса, но тут чуда не произошло. Оставалось радоваться просветам серого на фоне чёрного.
Молился и Ник. Но он был слабее всех и ему пришлось труднее всех. Появилось разочарование в молитве, сильнейшая депрессия и тот случай в ванной. Как ни странно, но встряска пошла на пользу: Ник понял, что даже с таким недугом можно жить полноценно. Какие уж аргументы пришли ему в голову — неизвестно, но вот жизнь свою он постарался изменить.
Ник начал усиленно тренировать свою единственную конечность — небольшой уродливый отросток, который достался ему вместо левой ноги. Посещал специализированную школу для инвалидов, а когда австралийские законодатели пошли инвалидам навстречу, то у Ника появилась возможность ходить в обычную школу. Радости от этого было немного, потому что дети часто бывают жестоки и ненавидят непохожих. Душа успокаивалась только в воскресенье, в церковной школе.
Но всё это надо было пройти хотя бы ради того, чтобы поступить в университет, где отношение было совсем другое. Да и Ник изменился. Хирурги сделали ему на стопе что-то вроде пальцев, а уж он научился их использовать по полной программе: работать с их помощью на компьютере, ловить рыбу, играть в футбол, кататься на сёрфе и скейтборде, обслуживать себя и даже передвигаться. Конечно, надо понимать, что кроется за этими привычными словами. Это как, к примеру, прохожий идёт по тротуару и воздушный гимнаст идёт по канату. Оба — идут, только цена прогулки разная.
В конце концов Ник Вуйчич получил два высших образования — в сфере финансов и бухгалтерии. И продолжал работать со своим телом, благодаря чему отказался от протезов. Но главное всё-таки в другом: он понял, как ему жить с его недугом.
И как же? А вот здесь — главное, простое и почти невозможное одновременно: не сдаваться! (кстати, эти слова стали девизом Ника). А уж если это сумеешь, то научи других, многие нуждаются в такой науке.
Так он нашел свое предназначение в жизни. Как говорит сам Ник, перед ним открыты тысячи дорог, а мир наполнен людьми со своими трудностями. И Нику есть что им сказать. Он называет себя мотивационным оратором, и с 1999 года выступает везде, где хотят его слушать — в школах, университетах, детских приютах, тюрьмах, церквях… «Моя миссия — это помочь людям найти свой путь», — говорит он. Потому что отсутствие рук и ног — ещё не повод не жить полноценной жизнью. Которая, кстати говоря, вовсе не сводится к общественным трудам.
У Ника есть красавица жена и здоровые дети. Со своей первой и единственной любовью, Канаэ Мияхаре, Вуйчич встречался около четырех лет, прежде чем сделать ей предложение. Девушка из японо-мексиканской семьи разделяла христианские взгляды Ника и была восхищена его силой духа, добротой и самоотверженностью. Сначала у пары появились два мальчика, а в 2017-м родились девочки-двойняшки, тоже здоровые. А чуть позже на семейном совете было решено взять в семью троих сирот.
Сейчас семья живет в Америке, в Лос-Анджелесе. Россия стала 55-й страной, которую Вуйчич посетил в качестве мотивационного оратора. На своём выступлении в Общественной палате он сказал: «Всё начинается с мечты! Да, не каждая мечта сбывается. Но я видел множество людей, которые достигали своих целей… Поэтому мечтайте. И мечтайте по-крупному».
И сам продолжает мечтать и верить в чудо. В шкафу у Ника стоит пара ботинок: он надеется, они когда-нибудь ему понадобятся.
А могли и заспиртовать…
Дед Владимира Фёдорова был карликом и передал свои гены внуку. Это означало, что выше 130 сантиметров ему не вырасти. Причем связанные с ростом испытания начались сразу же после рождения. Не какие-то безответственные доброхоты, а чуждые сантиментам профессионалы показали молодой матери ребенка со словами: зачем вам такой? А мы, мол, можем его заспиртовать в качестве экспоната, заказ уже есть. И действительно: голова большая, ручки-ножки крохотные, и на всё про всё — 30 сантиметров… Но мать заплакала и отказалась. И никогда об этом не жалела. А дедушка и обе бабушки обрушили на малыша столько любви, что тому хватило на всю жизнь. Заодно избавило и от комплексов на эту тему. И хоть в физическом плане природа его обделила, на голову жаловаться не пришлось.
Мать работала инженером-конструктором, и интересы сына сосредоточились на технике, причем на всякой. Очень скоро это пригодилось. Когда мальчик учился в седьмом классе, родители развелись, мать тяжело заболела, а в семье ещё двое братьев… Чтобы как-то помочь, Володя стал подрабатывать фотографом, принимал заказы и на починку электротехники. А ещё всерьез увлекался математикой, собирал радиоприемники, из разбитых мотоциклов пытался смастерить действующий. В общем, без дела не сидел.
Когда заканчивал школу, учителя наставляли — из лучших, конечно, побуждений: тебе, мол, Володя, нужна будет пенсия по инвалидности. А он пошел в авиационный институт. Хоть в космонавты не собирался, но всё равно медкомиссия его завернула. И на работу не брали. В Институт атомной энергии взяли только под личную ответственность академика Будкера. Когда на следующий год подал заявление в инженерно-физический институт, то очередной профессионал — теперь уже из медкомиссии — прошипел: «Что у меня, зверинец, что ли?!» Пришлось побегать по инстанциям за разрешением. В институт всё же поступил, закончил его с отличием и на год раньше. Получил профессию физика-ядерщика, стал работать в Институте биофизики, где опубликовал более пятидесяти научных трудов. Его статьи печатали в иностранных научных журналах, но когда приезжали иностранцы, то ученого к ним не допускали. Почему? А потому, что «человек с ущербной внешностью не может официально представлять советскую науку», — считали профессионалы от госбезопасности. Эти профессионалы давно к нему присматривались: и самиздат читает, «Голос Америки» слушает, джазом увлекается… Да и воображение у него чересчур богатое. Например, уже много лет придумывает разные «сувениры», подобные которым начнут делать только с наступлением перестройки. Матрешка с густыми бровями и пятью звездами Героя. Открываем — а там матрешка поменьше, тоже с бровями, но уже с четырьмя звездами и так далее. Или фарфоровая перечница в форме известного писателя с надписью «Горький». Или вот проволочная спираль от трансформатора, которую он назвал «Генеральная линия». Слухи пошли в нужном направлении, и вот уже сотрудники известного ведомства тщательно копаются в его вещах, изымают зарубежную литературу и магнитные пленки. И разглядывают их на предмет связи с иностранными спецслужбами.
И ничего, что он кандидат наук, читать и слушать будет только то, что положено. В общем, из института его попросили. Но тут уже шумели перестроечные митинги, а Владимира Федорова активно снимали в кино, где его нестандартная внешность очень пригодилась. А то ведь на роли рыцарей и героев — очередь, а «злобного карлу» Черномора в «Руслане и Людмиле» сыграть некому…
После Черномора его узнала вся страна, в ролях недостатка не было. Но нравственно тупых профессионалов по-прежнему хватало. Режиссёр на весь павильон давал указания операторам: «Покажите его кривые ноги крупным планом! А теперь — макушку сверху!»
В конце 1980-х годов Владимир Фёдоров вышел на профессиональную сцену — играл в спектаклях Вахтанговского театра. Амплуа яркого актёра со специфической внешностью — разного рода карлики, причём не только в театре. Даже те, кто и не слышал никогда про Федорова, запомнили его инопланетянина в желтых штанах в фантастической трагикомедии Георгия Данелии «Кин-дза-дза».
Всё это, собственно, только присказка к истории о большой любви. Только где же тут любовь?
С любовью Владимиру долго не везло. Как назло, ему нравились красавицы-блондинки, и услышать от такой что-то обидное… лучше и не пытаться. Поэтому и погружался в свои увлечения, вроде джаза и электроники, только бы не испытать очередное унижение.
И всё же… в 27 лет женился. На актрисе. Внешне она была идеальна. Причем сама его выбрала, отвесив, так сказать, пощёчину общественному вкусу. Правда, через три месяца её чувства пришли в норму с неким актером, который сказал Владимиру на прощанье: «Разве с тобой она сможет быть счастлива?» А у того пропала охота жить. Спасла работа, в которую погрузился на несколько лет.
Потом встретил Алю. Ученый-биолог, красавица, вовсе не обделённая мужским вниманием. Но всем ухажёрам она предпочла Владимира с его светлой душой. Когда ждали ребёнка, то, конечно, волновались: не будет ли сюрприза с генами? Отец потом вспоминал:
— Помню, позвонил в роддом, мне говорят: «У вас мальчик — 4600 г, 52 см». Вся наша лаборатория орала: «Ура! Ура! Беги скорее!» Я покупаю цветы, бегу… Действительно — сын! А потом… Аля написала мне в записке, что он умер… У кого-то из ординаторов был день рождения. И пьяная санитарка уронила моего сына. Спасти его не смогли. Я долго страдал, но моё сознание тогда резко изменилось. Да, ребенок погиб, но ведь он родился здоровым и обычным! Я чувствовал себя настоящим мужиком, таким, как все, и даже лучше! И мы решили зачать второго ребенка как можно скорее.
Через полтора года родился Миша — крепкий, здоровый малыш. Рос способным, учил языки, увлекался компьютерами. Всё вроде бы прекрасно, но семейная жизнь дала трещину, и через полтора десятка лет совместной жизни они развелись. Потом Владимир винил во всём себя — популярность, романы… Пытался вернуться, но поезд уже ушёл. В третьем браке поначалу было всё хорошо, родились две девочки, но одна из них — карлица… Впрочем, с дочками всё было более или менее хорошо, а вот брак распался.
Так к чему, спрашивается, этот перечень любовных неудач?
Ну, во-первых, это лишь подтверждает, что у Владимира, вроде бы сильно обделенного судьбой, личная жизнь сложилась не хуже, чем у многих с вполне нормальными генами. И, в конце концов, ведь ещё не вечер, правда? В свои 65 Владимир встретил ещё и Веру, которая моложе его на полжизни. Они познакомились в кафе театра. Девушка подошла, чтобы сфотографироваться с актером. Потом долго разговаривали. Мужчина влюбился с первого взгляда, и в конце беседы спросил: «Если бы я сделал вам предложение, вы бы вышли за меня замуж?» Они общались все три дня, пока Вера была в Москве. Потом уехала домой, в Петрозаводск. Оттуда написала, затем позвонила. Через месяц многочасовых телефонных разговоров приехал к ней, а ещё месяц спустя зарегистрировали брак.
Упредим догадки сообразительных: московская квартира не сыграла тут никакой роли, потому что её и не было: там живёт бывшая жена с новым мужем. Вместе Владимир и Вера смогли жить только после очередной трагедии, когда убили Мишу. Воры забрались в дом и изрезали ножом… Отец ушел на квартиру погибшего сына, и Вера переехала к нему. Они обвенчались.
Владимир Анатольевич говорит:
— Я очень люблю Веру. С ее появлением у меня стали постоянно рождаться стихи. Например, такие:
Они вместе уже пятнадцать лет, и этот союз, похоже, оказался по-настоящему крепким и счастливым. Годы дают себя знать, и жена — самая надежная и прочная опора в его жизни. Живут небогато, жена работает в фитнес-клубе, муж продолжает заниматься любимой наукой. По-прежнему молод душой, но в будущее смотрит философски: «После гибели моего последнего нейрона от меня, как Федорова Володи, „Черномора“, останется только запечатленная память живых, знавших меня или обо мне. Надеюсь, она, эта память, будет достойна моих усилий быть и оставаться человеком».
…Вот о том и рассказ: как человеку всё это удалось.
«Становлюсь счастливее с каждым днём»
Валерию Спиридонову из Владимира не повезло. Судьба предложила ему роковой билет — один на десять тысяч новорожденных — с болезнью Верднига-Хоффмана. Заболевание наследственное, причем даже у двух родителей с ущербными хромосомами болезнь может не проявляться и родится здоровый ребенок. Не будем углубляться в патологию нервных клеток спинного мозга, достаточно сказать, что до двух лет не доживает половина таких новорожденных, да и остальные долго не живут. Ясно, что о них мало кто слышал: писать о младенце, который умер от неизлечимой болезни, никто не будет. Бывают, конечно, исключения, если родители не бросят и медики сделают всё возможное. Как это случилось, например, с английским ученым-астрофизиком Стивеном Хокингом.
Валерий тоже выжил. Несмотря на то, что у него работают лишь мышцы рук и головы, окончил школу, потом владимирский университет, работает программистом. Это при том, что болезнь не позволяет ему поднимать ничего тяжелее телефона. Кроме того, выучил английский язык и вёл активную жизнь, занимаясь проблемами инвалидов. Но думать, что жизнь удалась, не получалось. Когда в 2015 году нейрохирург из Италии Сержио Канаверо объявил, что может сделать операцию по пересадке головы человека на донорское тело, Валерий предложил свою кандидатуру. Учтём, что таких операций никто в мире ещё не делал, и чтобы рассчитывать на успех надо быть очень большим оптимистом.
Сначала Канаверо согласился, началась подготовка к операции, но затем выяснилось, что никто не берется финансировать эту процедуру стоимостью примерно в 50 миллионов долларов. В конце концов, провести операцию на своей территории предложил Китай, но при условии, что пациент будет… китайцем. Так что у Валерия ничего не вышло. Правда, он ничего и не потерял: дальше разговоров дело не пошло. Зато Валерий стал известен во всём мире, начал вести ещё более активную жизнь.
И, пожалуй, случилось самое важное: познакомился со своей будущей женой Анастасией. Она тоже из Владимира. Сначала общались только по работе, но когда девушка узнала о его идее пересадить голову, то решила отговорить. Скоро дружеское общение перешло в серьезные отношения: оказалось, что им есть о чём поговорить и кроме трансплантологии.
— Мы видели друг друга в разных ситуациях и поняли, что у нас получится дружная семья, — говорит Валерий. Он оберегает жену от публичных обсуждений и потому немногословен: «Она потрясающей красоты девушка». Анастасии немного за тридцать, она имеет несколько образований, в том числе среднее медицинское.
Осенью этого года невеста Валерия в соцсетях спросила своих друзей: «Почему вы не влюбились (не женились, не вышли замуж и т.д.) за человека на инвалидной коляске?» Когда ей никто не ответил, девушка высказалась так: «Потому что вы цените себя выше? А с какой это стати? Только потому, что можете ходить? А то, что такие люди гораздо более тонкие, чуткие, верные, душевные, а ещё, как правило, очень умные и глубокие, разве не главное?»
Вместе они переживали и беду, которая пришла в семью Валеры: в январе 2018-го не стало его мамы. Она в последнее время болела, перенесла операцию.
— Для моей мамы главным в жизни всегда были дети. Свои, чужие — 45 лет педагогического стажа, ветеран труда, — пишет Валера. — Они отвечали ей взаимностью. Я тоже являюсь сегодня тем, кто я есть, благодаря воспитанным ею качествам и образованию, ради которого она отказывала себе во многом. Стремилась проявлять заботу и участие во всём, даже когда стала нуждаться в них сама.
С недавних пор семья Спиридоновых живет в США. Супруги выбрали городок Бока-Ратон недалеко от Майами. В одном из университетов Флориды Валерий получает степень магистра компьютерных технологий. Говорит, что начиная с пятого класса не прекращал интересоваться новыми «штуками», а желание получить западное образование, чтобы заниматься крупными международными проектами, появилось у него несколько лет назад. А во Флориде Спиридонов оказался потому, что местный университет был первым, согласившимся финансировать его обучение. Там его, конечно, тоже знают как пациента доктора Канаверо, но с вопросами о пересадке головы не пристают. Валерий много учится, по-прежнему дистанционно работает с несколькими компаниями и занимает должность исследователя в университете. Он всё-таки главный кормилец в семье, которая недавно пополнилась…
О ребенке они с Анастасией мечтали давно. Болезнь Валерия, конечно, наследственная, но передаётся она только в том случае, если оба родителя являются носителями мутировавшего гена. И всё же до беременности сделали тест, который показал, что супругам опасаться нечего. Малыш родился здоровым, он не «из пробирки», и семья принимает поздравления.
Отцовство заставило 33-летнего Валерия отказаться от операции, потому что теперь не может рисковать — по крайней мере, головой. «Я счастлив, что являюсь мужем и отцом, и не могу оставить свою семью», — говорит он.
Но ведь эта болезнь лишает людей не только способности двигаться, но и надежды на долгую жизнь. Однако мужчина считает, что нашел альтернативу пересадке головы. Он верит в американскую медицину и считает, что лечение сможет сильно облегчить ему жизнь и стоит намного дешевле. Хотя эффективных лекарств по-прежнему нет, по его словам, после 25 лет скорость течения заболевания замедляется, и сейчас состояние стабильное. Секрет — свежий воздух, витамины и хорошее настроение.
Валерий уточнил, что не навсегда покинул Россию, а приехал на учебу — в планах получить степень магистра компьютерных технологий. При этом он работает в разных направлениях, в том числе занимается искусственным интеллектом. Ему предложили вести научную колонку в известном информагентстве, стали приглашать на мировые научные конференции. Спиридонов уже побывал в Нью-Йорке, Амстердаме, Киеве, Стокгольме.
А если говорить о главном, то на своей страничке в соцсетях он написал так:
— Жизнь продолжается. Я женат на самой прекрасной женщине. Получаю степень магистра в университете Флориды. Становлюсь счастливее с каждым днем.
И вот ещё что он понял:
— Всё, что случилось, помогло мне почувствовать свои возможности, открыть себя, мир и понять, что многие вещи гораздо более достижимы, чем кажутся.
Не смазлив, но настойчив
До чего же переменчива и неожиданна бывает судьба… Человеку всего 28 лет, он здоров (бывший морской пехотинец), работа есть, окружающие его любят. И увлечения приятные: вчера купил новый мотоцикл, а сегодня впервые отправился в самостоятельный полет на самолёте, без инструктора. Всё прошло отлично, и вот он уже едет на новом мотоцикле на работу.
Впереди — перекрёсток, где через несколько секунд американец Уильям Митчелл из Сан-Франциско столкнётся с грузовиком. Кости переломаны, лицо обгорело, пальцы и вовсе обуглились… В общем, друзья, посещавшие его в больнице, падали в обморок — те, кто послабее, конечно. Но сам-то Митчелл не из слабаков. Две недели без сознания, многократные переливания крови и пересадки кожи, пластические операции — а через четыре месяца попросил принести учебники по пилотажу: освежить в памяти. И это несмотря на то, что самым простым вещам — поднять вилку, набрать номер телефона, пройти в ванную — ему пришлось учиться заново. Но как бы там ни было, а через полгода он уже снова летал.
Потом говорил, что выдержал всё это благодаря двум вещам: первое — любовь и поддержка близких и, что не менее важно — правильная жизненная философия. Чтобы чувствовать себя счастливым, конечно, желательно быть красивым и здоровым. Но не обязательно: «Я сам в ответе за себя, — считает он. — Все взлёты и падения — мои. В моей власти было смотреть на эту ситуацию как на катастрофу или как на стартовую отметку».
Но, видно, небесам было угодно испытать крепкого парня всерьёз. И вот однажды ноябрьским утром он поднялся в воздух на своей «Сессне» с обледенелыми крыльями. Ну вот так — недосмотрел, пренебрёг, понадеялся… В результате самолет рухнул на полосу с высоты 25 метров. Пожара на этот раз не было, зато был перелом позвоночника и парализованные ноги. Тут даже такой оптимист, как Уильям, приуныл: «Что же со мной происходит? За что это всё?» Ясно, что на такие вопросы никаких духоподъёмных ответов не будет. Дух Уильяма помог укрепить 19-летний парализованный молодой человек, с которым они встретились в больничном спортзале. Оказалось, что парень был лыжником, альпинистом, а теперь всё это в прошлом, а впереди целая жизнь, пустая и скучная. Уильям захотел его поддержать и сказал: «Знаешь что? До того, как всё это случилось со мной, я умел делать десять тысяч вещей. Теперь их девять тысяч. Я могу теперь всю жизнь оплакивать потерянную тысячу, но лучше сосредоточиться на том, что я ещё умею».
Как отреагировал тот парень, осталось неизвестным, а сам Уильям всерьёз задумался о своей жизни. Ведь мог он всё-таки немало. Начать с того, что после истории с мотоциклом получил серьёзную компенсацию и от фирмы-изготовителя мотоцикла, и от водителя грузовика. Это позволило ему основать собственную компанию, которая стала второй по значению в штате Вермонт. Но если прежде он тратил деньги на собственные нужды — купил дом, собственный самолёт, кое-какую недвижимость, — то теперь появилось время подумать и о совсем других вещах. Например, о красавице горе Эммонс, которую здесь называют «Красная леди» из-за красноватого оттенка на рассвете. Уильям мог подолгу любоваться ею. И вот одна горнодобывающая компания решила добывать из неё молибден. Не только горе, но и тихому городку скоро пришел бы конец: в нём собирались разместить полторы тысячи шахтеров.
Митчелл начал действовать. Он добился своего избрания на пост мэра городка и первым делом вложил серьёзную сумму собственных денег на охрану природы. Привлёк к делу политиков, юристов, прессу. И через четыре года борьбы компания отступила.
А следующий год стал ещё счастливее: Уильям женился на Энни Бейкер. Она работала медсестрой в той самой больнице, где Уильям лечился после мотокатастрофы. Ухаживала за Уильямом, а тот… ухаживал за ней. Это оказалось нелегко и потребовало четыре года. Однажды даже попросил телефонистку из Белого дома соединить его с Энни. Та соединила, но чуда не произошло. Даже пригласил на обед, но в ответ услышал: «Вы слишком настойчивы». Энни — застенчивая и мягкая женщина, а противоположность говоруну Уильяму. Но она ещё и очень чуткая и деликатная: по тону почувствовала, что Уильям обиделся и может больше не позвонить. И перезвонила ему сама. «Именно тогда я поняла, что на самом деле хотела узнать его поближе». Почему? «С ним так легко, что через десять минут вы полностью забываете о его внешности».
А Митчелл шагал всё дальше, хоть и не мог двигаться: выдвинул свою кандидатуру на выборы в конгресс. Причём свои недостатки превратил в достоинства: «Я вам не очередной смазливый парень».
И даже победил на первичных выборах. Правда, в итоге проиграл, но тут уж дело не в нём, а в его демократической партии, для которой тот год был неудачным.
Он продолжает активную жизнь: занимается бизнесом, участвует в экологическом движении, часто выступает с лекциями: «Я говорю людям, что у меня в жизни было два серьёзных испытания. И если я не сломался, то и вы можете взглянуть на вещи более широко, чтобы иметь возможность сказать: «Может, это совсем не так страшно».
Рук нет. Но ноги-то есть!
Ответить на вопрос, почему в 1983 году в Аризоне родилась девочка без рук, врачи не смогли. Болезнь? Или всё-таки генетика? В конце концов, какая разница — любой ответ никак не повлияет на жизнь Джессики Кук. Говорят же её родители: если так случилось — значит, так было угодно Богу. Сама же Джессика твёрдо знает другое: изменить свою жизнь может только она сама.
Родители, как люди верующие, делали всё возможное, чтобы дочка жила нормальной жизнью. И учили делать всё, что и её здоровые брат и сестра, но только не руками, а ногами. «Она очень сильная, — говорит отец. — Я ни разу не слышал от неё ни слова жалобы, не видел, чтобы она плакала из-за того, что родилась не такой, как все».
Плакать не плакала, но психологические проблемы всё-таки были. Конечно, она стеснялась. Когда в детстве занялась танцами, то перед первым концертом попросила преподавательницу поставить её в задний ряд. «Никакого заднего ряда нет, — ответила та. — Будешь танцевать вместе со всеми». И Джессика танцевала, а зал откликнулся бурными аплодисментами. Ещё много лет она посещала танцевальные уроки и больше ничего не боялась.
И вообще: если она ставит перед собой цель, то уже никакие трудности не могут ей помешать. Для неё нет слов «не могу», есть только «пока не научилась». Когда сделали протезы рук и она научилась ими пользоваться, то скоро поняла, что ногами получается лучше. К тому же протезы натирали и у них быстро садились аккумуляторы. Она научилась пользоваться ногами почти так же, как все остальные люди руками. Печатает 25 слов в минуту, готовит, укладывает волосы, наносит макияж. Очкам предпочитает контактные линзы, с которыми управляется сама. А ещё водит машину и имеет обычные права.
Довольно скоро у неё появилось очередное увлечение. Родители познакомились с инструктором по тхэквондо по имени Джим Каннингэм, рассказали о Джессике, которой очень нравились восточные единоборства. И вздохнули: «Но это не для неё, мы всё понимаем…» Инструктор возразил: «Если речь о её физическом состоянии, то я не вижу абсолютно никаких препятствий для занятий. Другое дело — если есть психологический барьер». Но этот барьер Джессика преодолела ещё во время занятий танцами, и потому в десять лет смело отправилась на татами.
Её первый тренер поставил условие — никаких поблажек, нагрузки одинаковые для всех. После четырех лет упорных тренировок юной спортсменке был присвоен первый дан — это чёрный пояс от Международной федерации тхэквондо.
После школы поступила в Аризонский университет на факультет психологии. Почему именно психология? «Это наука о том, что наши мысли имеют гораздо большее влияние на нашу жизнь, чем состояние тела», — отвечала она. И продолжала заниматься спортом. Там ей присвоили второй черный пояс, но уже от Американской ассоциации тхэквондо. Её новым тренером стал Патрик Чемберлен. Вскоре он же стал её мужем. Свадьба состоялась, в кругу близких родственников и друзей. Были там и три необычные девушки, которые приехали из разных концов страны и встретились здесь впервые. Все они тоже родились без рук, для них Джессика — источник вдохновения и пример для подражания. Пастору, который венчал молодых, предстояло решить один щепетильный вопрос: как быть с кольцами? Решение нашлось: вместо обручального кольца Патрик надел изящный браслет на щиколотку жены.
А потом решила научиться летать. Целый год ушёл на поиск подходящего самолета — ведь никому ещё не приходило в голову делать самолёты для инвалидов. В конце концов остановились на обычном, лёгком спортивном самолёте. За три года обучения лётной науке (вместо обычных шести месяцев) Джессика сменила несколько инструкторов и, наконец, в 2008 году получила лицензию пилота, налетав около сотни часов. А заодно попала в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире сертифицированный летчик, управляющий самолетом при помощи ног.
На этом список её достижений, которых хватило бы не одному здоровому, не закончился: Кокс стала оратором-мотиватором. То есть на собственном примере помогает людям понять, что они многое могут. В 2014 году преодолела 40 миль на одном из крупнейших велосипедных соревнований США. Выпустила автобиографическую книгу, о ней вышел документальный фильм. И любит плавать с аквалангом, на что тоже имеет соответствующий сертификат.
Ну, уж теперь-то всё перечислили?
Конечно же, нет, ведь ей ещё нет и сорока…
Заповедям наперекор
Когда всё по науке
Из всех заповедей здесь для нас важны три: не прелюбодействуй, не пожелай жены ближнего твоего и, конечно, не убий. Первой из них пренебрегал, причём из принципиальных соображений, очень уважаемый человек, большой учёный (кстати, против этого слова Ландау решительно возражал: «Учёным может быть только пудель. И человек, если его хорошенько проучат. А мы просто научные работники»). Физик-теоретик, академик, лауреат Нобелевской премии, он имел собственный взгляд не только по физическим вопросам. Например, создал свою теорию счастья, согласно которой каждый человек обязан быть счастливым. Что для этого нужно? Работа, любовь и общение с людьми. Но и любовь у него не какая-то там банально-домостроевская, потому что, как он считал, брак ничего общего с любовью не имеет, а самые опасные враги супружеского союза — это ложь и ревность. Поэтому когда встретил Конкордию (Кору), будущую жену и завязался роман, он растянулся на несколько лет, причём о женитьбе речь не заходила.
В таких случаях женщина, которую не устраивает роль любовницы, обычно уходит, однако Ландау сделал-таки предложение: он предложил «не заниматься шантажом» и просто наслаждаться друг другом. Когда случалось уезжать по служебным делам, слал горячие письма любви. Правда, там находилось место и для рассказов о других женщинах, которых Дау, как он выражался, «хотел бы освоить».
Совместная жизнь началась на его условиях. Коре пришлось заключить с ним «пакт о ненападении в супружеской жизни». Это означало, что жить они будут безо всяких там штампов в паспорте, и при этом вторая половина клянётся, что не будет ревновать его к другим женщинам. «Любовницы у меня обязательно будут! И запомни: ревность это позорный предрассудок. По своей природе человек свободен!» — втолковывал он отсталой девушке. На попытки объяснить, что брак предполагает верность, отвечал афористично и в рифму: «Нам дозволено судьбой счастье с женщиной любой».
На практике это выглядело так: «Даунька влетел в мою комнату, крепко обнял меня, звонко поцеловал в нос, объявил: «Корочка, я к тебе с очень приятной вестью, сегодня вечером в двадцать один час я вернусь не один, ко мне придёт отдаваться девушка! Я ей сказал, что ты на даче, сиди тихонечко, как мышка в норке, или уйди. Встречаться вы не должны. Это её может спугнуть! Пожалуйста, положи в мой стенной шкаф свежее постельное бельё».
Но даже прогрессивной женщине без предрассудков было трудно справиться со своими чувствами, и она спряталась вечером в шкафу, где её и обнаружил муж, когда полез за бельём. Кора ушла, бродила по улицам и решила уехать в другой город. Вернулась за вещами, а дома муж ей объяснил, что двенадцать лет был ей верен, пришла пора изучать других женщин, и любовницы семье не помеха. Кора молила о прощении и поклялась больше не посягать на свободу мужа. Более того: «…держала себя в крепкой узде: за этим стоял Дау, его здоровье, его сон, его наука. После моего „заседания“ в стенном шкафу он с трудом оправился, серьёзно проболев две недели. Это не должно было повториться».
Вскоре он попросил её уходить по вечерам из дома. Кора готовила ужин на двоих и уходила, сидела под окнами и ждала, когда учёный супруг закончит акт любви. Тогда женщина пошла на хитрость, объявив, что у неё появился поклонник (вот пусть муж почувствует, что это такое!) Но муж пришёл в восторг, и занялся подругами с удвоенной энергией.
Официальный брак заключили за несколько дней до рождения сына.
Ну и с какой стати мы вываливаем эти сомнительные подробности на всеобщее обозрение? Во-первых, с такой, что они уже давно обнародованы самой супругой, а также пишущей роднёй, причём ещё в те времена, когда многотысячные тиражи были делом обычным. Кроме того, мнение авторитетного человека обычно слушают с повышенным вниманием, пусть даже он вторгается в те области, где существуют совсем другие авторитеты — будь то русский язык или философия жизни. Причём переспорить такого универсала нелегко. Вот и тут жена порой пыталась повлиять на философию супруга: «Чудесный человек, — говорила она об одном из близких знакомых. — Он никогда не изменял своей жене». Лев Давидович не замедлил с ответом: «Ну, это зря. Если мужчина такой лодырь, от него мало толку».
Словом, в этом противостоянии академик победил. Скоро жена уже жаловалась сестре: «Ты понимаешь, какое безобразие! Девчонка назначила Дауньке свидание, а сама не пришла! Он два часа стоял на морозе, чуть воспаление лёгких не схватил!» И даже сама теоретически обосновывала причуды гения: «…те клетки мозга, которые у нас, смертных, занимают ревность, зависть, корысть, злобность и разные другие низменные черты характера, этих клеток у Дау нет, его мозг составляет мощная машина железной логики и ещё счётно-математическая машина. Хорошо, что осталось место для клеток любви к женщинам, в том числе и ко мне». А итог сформулировала так: «Моя любовь к нему была прекрасна. Это она, моя любовь, подняла меня в небывалую высь, поставила рядом с гением, заставила шагать по кривым дорогам жизни. Шагать с ним в ногу было немыслимо. И я стала петлять».
Петлять — это как? Хитрить и притворяться? Ведь расстраиваться Кора не имела права, потому что это портило мужу настроение. В таких случаях он говорил:
— Корочка, что случилось, почему ты такая грустная, опять забыла о том, что ты самая счастливая женщина? Давай на всякий случай оштрафую за грустное выражение лица!
Дело в том, что в семье действовала система штрафов. Жена не хочет, чтобы на их даче встречался знакомый со своей любовницей? Штраф. Не просит прощения и даже настаивает на своём — двойной штраф. Но жена оказалась человеком, хорошо обучаемым и со временем твёрдо знала, когда и что говорить, а где и помолчать.
Кстати, полезное качество в любом браке. В том числе и домостроевском.
Пожар поэтического сердца
Здесь речь пойдёт о другой заповеди: не пожелай жены ближнего твоего. С библейской точки зрения не имеет значения, что «жена» была совсем не против.
Из четырёх мужей Лили Юрьевны Брик у Маяковского — хронологически второй порядковый номер. Его однолюбом тоже назвать трудно, но если едва ли не вся любовная лирика либо посвящена этой женщине, либо написана с мыслями о ней, то это серьёзно. А вспомнили мы эту историю потому, что книжка посвящена именно таким серьёзным случаям. Если в его стихах автор представляется в образе сильного мужчины, спорящего с самим Богом, то в жизни видится безумство любви и унижение перед возлюбленной. Замужней. Всё началось с небольшой интрижки с её сестрой Эльзой. Поэт бывал у неё в доме, шокировал семью футуристическими пассажами. Эльза и познакомила его с Бриками летом 1915-го. Лиле было 24.
Эльза, конечно, поначалу связывала с поэтом далеко идущие планы. Но в тот памятный вечер сестру это нисколько не смутило. Её умение обращаться с мужчинами сработало и на этот раз: поэт читал Лиле стихи и на коленях просил разрешения посвятить их ей. Её муж Осип Максимович, писатель и литературный критик, разглядел в поэте талант. Так знакомство переросло в дружбу. Брики полюбили его стихи, а он полюбил Лилю. А через несколько дней умолял принять его «насовсем». Этот бурный роман оставил след и во «Флейте-позвоночнике», и в «Лиличке! Вместо письма», и в «Облаке в штанах». В общем, все свои произведения (кроме поэмы «Владимир Ильич Ленин») поэт стал посвящать ей. В 1928 году, когда вышло первое собрание сочинений, посвятил и всё остальное, написанное до знакомства.
Летом 1918-го Маяковский и вовсе перебрался в квартиру Бриков, что было вполне в духе революционной «теории стакана воды», согласно которой отношения между мужчиной и женщиной сводились к сексу, что так же несложно, как и утоление жажды. А потому — долой условности! Писали же основоположники, что моногамия — это лишь способ передачи богатств по наследству, и при социализме семья в прежнем варианте просто отомрёт. Понятно, что прогрессивная теория сразу же нашла сторонников.
Отношения членов семьи ограничивались лишь таким принципом: «Дни принадлежат каждому по его усмотрению, ночью все собираются под общим кровом». Правда, в пожилых годах Лиля Юрьевна яростно отрицала домыслы насчёт жизни втроём. И формулировала так: «Я всегда любила одного: одного Осю, одного Володю, одного Виталия и одного Васю».
Что же касается Володи, то «он обрушился на меня, как лавина… Он просто напал на меня», — не без кокетства говорила Лиля. И ей нравилось повелевать лавиной.
Через год после их знакомства он написал:
Поэт А. Вознесенский вспоминал: «Уже в старости Лиля Брик потрясла меня таким признанием: „Я любила заниматься любовью с Осей. Мы тогда запирали Володю на кухне. Он рвался, хотел к нам, царапался в дверь и плакал“… Она казалась мне монстром. Но Маяковский любил такую. С хлыстом…»
Описание напоминает наказанного щенка. Возлюбленная поясняет: «Совсем он был тогда ещё щенок, да и внешностью ужасно походил на щенка: огромные лапы и голова — и по улицам носился, задрав хвост, и лаял зря, на кого попало, и страшно вилял хвостом, когда провинится. Мы его так и прозвали — Щеном». Да он и сам себя так звал: «Твой Щен». А её — Кися. Если она могла гулять сама по себе, то у пёсика должен быть натянутый поводок.
Жили вместе, но каждый был сам по себе: у влюбчивой Лили не прекращались всё новые романы, её солидный супруг имел постоянную любовницу, а Маяковский пытался забыться, заводил мимолётные знакомства и снова возвращался к своей музе. Та постоянно просила у него деньги, не зная отказа, и скоро поэт обеспечивал всю эту семью, которая, кстати, жила в его четырёхкомнатной квартире, где поэту досталась всего одна комната.
Переписка их не очень разнообразна: поэт клянётся в любви, а его муза просит денег и упрекает в увлечении другими женщинами.
Когда в 1922 году у Лили случился серьёзный роман с соседом по даче, партийным функционером Краснощёковым, то Маяковскому это понравиться не могло. И его муза говорила в узком кругу: «Вы себе представляете, Володя такой скучный, он даже устраивает сцены ревности». За это полагалось наказание. Лиля выгнала его из дома на три месяца, запретив звонить и приходить. Новый год поэт встретил в одиночестве.
Некоторые биографы даже считают, что этот сюжет был придуман сознательно: «Страдать Володе полезно, он помучается и напишет хорошие стихи», — говорила Лиля. И действительно: получилась поэма «Про это».
И он сходил с ума от любви, написал поэму «Облако в штанах» с посвящением: «Тебе, Лиля». А в поэме «Флейта-позвоночник» пытался понять:
…Дочь московского юриста Юрия Кагана забеременела в шестнадцать. По тем временам это был скандал. Родители сделали всё, что нужно, но детей у неё уже никогда не было. Зато появилась свобода, и романы сменялись один за другим. Теперь можно любить кого угодно, когда и где угодно. Но никакие романы не должны ограничивать свободу. Что ж, воспитанная и деликатная, прекрасно одевалась, свободно говорила на немецком и французском, да ещё и обходилась без предрассудков и условностей. Можно понять её родного дядю, который когда-то падал на колени, уговаривая выйти за него замуж. В общем, устоять мало кто мог.
Её обаяние остаётся загадкой и по сей день. Хоть и не красавица, зато знала некоторые важные секреты: «Надо внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие этого не понимают. И разрешать ему то, что не разрешают дома. <…> Остальное сделают хорошая обувь и шёлковое бельё». Она была неплохой актрисой и в результате всегда добивалась своего. В предсмертной записке Маяковский назвал Лилю среди членов своей семьи. Она, в свою очередь, включила его в перечень своих мужей.
В той же записке была и такая просьба: «В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил». Он прав, конечно, сплетничать — низко. А вот извлекать уроки из чужих судеб — полезно.
Лиля Юрьевна тоже покончила с собой. В 86 лет выпила огромную дозу снотворного, завещав развеять прах: опасалась, что могилу осквернят. Наверное, знала, за что.
Особо важные дела и чувства
Сбылись-таки сентиментально-чувствительные строчки из дворовой песенки про страстную любовь юной красавицы-Нины, дочери прокурора и «шикарно одетого» мальчишки из преступного мира. Только вот песенка оказалась куда бледнее жизни, и потому на основе этой истории сняли несколько художественных и документальных фильмов. Не обошли её стороной и деятели поп-культуры: некий казахстанский репер назвал одну из своих композиций «Мадуев», в честь главного героя. Далеко не каждому вору и убийце выпадает такое внимание. Конечно, и преступник попался незаурядный, которого одной черной краской изобразить не удастся.
А симпатия казахстанцев здесь не случайна. Дело в том, что Мадуеву не повезло с рождения. На свет Али Арбиевич (Сергеем Александровичем он станет позже) появился в Караганде, в семье чеченца, осуждённого за сопротивление депортации, и кореянки, осуждённой за спекуляцию. В 1956 году то и другое считалось преступлением. Карлаг, спецпереселенцы, зэки, зона — эти слова здесь были такими же обыденными, как есть и пить. До тех времен, когда репрессированные народы реабилитируют, а спекуляция станет бизнесом, оставалось почти четыре десятилетия. После освобождения отец бросил семью с четырьмя детьми, и младшего воспитывала улица. Воровать начал с шести лет, а к восемнадцати уже заработал шесть лет тюрьмы за свои дела. Когда вышел на волю, то дела стали посерьёзнее — грабежи и разбои, что потянуло уже на пятнадцать.
Да и новые соседи шутить не любили и не давали расслабиться: однажды пришлось выстоять сразу против дюжины рассерженных мужчин, которые хотели убить наглеца, присвоившего чужой «общак». Техническая сторона битвы со временем забылась, осталось главное: молодой заработал авторитет, стал бригадиром и получил кличку Червонец. Сам себя он называл «Вор-вне-закона», а уголовники считали «беспредельщиком», всегда готовым пустить в ход оружие.
Когда через несколько лет его перевели в колонию-поселение, он тут же из неё бежал. И оставил след по всей стране в виде дерзких краж и ограблений. При этом о грабителе рассказывали странные вещи: так, в Грозном Мадуев не позволил своему сообщнику изнасиловать дочь хозяина дома. Во время другого ограбления в Подмосковье потерпевшему вдруг стало плохо. Мадуев зашёл в аптеку и вызвал «скорую». Благодаря этому человека удалось спасти.
Но насчёт беспредельщика его коллеги всё-таки не ошиблись. Когда после ареста Ташкенте его этапировали в ленинградские «Кресты», то там предъявили обвинение в шести десятках преступлений, где одних только убийств вполне хватало на высшую меру. Но Мадуев расстрела не боялся и не унывал: показания давал охотно, а протоколы подписывал, не читая. При этом всегда являлся на допросы в элегантных светлых костюмах. Улыбался жертвам своих преступлений и шутил.
Таким его и увидела следователь Наталья Воронцова. Умница, отличница, аттестат зрелости — с отличием, диплом — красный. Следователь Генеральной прокуратуры по особо важным делам (единственная женщина в этом учреждении на такой должности). Трудоголик.
Сказать, что Мадуев умел нравиться женщинам, — всё равно, что ничего не сказать, потому что от «нравиться» до передачи подследственному его собственного револьвера, изъятого как вещественное доказательство, — дистанция трудновообразимая. Тем не менее, оружие было передано (пусть и взамен на обещание, что из него никого убивать не будет, а только отстреливаться от собак. А после побега вернет пистолет и пропажи никто не заметит…) В общем, образцовый следователь по особо важным делам превратился в обыкновенную влюблённую женщину. Причем так влюблённую, что, по её словам, готова была ждать любимого хоть пятнадцать лет, если бы только была уверена в его чувствах.
Пистолет он возвращать не собирался и на досуге так с ним поработал, чтобы трудно было узнать: ведь иначе оружие привело бы к следователю. Да и стрелял, не задумываясь: раненого охранника потом едва спасли.
Дело пошло не так, как мечталось: случайности всё испортили. На Мадуева в очередной раз надели наручники, изрядно при этом помяв. Воронцова, когда узнала об избитом возлюбленном искренне рыдала, не интересуясь судьбой раненого.
Её, конечно уволили за неформальные отношения с подследственным, но тут Мадуев написал следователю заявление, где были и такие строчки: «В своей жизни я никогда не встречал женщин, которые ради меня могли пожертвовать своим долгом, положением, одним словом — всем. Поэтому я также стал испытывать к Воронцовой возвышенное чувство. Я люблю эту женщину!» И через два дня её арестовали прямо на новом месте работы.
Воронцова во всём чистосердечно созналась, а суд оценил её чувства в семь лет лишения свободы.
Даже несколько лет спустя она продолжала любить Мадуева. А на вопрос почему помогла ему бежать, упомянула не только романтические чувства, но и несправедливость: она уверена, что на Мадуева навесили вдвое больше преступлений, чем тот совершил.
Сказать, что Мадуеву повезло с мораторием на смертную казнь, нельзя: он умер в декабре 2000-го в колонии «Черный дельфин» от последствий сахарного диабета.
У Натальи Воронцовой даже после выхода на свободу жизнь так и не наладилась. Из-за назойливой прессы ей пришлось уехать из Санкт-Петербурга к родителям в Киев. Там она некоторое время работала юрисконсультом, а позже стала адвокатом. Защищала в основном взяточников. Потом вышла замуж, собиралась написать книгу о своем «тюремном романе». Но былая популярность не давала покоя, и пришлось снова сменить место прописки. Где она, не знают даже близкие. Зато знают, что она очень стыдится своей бедности и пристрастия к спиртному.
Жалеет ли, что привелось испытать такое чувство?
Это знает только она.
Вожделение вождей
Архиличные детали
Когда Ленин умер, Крупская предложила похоронить его в Кремлёвской стене, рядом с прахом Арманд. Она слишком хорошо знала обоих и их отношения. Но не получилось: Сталин не разрешил. Мощам было уготовано играть более серьёзную роль, причём очень долго. А спустя много лет, припомнил, видно, ту идею. Когда Крупская как-то попыталась поговорить с действующим вождём без должного почтения, на правах вдовы основоположника, тот ей сказал: «Если что, мы подыщем товарищу Ленину другую вдову…» Она, конечно, поняла, о ком речь.
Ну, а мы присмотримся к отношениям.
…Французский оперный певец Теодор д’Эрбенвилль умер, когда его Элизабет было пять лет. Девочку вместе с сестрой отправили в Россию к тёте Софи, которая давала уроки музыки и французского в семью текстильного фабриканта Евгения Арманда. Его предок служил офицером в армии Наполеона, попал в плен и осел в России. Потом женился, завел своё дело и разбогател. Текстильные фабрики, лесные угодья, доходные дома и многое другое давали твёрдую уверенность в завтрашнем дне.
В семье Евгения Евгеньевича было 12 детей, и к девочкам из Парижа отнеслись как к своим. Через десять лет Элизабет знала четыре языка, играла на фортепиано. Только называть её стали на русский манер Инессой. А поскольку Инесса Теодоровна звучало непривычно, то стала Фёдоровной.
Хоть приданого у сестёр не было, зато имелась практическая жилка. Всяким там подпоручикам, студентам и присяжным поверенным они предпочли сыновей купца 1-й гильдии, владельца торгового дома «Евгений Арманд с сыновьями». Инесса — Александра, а Рене — Николая.
19-летнюю Инессу обвенчали 3 октября 1893 года. Вокруг этого замужества ходили разные слухи: например, что девушка узнала о связи Александра с замужней женщиной, нашла переписку и, по сути, шантажировала его. Было такое или нет, мы уже вряд ли узнаем. А вот ответить на вопрос, как Инесса решала разные житейские задачи, вполне сможем.
Известно, что выйти замуж — ещё не значит заставить полюбить. Правда, Александр вообще был мягким, добрым человеком, но на одном настаивал непреклонно: детей должно быть много. И Инесса родила ему четверых за неполных девять лет брака — даже по тем временам немало. По этой или по какой-то другой причине, но Александр стал примерным семьянином, и молодую жену ни в чём не ограничивал. Но забот о семье и детях было чересчур мало для энергичной женщины, которую потом назовут деятелем российского и международного революционного движения. А учитывая, где похоронили, — то и выдающимся деятелем.
Она начала с суфражизма — модного тогда движения женщин за равные права с мужчинами. Вступила в «Общество улучшения участи женщин», читала книги идеологов народничества, а на отдыхе в Швейцарии познакомилась с социалистами и увлеклась их идеями. Ведь когда человек полностью обеспечен, то самое время заняться революционными преобразованиями. В подмосковном Ельдигине, где они жили, Арманд организовала школу для крестьянских детей. А ещё возглавила московское отделение «Общества улучшения участи женщин» и стала бороться с проституцией.
После знакомства с разнообразными борцами за народное счастье написала письмо младшему брату мужа, Владимиру (или деверю, как говорили в те времена), который, тоже был неравнодушен к этим идеям и предложила ему вместе устраивать жизнь обездоленных крестьян. Владимир решил открыть в Ельдигине воскресную школу, больницу и избу-читальню. А заодно дал Инессе почитать ещё одну книгу, сказав, что имя автора засекречено. И вот в её дневнике появилась запись: «После короткого колебания между эсерами и эсдеками, под влиянием книги Ильина „Развитие капитализма в России“, становлюсь большевичкой». Она тогда не знала, что Ильин — это Ленин, её судьба. По её просьбе Владимир разыскал адрес засекреченного автора и завязалась переписка.
Тут уж стало не до семейной жизни, поскольку начался новый этап — революционной борьбы. После девяти лет вроде бы благополучного брака 28-летняя Инесса влюбилась в 18-летнего деверя и стала с ним жить.
Муж проявил благородство, отпустил жену и великодушно назначил ей солидное содержание. Даже согласился не оформлять развода, так что формально Инесса оставалась женой и, следовательно, наследницей капиталов и совладелицей текстильных фабрик. Детей бывший муж взял к себе. Инесса не осталась в долгу, и продолжала поддерживать с отставным супругом прежние теплые отношения, причём самые разнообразные: борцы за женские права не заморачивались буржуазными предрассудками. А вскоре влюбленная пара укатила в Неаполь. Поздравляя Инессу с новым 1904 годом, Александр писал: «Хорошо мне было с тобой, мой друг, и так я теперь ценю и люблю твою дружбу. Ведь, правда, дружбу можно любить?»
На следующий год у пары родился сын Андрей. Но главным всё-таки для многодетной матери оставалась борьба. Она познакомилась с эсерами, социал-демократами и раздумывала, кто из них прав. Но помните ту книжку засекреченного автора? Инесса вступила в РСДРП.
Встреча с автором случилась позже. В парижский дом Ульяновых Инессу ввела сама Крупская. Они стали лучшими подругами, обсуждали проблемы женского рабочего движения и новинки политической литературы. Ильич обычно садился за рукописи, Крупская разбирала почту, а Инесса, играла в соседней комнате на рояле. «Под эту музыку особенно хорошо занималось», — вспоминала Надежда Константиновна.
Жену вождя рано начала мучить базедова болезнь, а это и пучеглазие, и полнота, и нервные срывы. Даже партийные клички подчёркивали её недостатки: Минога и Рыба… Другое дело — 35-летняя Инесса, энергичная красавица, хорошо образованная, да ещё и с собственной теорией, что-де брак препятствует свободной любви. И даже написала брошюру «О женском вопросе», в которой выступала за свободу от брака. А когда осенью 1910 года Ленин организовал конгресс Женского социнтерна в Копенгагене, то Инесса активно ему помогала. Двойной агент Роман Малиновский докладывал царской охранке, что «Ульянов сидит на конгрессе в первом ряду и не сводит глаз с госпожи Арманд».
О сердечных делах Старика (псевдоним Ленина) были прекрасно осведомлены не только соратники, но и филёры из охранки. В их донесениях часто встречается «Инесса, любовница Ленина», которую называли по-разному: «злой гений Ильича», «ангел-хранитель Ленина», даже «партийная шлюшка». Выяснять, кто из них более прав, кто менее, оставим их биографам. Важно, что «ангел» был рядом с вождём. Из эмиграции они возвращались в одном купе, и даже на знаменитом броневичке у Финляндского вокзала Инесса стояла рядом.
Понятно, революционерам чужды мещанские эмоции, но и Крупская в конце концов не выдержала и заговорила о разводе. Ильич быстро доказал, что дело — прежде всего (Инессу он использовал ещё и в качестве круглосуточной личной секретарши). И треугольник продержался ещё несколько лет, пока жена не поставила ультиматум: или она, или Инесса. Ленин выбрал Крупскую, объясняя этот поступок приверженностью «делу революции» и «всему тому, что её укрепляет». Товарищ Инесса всё поняла правильно. «Я бы и сейчас обошлась без поцелуев, — пишет она возлюбленному, — только бы видеть тебя, иногда говорить с тобой было радостью, и это никому не могло причинить боль. Зачем было меня этого лишать? Ты спрашиваешь, сержусь ли я за то, что ты „провёл“ расставание. Нет, я думаю, что ты это сделал не ради себя».
Действительно, для дела Ильич был способен на многое. В 1918 году, например, направил Инессу во Францию, чтобы попытаться вывезти оттуда тысячи русских солдат так называемого Французского экспедиционного корпуса. Но в Париже всё понимали и посланницу из России арестовали. Это известие привело Ленина в бешенство. Он передал правительству Франции, что если Арманд немедленно не отпустят, то он расстреляет всех французских дипломатов, а заодно и всех французов, которые найдутся на территории России. В Париже снова всё поняли: этот — сможет… Инессу отпустили.
А пока революционные дела развернулись настолько серьёзно, что Арманд сослали на два года в Архангельскую губернию, в городок Мезень. Но революционерка умела ладить с людьми, а многим даже нравиться. Она сумела понравиться начальнику тюрьмы, пожить в его доме и даже использовать почтовый адрес для переписки с Ильичом. Да и в ссылке не задержалась. Ей помогли бежать прямо в Швейцарию, где молодой муж безнадёжно лечил туберкулёз. Вскоре он умер, однако подготовка революции продолжалась.
После провала петербургской ячейки, Инесса отправилась в Россию налаживать дела. Там её сразу же арестовали. Бывший муж помог: внес баснословный по тем временам залог — 5400 рублей и просил Инессу вернуться к нему. Но та вместо возвращения бежала, на этот раз в Варшаву. Александр потерял залог и был привлечен за пособничество государственному преступнику. Из Варшавы Инесса перебралась в Краков, а оттуда — в Поронин, где её с нетерпением ждал «Базиль», он же «Иван», а в последнее время «Ваш Ленин».
После победы революции Ильич назначил её заведующей Женским отделом ЦК РКП (б). Поселил у кремлёвских стен, напротив Александровского сада, и часто навещал Инессу Федоровну, у которой была очень непростая работа. Предстояло убедить всех женщин России в том, что их главная задача — не семья, а классовая борьба, что домашний труд вот-вот отомрет, а воспитанием детей займётся государство. Что же касается любви, то она должна быть свободной — в смысле свободы выбора партнера. Инесса ездила по фабрикам и заводам, выступала на митингах и собраниях, писала статьи — и в конце концов не выдержала. Ленин проявлял трогательную заботу о соратнице: «Дорогой друг! Итак, доктор говорит, воспаление легких. Надо архиосторожной быть. Непременно заставьте дочерей звонить мне ежедневно. Напишите откровенно, чего не хватает? Есть ли дрова? Кто топит? Есть ли пища? Кто готовит? Компрессы кто ставит? Вы уклоняетесь от ответов — это нехорошо. Ответьте хоть здесь же, на этом листке. По всем пунктам. Выздоравливайте! Ваш Ленин. Починен ли телефон?» Уговаривал поехать в «санаторию». Или: «Если не нравится в санаторию, не поехать ли на юг? К Серго на Кавказ? Серго Орджоникидзе устроит отдых, солнце, хорошую работу. Он там власть. Подумайте об этом. Крепко, крепко жму руку. Ваш Ленин».
Уговорил. Летом 1920 года Инесса вместе с сыном приехала в Кисловодск. Постепенно стала поправляться, начала ходить в горы. Но вскоре прогулки пришлось прекратить, так как совсем рядом пытался прорваться из окружения белогвардейский десант. Обратный путь был тяжел, и Инесса заболела холерой. Это была её последняя болезнь.
От Казанского вокзала до Дома Союзов гроб несли на руках. В газетах были напечатаны пространные некрологи. Оркестр Большого театра играет траурный марш Шопена, потом партийный гимн «Интернационал». Траурная колесница медленно трогается, и за ней идёт сам вождь. Александра Коллонтай в тот же вечер записала в дневнике: «Ленин был потрясён. Когда мы шли за гробом Инессы, Ленина невозможно было узнать. Он шёл с закрытыми глазами, и, казалось, вот-вот упадёт».
Эта смерть сократила жизнь и её возлюбленному, хотя толки по поводу ленинского диагноза были разные. Говорили об эпилепсии и болезни Альцгеймера, рассеянном склерозе и отравлении каплановской пулей. Всерьёз обсуждали и версию смерти от сифилиса, которым его заразила Арманд. Во всяком случае, лечили его именно от этого недуга.
Вскоре после смерти вождя из него начали лепить нового бога для уцелевших после революционных потрясений масс. Ясно, что все факты, омрачавшие этот образ, решительно вымарывались. Но совсем исчезнуть не могли: ведь даже боги порой спускались с Олимпа к земным красавицам. А когда запретители перевелись, в прессе даже появилось интервью с младшим сыном Инессы, престарелым жителем Германии Александром Стеффеном. Он утверждает, что Ленин — его отец. Он родился в 1913 году, а через 7 месяцев Ильич якобы пристроил его в семью австрийского коммуниста. Справедливости ради заметим, что серьёзные исследователи в этой версии сомневаются. Тем более что она уже ничего не добавит к давно известному.
Женатый на Германии
Первый человек в нацистской Германии аскетом не был, причём задолго до тех времен, как стал первым. На кадрах кинохроники, где запечатлено появление вождя рейха на публике, хорошо видно, как любил его народ. Но если мужчины видели в нём своего кумира, то женские чувства были сильнее, не только с истерическими воплями и слезами. По слухам, во время его публичных выступлений дамы теряли контроль над мочевым пузырем, а некоторые даже испытывали любовный экстаз. Самые богатые и утончённые не скупились, отдавая свои дорогие украшения на нужды партии, а те, что попроще, писали любовные послания и бросались под колеса его автомобиля.
В судьбе любовниц Гитлера есть странная закономерность: они уходили из жизни добровольно. Любовь к этому невзрачному мужчине часто перевешивала любовь к жизни. Впрочем, у женщин свои доводы. Сказал же поэт: да разве любовь имеет что-либо общее с умом! Мужчина этот был рейхсканцлером Германии, а чин мужа имел значение всегда. Пусть даже и не мужа.
Мария (Митци) Райтер была шестнадцатилетней, когда вступила в отношения с тридцатисемилетним Гитлером, обратившим на неё внимание в 1926 году. Адольф пообещал ей брак и «светловолосых детей» — но позже, мотивировав это тем, что у него есть жизненная миссия, которую сначала он должен завершить. В отчаянии от его постоянного невнимания к ней, она пыталась повеситься, но выжила.
В середине 30-х годов Гитлера познакомили с восходящей звездой германского кинематографа Ренатой Мюллер. Отказать рейхсканцлеру она не могла. А в 1937 году Рената выбросилась из окна. Возможно, помогло гестапо: стало известно, что, помимо фюрера, у актрисы есть любовник-еврей.
В 1939 году пыталась застрелиться следующая женщина вождя — англичанка Юнити Мидфорд. Но неудачно: с пулей, засевшей в черепе, она в полубессознательном состоянии прожила еще девять лет.
Сюзи Липтауэр повесилась после свидания с Гитлером, Мими Рейтер также пыталась покончить с собой. И мы уже не узнаем, почему.
Но не будем забегать вперёд. На смену Митци пришла Гели Раубаль, 21-летняя дочь родной сестры Адольфа. Похоже, он любил её по-настоящему. Они познакомились в 1929-м в доме Гитлера, где её мать исполняла обязанности экономки. Дядя Адольф сразу взялся опекать племянницу, поселил в комнате рядом со своей спальней и приставил охрану. Вскоре они стали любовниками. Но некоторые дядины привычки её шокировали: «Мой дядя просто чудовище. Ты не поверишь, если я расскажу, что он заставляет меня делать», — говорила она подруге. Однако там всё серьёзно: «единственная женщина, с которой я мог бы связать свою жизнь супружескими узами, была Гели». Правда, это он сказал уже спустя годы после её смерти.
Ева же узнала о сопернице только после её самоубийства в 1931 году. Поводом стало письмо Евы, которое выпало из кармана дядюшки. Гели письмо прочитала и застрелилась из его же «вальтера». Гитлер впал в жестокую депрессию, превратил её комнату чуть ли не в святыню, запретил всем туда входить, подолгу сидел там по вечерам, а служанка каждый день ставила свежие хризантемы.
Из депрессии Гитлера вытянула Ева, но там тоже было не всё гладко. В отличие от множества немок, в том числе высокопоставленных, просивших его о свидании наедине, чтобы вождь «одарил их потомством», Еве нужен был муж, а не восторженные интрижки. Однако любовник высокопарно заявил, что уже женат. На Германии.
Дома этот роман не одобряли. Родители Евы, ревностные католики, были в ужасе от внебрачных похождений дочери. Отец называл дочь шлюхой, мать сетовала, что она зря тратит свою молодость на того, кто годится ей в отцы (и ведь права: 23 года разницы). К тому же, возлюбленный мог пропадать месяцами, а потом появляться, как ни в чем не бывало. И откуда он вообще взялся?
Как ни странно, в результате домашней дисциплины. Отец всех троих дочерей держал в строгости, деньгами на карманные расходы не баловал. Подъем и отбой — по часам. Ясно, что ни о каких прогулках с поцелуями и речи быть не могло. Монастырская школа с её классическим ориентиром на детей, кухню и церковь, потом лицей и институт английских девиц в городке Зимбахе, где Ева овладела навыками машинописи, домоводства, бухгалтерского дела и изучала французский. Выпускницы высоко ценились и как секретарши, и как невесты.
Еве едва исполнилось 17 лет, когда она стала рассыльной в ателье личного фотографа Гитлера Генриха Гофмана. Там она надеялась подзаработать. Девушка хозяину подошла: живая, общительная, привлекательная, знает языки. И той работа приглянулась: пора думать о семье, а в ателье всегда много посетителей, в том числе неженатых.
Гоффман, желая сделать приятное Гитлеру, устроил им встречу, где представил девушке сорокалетнего «герра Вольфа». Гитлер любил, когда его называли Вольфом. Ведь Адольф происходит от старогерманского Адальвольф — то есть умный, благородный волк.
Ева от политики была далека и вождя узнала, только заглянув в газеты. Вольфу она понравилась, начались ухаживания — цветы и конфеты, кафе и кино… Телефона у Евы не было, и она оставалась ночевать в бюро, чтобы у любимого в любую минуту была возможность ей позвонить. Вождь приводил это в качестве примера того, насколько трогательными были их отношения.
Девушке нравились манеры избранника, она делала всё, чтобы понравиться фюреру. Даже пришлось изменить привычный образ жизни. Она бросает занятия спортом, прекращает загорать, отказывается от своих любимых французских духов, которые не нравились Гитлеру.
Внешность рейхсканцлера была, как мы знаем, на любителя. Да и характер, сильно подпорченный всевластием. Однако, все сотрудницы рейхсканцелярии, до последней уборщицы, были влюблены в своего вождя, не выходили замуж и были готовы вечно хранить ему верность. Но тот упрямо повторял: «Я женат. Моя жена — Германия». Однако всё это, включая неприглядный облик нового знакомого, не вызвало у юной красавицы даже малейшей неприязни. Ева хотела любить. Её не смущал ни возраст мужчины, ни его мрачность, ни его сомнительные сексуальные прихоти. Взамен ей требовалось всего лишь одно: хоть какое-то проявление чувств. В общем, говоря словами поэта,
Поскольку вождь не мог позволить себе состоять в связи с еврейкой, то приказал досконально проверить всю семью Браун. Результаты проверки не препятствовали дальнейшему роману. В 1932 году Ева стала любовницей фюрера.
Гитлер долгое время тщательно скрывал свои отношения. Вместе они никогда не появлялись, даже на загородные пикники она ехала в другой машине вместе с соратниками. Когда к нему заходили друзья, прятал Еву от посторонних глаз в отдельной комнате рядом со спальней. Если девушка приходила к нему в дом, он настаивал, чтобы входила через заднюю дверь. Для неё это было настоящим унижением, и часто доходило до слёз.
Позже фюрер представлял девушку как «личного секретаря», чтобы как-то оправдать её присутствие рядом. Но относился к ней, как сейчас говорят, потребительски. «Почему я должна всё это выносить? — писала Ева в дневнике, когда Адольф в очередной раз был в отъезде. — Лучше бы мне никогда его не видеть! Я так несчастна. Пойду куплю еще снотворного и погружусь в полудрему». Это шёл уже 1935 год.
Впрочем, какие к Еве могут быть претензии? Как-де она могла полюбить такого монстра? Мало ли кого любят женщины… Тем более, что по отношению к симпатичным арийкам он монстром не был. Умел ухаживать, умел говорить, разбирался в искусстве, писал картины и при этом был крупным начальником. Да и история учит, что одно другому не мешает, и серийный убийца вполне может любить животных и тонко чувствовать Бетховена. В политику она не лезла, своё положение не использовала, и её женская верность вне сомнений, независимо от качеств её одиозного избранника.
Между делом освоила профессию, увлеклась ею и стала неплохим фотографом. Адольф подарил ей самую современную аппаратуру, и Ева могла снимать то, чего не смог бы никто другой. Благодаря её увлечению до нас дошли уникальные снимки отдыхающего вождя и его свиты, без официальной пропагандистской мишуры.
Фюрер и сам знал толк в этом деле. Любил снимать Еву, когда они отдыхали где-нибудь в замке Бергхоф или просто на природе. Причем воспевать, так сказать, красоту обнажённого тела. Снимки затем пополняли его огромную коллекцию эротических фотографий. Часть коллекции сохранилась и много лет спустя альбом издали в Германии.
Она хотела семью, а Гитлер говорил: «Супружество я себе позволить не могу — ведь тогда я потеряю как минимум половину своих поклонниц — самых красивых и самых верных». Как видим, вождь не заморачивался такими пустяками, как переживания его подруги. Ему нужны были куда более сильные сигналы, что что-то не так. Они были, и не раз. Закономерность насчёт самоубийств коснулась и её.
Ева выстрелила в себя через год после смерти Гели. Дочь Гоффмана Генриетта со злорадством показала ей фотографии Гитлера в окружении красивых женщин. И девушка достала из ящика отцовского письменного стола пистолет. Стреляла в сердце, но неточно, пуля прошла рядом и её спасли. Зато Гитлер, едва не потеряв подругу, стал ценить её куда больше.
В 1935-м история повторилась. Три месяца она не получала от Гитлера никаких вестей. «Если сегодня вечером до девяти часов я не получу от Него ответ на моё последнее письмо, то приму двадцать пять таблеток снотворного» — это запись в дневнике от 28 мая 1935 года. Если бы сестра Ильза пришла домой чуть позже, то её бы уже не спас никто. И опять Гитлер появился с цветами, просил прощения, обещав купить дом. Ева вернулась к жизни, чтобы через десять лет отравиться уже окончательно.
Когда-то, ещё до встречи с Адольфом, гадалка предсказала ей: «Я не обещаю вам счастья, но о вашей любви будет говорить весь мир!» Сбылось. Их брак длился чуть больше суток, но именно в эти часы Ева была по-настоящему счастлива.
Когда на Берлин посыпались снаряды и бомбы, а начальство, одевшись попроще, бежало из столицы, Ева приехала в бункер, чтобы умереть вместе с любимым человеком. Секретарша Гитлера Траудл Юнг так описала в своих мемуарах события тех дней: «22 апреля 1945 года сразу после совещания Гитлер собрал нас всех в своей комнате. „Пусть женщины немедленно собирают свои вещи. Можете убегать. У нас нет никаких надежд“. Мы были шокированы. Тогда к Гитлеру подошла Ева Браун: „Ты прекрасно знаешь, что я никуда не поеду. Останусь с тобой. Не пытайся прогнать меня“, — сказала она, и Гитлер сделал то, чего никогда не позволял себе в присутствии третьего лица. Он поцеловал её в губы».
За день до самоубийства Ева Браун становится фрау Гитлер — законной женой фюрера. Эта секретарша Траудл была в числе немногих гостей. Ей же Гитлер надиктовал и своё завещание, где пояснил своё решение о женитьбе: «В те годы, когда я воевал, я думал, что не могу взять на себя ответственность, связанную с браком. Сегодня, перед смертью, я решил взять в жёны женщину, которая после долгих лет верной дружбы приехала в этот уже обречённый город, чтобы разделить со мной мою судьбу. Она умрёт вместе со мной по своей воле как моя жена».
29 апреля 1945 года Ева Браун и Адольф Гитлер сочетались браком. При участии свидетелей — Геббельса и Бормана. Процедура прошла в бункере, фактически под бомбежкой. Затем был небольшой банкет, ставший последним в нацистской Германии. Несмотря на мрачное будущее новобрачных, Ева, по воспоминаниям свидетелей, веселилась от души.
29 апреля 1945 года Ева Гитлер, которой не было ещё 35 лет, надела чёрное шелковое платье и дорогой турмалиновый гарнитур — браслет, серьги и кольца, который Гитлер ей когда-то подарил к совершеннолетию. Кроме Гитлера и Евы, в бункере была любимая собака фюрера по кличке Блонди. Когда супруги решили покончить с собой, первую капсулу с цианидом дали Блонди, чтобы убедиться, что яд сработает. Собака умерла, и хозяин горестно застонал. Вторую капсулу взяла Ева. Сам вождь застрелился, выстрелив себе в рот. Их тела адъютант и камердинер вынесли наружу, облили бензином и подожгли.
Обгоревшие останки более четверти века будут кочевать по хранилищам спецслужб. Лишь в 1970 году по приказу председателя КГБ СССР Андропова их уничтожат.
…Когда-то Гитлер сказал своему приятелю: «О характере мужчины можно судить по двум признакам: по женщине, на которой он женится, и по тому, как он умирает». Похоже, он ошибся. Его женщина была достойна лучшей участи.
Симфония дуче и женский лейтмотив
Фашизм был плох не для всех, а только для его врагов, иначе бы он даже не появился. Простым людям нравились такие же простые и понятные слова дуче: «Суть фашизма заключается в том, что это политическая система, при которой интересы государства ставятся выше интересов личности». То есть, общественное выше личного — кто будет спорить? Далее: «Фашизм похож на большой оркестр, в котором каждый играет на своём инструменте». Нация едина и внимает взмахам дирижёра — вождя. «Мы становимся сильными, когда рядом нет друзей». А всё потому, что кругом враги, которые мешают жить. Поэтому: «Чтобы нация оставалась здоровой, она должна воевать каждые двадцать пять лет». Правда, разные демократы и либералы поначалу путались под ногами, но вождь и тут внёс ясность: «Фашизм отвергает в демократии абсурдную ложь политического равенства, привычку коллективной безответственности и миф счастья и неограниченного прогресса».
В общем, Муссолини умел разговаривать с соотечественниками на их языке. Мало того, что по образованию он учитель, как и мать. От отца, привыкшего махать молотом в своей кузнице, безбожника и бунтаря, унаследовал склонность к социалистическим идеям и доходчивый слог. Учтём, что слушатели всегда чувствуют характер оратора, а у Бенито он был закалён ещё в детстве. Сверстники его опасались: мальчишка не расставался со складным ножом и был готов пустить его в дело. Как-то старшеклассник унизил его, схватив за нос, — и моментально получил удар. Скандал, конечно, был, но обошлось без последствий. А вот когда запустил в учителя чернильницей, то для монашеской школы святого Франциска Сальского это было уже чересчур. Образование вспыльчивый паренёк продолжил только через год, но уже в другой школе.
В общем, выучился. При этом был человеком разносторонним — с детства любил музыку, играл на скрипке, занимался фехтованием, участвовал в регатах, занимался лётным спортом. Работал журналистом в социалистической газете, а когда его за призыв вступить в войну на стороне Антанты уволили — создал свою и стал редактором. Выступал с зажигательными речами, его слушали, потому что знал, чего ждут от оратора массы, это безмозглое стадо. И фашизм, по мысли Муссолини, должен превратить это стадо в послушное орудие для построения нового общества, где всем будет хорошо. Всеобщее избирательное право, упразднение полиции, привилегий и титулов, гарантированный минимум зарплаты, всеобщее образование… Только за это вождя уже можно любить. Но: «масса» должна не только любить, но и бояться. Вождь уверен: «Масса любит сильных мужчин. Масса — это женщина».
Кстати, о женщинах, которые стали лейтмотивом его жизненной симфонии. Не будем тратить время на рассказы о недолгих прелюдиях и любовных увертюрах. Когда Бенито обнаружил, что его брутальная внешность пользуется популярностью у женщин, то перестал пользовать платной любовью, целиком переключившись на бесплатную. Чтоб не ходить далеко, начал с двоюродной сестры. Потом последовали её подруги и подруги подруг. И как удачно совпало: он учительствовал в женской гимназии, где кроме обязательной программы оказалось немало приятного факультатива. Но ушёл он оттуда по своей воле, потому что хотел учить не только школьниц, а сразу всю нацию. «Фашизм — это гигантская мобилизация моральных и материальных сил. Чего мы добиваемся? Говорим об этом без ложной скромности: управления нацией». Иными словами, он хотел построить вертикаль власти. Но к нашей теме имеет отношение другое: многие полагают, что именно благодаря умопомрачительному, в прямом смысле слова, успеху у женщин он и пришёл к власти. И двадцать лет правил страной.
В 1909 году Бенито влюбился-таки по-настоящему, причём в свою бывшую ученицу Ракель Гвиди. Она работала в гостиничном баре и произвела впечатление на этого общественного деятеля потому, что оказалась неподатливой. Ухаживаний не отвергла, но и развивать отношения не спешила. Однако Шекспир не зря сказал, что препятствия только усиливают любовь. И раззадоривают революционера, тем более такого незаурядного: к тому времени за умение произносить зажигательные речи его уже прозвали «Маленьким вождем» («пикколо дуче»). Вскоре «пикколо» отпало, он стал просто дуче и очень этим гордился.
Конечно, великие задачи не позволяли ему связывать себя узами брака, но вот если без формальностей, то он готов. Девушка, несмотря на ритуальную неприступность, в душе была согласна, однако верующих родителей такой «гражданский» вариант совершенно не устраивал. Итальянский мужчина решил этот вопрос в своей манере. Достал пистолет и сказал будущей тёще: «Видите этот пистолет, синьора Гвиди? В нём шесть патронов. Если Ракель откажет мне, первая пуля достанется ей, вторая — мне! Выбирайте!» Отказаться от такого предложения было невозможно, и жених увёл невесту из родительского дома без сопутствующих церемоний.
Это не помешало Бенито через несколько лет таким же образом «жениться» на Иде Дальсер, хозяйке косметического салона. Её безумная любовь была очень кстати: женщина продала салон, заложила драгоценности и отдала все деньги возлюбленному, чтобы тот создал свою газету. А потом родила ему сына, которого тоже назвали Бенито, и дуче официально признал его своим.
Но Ида увлеклась, и уже представлялась всем супругой Муссолини. А для серьёзного человека быть двоеженцем недопустимо. Ведь когда в 1922 году его партия насчитывал четверть миллиона членов, Муссолини мог на равных разговаривать с королём и потребовал включить фашистов в правительство. Король счёл за благо не спорить, и Муссолини стал премьер-министром, министром внутренних дел и министром иностранных дел. Одновременно.
Поэтому надо было что-то делать, и официально свободный супруг зарегистрировал в мэрии брак, но не с Идой, а с Ракель, которая успела родить ему пятерых детей. Поскольку Ида не представляла себе возможностей диктатора и не хотела сидеть тихо, пригрозив рассказать о его финансовых махинациях, пришлось отправить её в психушку, где она и умерла. Сын тоже недолго задержался на этом свете, и умер, понятно, тоже в психбольнице.
Официальный брак не мог изменить характер вождя, и он по-прежнему в потоке государственных дел выкраивал время и для своих избирательниц и поклонниц, которые ежедневно являлись к нему на приём. На разговоры времени уже не оставалось. Дуче быстренько делал синьору счастливой и специальные люди провожали её до дверей. Такой могучий дар нравился народу, и итальянцы уважительно называли отца нации «главным фаллосом Италии».
Это затянувшееся вступление понадобилось для того, чтобы понять, почему в 1932 году, когда «альфа-ромео» дуче обогнала открытую машину семейства Петаччи, двадцатилетняя красотка Кларетта подпрыгнула не сиденье, замахала руками и восторженно закричала: «Дуче! Дуче! Смотрите, это же дуче!»
…В соседней машине ехала сильная рука. Та самая, которая установила восьмичасовой рабочий день, покончила с сицилийской мафией. Направляла воспитание подрастающей смены: поступая в школу, ребёнок вступал и в патриотическую организацию «Дети волчицы», которая воспитывала гражданина-фашиста. И лицо этого фашизма — мужественное лицо Муссолини, в которого влюблялись женщины. Словом, для Кларетты он был идеалом. Её восторги заметил даже ко всему привыкший дуче, женатый дольше, чем жила на свете его поклонница. Он велел шоферу затормозить, и знакомство состоялось.
Да, это была та самая Кларетта, которая спустя двенадцать лет будет висеть рядом с ним вверх ногами на площади в Милане. А пока вождь обменялся рукопожатиями с отцом, братом и женихом Клары, ласково потрепал её по щеке. Девушка была счастлива. Если бы дуче позвал её с собой, она пошла бы, забыв о женихе. Но вождь считался уважаемым человеком и соблюдал приличия. Он пригласил девушку запросто заходить к нему во дворец — поболтать, почитать вслух любимые стихи. Нет, это не был предлог для совсем других занятий, а вот так, в прямом смысле: поболтать и почитать стихи. Родные, ясное дело, не возражали, даже жених не был против — ведь вождь приглашает далеко не всех.
Кларетта Петаччи из приличной римской семьи пришла в его официальную резиденцию через черный ход. Они разговаривали о спорте и поэзии. Кларетта сказала, что хочет стать шпионкой или киноактрисой. Но молодая женщина, даже боготворившая вождя, не была готова тут же познакомиться с ним поближе. И Шекспир снова оказался прав. Дуче начал ей звонить чуть ли не каждый час.
Несмотря на свои низменные привычки, мужчина умел держать себя в рамках, и отношения оставались платоническими до тех пор, пока он не вызвал к себе в кабинет её мать, грозную Джузеппину Петаччи: «Твоя дочь чиста? Держи ее под наблюдением… У тех, кто пользуется привилегией быть близкой к Муссолини, не может быть ухажеров». И как честный человек… попросил у неё разрешения стать любовником дочери. Мать дала согласие, пояснив, что когда дочь рядом с таким мачо, то она спокойна.
И приглашала вождя ночевать в семейный особняк в пригороде Рима, прямо в спальню дочери, выдержанную в розовых тонах и зеркалами на стенах и потолке. А поскольку Кларетта в глазах общества оставалась незамужней, то эти встречи проходили втайне во избежание скандала. Замужним позволялось больше, и вскоре Кларетта вышла-таки замуж за своего жениха, лейтенанта Федеричи, чтобы после медового месяца в Венеции снова вернуться в Рим, в объятья вождя. Со временем мужа и вовсе отправили в Японию, а потом супруги благополучно развелись и Кларетта стала официальной любовницей дуче.
Конечно, в данном случае любовница — слово неточное, потому что далеко не всякая любовница решится погибнуть вместе с возлюбленным, если это вовсе необязательно. Но дело в том, что чрезмерная близость к политикам часто кончается плохо, а если говорить о таких, как Муссолини, то поклонницы очень рискуют не дожить до старости. А тут ещё и любовь не даёт услышать голос здравого смысла… Ведь у Клары не раз была возможность спастись. Когда в 1943 году дуче собирался идти в королевский дворец, понимая, что там его арестуют (союзники наступали, зрело недовольство, и свергнуть вождя, проигравшего войну, было самое время), он позвонил Кларе и велел немедленно уехать из Италии. Она не послушалась, после чего арестовали её и всю семью Петаччи. И если Муссолини вскоре оказался на свободе в результате дерзкой операции знаменитого Отто Скорцени, то Петаччи пришлось ждать, пока не придут немецкие войска. Теперь уже мать умоляла её уехать, но женщина ответила: «Без него я не смогу жить». Она по-прежнему любила его — лишённого власти и всеми преданного. Поселилась недалеко от его виллы и они, как и в былые времена, встречались почти каждый день.
В апреле 1945-го, когда всё уже было потеряно, отряд СС по приказу Гитлера сопровождал Муссолини к австрийской границе. Клара бросила всё и присоединилась к отряду. Но на них напали партизаны. Немцев согласились пропустить в обмен на «итальянских фашистов». Пришлось надеть на дуче немецкую форму, чтобы выдать за своего, а Клару прогнать, чтобы её присутствие не навело на след дуче. Ни то, ни другое не удалось: никакая немецкая форма не помешала бы любому итальянцу узнать своего вождя. А Клара, дама в мехах и драгоценностях, пыталась выяснить у командира партизан: «Скажите, он жив и здоров?» Командир успокоил: мол, всё в порядке. Он собирался передать поверженного диктатора в руки властей. Но женщина хотела его увидеть, и добавила: «Если вы собираетесь убить его, то позвольте мне умереть вместе с ним». Итальянец, даже если он противник фашизма, уважает настоящую любовь. Бенито и Кларе позволили провести последнюю ночь вместе. Она же была и их первой после множества коротких встреч.
Но всякие сантименты кончились, когда в дело вмешались коммунисты из Комитета национального освобождения. Они отбили дуче и Клару у партизан и привезли на окраину одной деревеньки. Там полковник Аудисио велел им выйти из машины, направил на дуче автомат. И огласил приговор: «Военный преступник… народная справедливость… приговорён к смерти…» Женщина в ужасе обняла приговорённого: «Вы не сделаете этого! Это невозможно!» Аудисио не собирался её убивать и крикнул: «Отойди, если не хочешь умереть!» Кларетта отступила. «Я встал прямо напротив него, прицелился и дал очередь. В ту же секунду Петаччи бросилась к дуче и была сражена вместе с ним», — написал полковник в своих воспоминаниях.
Трупы отвезли в Милан, где и повесили за ноги на мясные крюки на площади Лорето. В рамках народной справедливости. Но когда Кларетту застрелили, на ней не было нижнего белья, и, чтобы сохранить приличия, какая-то пожилая женщина из толпы подвязала ей юбку.
Интерес к личности Муссолини в Италии держится много лет, но сейчас многие политики, историки и журналисты всё чаще приходят к мысли, что диктатор был не так уж плох. Вспоминают, что Черчилль называл его «величайшим из живущих законодателей», а потом и просто «великим». И премьер-министр Италии Сильвио Берлускони однажды сказал: «Муссолини никогда никого не убивал» (с 1926 по 1932 год Особый трибунал вынес всего 7 смертных приговоров за политические преступления). Даже покушения на вождя не могли спровоцировать не то что террор по всей стране со взятием заложников, но хотя бы полицейского ожесточения. В 1925 году социалист Дзанибони был схвачен с винтовкой, из которой он планировал пристрелить дуче во время парада. Сидел в лагере, откуда благополучно вышел. Потом англичанка Виолетта Гибсон стреляла из револьвера, но пуля лишь задела нос. Её выслали на родину. Правда, когда 15-летний Антео Дзамбони пальнул из револьвера по проезжавшей машине Муссолини, его тут же растерзала уличная толпа. Правление дуче даже называли «диктатурой из мягкого сыра», сравнивая с тем, что творилось в Германии и Советском Союзе.
Когда арестовали вдову диктатора Ракель, то ни она, ни дети не пострадали, потому что никаких преступлений за ними не числилось. Старший сын Бруно погиб ещё в 1941 году при испытании самолёта, Витторио потом оставил след в кинематографе, покровительствуя таким режиссёрам, как Висконти и Феллини. Младший, Романо, стал композитором.
А Клара оставила не детей, а пятнадцать томов дневников, писем и стихотворений, где главный герой — её дуче. Такой памятник она воздвигла своему любимому. Правда, с настоящей могилой дело затянулось: почитатели вождя несколько раз хоронили его труп в разных местах, чтобы спасти от осквернения. Теперь его останки покоятся в фамильном склепе на родине диктатора, и туда ежедневно приезжают тысячи людей, чтобы помянуть своего кумира. А в 2012 году на доме, у которого расстреляли Муссолини и Петаччи, была открыта мемориальная доска с портретами обоих.
Революционный Эль-Кабальо
Каждый кубинец знал о своём команданте три главных вещи: он долговечен, многословен и плодовит. Когда журналистка спросила, сколько у него детей, он улыбнулся и сказал: «Почти племя». Его биографы конкретизируют, насколько возможно, этот расплывчатый ответ: два десятка детей от разных женщин, раскиданные по всему миру. Имя Фидель происходит от латинского «верный», но для Кастро это справедливо лишь по отношению к его политике, но не его возлюбленным.
Он мог бы попасть в книгу рекордов Гиннесса по самым разным номинациям. Только число покушений перевалило за шесть сотен, Кеннеди с его четырьмя десятками просто несерьёзно выглядит, особенно если учесть, что команданте умер своей смертью в возрасте 90 лет (и это при том, что с ранних лет не расставался с сигарой). Он мог говорить семь часов без перерыва (и, конечно, без бумажки), держа аудиторию в состоянии неподдельного энтузиазма. Если бы ему когда-нибудь пришла фантазия надеть все награды, то ничего бы не вышло: не будешь же их вешать на ногах и на спине — около семи десятков изделий самых разных государств — от Советского Союза до Восточного Тимора. Только наших там было три ордена Ленина, Золотая звезда Героя, ну и ещё, помельче — вплоть до экзотического ордена Князя Ярослава Мудрого.
Любил часы «Ролекс» (очень недешёвые, кстати) и носил по две штуки сразу. Снимался в американских фильмах, писал книги. Впрочем, в литературе его успехи были скромнее, чем у нашего генсека, удостоенного, как многие помнят, за свою бессмертную трилогию Ленинской премии. Да и по длительности правления уступил сразу двум монаршим особам — королеве Великобритании и королю Таиланда. Но его родная сестра Хуанита, вместо того, чтобы в полной мере использовать бонусы своего положения, бежала с острова Свободы в проклинаемые США, когда брат ещё только начинал осуществлять свои революционные задумки.
А в эту книжку почетный доктор юридических наук МГУ имени Ломоносова попал за совсем другой талант, специфический, за который был прозван земляками Эль-Кабальо — Жеребец. После революции эмоциональные кубинки так воспылали чувствами к этому бородатому мужчине в полевой форме, что кричали под окнами: «Я хочу от тебя ребенка!» И он шёл навстречу обожавшим его массам. Правда, часто он это делал второпях и не раздеваясь, потому что государственных обязанностей с него никто не снимал. Как утверждают неофициальные биографы, если собрать женские массы вместе, то они заполнят большой стадион — 35 тысяч. Но мы не будем настаивать на этой цифре, учитывая, что во всей длинной жизни команданте не наберётся столько дней. Даже допустив (небезосновательно), что он мог поступать с поклонницами примерно так же, как с упомянутыми часами. Поэтому ограничимся одним словом — много. Тем более что всего лишь семь из них оставили заметный след в биографии вождя.
Его единственной законной женой стала зеленоглазая блондинка, дочь министра внутренних дел Кубы времён Батисты, Мирта Диас-Баларт. Красавица, да ещё и так умела танцевать, что восхищала даже искушённых в этом деле кубинцев. Фидель, когда её увидел, пообещал друзьям непременно на ней жениться. Над ним только посмеялись: мол, такая никогда не пойдёт замуж за парня, у которого обе ноги левые и нет чувства юмора. Но в 1948 году он посрамил насмешников. Свадьба состоялась, когда Мирта была уже на четвертом месяце беременности. А вскоре родился и сын, Фидель Феликс Кастро. Но революционеры в семейных делах часто ненадёжны. Отбывая тюремный срок, муж умудрился обзавестись любовницей, и Мирта подала на развод. Тем более что её родственники принадлежали как раз к тем кругам общества, которые её непримиримый супруг поклялся извести под корень. И Мирта вместе с сыном уехала в Америку.
Фидель если и был расстроен, то, скорее, потерей сына. Занять место жены уже была готова другая красавица — Нати Ревуэльта, которой Фидель писал из тюрьмы страстные письма: «Милая Нати! Шлю тебе нежный привет из своей тюрьмы. Я постоянно помню и люблю тебя… хотя давно уже ничего о тебе не знаю. Я получил то милое письмо, и всегда буду хранить его при себе. Знай, что я с радостью отдам жизнь за твою честь и твоё счастье…»
Познакомились они ещё до тюрьмы и, говорят, эта была любовь с первого взгляда. И даже безоглядная: Нати продала свои бриллианты и деньги пошли на благо революции.
После тюрьмы роман продолжился с новой силой, хотя Нати совсем не нравилось, что в холостяцкой квартире возлюбленного ей то и дело встречаются знакомые и незнакомые дамы. Фидель твёрдо держался своей версии событий: эти рабочие встречи не могут поколебать твёрдых моральных устоев революционера. Даже рождение дочки не пошатнуло этих устоев, и о женитьбе речь не заходила. Однако будущий профессор права отправил к молодой матери свою сестру — так сказать, на экспертизу отцовства. Той удалось найти в новорождённой портретное сходство с отцом, дочку назвали Алиной а маме подарили платиновые серёжки. Когда эта Алина подрастёт, то её совсем не понравится папин социализм. Намёки на то, что если не перестанет говорить лишнее, то окажется в психушке, поняла правильно и по поддельному испанскому паспорту покинула родину. На следующий день папа дал команду арестовать весь персонал аэропорта. А узнав, что дочь села за книгу, позаботился, чтобы её никто не издавал — тут уж его друг, писатель Маркес постарался: один издатель исчез, у другого сожгли дом…
Но пока Алина только училась ходить, Фидель безуспешно пытался вернуть прежнюю супругу с сыном, однако та уже вышла замуж. Что оставалось покинутому супругу? Правильно, завести новый роман (речь, понятно, уже не о Нати).
А с Фиделем-младшим проблема решилась сама собой. Когда он подрос, мать разрешила ему отправиться в Гавану повидать отца. И пожалела, потому что домой он решил не возвращаться, а с помощью папы отправился в СССР учиться. Окончил МГУ, где из конспиративных соображений называл себя Хосе Раулем. Он оказался талантливым учёным, стал аспирантом в институте ядерных исследований в Дубне. Потом долгое время возглавлял кубинскую делегацию при Совете экономической взаимопомощи. Руководил и коллегами из кубинского агентства по атомной энергетике. При этом вёл себя скромно, помня наставление отца — не щеголять на публике своим привилегированным положением. Трудно сказать, всегда ли принципиальный отец был к нему справедлив. Во всяком случае, когда Фиделю-старшему не понравились ядерные успехи страны, он приказал сместить сына с поста, пояснив народу: «Его уволили за некомпетентность, у нас тут не монархия». А сын страдал депрессией, безуспешно лечился и в конце концов покончил с собой, пережив отца всего на год. Оставил предсмертную записку, но её содержание кубинцы держат в секрете.
Мы не будем приводить здесь даже самый краткий перечень романтических увлечений команданте по двум причинам: во-первых, это заняло бы слишком много места, а, кроме того, их сюжеты довольно однообразны, а финал и вовсе одинаков. В этом смысле куда более интересна история немки Мариты Лоренц, которая прошла путь от горячей любви до испепеляющей ненависти и обратно.
33-летний Фидель, как обычно, влюбился с первого взгляда, увидев красавицу в гаванском порту, где стоял на якоре американский круизный теплоход «Берлин». Марита была на капитанском мостике (папа-капитан ей это разрешил), когда показалась шлюпка с тремя десятками бородатых мужчин. Она двигалась к лайнеру. Самый рослый, с винтовкой в руках, прокричал, что хочет подняться на борт: ему было просто любопытно. Девушка спросила, кто он такой. Тот рассмеялся: «Я — Куба. Команданте Фидель Кастро». Для Мариты это тоже была любовь с первого взгляда, и такое взаимное напряжение кончилось коротким замыканием в одной из кают.
После возвращения в Нью-Йорк телефон девушки перегревался от звонков темпераментного кубинца. Вскоре он прислал за ней личный самолёт, и Марита поселилась в отеле «Свободная Гавана», где и прожила несколько месяцев. В 1959 году Куба ещё ничем не напоминала замученную социализмом банановую республику. Да и сам Фидель, по свидетельству Мариты, никогда не заикался о марксистских глупостях. Зато на шее носил золотой медальон с изображением девы Марии. Это только три года спустя Папа Иоанн XXIII отлучит его от церкви за организацию коммунистической революции.
Вскоре обнаружилось, что она беременна. А потом началась противоречивая и тёмная история. По некоторым источникам, Фидель был в восторге и Мариту уже называли «первой леди Кубы». Сама же несостоявшаяся леди потом утверждала, будто Фидель сказал, что ему этот ребёнок не нужен. Как бы там ни было, но однажды, где-то на последних месяцах беременности, она выпила стакан молока, после чего потеряла сознание. В памяти сохранились только обрывки чьих-то фраз, детский плач… Пришла в себя через несколько часов, Ребёнка у неё больше не было. Из-за заражения крови её отправили на лечение в Нью-Йорк. Агенты ЦРУ рассказали женщине, как было дело: в бессознательном состоянии её отвезли в клинику, накачали наркотиками и вызвали искусственные роды. Судьба ребёнка — жив ли он или его забрал Кастро — долгое время оставалась неясной.
После всех этих событий Лоренц от любовника ушла, вернулась домой в Манхеттен, где с ней поработало ЦРУ. «Они хорошо промыли мне мозги, оставив меня с разбитым сердцем», — рассказывала она потом. Так Марита стала «агентом по контракту» и получила предложение убить бывшего возлюбленного, который так гнусно себя повёл. Измученная и оскорблённая женщина согласилась. Да и дело-то несложное: подбросить в питьё ядовитую пилюлю, после чего диктатор протянет на этом свете всего минуту. Останется только незаметно исчезнуть.
Как часто бывает, тщательно продуманную операцию губят случайности. Агентша ждала главу государства в том самом отеле «Свободная Гавана», где находилась его резиденция. Она спрятала пилюлю в банку с кремом, и когда в ответственный момент доставала пилюли, то испачкала кремом стакан. Марита говорит: «Я пыталась стереть его, но не могла. Запаниковала, хотела смыть все в унитазе, но ничего не выходило. И тут зашел Фидель». Диктатор моментально всё понял, и Лоренц оцепенела от ужаса. Она вспоминает: «Он вытащил пистолет из кобуры. Я думала, он собирается меня застрелить, но он вручил пистолет мне и спросил: «Ты пришла, чтобы убить меня?»
Словом, Кастро, как обычно, смотрел в суть явлений и учитывал психологию женщин, которых изучал давно и пристрастно. Поэтому он затянулся сигарой и закрыл глаза. Эта женщина по-прежнему любит его и не сможет нажать курок. Так и случилось. Вместо выстрела последовали объятия.
Правда, детали этих событий, известные только самой рассказчице, со временем меняются: «Я выбросила ампулы в биде. Любовь оказалась сильнее», — говорила она много лет спустя. Ну и где же правда? Объяснение такое: «Я была женщиной в окружении мужчин. Я лгала и выдумывала, чтобы защитить себя или своих детей, и сказала правду тогда, когда посчитала нужным». Недаром же в конгрессе США, где она давала свидетельские показания комиссии, расследовавшей убийство Кеннеди (и там она оставила свой след!), её назвали свидетелем, не заслуживающим доверия.
Есть и более прозаичное объяснение её выдумок: несмотря на богатую событиями жизнь, где после Кастро был и венесуэльский экс-президент Перес Хименес, (он бежал из страны, прихватив наворованное), на исходе жизни женщина оказалась у разбитого корыта, и едва ли не единственным источником её доходов стали сенсационные байки, за которые издательства были готовы платить серьёзные суммы. И что же? «Последние несколько лет я живу на пособие (мне не выплачивают пенсию) в полуподвале в Квинсе вместе с собакой Бафти, кошкой, черепахой и огромной оранжевой рыбой, которая время от времени так отчаянно бросается на стекло аквариума, словно хочет покончить с собой».
А с сыном история со временем прояснилась. В 1981 году Лоренц отправилась в представительство Кубы в Нью-Йорке, где ей выдали визу для поездки в страну. Там её встретил Кастро и позволил наконец увидеться с сыном: «Я просто смотрела и понимала: бог мой, он жив! Это реальность. У него мой рот, мои глаза. О господи, и нос Фиделя. Первое, что бросилось в глаза, это его белая-белая кожа и курчавые волосы Фиделя. И я начала плакать». После ночи с Кастро она позавтракала с сыном. Больше она его не видела.
Вот ведь странность: романы с диктаторами очень часто почему-то плохо кончаются.
Уроки святости
Пётр и Феврония
Жизнь святых князей Петра и Февронии — это история верности, преданности и настоящей любви. Она описана в древнерусской «Повести о Петре и Февронии», согласно которой супруги княжили в Муроме, жили счастливо и скончались в один день.
Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на муромский престол в 1203 году. Согласно преданию, за несколько лет до княжения Пётр убил огненного змея, но испачкался его кровью и заболел проказой, от которой никто не мог излечить.
Во сне князь увидел, что исцелить может дочь «древолаза», промышлявшего мёдом диких пчёл. Это была благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Петр послал туда своих людей. Феврония согласилась помочь, но в качестве платы за лечение пожелала, чтобы князь потом на ней женился. Петр пообещал, но жениться не собирался: мол, как это можно — князю взять в жёны простолюдинку!
Феврония такой поворот предвидела и тоже пошла на хитрость: исцелить-то исцелила, но немного не до конца… Велела ему оставить несмазанным один струп как свидетельство греха. Вскоре болезнь возобновилась, и князь со стыдом снова обратился к Февронии. Теперь уж она его вылечила окончательно, а Петр выполнил обещанное.
И вот молодые вернулись в Муром. Петр успел полюбить Февронию за благочестие, мудрость и доброту. Но когда Пётр наследовал княжение после брата, то с государственными делами возникли сложности. Бояре, конечно, уважали своего князя, но их надменные жены невзлюбили Февронию, не желая подчиняться крестьянке. Надавили на мужей, и те в конце концов потребовали, чтобы князь отпустил свою благоверную. Петр отказался, супругов изгнали, и им пришлось на двух кораблях отплыть по Оке. При этом Феврония поддерживала и утешала мужа.
Да только вскоре за ними вдогонку приехали послы из Мурома: в городе началась борьба за престол, смута, убийства… В общем, князя с женой убедительно просили вернуться. Супруги, не помня зла, вернулись, и правили долго и счастливо. Причём Феврония со временем сумела заслужить любовь горожан.
В старости они приняли монашеский постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния. И молили Бога, чтобы умереть в один день. Тела свои завещали положить в одном гробу, заранее приготовив гробницу из одного камня, с тонкой перегородкой.
Скончались они действительно в один день и час, 25 июня 1228 года, каждый в своей келье. Люди сочли нечестивым хоронить монахов в одном гробу и попытались нарушить волю усопших. Дважды их тела разносили по разным храмам, но каждый раз они чудесным образом оказывались рядом. Так и похоронили вместе в соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы, возведённой над их мощами. Спустя три века их канонизировали, установив день памяти — 25 июня, или 8 июля по новому стилю. Раньше в этот день совершались помолвки, а уже после окончания Петрова поста пары венчались в церкви. Символом праздника стала ромашка — как символ лета и тепла, чистоты и невинности.
В дореволюционные времена день памяти муромских чудотворцев был здесь большим праздником, и в городе проходила ярмарка, на которую съезжались со всех окрестностей. При советской власти мощи увезли в местный музей, пополнив антирелигиозные экспонаты. К счастью, морок не вечен, и с 1992 года мощи открыты для поклонения в соборном храме Свято-Троицкого монастыря в Муроме. А в Москве находится чтимая икона святых с частицей мощей в храме Вознесения Господня на Большой Никитской.
Память Петра и Февронии отмечают не только верующие: с 2008 года в этот день, 8 июля, начали праздновать также День семьи, любви и верности. Дело в том, что этих святых называют образцом христианского супружества. Были ли у них дети — неизвестно, и в памяти они остались по другой причине: благодаря взаимной любви и хранению святости брака. Считается, что их молитвы низводят небесное благословение на вступающих в брак. А своим примером они убеждают верующих, что жизнь во Христе возможна всюду, а не только в монастыре или пустыни, поскольку святость определяется не так называемым «бытием», а внутренним миром человека.
Вот эти уроки святых Петра и Февронии:
За каждый поступок в отношениях, за каждое слово неси, как мужчина, ответственность. Потому что именно это отличает мужа от мальчика.
За всяким событием в нашей жизни лежит промысел Божий о нас — даже если дела совсем плохи. Ведь не заболей Петр, встретил бы он крестьянку Февронию? А если бы и познакомился, то до брака дело бы скорее всего не дошло. Равно как и до святости. Какой же это хороший урок: никогда не отчаиваться.
О важности доверия между супругами напоминает «чудо святой Февронии с крошками». Согласно преданию, бояре всегда подозревали Февронию в колдовстве: во-первых, смогла излечить Петра. Во-вторых, не понимали многих её привычек. Например, обратили внимание Петра, что его супруга собирает в ладонь крошки со стола, хотя Феврония просто относилась ко всякой еде, как к дару Божиему. Однажды Петр внял подозрению бояр и попросил Февронию разжать ладонь. Княгиня послушалась, но в руке вместо крошек оказался благодатный фимиам. После этого Петр никогда не «проверял» свою супругу и не слушал никаких сплетен. Этот урок — не про подозрения, а про безоглядное доверие, которое благодаря небесам устанавливается между супругами.
Христос освятил супружество, посетив брак в Кане Галилейской, установив на века, что это — полноценный путь к стяжанию благодати и святости. Именно поэтому брак свят и любой развод — «трагедия на небе». И Пётр отказался разводиться со своей крестьянкой, хотя на этом и настаивали бояре. А после того, как их изгнали из города, супруги какое-то время жили в палатке. Жена ради мужа пошла с ним из дворца в шалаш. Причём не просто сопровождала, но поддерживала в часы, когда тот унывал. Потому что женская поддержка хранит брак и укрепляет мужчину. Если бы на месте Февронии оказалась строптивая супруга, то вряд ли бы мы праздновали день их памяти.
А вот притча о лодочнике, который однажды перевозил Февронию и подумал о ней с вожделением. Женщина поняла это и попросила его зачерпнуть воды сначала с одного бока лодки, потом с другого и попробовать воду оттуда и оттуда. Вода была одинакова. «Так и суть женская везде одинакова», — объяснила Феврония лодочнику. Здесь можно обойтись без комментариев.
Даже их смерть стала красивой историей. Петр несколько раз посылал Февронии гонца с сообщением: «я умираю» и каждый раз она отвечала: «Подожди, не умирай, мне нужно дошить покрывало для храма». И только на третий раз отложила своё шитьё, чтобы перейти в мир вечный вместе со своим супругом… Часто супруги, прожившие вместе целую жизнь, умирают один за другим, потому что жизнь другого в браке — это ещё и твоя жизнь.
Священномученик Валентин
14 февраля многие отмечают день святого Валентина, но история его жизни малоизвестна. Дело в том, что католическая церковь почитает трёх святых мучеников с именем Валентин, однако достоверной информации о них почти нет. Известно лишь, что Валентин Римский был священником и принял мученичество во время гонений на христиан в III веке н. э. Другой Валентин был епископом Интерамны (ныне город Терни, Италия). Он был казнён за веру 14 февраля 273 года и похоронен недалеко от Рима. Святой почитается и католиками, и православными. О третьем Валентине мы знаем только, что он погиб в Карфагене.
Более подробные сведения о священномучениках появились уже гораздо позже. Так, Валентин Римский жил работал священником в Риме при императоре Клавдии II. Тот активно воевал и поэтому запретил мужчинам вступать в браки: он считал, что женщины только отвлекают солдат от дела и не пускают их на войну. Однако Валентин не только молился за больных, но и тайно венчал влюблённых, несмотря на запрет царя Клавдия. Со временем жизнь святого Валентина обросла легендами. Согласно одной из них, он соединил узами брака командира римской армии Сабино и христианку Серапию. Влюбленные были смертельно больны, именно поэтому Валентин решился на столь рискованный шаг. В городе Терни в храме есть витраж, на котором изображен момент венчания Сабино и Серапии. Но было ли такое — неизвестно, потому что сам обряд появился намного позже.
Что касается первых валентинок, то тут на выбор предлагается несколько историй. Согласно одной из них, у Валентина был сад, где он выращивал розы. Дети со всей округи играли в этом саду, а вечером, когда они собирались домой, священник вручал каждому по цветку в подарок для матери.
Есть и такая: до императора дошли слухи о тайных венчаниях, и святой Валентин был заключён в темницу. Там он однажды увидел, что за решеткой воркуют два голубя, и сразу же узнал их. Это были птички, которые гнездились в его саду. Валентин привязал на шею одной голубки ключик от сада, а другой — письмо, в котором оставил послание для ребят: «Всем детям, которых я люблю, от вашего Валентина».
Ещё одно предание гласит, что когда Валентин попал в тюрьму, в него влюбилась слепая дочь надзирателя. А так как он был священником, давшим обет безбрачия, на чувства девушки ответить он не мог. Но в ночь перед казнью всё же решился и написал ей любовное письмо, в которое завернул веточку шафрана. Когда девушка открыла записку, внутри неё был шафран и подпись «Твой Валентин». Юлия взяла шафран в руки — и прозрела. Отец уверовал в Христа, Клавдий пытал их обоих — и целителя, и сторожа, а после казнил. Валентину Римскому, дожившему до 94 лет, отрубили голову 14 февраля 270 года.
Епископ Интерамны тоже проповедовал христианство, исцелял людей. В 270 году его попросил приехать в Рим философ Кратон. Сын философа тяжело болел: у него было искривление позвоночника, и он уже не вставал с кровати. Валентину удалось поднять мальчика на ноги, что, конечно, расценили как чудо. Философ был настолько благодарен, что вместе с учениками принял христианство. Сделал это и сын градоначальника. А вот сам градоначальник за это посадил Валентина в тюрьму. Как и Валентин Римский, там он исцелил дочь тюремщика от слепоты. Казнили мужчину 14 февраля 273 года.
Последователи и ученики Валентина — Прокул, Эфеб и Аполлоний — тайно доставили его останки в Терни, чтобы похоронить. За это им пришлось заплатить жизнью. А Валентина, как христианского мученика, пострадавшего за веру, католическая церковь впоследствии канонизировала.
Эти два жизнеописания схожи, поэтому многие считают, что речь идёт об одном и том же человеке. Тем не менее, почитание обоих святых было распространено в Риме уже в IV веке. Причём построили две базилики: одну там, где, по преданию, похоронили Валентина Римлянина, другую — в Терни, чьим покровителем стал святой Валентин. Каждый год в этот день устраивается Праздник обручения. Сотни женихов и невест со всей Италии съезжаются в базилику в Терни, чтобы дать друг другу клятву взаимной любви. В средние века в Европе перед иконой Валентину молились об исцелении от падучей болезни (эпилепсии).
Из-за путаницы с житиями в 1969 году католическая церковь исключила Валентина из списка святых. Однако оставили возможность принимать решение о его упоминании на уровне местных церквей. В Русской православной церкви Валентина Интерамнского вспоминают 12 августа, а день памяти Валентина Римского — 19 июля.
По другой версии, День святого Валентина был нужен церкви, чтобы вытеснить языческий праздник. Римляне верили, что основателей их города — братьев Ромула и Рема — выкормила своим молоком волчица. В честь неё отмечали луперкалии (от lupus — волк). В жертву приносили козу (пища волков) и собаку (животное, наиболее ненавидимое волком). Потом закланных животных свежевали и из их шкур нарезали узкие ремни. Двое обнажённых юношей брали эти ремни и начинали ритуальный бег, во время которого стегали ремнями всех попадавшихся на их пути. Женщины и девушки специально подставлялись под удары, так как считалось, что это помогает забеременеть и легко родить. Очистительные жертвы, которые приносились римлянами богам в конце каждого года, назывались «фебруа» (февраль был последним месяцем в году). От этого слова произошло название месяца, в середине которого и отмечали луперкалии: фебруарий — февраль. Этот фестиваль плодородия и эротизма отмечался 15 февраля, и ассоциировался у римлян с удовольствиями и свободной любовью. И даже когда христианство сменило язычество, праздник ещё долгое время отмечали. Папа Геласий I в 496 году запретил луперкалии и учредил день святого Валентина. Так святой стал покровителем влюбленных, хотя любил прежде всего Христа.
В Россию День святого Валентина пришёл недавно, в начале 1990-х годов. Многие верят, что если сделать предложение на 14 февраля или сыграть в этот день свадьбу, брак будет счастливым и крепким. Правда, немало верующих этот праздник не признают, 14 февраля чтят святого мученика Трифона, а в качестве альтернативы февральскому празднику установили день памяти Петра и Февронии Муромских, покровителей супружеских пар. Но и Валентина не забывают: в 2003 году епископ города Терни передал в дар нашему патриарху частицы мощей священномученика, которые с тех пор хранятся в храме Христа Спасителя.
И ещё кое-что
От зеленой до красной
Очередная годовщина свадьбы для благополучной семьи — это большой праздник. Настолько важный, что его отмечают практически каждый год. Исключения, причины которых выяснить не удалось, — 16, 28, 32 и 33 и 41 год совместной жизни. Во всяком случае, названий для таких годовщин не обнаружено. Однако всякому ясно, что никаких запретов тут быть не может: ну вот захочется супругам отметить 33-ю годовщину — и что им может помешать?
Мы здесь не будем приводить весь перечень названий, оставив в стороне такие экзотические годовщины вроде берилловой свадьбы (23) и смуглой (31), муслиновой (37) и ртутной (38), способный нагнать скуку на самого терпеливого читателя, а остановимся лишь на некоторых.
День бракосочетания именуют зелёной свадьбой. В первый год её отмечают каждый месяц соответствующего числа. Подарок — цветы, символ весны и юности. Ими же украшают и свадебный кортеж, и помещение для торжеств. Прежний ритуал, отработанный веками, с рукобитием и вытием, девичниками и баней, выводом невесты «перед столы» и дрУжками, что сидят в красном углу, — это уже отрада этнографов, а не современная свадьба. Знатоки, правда, вспомнят кое-что вроде выкупа невесты. А так — белый лимузин с шарами, фотосессия у местных достопримечательностей — и в ресторан, к накрытым столам.
Через год наступит ситцевая свадьба. Почему ситцевая? Потому что отношения пока ещё непрочны, как ситец. Но народные острословы толкуют это несколько иначе: первый год совместной жизни способен износить постельное бельё до состояния марли… В этот день открывают одну из двух бутылок шампанского, подаренных молодым в день свадьбы (вторую бутылку открывают на рождение первенца), а супруги дарят друг другу ситцевые платочки.
Каждая годовщина отмечается по сценарию настоящей, только короче — подарки и поздравления, пир и тосты. А чтобы это как-то разнообразить, обстановку стараются связать с символикой праздника: деревянную свадьбу (5 лет) отмечают на природе, жемчужную (30 лет) — у водоёма, а золотую — так же, как и полвека назад.
Прошли 3 года — наступила кожаная свадьба. К этому времени молодые уже хорошо чувствуют друг друга — как бы самой кожей. И дарят в этот день что-то соответствующее — сумки, кошельки, а то и кожаный чемодан для предстоящего путешествия.
Через 5 лет празднуют деревянную свадьбу. Семья уже крепкая, обычно успевает родить ребёнка, и потому её сравнивают с прочным деревянным домом. Конечно, от огня — семейных ссор — он пока не застрахован. Но если в праздничные торжества включить посадку дерева, то это будет хорошей приметой. Правда, где его сажать горожанину — не очень ясно, но всё же вопрос решаемый. Приверженцы традиций также рекомендуют мужу что-нибудь сделать для дома своими руками из дерева, а жена покроет поделку лаком. Это тоже символ: так она намекнёт на свою уступчивость.
10 лет — оловянную (или розовую) свадьбу, первую круглую дату отмечают с размахом. Олово — символ гибкости, и супруги, уже хорошо знающие друг друга, понимают друг друга с полуслова, идут на взаимные уступки. А красная роза подчёркивает сильные чувства, и муж дарит супруге свадебный букет. На языке цветов это одновременно и послание: теперь нам не страшны никакие шипы. Приглашают всех, кто присутствовал на свадьбе. Среди гостей — уже и собственные подросшие дети.
15 лет — хрустальная, или стеклянная свадьба. Многие испытания чувств уже позади, поэтому символом этой даты стал хрусталь, звонкий, чистый и прозрачный. Но он хрупок, и требует бережного к себе отношения. Каким бы ни был супружеский стаж, расслабляться всё равно не стоит: даже не поступки, а всего лишь опрометчивые слова могут всё разрушить. После этой годовщины многие отмечают только круглые даты.
Серебряная свадьба — четверть века прочного семейного союза, не всем выпадает отметить такой праздник, и его отмечают широко и торжественно. Согласно давнему обычаю, супруги обмениваются в этот день серебряными кольцами, надев их рядом с обручальными.
Даже песню на эту тему сочинили, и Валентина Толкунова пела:
В интернете предлагается немало сценариев, как её достойно отметить, причём на любой вкус, не обязательно изысканный. Конечно, со стихами:
И дальше в том же духе. Главное — будет весело и запомнится.
30 лет — жемчужная свадьба. Настоящий жемчуг не тускнеет и потому символизирует безупречные семейные отношения. Муж дарит своей спутнице жемчужные бусы с тридцатью жемчужинами. Они напоминают о слезах, которые пролиты супругой во время семейных неурядиц. При этом супруг просит прощения за необдуманные поступки и слова. Жемчуг — ещё и символ плодородия: ведь супругов поздравляют не только дети, но и внуки.
Золотая свадьба — это юбилей в прямом смысле слова. Напомним, что словом «ювель» древние евреи называли установленный пророком Моисеем 50-й год, когда проданные и заложенные земли возвращались к прежним владельцам, рабы получали свободу, прощались долги должникам, а земля отдыхала от полевых работ. Этот «год свободы» наступал каждые пятьдесят лет. В наше время темпы ускорились, и теперь многие называют юбилеем все даты, кратные пяти.
Из всех годовщин эта — самая торжественная. Не последняя, конечно, но такой юбилей — скорее всего, последний, хотя бывают и исключения. 50 лет не выдерживает даже металл, обручальные кольца стираются и супруги обмениваются новыми в знак взаимной вечной (по крайней мере, на человеческий век её хватило) любви.
60 лет — пора отметить бриллиантовую свадьба. Бриллиант (алмаз) — самый твердый из камней, красивый и дорогой, что вполне характеризует этот семейный союз. Далеко не всем правнукам даётся возможность подарить по такому случаю своим старикам кольца с бриллиантами.
Вторую бриллиантовую свадьбу называют коронной — это 75 лет в браке. Отмечают, как подскажут родным и близким любовь и фантазия.
Сто лет, двойной юбилей, назвали красной свадьбой. У этого названия, в отличие от всех остальных, есть конкретные авторы — известные долгожители, супруги Агаевы. Всю жизнь они прожили в высокогорном селе Азербайджана и отпраздновали этот юбилей в 2007 году, когда Нифтулле Агаеву исполнилось 126 лет, а его Балабеим — 116. Сколько ещё им пришлось праздновать годовщин — интернет об этом молчит. И перечень свадебных названий на этом кончается.
А вот прожившим всю жизнь среди благ цивилизации королеве Великобритании Елизавета II и принцу Филиппу в 2017 году удалось отпраздновать платиновую свадьбу — 70-летие. Этот королевский брак считается самым долгим в мировой истории среди монархов.
Но нам-то интереснее другое: какие истины открылись парам, сумевшим многие годы прожить в любви и согласии? Они их не скрывают. Вот, пожалуй, самые главные:
— Умение прощать. Непростое условие: забыть про свою гордость и, невзирая на серьёзность проступка, простить, даже если считаешь, что прав.
— Душевная близость. Она обязательно должна прийти на смену пылкой любви. Иначе — что же останется?
— Общение. Без него трудно рассчитывать на душевную близость. Хорошо, когда есть с кем поделиться наболевшим. Только при этом надо уважать личные границы не только постороннего, но и близкого человека.
— Принятие другого. Часто житейской мудростью с нами делятся поэты-песенники: «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу»… Вот этого не надо. Что-то изменить мы можем только в себе, и то с трудом (речь, конечно, о взрослых людях). Поэтому ветераны семейной жизни советуют просто наслаждаться друг другом со всеми достоинствами и недостатками. Тут больше подходят другие строчки: «Я тебя слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила».
— Компромиссы. Не тратьте время и нервы на споры по мелочам. Время летит так быстро, а нервы не железные.
— Умение говорить и умение молчать. Порой мы стесняемся откровенно говорить о своих чувствах: например, жене, что мы её по-прежнему любим (или ещё сильнее), а ей так не хватает этих простых слов. А насчёт промолчать ещё Лев Толстой заметил: если один раз пожалеешь, что не сказал, то сто раз пожалеешь о том, что не промолчал. И он же: несказанное слово — золото.
— Умение слушать. Речь не столько о способности понимать слова, сколько о том, чтобы не пропустить даже слабый сигнал — взгляд, жест или просто неодобрительное молчание.
— И не надо обрушивать на самых близких своё плохое настроение. Если вам хорошо, то им тоже будет хорошо. Ведь вы же их любите?
Мужской взгляд на женщин…
Известно, что мужчины прежде всего обращают внимание на внешность. На основании этого впечатления и делается вывод: нравится — не нравится. Прочие достоинства тоже будут оценены, но — потом. Из этого не следует, что дело в косметике или модных новинках. Речь об ухоженности и вкусе. Да, если девушка любит булочки и гамбургеры, не очень представляет, что такое фитнес-клуб, но увлекается стихами и кино, то и она когда-нибудь найдёт себе собеседника. И всё же о внешнем виде лучше не забывать. Можно даже подчеркнуть свои достоинства со вкусом подобранной одеждой.
А лучше всего женщину украшает доброжелательное выражение лица и простая улыбка. И с чего модельеры взяли, что это хорошо, когда по подиуму идёт насупленная девица с неприступным видом? Один из гуру модельного бизнеса всё объяснил: «Когда модель улыбается, вы смотрите на её лицо и улыбку. Когда модель не улыбается, вы смотрите на одежду, которую она демонстрирует. Это, несомненно, лучше для одежды».
Да нет же, гуру. Когда идёт угрюмая модель, мы думаем о её нелёгкой жизни. И ещё о том, что даже самая красивая одежда вряд ли произведёт впечатление в сочетании с такой физиономией. А если подобные манеры усвоят и за пределами подиума, то дама, скорее всего, прошествует мимо возможных поклонников. Даже красавицу с несчастным видом, скорее всего, будут избегать (если, конечно, она не измучена постоянным вниманием и не ставит целью всех распугать). А счастливые женщины, наоборот, притягивают.
Мужчинам не нравятся также чересчур обидчивые или злопамятные. Умная женщина умеет прощать. Впрочем, это и к мужчинам относится.
А вообще-то у каждого возраста свой вкус. Молодые предпочитают умных, сексуальных и симпатичных — именно в таком порядке (речь идёт о серьёзных отношениях). Те, кто постарше, на второе место ставят уже заботливость. На пятом десятке забота занимает уже первое место, ум — второе, а красота вообще отходит на задний план. Так что не родись красивой, а… стань умной.
…и женский — на мужчин
Хоть вкусы у всех разные, и потому не зря говорят, что на каждый товар найдётся свой покупатель, но всё же большинство склоняется к одному и тому же идеалу. Так, практически все женщины хотят, чтобы избранник был настоящим мужчиной — то есть сильным, надежным, чтобы на него всегда можно было положиться. Большинству хочется, чтобы спутник жизни был интеллигентным, умным, внимательным. И, конечно, нежным и добрым.
Ещё раз: мужской характер — это главное требование. Нормальным женщинам не нравятся женственные и инфантильные мальчики. Равно как и раздражительные, капризные, слабовольные.
Теперь о внешности. Не стоит утешать себя расхожим афоризмом, что-де мужчина должен быть чуть-чуть красивее обезьяны. Девушкам, например, нравятся высокие, широкоплечие брюнеты. Или стройные голубоглазые блондины. Женщины постарше, с опытом, говорят, что если внешность любовника ещё важна, то для спутника жизни куда важнее другое качество: надёжность, внутренняя сила. Такой мужчина — как стена, на которую всегда можно опереться, за ней же и укрыться. Он уверен в себе и поступает так, как считает нужным. И вообще — мужчина красив не лицом, а душой.
Четверо из пяти женщин, увидев впервые мужчину, первым делом разглядывают лицо в надежде обнаружить черты сильного характера, ума и решительности. А также чувство юмора и чуткость. Идеал примерно такой: элегантен, в меру серьёзен, галантен. Умный, проницательный взгляд, спокойное лицо.
Затем — руки: приятно ли будет их прикосновение? Да и остальное не на последнем месте. Две трети дам предпочли бы, чтобы у любимого вместо пивного живота была стройная фигура и широкие плечи.
Но ещё важнее — взгляд, который уверенно притягивает к себе, и тогда женщина чувствует себя королевой.
А теперь — о менее серьёзных вещах (правда, смотря с чьей точки зрения).
Воля предков — это не шутки
Необычная свадьба состоялась в Южно—Африканской республике. Восьмилетний Санеле Масилелой предложил руку и сердце матери пятерых детей Хелен Шабангу, которая оказалась старше своего жениха более чем в семь раз. 61-летняя невеста, кстати, не в разводе, её муж живёт и здравствует. Кстати, он искренне радовался тому, что отныне его семья будет под надежной защитой духов, из-за которых, собственно, и закрутился этот роман.
О грядущей женитьбе юный жених заговорил примерно за два месяца до свадьбы. Причина серьёзная: во сне явился покойный дед, в честь которого мальчик был назван, и велел внуку поскорее вступить в брак. В тех краях привыкли серьезно относиться к воле предков, поэтому родители малыша не стали тянуть.
И грянул праздник. На юном женихе — элегантный костюм, на невесте — подвенечное платье. На глазах у сотни гостей жених и невеста обменялись кольцами, скрепив клятву верности символическим поцелуем.
Соседи, конечно, не упустили случая позлословить, сочтя эту затею аморальной, но родители жениха поспешили успокоить общественность, заявив, что брак — чистая формальность. «Мы не имеем права игнорировать волю предков и очень надеемся, что когда Санеле вырастет, он найдет свою любовь и женится уже по-настоящему», — сказала мать.
После завершения церемонии супруги разошлись по своим домам. Похоже, вести совместное хозяйство они не собираются.
Великолепный Джордж
Англичанин Джордж Джеймсон стал самым старым в мире новобрачным. Этот 102-летний джентльмен вступил в брак с 53-летней учительницей Юлией Робинсон.
Знакомство было романтическим. Юлия впервые увидела будущего супруга по телевизору: показывали фильм о Первой мировой войне. Там Джордж выглядел таким орлом, что женщина была покорена и написала ему восторженное письмо. Бывший солдат ответил взаимностью. К тому же, для развития отношений никаких препятствий нет: избранник — вдовец, а Юлия в разводе.
Жена называет своего супруга самым добрым, смешным и интересным человека, которого когда-либо встречала. А как же годы — ничего? «Джордж великолепен, он — целиком мужчина», — отвечает супруга на вопросы любопытных.
Какие наши годы!
92-летняя американка из штата Джорджия Холди Носер счастлива: она наконец-то нашла мужа, какого искала много лет. Тони, правда, всего 16, но ведь с каждым годом он становится старше…
— Я знаю, что многие считают нас сумасшедшими, но нам нет до них никакого дела, — сказала она перед бракосочетанием. — Тони такой нежный, добрый и внимательный! И я его так люблю!
Радостный Тони тоже уверен, что вытянул счастливый билет:
— Все считают, что она слишком стара для меня, но они не знают, что своей энергией и жизнерадостностью она даст фору всем женщинам, которых я знаю. Когда я встретил Хилди, то понял, что не смогу быть счастлив с какой-нибудь придурковатой школьницей.
Познакомились они после того, как Хилди, успевшая уже четырежды овдоветь, купила дом в Атланте, поближе к внучке.
— Я вышла на улицу, чтобы присмотреться к своим новым соседям и вдруг увидела Тони, который ухаживал за цветами в садике перед домом, где он жил с матерью. Он был так нежен с растениями, что мне захотелось с ним познакомиться. Я заговорила с ним и почувствовала, как сильно забилось моё сердце. Мы радостно проболтали три часа, пока мать не позвала его ужинать.
Начались встречи и долгие беседы. А когда пара заявила, что дело идёт к свадьбе, родственники рассвирепели.
— Они посчитали наше решение безумством, — говорит Тони. — Но когда увидели, как мы счастливы, то поняли нас и помогли организовать свадьбу.
Теперь супруги часто гуляют по парку, держась за руки, и без умолку болтают. Тони заканчивает школу, и каждую свободную минуту проводит с супругой. А Хилди говорит:
— Впервые за столько лет я по-настоящему счастлива. Уверена, что впереди у нас — целая жизнь!
Главное — спокойствие
Потому что иначе венчание молодых может кончиться трагично, как это и произошло в британском городе Кардифф. Правда, жениху Джозефу Джонсу было уже 70, а его невесте Берил — чуть поменьше. И вот за несколько секунд до того, как сказать «да», невеста почувствовала начало сердечного приступа. И умерла прямо перед алтарём. Причина смерти была для собравшихся очевидна: «Берил была так счастлива, собираясь в церковь», — говорили её близкие.
Ни себе, ни людям
32 года отсидел в израильской тюрьме Ихья Абрахам, после чего умер в возрасте 81 года. А всё почему? Потому что не согласился развестись со своей женой Орой, несмотря на решение суда раввинов. А в Израиле так: если для человека суд раввинов — не авторитет, то такому место за решёткой.
Ихья женился на Оре, когда ей было всего 12 лет, после чего супруги прожили вместе два десятка лет. Видно, не очень счастливо, потому что потом жена подала на развод и раввины — люди очень серьёзные — её в этом поддержали. Потом они приходили в тюрьму уговаривать Ихью, бывали там и представители власти. Но супруг оказался принципиален и стоек. Или просто упрям.
Любовь, опасная для жизни
По данным калифорнийского Национального института юстиции, более двухсот тысяч граждан США испытывают патологическую страсть к знаменитостям. Они их засыпают письмами с признаниями в любви и угрозами на случай, если знаменитость не ответит взаимностью. Угрозы далеко не всегда пустые. Во всяком случае, в этом убедилась молодая киноактриса Ребекка Шеффер, которую убил её 19-летний поклонник. Поэтому знаменитостям приходят на помощь специальные агентства, которые держат под контролем наиболее активных фанатов. Понятно, что такая услуга по карману далеко не каждому.
Бутылочная почта: надёжно и эффективно
В далёком 1956 году 20-летний шведский моряк Оке Викинг вложил в бутылку такую записку на английском языке: «Только для девушек в возрасте от 16 до 20 лет. Если вы найдёте это письмо, пошлите мне фото и адрес. Я обещаю прислать свою фотографию и подарок из Швеции». После чего бутылку закупорил и бросил в море неподалёку от Гибралтара.
Примерно через полгода её выбросило на сицилийский берег, где она попала в руки жителю Сиракуз. А у этого жителя было две дочери, которым он и показал записку. И обе послали письма в Швецию.
Ну, а дальше — просто сказка со счастливым концом. Шведу понравилась одна из сестёр, Паола, и он вскоре собрался в Сиракузы с подарком. Пожил там три месяца и понял, что окончательно влюбился. У Паолы этот процесс шёл быстрее: она с первого взгляда поняла, кто будет её мужем.
Чтобы создать нормальную, по сицилийским понятиям, семью, протестанту Оке пришлось стать католиком, как и невеста, что он и совершил. Зато свадьба всколыхнула всё население небольшого городка: статьи в газетах, репортажи по телевизору, а на улицах десятки тысяч ликующих горожан, поющих песни в честь необычной пары.
Потом молодые переехали на родину мужа, в шведский городок Иструм. У них тоже родились две дочери… А дома на видном месте стоит та самая бутылка, которая помогла родителям найти друг друга.
ДРУГИЕ КНИГИ АВТОРА:
Для тебя и о тебе (в соавторстве).
НЛО вокруг нас (в соавторстве).
Польша. Тысячелетнее соседство.
По следам Барабашки (в соавторстве).
Сон правду скажет, да не всякому.
Философские уроки счастья.
Однажды, вдруг… Чудеса нашего века.
Сами о себе.
Увы мне, свете мой. Слово на камне.
Город мастеров. Беседы по существу.
В. Никонов, Словарь русских фамилий (составитель).



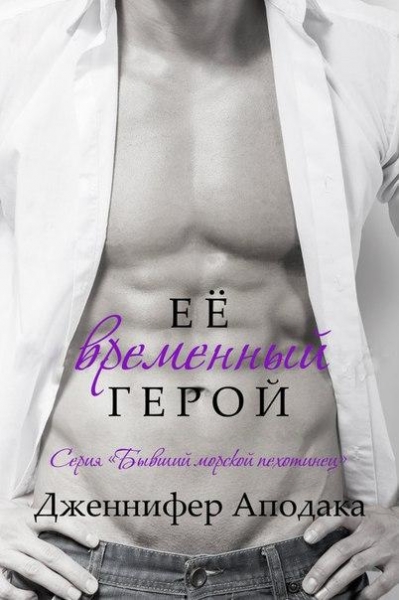
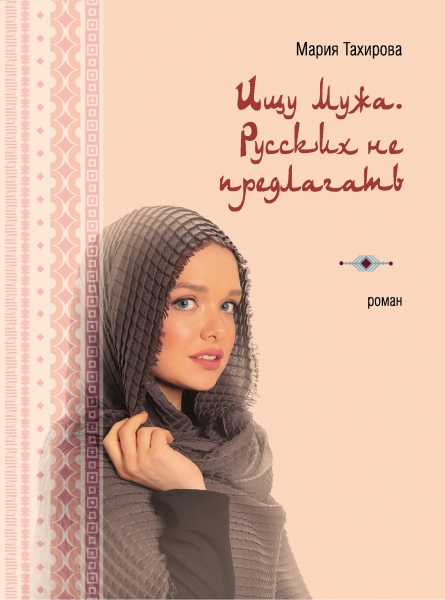
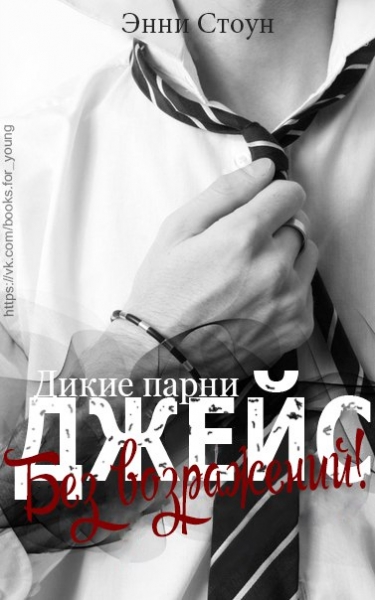
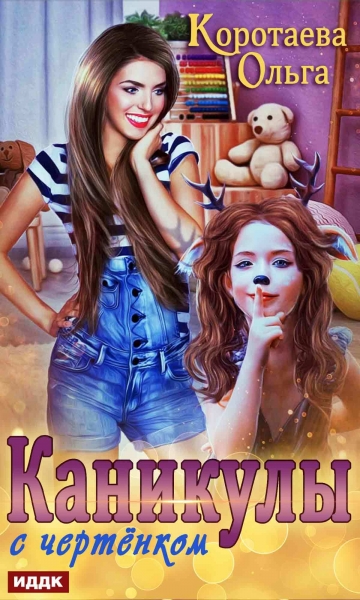
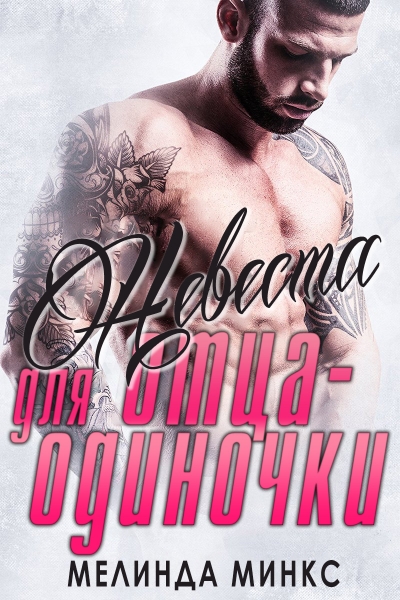
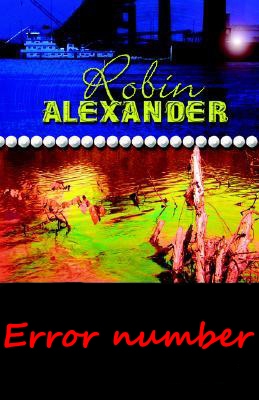
Комментарии к книге «Лики любви», Евгений Леонидович Крушельницкий
Всего 0 комментариев