Андрей Столяров
ТЕМНЫЕ НЕБЕСА
ЧАСТЬ 1. САМУМ
Это неумолимый круговорот, вырваться из которого невозможно. Утром мне звонит доктор Йонгер, он же по неофициальному именованию — доктор Менгеле, и своим взвизгивающим, как нож по стеклу, голосом напоминает, что послезавтра у меня — плановое обследование.
— Мы тут придумали кое-что новенькое, — хихикая, добавляет он. — Надеюсь, вам будет не скучно.
Доктор Йонгер нескрываемо торжествует. Вероятно, пакость, которую он для меня изобрел, приводит его в восторг. С некоторым злорадством я извещаю его, что, к сожалению, послезавтра никак не могу, через час отбываю на внеочередную сессию ДЕКОНа, которая, как уже согласовано, на этот раз состоится не в Лондоне, и не в Нью-Йорке, и не в Куала-Лумпуре, а в Москве.
— Разве вас не известили об этом? — деланно удивляюсь я.
Доктор Йонгер тут же вскипает, чувствуя себя мелкой сошкой, и заявляет, что тогда он поставит меня в график на следующий понедельник, с утра, попрошу не опаздывать, иначе я буду вынужден подать на вас официальную жалобу в тот же ДЕКОН!..
Голос его срывается в ультразвук. Я отключаюсь, оставляя доктора Йонгера захлебываться негодованием в одиночестве. Хотя должен признаться, что настроение он мне портит изрядно. Ежемесячное медобследование, которое доктор Йонгер проводит как наблюдающий врач, занимает у меня практически целый день, и еще два дня после этого я чувствую себя совершенно разбитым. Причем дело здесь, конечно, не в утомительной биохимии и томографии, не в анализах и различных замерах, которых просто не счесть, не во всякой затейливой, ультрасовременной аппаратуре, коей до потолка забит его кабинет, за эту часть обследования я совершенно спокоен. Выматываюсь я прежде всего от бесчисленных психологических тестов — их наш доктор Менгеле выдумывает с неистощимой фантазией. Трудность здесь в том, что суть каждого теста я «считываю» почти мгновенно, автоматически, в ноль секунд, чуть ли не раньше, чем мне успевают его предъявить, и приходится быть до предела внимательным, чтобы это не отразилось на соответствующих показателях.
Мы разыгрываем игру, похожую на войну. Доктор Йонгер пытается выявить у меня в психике какие-нибудь нечеловеческие характеристики, а я, в свою очередь, изображая интеллектуальный напряг, морща лоб, почесывая затылок, демонстрирую, что ничего особенного в моей психике нет: я думаю, чувствую, реагирую на уровне обычного человека, ну, может быть, чуточку лучше, поскольку я все же — профессор, доктор наук. Нудная и утомительная игра. Я ужасно боюсь расслабиться и случайно выдать нечто такое, что насторожит не только его, но и весь наш ДЕКОН. Цена этой игры — свобода. Если я проиграю, то со скрипом повернется в запоре громадный ключ и моя клетка, и так-то довольно тесная, захлопнется навсегда. К счастью, пока все более-менее в норме, ничего криминального, анализы, в общем, укладываются в обычный психофизиологический диапазон, но на каждом обследовании я явственно ощущаю, что доктор Йонгер не верит мне ни на грош. Он убежден, что экстрасенсорные аномалии у меня в психике есть, и что под маской обычного, ничем не примечательного человека скрывается хищный и злобный инопланетный монстр, только и ждущий удобного случая, чтобы вцепиться кому-нибудь в горло. Он фанатично жаждет этого монстра разоблачить, застать врасплох, выдать себя, и, ухватив за жабры, вытащить его под пронизывающий рентген спецслужб.
В общем, к черту, доктора Менгеле! Не выношу его узко заточенную, костистую морду с тех пор, как впервые — около года назад — узрел ее в пугающей белизне изолятора.
Ничего, проскочим и в этот раз…
Через час я окунаюсь в привычную шизофрению вокзала. У нее омертвляющий цвет, и она ложится на все пленкой мутного полиэтилена. Вчера, как передали в утренних новостях, террористы «Исламского народного фронта», который в прессе для краткости называют прежним именем «Аль-Хазгар», взорвали на мадридском вокзале пригородную электричку. Двадцать шесть обожженных испанских душ вознеслись к небесам. Эхо взрыва раскатилось по всему миру, армада праведников, поющих славу всевышнему, увеличилась тут же на целый взвод, и потому хвост к магнитным рамкам при входе в вокзал сегодня выглядит точно очередь на эшафот. Растянулась она метров на сто: скопище скорбных лиц с глазами, уставившимися в пустоту. Багаж, словно на таможне, перетряхивают у каждого третьего, каждого второго заворачивают вновь пройти сквозь рамку, которая непрерывно звенит. Погребальный звон этот отдается в ушах. Паранойя вездесущего терроризма резонирует здесь с паранойей служб безопасности и порождает страх, превращающий воздух в душный кисель.
Несколько легче становится только в «Сапсане». Казалось бы, должно быть наоборот: взрыв на скорости около двухсот километров в час взметнет поезд вверх как огненный фейерверк. Это противоречит здравому смыслу. Однако здравому смыслу противоречит весь наш нынешний мир, и потому я поудобней устраиваюсь у окна и некоторое время развлекаюсь тем, что пытаюсь вычислить, кто меня сегодня «сопровождает». В очереди к вокзальным рамкам вроде бы стоял парень, который, когда я обернулся назад, как-то слишком поспешно отвел деланно-скучающие глаза. Но в вагоне его, кажется, нет. Да и какая, собственно, разница: следят — не следят? Одно время ко мне пытались приставить демонстративное наблюдение, дежурили под видом охраны трое крепких ребят: Петр, Сергей и Хасан. У моей парадной, приткнувшись к поребрику, непрерывно стоял серый «форд». Выйдя из дома, я обязан был сообщить, куда направляюсь, или просто мог сесть рядом с водителем и велеть себя отвезти. Как бы даже удобно, но через месяц я — просто взвыл. Тот, кто не жил под демонстративной наружкой, меня не поймет. Кончилось это тем, что я закатил совершенно безобразный скандал, обзвонил все начальствующие инстанции, включая ДЕКОН, написал резкие кляузы куда только мог, и в конце концов просто предъявил ультиматум: если так, то я вообще выхожу из игры, и действительно просидел, наглухо запершись в квартире, более четырех недель. Спускался лишь в продовольственный магазин. Ни медосмотры не посещал, ни в деконовских семинарах участия не принимал. Западные корреспонденты уже начали задавать вопросы: куда я исчез? Демонстративное наблюдение с меня сняли, но я на сто процентов уверен, что меня все равно тщательно и непрерывно «ведут». Просто делают это теперь значительно аккуратней. Даже после ухода арконцев я остался под подозрением. Я сейчас как чумной — сам вроде бы не болеющий, но несущий в себе черную смерть. Все мои знакомые, приятели и коллеги строго предупреждены: если заметят в моем поведении что-нибудь странное — немедленно сообщить. Это их гражданский и человеческий долг. Бог с ними, в конце концов, если им так спокойней, то — пусть…
Прерывает мои размышления короткий сигнал. Мне приходят на телефон подряд два письма. Первое — от Анжелы (вероятно, с работы), она пишет, что на завтра у них в отделе намечен небольшой сабантуй, не мог бы я с ними чуть-чуть посидеть? Ну хотя бы полчасика, ну пожалуйста, добавляет она, и я даже сквозь печатные буквы слышу ее умоляющий голос. Анжелу можно понять: подозрения подозрениями, а за последние месяцы ее социальный статус вырос стократ. У кого еще муж — сотрудник ДЕКОНа? Кто больше меня причастен к одной из самых таинственных тайн? Кого принимал для приватной беседы сам президент? Часть моей «славы» ложится отблеском на нее, и, может быть, в административно-чиновных кругах конвертируется во что-то весомое. Нисколько не сомневаюсь, что так и есть. Отвечаю я ей, как и доктору Йонгеру, с некоторым злорадством: к сожалению, не смогу, завтра и послезавтра буду в Москве. Вызвали в ДЕКОН, извини. Впрочем, Анжелу это вряд ли смутит. Напротив, аура тайны, окружающая меня, в глазах ее сослуживцев лишь возрастет.
А второе письмо — от Лизетты и Павлика. Все в порядке, они прекрасно устроились в студенческом кампусе «На Холмах». Номера там квартирного типа: есть приличная кухонька, горячая вода, душ, интернет. Уже завтра они начинают занятия на подготовительных курсах, и надеются, что осенью переедут в Бельск насовсем. Главное — сдать вступительные экзамены. Ну — сдадим; как ни странно, конкурс в этом году небольшой. Постоянно по скайпу общаются с Машенькой, она ждет не дождется, когда сможет приехать и посмотреть на звезды в самый «дальновидящий телескоп». Тебе от нее привет. К письму приложены фотографии: светлая, чистая улочка из новеньких двухэтажных домов, возле каждого — сонные тополя, цветники, асфальтовые дорожки. Солнце, прозрачные тени, дырчато-лиственная тишина. И на заднем плане, на самом высоком холме, тусклый, будто из матового серебра, ребристый купол обсерватории. В принципе эти фотографии должны были бы меня успокоить. Привычный, летний, поселковый пейзаж, располагающий к умиротворению и расслабленности. Но эффект от них оказывается прямо противоположный. Я ничего не могу с собой сделать. Я, будто галлюцинируя, вижу, как накатывается на поселок пыльная, взрывная волна, как летят, кувыркаясь в воздухе, крыши, балки, ограждения палисадников, как чернеет и расплавом стекает внутрь обсерватории дымное серебро, как все, что секунду назад сияло миром и счастьем, погружается в едкий радиоактивный туман.
Это мое проклятие.
Только мое.
И, похоже, я обречен нести его на себе всю жизнь.
С вокзала меня подхватывает черная «ауди». В Москве теплынь, дымка, водитель сидит в рубашке. Он мрачно извещает меня, что как только погода установилась, мэрия начала — уже в сотый раз! — ремонтировать исторический центр. Все разрыто, перемещаться по городу можно лишь на метро или пешком. И действительно, мы движемся со скоростью подыхающего жука. Носом мы упираемся в грязноватый фургон, на задних дверцах которого красно-желтыми буквами начертано «Мирта. Плодовощтранс», слева нас поджимает двухрядный поток — протиснуться сквозь него не смог бы ни один пешеход, а справа, точно севшие на мель корабли, уткнулись друг в друга троллейбусы, покинутые пассажирами.
Время тоже — как будто прикипело к асфальту. Оно не движется, а стоит атмосферной, чуть вздрагивающей пеленой. Секундная стрелка на циферблате еле ползет.
Я нетерпеливо барабаню пальцами по коленям.
— Скоро, скоро уже, — успокаивает меня шофер. — Вот сейчас эти пройдут, и все.
Я немного отодвигаюсь влево и вижу, что вдалеке наш проспект пересекает длинная колонна автобусов. А по бокам ее прерывистой гусеницей ползут темно-зеленые бэтээры.
Так вот почему мы стоим.
— Нелегалов вывозят, — поясняет шофер. — Говорят, их в Москве уже полтора миллиона. По слухам, мобилизовали военные транспортники, набьют их, как кильку в консервы, и привет — лети в родные края… А что? Сколько ж можно? Слышали, наверное, что у нас тут прошлой осенью было? И, кстати, а как там у вас?
— У нас было гораздо спокойней.
— Ну, Питер, конечно, город культурный… А тут шли целыми штурмовыми колоннами, с палками, с заточками, стволы где-то достали… Слышали про стрельбу на Трубной?.. Целая битва была, Таманскую дивизию вызвали, блокировала район… Я сдуру выскочил было на улицу, гляжу — катится, значит, содом на гоморре: витрины бьют, двери в магазины выламывают, подожгли газетный киоск. Ну — я, конечно, назад. Дверь в парадную у нас, к счастью, железная. Прозвонил по всем этажам, собрал мужиков, которые в армии отслужили. Два часа потом просидели в подъезде, кто с монтировкой, кто топор взял, кто с молотком… Ничего, отстояли Москву… — Шофер чешет в затылке. — Да, наворотили делов уроды. — И уточняет: — Я этих… арконцев… имею в виду. Переворошили всю жизнь…
— Арконцы давно ушли, — говорю я.
Шофер неопределенно покачивает головой.
— Ну да… Ушли-то они, конечно, ушли, это верно, но, говорят, кое-кого после себя все же оставили…
— Пятую колонну?
— Во-во!.. С виду как человек, а внутри — неизвестно кто. Живут теперь на Земле, ждут своего часа… О, кажется, тронулись…
Шофер берется за руль.
Интересно, что бы с ним было, как бы отреагировал он, если бы знал, что я, по-видимому, как раз из тех, кого арконцы «оставили»? Только я ведь не жду своего часа. В случае апокалипсиса мои шансы выжить будут не больше, чем у всех остальных. Не хочется думать об этом, и потому я начинаю прикидывать, чем может встретить меня ДЕКОН? С одной стороны, понятно: завтра, о чем нам напомнили в новостях, исполнится первая годовщина Прибытия. Да-да, прошел ровно год с того дня, как посадочный модуль арконцев коснулся песков благословенной Аравии. Уже с утра все телеканалы показывают знаменитые кадры: замершая от собственной значимости делегация Генеральной Ассамблеи ООН, строй почетного караула в ослепительно белом обмундировании, серое небо, ряды пыльных пальм, синеватое марево арконского защитного поля, а за ним — колеблющийся, будто призрак, как в трясину, погружающийся в бархан, быстро темнеющий силуэт яйцеобразного модуля. И одновременно — хроника нынешнего состояния Центра: черной сажей прочерченные остовы Павильона и Научного корпуса, полузасыпанные песком казармы, задравший колеса, опрокинутый бронетранспортер. Все, что осталось после того, как международные силы, нанеся предварительно ракетный удар, вытеснили оттуда боевиков «Аль-Хазгар».
Кстати, и Лорд на днях дал громадное интервью «Санди таймс». Ну, Лорд есть Лорд, его задача — внушать аудитории доверие и оптимизм. И потому: «Величайшее событие в истории человечества, значение которого мы еще долго будем осознавать… Новое представление о Вселенной… Новое представление о науке… Новое представление человека о самом себе… Весь наш мир теперь, после Посещения, станет другим»… Слова-то находит какие… Правда, я не уверен, что они хоть сколько-нибудь верно отражают нашу сегодняшнюю реальность. Конечно, обстановка на Земле постепенно нормализуется. Вон Китай и Соединенные Штаты отозвали свои эскадры из района островов Сенкаку (Дяоюйдао): обе стороны согласились, что инцидент должен быть разрешен посредством переговоров. Или вон Европейский Совет обещает уже к концу года снять все временные ограничения на передвижение граждан внутри зоны ЕС. Или вон достигнуто соглашение о введении в ряд аравийских стран миротворческих контингентов ООН. Возможно, и этот костер удастся притушить. Напряжение, несомненно, спадает. Так что, может быть, и не окутает нас радиоактивный туман. Но в том-то и дело, что ничего, в сущности, не изменилось. Мир вовсе не стал другим, как пытается уверить нас Лорд, и мы сами, к сожалению, тоже не стали другими. Просто отбушевал тайфун, убрали мусор, обломки, которые он с собою принес, растащили завалы, и жизнь вернулась в свою обыденную, привычную колею. Вот что, например, изменилось в Москве? Ну разве что, как я вижу, все стены оклеены рекламой нового сериала. Название-то какое: «Чернее всех звезд». Это о том, как россияне героически отразили вторжение на Землю зловещих инопланетных пришельцев. Сам я ни одной серии пока не смотрел, но говорят, что моя фигура там чуть ли не главная: оказывается, мое проникновение в арконский Купол в действительности являлось тщательно разработанной, секретной операцией ФСБ, которая, собственно, и спасла весь мир.
А если вернуться к нынешнему мероприятию, то я, в общем-то зная, что представляет собою Лорд, нюхом чую: дело тут не просто в знаменательной дате. Дело в том, что Контакт уже уходит как из фокуса внимания СМИ, так и из фокуса внимания глобальной геополитики. Его уже заслоняют другие проблемы, ну и как следствие — ощутимо мелеют источники финансирования. Авторитет ДЕКОНа снижается. Вот Лорд, вероятно, и решил несколько оживить картину. Скорее всего, подготовил к этой пресс-конференции некий сюрприз, некую информационную бомбу, которая взорвется в медийном пространстве огненными хвостами петард.
Мою догадку подтверждает и толпа журналистов, теснящихся перед оградой. Сомкнулись они аж в семь или восемь рядов, из которых высовываются марсианские треножники мониторов. Некоторые уже ведут прямую трансляцию: умение долго и энергично говорить ни о чем — главное качество современного репортажа. Шофер нервно гудит, полиция расчищает проход, ворота чуть раздвигаются, наша «ауди» аккуратно протискивается во внутренний гостиничный садик. Телекамеры, как загипнотизированные, поворачиваются вслед за ней, но сквозь тонированные стекла салона им вряд ли удается что-нибудь разглядеть. Охранник, открывающий дверь машины, предупреждает: «Не оборачивайтесь», — но я и без того понимаю, что мне надо скромненько проскочить в вестибюль. По неформальному договору, который заключил со мною ДЕКОН, я не даю интервью и не участвую ни в каких телешоу. Да, если честно, мне это и самому ни к чему. Не хочу, чтобы моя физиономия мелькала на экранах ТВ. Еще, не дай бог, начнут узнавать на улицах, в магазинах, в метро, таращиться, заводить муторные разговоры. Приторная каша известности, которой я в свое время наелся до тошноты.
В общем, продолжается тот же неумолимый круговорот. Один мах колеса — и мне звонит доктор Йонгер, другой мах — и я на поезде, разрывающем воздух, несусь сквозь весеннюю марь в Москву, третий мах — и оказываюсь в холле гостиницы, которую арендовал для нашей встречи ДЕКОН. И вот на этом третьем, последнем махе бесшумного колеса я окончательно убеждаюсь, что моя догадка, пожалуй, верна. Пресс-конференция по случаю годовщины Контакта — это только формальный повод. Лорд и в самом деле подготовил сенсацию, которая должна потрясти весь мир. Я давно научился закрываться от чужих ощущений — они докатываются до моего сознания, как шорох чуть колышущейся под сквозняком кисеи. Но тут и не требуется экстрасенсорное восприятие. По оживленному снованию туда и сюда разных людей, по усиленному набору охранников, которых в холле человек пять или шесть, по атмосфере легкой паники, спешки, путаницы и суеты и так понятно, что происходит нечто неординарное. Меня плотненько подхватывают две офисные девицы и, не дав слова сказать, влекут в лифт, на второй этаж, и дальше — в зал, где кресла, как в учебной аудитории, вздымаются от пола до потолка. Заполнены пока лишь первые семь-восемь рядов, остальные пусты. Я вижу Сару, которая выделяется среди всех и цветом кожи, и впечатляющими габаритами. Она мне чуть заметно кивает. Ответить не успеваю. Меня без объяснений втискивают куда-то вперед, и тут же, словно этим был положен заключительный штрих, поднимается на кафедру Лорд, звякает в колокольчик и своим внушительным администраторским баритоном объявляет, что сегодня у нас не совсем обычное заседание.
— Получен, по заключению наших экспертов, чрезвычайно важный, значимый результат, который через два часа будет представлен на открытой пресс-конференции. Комментировать этот результат я пока не буду. Вам предлагается самим его оценить.
Поворачиваются полосы жалюзи на окнах, меркнут лампы под потолком, вспыхивает экран, занимающий центральную часть стены. Образующаяся картинка знакома мне до мельчайших подробностей . Это лужайка в яркой траве, раскинувшаяся над рекой, по скалистым отвесам на другой ее стороне низвергается водопад, плывет водяной туман, угадываются справа расплывчатые очертания леса, оттуда, с периферии зрения, выступает олень, как корону, несущий по бокам головы раскидистые рога, влажные глаза его полны любовной тоски, сбоку возникает рука — на раскрытой ладони лежит золотистая, поджаристая лепешка. Самого человека пока не видно, но рука женская, об этом можно судить по ее тонким чертам. Олень чуть вздрагивает, будто собирается отскочить, осторожно присматривается, переступает на грациозных ногах, но потом наклоняет голову и берет лепешку крупными, замшевыми губами. Длится этот ролик примерно тридцать секунд. Я поражен: текстура проработана так, что все кажется настоящим. Никаких «мультяшных» эффектов. Никакой забутовки, где были бы заметны или подсознательно ощущались монтажные швы. Не зря, видимо, мы с Олегом Немитой горбатились целых три месяца, вылизывая по отдельности чуть ли не каждый кадр. Кстати, где сам Олег? В сумраке притихшего зала его не найти.
— Это первый источник, — дает пояснения Лорд. — Теперь давайте посмотрим второй визуал.
Снова вспыхивает экран. Картинка примерно та же, но показана в несколько ином ракурсе. Она как бы немного смещена вбок и вперед, и потому в поле зрения попадает теперь не просто рука, но почти весь человек. Силуэт его по краям немного двоится, но у меня нет сомнений, что это Дафна.
В сердце мне, будто от коньяка, ударяет головокружительный жар.
— Предупреждая вопросы, которые могут возникнуть, — говорит тем временем Лорд, — сразу же подчеркну, что оба источника работали независимо друг от друга. Это нами строго запротоколировано. Совпадение же обоих визуалов в деталях свидетельствует о том, что случайности в данном случае исключены. Кстати, у нас для этого есть и соответствующее математическое обоснование. Таким образом, мы можем с достаточной уверенностью утверждать, что установлен факт межгалактической психогенной связи, носителем которой является земной человек. Нам пока неизвестна природа этого неожиданного феномена, мы пока не можем сформировать с Террой устойчивый двусторонний контакт, но, по крайней мере, ясно одно: совершен грандиозный прорыв, который будет иметь стратегические последствия. Давайте поздравим друг друга с первым успехом. Давайте поблагодарим наших талантливых операторов за их колоссальный труд.
Лорд величаво проводит над залом рукой. Зажигается свет, аплодисменты взметываются, как стая в тысячу голубей. Встает Олег Немита, сидевший, оказывается, во втором ряду, и поднимается в середине аудитории еще один человек, который мне незнаком.
— И, конечно, следует поблагодарить наших самоотверженных реципиентов. Их природные данные, их готовность работать неделями, месяцами, с утра до ночи, практически на износ сделали реальным этот прорыв.
Теперь приходится встать мне, а на противоположном конце зала поднимается Чак.
От оваций дрожат лампы на потолке.
Да, это, несомненно, победа. ДЕКОН под развевающимися знаменами гарцует на белом коне.
Звенят фанфары.
Симфония корпоративного торжества.
Честно признаюсь, я такого не ожидал. Мне еще минуту назад казалось, что те невнятные образы, которые мы с Олегом Немитой записывали на громоздкой, капризной, не внушающей доверия онейрологической аппаратуре, являются порождением исключительно моей психики — этаким калейдоскопом желаемого, всплывающего из глубин подсознания. Ни к каким межзвездным коммуникациям это отношения не имеет. О параллельной онейрографике Чака мне ничего известно не было. Но если визуалы из независимых источников до такой степени совпадают, то Лорд прав: это действительно коммуникационный прорыв, мы, вероятно, не сразу конечно, но сможем установить прямую связь с Террой, и тогда все, и у нас, на Земле, и там, в звездной дали, будет выглядеть совершенно иначе. Возможно даже, что вероятность апокалипсиса резко снизится, и мы в очередной раз выберемся из тупика, в который загнали сами себя.
Во всяком случае, мне хочется в это верить.
Единственное, о чем я жалею сейчас, что не присутствует здесь Андрон Лавенков.
Вот кто был бы по-настоящему счастлив.
Андрон, Андрон…
Я до сих пор иногда вижу картину: болезненно вздрагивающий, с трудом отрывающийся от земли вертолет, хлопки выстрелов, крики, взрывы, раздающиеся по сторонам, груз навалившейся на меня Сары и оставшийся внизу человек, безнадежно распластанный, точно краб, подгребающий под себя серый песок.
Врезалось в память.
Мне почему-то кажется, что в его гибели есть и моя доля вины.
А Лорд в это время, наверное, для того, чтобы окончательно закрепить в сознании присутствующих главный смысл презентации, , нарочито будничным голосом говорит, что, по нашим данным, которые, разумеется, еще следует уточнить, сами арконцы такими психогенными способностями не обладают. Это эксклюзивная прерогатива Земли, и это тот уникальный ресурс, который вполне способен обеспечить человечеству особый межзвездный статус.
На этот раз аплодисменты слабее.
Информация слишком неожиданная и серьезная, всем нужно время, чтобы ее осознать.
Затем начинают проклевываться вопросы.
Хайма ван Брюгманс, которая нисколько не изменилась — то же мятое, будто из теста вылепленное лицо, те же светлые, нелепые, как у девочки, тугие кудряшки, тот же брючный костюм, только уже не синего, а бордового цвета, — интересуется, скоро ли, по нашему мнению, будет установлен контакт с обеих сторон. Ведь без этого говорить о полноценной межзвездной связи нельзя. Лорд легкомысленно отвечает, что это дело ближайшего будущего. Сейчас разрабатывается программа, которая, как мы полагаем, позволит синхронизировать коммуникат. Результат, видимо, дело месяцев, а не лет. Давайте наберемся терпения и чуть-чуть подождем.
Далее физик-индонезиец спрашивает, насколько эффект нуль-связи воспроизводим.
— Вы же понимаете, — вежливо улыбается он, — что воспроизводимость — критерий научного знания. Иначе все будет выглядеть так, словно это наколдовал шаман.
Здесь Лорд чуть запинается, но все-таки отвечает, что воспроизводимость эффекта пока лишь частичная. Судя по всему, нуль-связь возникает, только если реципиент испытывает сильный эмоциональный инсайт. Внезапное потрясение. А этого не каждый раз удается достичь.
— Я потому и сказал, что главное для нас — проблема синхронизации. Но я надеюсь, и основания для этого есть, что мы эту задачу решим.
А затем разговор сползает в привычную колею. Можно ли верить арконцам и состоится ли еще их визит? Что им в действительности было нужно от нас? Какова — в культурологической перспективе — судьба всех тех, кто переселился на Терру: останутся ли они землянами, сохранив наши базисные черты, или создадут принципиально иную, уже нечеловеческую цивилизацию? Ну и так далее и тому подобное. Все это перемалывалось в дискуссиях на семинарах ДЕКОНа бесчисленное количество раз. Неизбежно всплывает вопрос и о так называемой операции «Бонобо». В западных СМИ это сейчас тема номер один. Я тоже мельком просматривал в новостях подобные материалы. У меня они доверия не вызывают: загадочная гибель одного из бывших сотрудников администрации президента Соединенных Штатов… его записки, которые он незадолго до смерти передал некоему журналисту… разоблачение инцидента с заложниками как секретной операции спецслужб трех великих держав… опровержение «конспирологических измышлений»… опровержение опровержений… Не знаю. Мне кажется, что это очередной мыльный пузырь, из тех, что надуваются вокруг актуальной тематики каждые несколько дней. Я совершенно согласен с Лордом, который укоризненно замечает, что обсуждение дешевых сенсаций не входит в задачу нашего нынешнего собрания.
— Давайте оставим это для пресс-конференции, для журналистов, и поговорим о более серьезных вещах…
О серьезных вещах я слушать уже не могу и минут через двадцать осторожно выскальзываю за дверь. Спустя мгновение появляется Чак. Мы, не сговариваясь, поднимаемся на четырнадцатый этаж и устраиваемся в кафе, где кроме нас нет никого. Из окна открывается вид на проспект, по которому медленно, как мигрирующие муравьи, с явной натугой ползет плотный автомобильный поток.
— Ну и что? — спрашивает Чак.
— Да ничего, — отвечаю я и пожимаю плечами.
Настроение у меня приподнятое, но сумбурное, и, судя по тому, как нервно выглядит Чак, у него состояние нисколько не лучше.
— Ты веришь, что это действительно связь?
— Похоже на то, если только мы себя не обманываем.
— Ну, дай бог, если так…
И Чак, слегка путаясь от волнения, говорит, что у него при контакте с Ай Динь вообще никакой внятной картинки не возникало. Это не было визуалом в его подлинном смысле. Скорей — набор ощущений, в котором всплывали отдельные зрительные детали. И он, Чак, просто не понимает, как Саймус Тилд, это второй оператор, кстати, прежде работавший в АНБ, сумел собрать их в осмысленный и внятный сюжет.
— Но сам контакт был?
— Что-то такое… очень неопределенное… Вот рука с хлебом, она точно была, и реку, по-моему, я тоже видел… А чтобы все вместе…
Он дергает темной щекой.
— Полагаешь, фальсификат?
— Ну, заявлять публично я бы об этом не стал… Однако немного откорректировать мои скриншоты по твоему материалу — вполне могли. Здесь подтянуть, там добавить, в третьем месте слегка, совсем чуть-чуть, уточнить… И знаешь, что хуже всего? А то, что, просмотрев визуал в собранной форме, я теперь верю, что видел все именно так. Хоть через полиграф меня пропускай. А у тебя, как я понимаю, сомнений нет?
Я отвечаю ему, что, разумеется, сомнения были и у меня. Но вот сегодня, посмотрев оба чистовых визуала, не знаю, быть может, операторы их и в самом деле отредактировали, я вдруг — вопреки всем сомнениям — ощутил, что во время этих сеансов действительно иногда вижу Дафну. Точнее — вижу эпизоды жизни на Терре ее глазами. И вряд ли это можно объяснить обычным самовнушением, когда человек видит именно то, что страстно жаждет увидеть. Ведь что такое спонтанная аутогения? Это рекомбинация уже известных, заведомо знакомых реципиенту явлений. Подсознание лишь увязывает их между собой. А в моих, достаточно длительных визуалах, коих, между прочим, скопилось уже восемь штук, наличествуют подробности, которых в земной жизни нет. Я просто не смог бы их самостоятельно вообразить. В качестве примера я привожу схватку с карликовыми волками, выловленную из моего «трансцензуса» примерно месяц назад. Это были именно волки, только размером с лису, и не серые, как следовало бы ожидать, а почему-то синевато-зеленоватые. Кстати, и уши у них были тоже не волчьи. Мне бы такое в голову не пришло. Хотя доказать, что это был подлинный нуль-контакт, я тоже, разумеется, не могу. Лорд, скорее всего, прав: нужный сигнал проходит лишь на фоне экстремальных эмоций, а поскольку подобные ситуации в жизни терран складываются, по большей части спонтанно, то и связь устанавливается спонтанно, когда ее вовсе не ждешь. И я, разумеется, не могу поручиться, что Дафна на Терре тоже чувствует этот контакт, не могу поручиться, что она, в свою очередь, хоть как-то воспринимает меня.
Я хочу успокоить Чака и потому свою уверенность слегка акцентирую. Смещаю действительное к желаемому, чтобы оно выглядело правдоподобнее.
Чак это, видимо, понимает и вдруг хитро прищуривается:
— Слушай, а правда — дошел до нас такой слух, — что доктор Менгеле предложил руководству новый гениальный проект? Якобы осенило его. Чтобы, значит, несколько сотрудниц ДЕКОНа, добровольно конечно, вступили с тобой в сексуальные отношения? Не образуется ли при этом между вами нуль-связь? Это действительно так? Интересно, а право выбора таких сотрудниц тебе дадут? Ну — завидую. Очень, очень перспективный эксперимент…
— Можешь поставить этот эксперимент на себе, — в тон ему отвечаю я. — Ты ведь женишься, да? До нас тоже доходят кое-какие слухи. Вот и напишешь потом подробный отчет. Можешь подать его непосредственно доктору Менгеле. Так сказать, в виде личной инициативы.
— Да ладно, — говорит Чак. И неожиданно хрустит пальцами, как будто хочет их отломать. На меланиновой коже, на косточках проступают желтые пятна. Белки глаз на темном, скуластом лице ярко блестят. — Я вот чего боюсь по-настоящему, — шепотом признается он. — А вдруг пророчество, которое содержится в Книге книг, лишь эхо, лишь отражение каких-то древних, но вполне реальных событий? Вдруг это все у нас уже было? Арконцы тут ни при чем. Они — не причина, они — ее формальное проявление. Они лишь посланники, герольды Судного дня. Они лишь огласили тот приговор, который ни смягчению, ни обжалованию не подлежит. Вот — плаха, вот — топор, вот — палач. Нам даже барахтаться не имеет смысла. Нам остается только лечь, закрыть глаза, замереть и ждать.
Я отвечаю:
— Приговор они все-таки не оглашали. О приговоре совершенно точно знают лишь два человека, — показываю пальцем на него, потом на себя. — Возможно, еще Лорд догадывается, и все. И не забывай, пожалуйста, важный аспект. Этот приговор в действительности вынесли не они. Этот приговор мы вынесли сами себе. И теперь сами же будем приводить его в исполнение. Мы — и палач, и жертва одновременно. И даже — зрители, которые пришли поглазеть на казнь. К тому же какое-то время у нас, видимо, еще есть. Погляди на небо — оно пока не сворачивается, как свиток…
— Но это может случиться когда-угодно.
— Да, может, — киваю я.
Вот так мы с Чаком поговорили.
Совершило очередной оборот чертово колесо. Горизонт Судного дня стал на миг ближе.
Это, так сказать, вводная часть.
А теперь позвольте представиться: Илья Коврин, русский, петербуржец, сорока двух лет, доктор наук, последние годы занимался культурологией. Теперь же — прихотливой волей судьбы — сотрудник ДЕКОНа, то есть Департамента ООН по контактам с внеземными цивилизациями.
Первое, что я хоть как-то осознаю, это столб черного дыма, медленно, гигантским шурупом вывинчивающийся из земли. У него даже шляпка имеется — рыхлая, загибающаяся по краям, как у трухлявой поганки. Причем я это не вижу, а именно осознаю: зрение и сознание у меня странным образом разъединены. Они существуют отдельно, мне их не совместить. Однако через мгновение я все же догадываюсь, что это горит вертолет. Он лежит на боку, точно полураздавленное насекомое, внутренности его вывалились наружу, а из разлохмаченной металлом дыры как раз и вывинчивается этот дымный шуруп. Одновременно я замечаю второй вертолет, наклонивший акулий нос и, видимо, готовящийся к посадке. Но прежде чем он успевает коснуться земли, из открытой двери его высовывается труба, окольцованная двумя стяжками, выскакивает оттуда пенная струя выстрела, и легкое двухэтажное здание офицерского клуба вспучивается изнутри ярким огнем.
Все это похоже на кадры американского боевика. С одной лишь разницей — здесь напрочь отсутствует звук. Ни один шорох не рождается из пламени, дыма и содроганий. Я отчаянно трясу головой, и вдруг до меня доходит, что сам я, оказывается, сижу на земле, привалившись спиной к какому-то резко давящему на лопатки углу, обе ладони мои тоже упираются во что-то колющее, по правой от локтя до запястья стекает грязная кровь, а левая нога вывернута так, что вот-вот лопнут натянутые сухожилия. Я ее осторожно сгибаю, это больно, зато похоже, что зрение и сознание у меня все-таки слегка совмещаются: я понимаю, что разнобойная груда досок, вздыбившаяся неподалеку, это то, что осталось от нашего Павильона, действительно — вон лежит дверь, почти целая, блестит медью петель, выдернутых из пазов. А вон торчат ножки перевернутого стола, за которым мы сидели на переговорах. Вероятно, ракета, выпущенная из первого вертолета, угодила точнехонько в галерею между Павильоном и Куполом. Конец галерее, поблескивают вокруг осколки стекла. Виллем как раз, за пару минут до этого, прошествовал по ней внутрь, устроился, как обычно, напротив нас, пощелкал ногтем по микрофону, давая понять, что к работе готов. Позже эту последовательность событий восстановили во всех подробностях. Я же, помимо щелканья, смутно почувствовал некий нарастающий гул, повернул к окну голову, узрел пару транспортных вертолетов, снижающихся над Центром. Двое или трое солдат уже махали флажками, указывая им куда сесть. Совершенно обычная, не вызывающая тревоги картина. И вдруг — точно выдернули из головы один цветной слайд и мгновенно заменили другим: дым, огонь, разрушения, земля, усыпанная обломками. Удивительно, что я уцелел. Боже мой, а сам Виллем, а Дафна, а Чак и Ай Динь?..
Опять-таки позже, после допроса пленных, выяснилось, что террористы действительно целились в соединительную галерею. Они таким образом хотели отрезать Виллему путь под Купол. Павильон же, в связи с особенностями местного климата, собран был из легких древесных пород, он при взрыве не рухнул, а лишь опрокинулся и сложился, к счастью, все-таки приняв на себя часть ударной волны. Дафна отделалась небольшими ушибами, как впрочем и Чак, сидевший рядом со мной. Из техников тоже почти никто серьезно не пострадал. И совершенно не пострадала Ай Динь — несколько мелких царапин, и все. Конечно, я еще ничего об этом не знаю. Я пока не в состоянии разобраться, что тут произошло. Вместе с тем мысль о Дафне заставляет меня подняться на ноги. Это не просто: при каждом движении внутри у меня что-то как будто рвется, отдаваясь вспышками боли. Соображать тем не менее я начинаю гораздо лучше. Я отчетливо вижу, что второй вертолет уже приземлился неподалеку от первого, и из него, как двуногие тараканы, выскакивают и бегут ко мне люди в черных комбинезонах. На головах у них балаклавы — матерчатые, со страшными дырками для рта, ушей, носа и глаз, каждый движется какими-то неестественными рывками и каждый (меня точно бьет током) держит в руках автомат. До них метров тридцать — сорок, не больше. Передний вдруг сдергивает балаклаву с лица, и я с ужасом узнаю в нем Юсефа — откуда он здесь? Юсеф отчаянно машет мне свободной рукой…
Недели через две, когда Юсеф уже давно будет мертв, а я сам, словно новорожденный, очнусь в арконской реанимации и начну кадр за кадром прокручивать в голове данный сюжет, то внезапно пойму: он мне командовал, чтоб я лег — пытался меня спасти, не хотел убивать. Но в данный момент я, разумеется, ничего этого не понимаю. Тем более что периферийным зрением вдруг замечаю Виллема: похожая на подростка, осыпанная мучной пылью фигура, ощупывая воздух вокруг себя, неуверенно, спотыкаясь, бредет по направлению к Куполу. Только, если уж точно, не к Куполу, а по касательной к краю его. (Сам Виллем мне потом объяснит, что от удара утратил ориентацию, вообще — как бы ослеп.) И вся она, то есть фигура, такая слабая, беззащитная, такая потерянная — мыслящий тростник среди бушующего огня — и уже ясно, что внутрь Купола Виллему по этой траектории не попасть, он пройдет мимо — в смертельную песчаную пустоту.
Каким-то странным образом я оказываюсь рядом с ним, хватаю за плечи, разворачиваю лицом к защитному полю — вдоль силовых линий его струится и оседает дым. Мне даже в голову не приходит, что человек впервые физически прикоснулся к арконцу. Ни одной мысли у меня в сознании нет. Я сделан из чистой боли. У меня вместо мозга — кромешный нейронный распад. Кружится пепел, воздух вокруг пузырится, как в каше, взметывается и кипит. И опять-таки я, конечно, еще не знаю, что террористы, принадлежащие все к тем же бригадам смертников «Аль-Хазгар», получили приказ захватить Виллема живым или мертвым, в первом случае как заложника, а во втором — просто убить. Убить — чтобы разорвать навсегда связь Аркона с Землей. Ничего из этого я не знаю. Я как зомби: не знаю вообще ничего. Я даже не понимаю, почему вдруг получаю в спину два сильных толчка и почему у меня так резко слабеют и, будто резиновые, подгибаются ноги. Мне кажется, что я — это уже не я, а кто-то другой. Мое существование завершено. Я, как глыба, рухнувшая с небес, обваливаюсь на Виллема со спины, сминаю его, уходит земля из-под ног, накатывается грохочущая волна, и мы оба, словно призраки в преисподнюю, проваливаемся куда-то во тьму…
День этот с самого начала летит кувырком. Ровно в восемь утра Марина Тэн, наш уникум-полиглот, объявляет по громкой связи, что, согласно прогнозу метеорологов, на Центр движется песчаная буря, самум. Предполагается, что начнется она около девяти часов, достигнет максимума к десяти и продлится примерно до одиннадцати — одиннадцати тридцати. Никакой опасности нет, бодрым голосом заверяет слушателей Марина, принимаются все необходимые меры, однако в этот период выход из помещений категорически запрещен. Повторяю: выход из жилых корпусов категорически запрещен. Соответственно, плановый раунд переговоров, назначенный на десять утра, отменяется. О дальнейших изменениях в распорядке дня мы вас известим. Следите за информацией.
Данный текст Марина повторяет аж девять раз — на девяти официальных языках, принятых в Центре. Я, как всегда, испытываю при этом приступ острого раздражения. Чертова политкорректность, достаточно было бы одного английского! Тем более что экстренную связь в помещениях отключить нельзя — приходится вот так почти каждый день выслушивать и совершенно излишний русский (у Марины здесь слабенький, но очень забавный акцент), и французский, который сливается для меня в сплошные сьер-сьюр-бьен, и немецкий, набитый костяными согласными, и китайский, и испанский, и арабский, и итальянский, и даже хинди (который, как мне объяснила та же Марина, на разговорном уровне практически не отличим от урду). Одно время пытались включить в список также банту и суахили, но единственная этническая африканка среди сотрудников Центра, то есть Дафна Делиб, ко всеобщему облегчению заявила, что не понимает ни того, ни другого.
В общем, на итальянском я уже запираю свой номер, спускаюсь на первый этаж, где у нас находится ресторан, делаю перед дверями его глубокий вдох и, придав лицу выражение отчужденной задумчивости, вхожу внутрь.
Этот психотерапевтический ритуал: вдох — выдох, отчуждение на лице — я исполняю теперь всякий раз, когда мне нужно куда-то идти. После того как три дня назад внезапно арестовали связистов с переговорного пункта (двое — арабы; третий, если не ошибаюсь, бербер), а затем, в тот же день, во второй половине его, пропал Юсеф, исчез, черт, бесследно, будто провалился в песок, отношение к нашей группе настороженное. Не то чтобы нас всех скопом подозревают, хотя исключить такое, разумеется, тоже нельзя, но уже третий день я чувствую на себе осторожные взгляды, улавливаю сдержанность в разговорах, слышу, возможно преувеличивая, быстрый шепоток за спиной. На нас словно появилось клеймо — выжженное тавро позора, которое ни смыть, ни стереть, ни скрыть: просвечивает сквозь любую одежду.
Впрочем, сегодня, как я сразу же понимаю, оно гораздо бледнее. Все заслонил накатывающийся из пустыни самум. Наружные окна столовой уже прикрыты щитами, зажжен электрический свет, сочащийся неестественной желтизной. Голоса в нем сливаются в один неразборчивый гул. Но, продвигаясь с подносом вдоль длинной стойки раздачи, я с удивлением обнаруживаю, что обсуждается вовсе не внезапный песчаный шторм. Оказывается, я кое-что важное пропустил. Еще вечером, где-то около двадцати трех часов, лидер Народного исламского фронта «Аль-Хазгар», который две недели назад совершил в королевстве государственный переворот, объявил, что Аравия теперь уже не Дар аль-ислам, Мир ислама, где царит по воле Аллаха благоденствие и покой, а — Дар аль-харб, территория войны, которая продолжаться будет до тех пор, пока со священной земли мусульман не будет изгнан последний кафир. И это, как выясняется, не просто слова. Оказывается, ночью (передавали в шестичасовых новостях) Фронт «Аль-Хазгар» внезапным ударом захватил Напалеб, расположенный всего в пятидесяти километрах от нас.
— А что такое пятьдесят километров? — говорит соседу справа от меня Олле Крамер, лингвист. — Танкам два часа ходу — даже при том, что прямой дороги здесь нет. Не забывай, на их стороне почти вся армия, а Штаты, долбаные, поставляли туда вооружение много лет. Танков у них больше тысячи, триста самолетов, приличный флот, двести тысяч человек только в регулярных войсках…
— Но у нас же тут — контингент ООН…
— Четыре тысячи, включая обслуживающий персонал. И потом, когда это войска ООН могли кого-нибудь защитить? Вспомни резню в Руанде, кошмар, или Балканские войны, тоже резня, или это несчастное Сомали… Ну, были там миротворческие части ООН — и что? А на внешнем периметре у нас кто стоит — саудовский батальон.
— Они теперь — тоже «Хазгар»?
— Вот этого не знает никто…
Они отходят, не замечая меня, а я неожиданно вспоминаю, как кричал Юсеф (кажется, месяц назад): «Что делали крестоносцы, когда они вторглись на Ближний Восток?.. Что они сделали, когда захватили Иерусалим?.. За три дня они вырезали более тридцати тысяч мусульман. Убивали всех сарацин — так они нас называли — мужчин, женщин, детей!.. Раймонд Ажильский, европеец кстати, прованский хронист, писал, что на улицах и площадях можно было видеть кучи отрубленных рук, ног, голов, всадники передвигались в крови, доходившей их коням до колен, убитых было так много, что крестоносцы не знали, куда их девать!.. А когда спустя пять месяцев — заметь, почти полгода прошло — Фульхерий Шартрский, опять-таки европеец, христианин, прибыл в Иерусалим праздновать Рождество, его потрясло зловоние от гниющих трупов, все еще лежавших без погребения!.. Вот что значит цивилизационное превосходство — это когда истребляют и покоряют тех, кто слабей!.. Почему ты думаешь, что арконцы поступят с нами иначе?.. Может быть, убивать они и не будут, но они нас сомнут, как танки траву. От нас не останется ничего!.. Мы станем как мусульмане под владычеством христиан!.. Нам нельзя будет поднять голову!.. Нам нельзя будет говорить то, что думаешь, вслух!.. Нам нельзя будет совершать заповедованный Аллахом намаз»!
Да, примерно месяц назад. Поздний вечер, площадка перед баром «Аркон», бараки складов, колючая проволока периметра, галогенные хищные лапы прожекторов, тщательно ощупывающих пустыню.
Меня нетерпеливо постукивают по плечу:
Это Пламен Дончев, попросту Пламик, в дурацкой своей гавайской рубашке и адидасовских шортах чуть выше колен. Тощий, жилистый, нервный, всклокоченный по обыкновению, как воронье гнездо.
— Слышал? — быстрым шепотом говорит он. — Сразу после самума здесь высадится американский десант. Морские пехотинцы — это тебе не хрен. Сменят у нас на периметре саудовские войска.
— Ну да, — отвечаю я. — Вот подойдет армия Венка и отбросит большевиков.
Пламик делает большие глаза.
— Не понял, — удивляется он.
Я коротко рассказываю ему, как в конце апреля тысяча девятьсот сорок пятого года Гитлер метался по бункеру в подвале рейхсканцелярии и кричал: «Где Венк?.. Куда пропал Венк?.. Когда наконец подойдет армия Венка?..» Генерал Вальтер Венк должен был ударить по советским армиям с тыла, спасти Берлин.
— А то, что Венк к тому времени уже был разбит. «Последняя надежда фюрера» развеялась как мираж.
Пламик хмыкает:
— Да… не знал… А у нас тут, ты прав, действительно… похоже на бункер. Вот, кстати, и фюрер тебя зовет.
Я уже и сам вижу, что от столика у стены, от панно, изображающего встречу землян с арконцами, меня величаво поманивает пальцами Лорд.
— Приветствую вас, Илия, — говорит он. — Минуточка для меня найдется? — И тут же, не дожидаясь ответа, поворачивает лицо несколько вбок. — Бэрримор, друг мой, я вдруг сообразил, что оставил вчера в конференц-зале папку номер четыре. Не могли бы вы ее принести? Номер четыре… Мне эти документы потребуются.
Питер Бэрмор, до этого равнодушно пережевывавший салат, поднимается и, ни слова не говоря, выходит из зала. Ни для кого не тайна, что он вовсе не секретарь, как сказано в списочном официальном листе, а исполняет при Лорде совсем иные функции. И подлинная фамилия его вовсе не Бэрмор, и звание у него — майор, как мне однажды намекнул Лавенков. А Бэрримор он у нас потому, что Лорд — это действительно лорд, и обращаться к нему следует «сэр Генри». Сам он вовсе не настаивает на этом, но не выговаривать же каждый раз «мистер Стемплтон-Нортумберленд Седьмой», язык поломаешь, хотя по-английски это, конечно, короче.
— Садитесь, садитесь, — он помогает мне поставить поднос. — Что это у вас?
— Овсянка, сэр Генри, — не удержавшись, отвечаю я.
— Какая же это овсянка? Это бифштекс…
Лорд милостиво улыбается. Он ценит шутку. Он — само обаяние, что, в общем, понятно: обаяние сэра Генри — его основной капитал. И уже в который раз я поражаюсь этому удивительному феномену, его иначе как мистикой не объяснишь. Внешне Лорд — вылитый неандерталец: низкий лоб, мохнатые надбровные дуги, челюсть — толстым ковшом, чуть ли не вполовину лица, фигура как шкаф, воплощенная звериная мощь: медведя сожмет — у того ребра треснут. Вместе с тем минуту с ним пообщаешься, и он уже — лучший твой друг. Фантастическая доброжелательность. Начинаешь ему доверять больше, чем самому себе. Впечатление чуть портит лишь чрезмерно крупный зубной оскал, из-за чего губы, вывернутые вперед, не прикрывают его до конца. И мне иногда — в минуту отрезвления — кажется, что этими своими зубами Лорд перегрыз не одного опасного конкурента. Закон бюрократических джунглей: не загрызешь ты — загрызут тебя. Успешность административной карьеры зависит прежде всего от умения загрызть каждого, кто заслоняет тебе путь наверх.
— Вот что я хочу вам сказать, Илия. Только что состоялось заседание нашего Комитета, и решено было в расписании переговоров ничего не менять. Несмотря на прискорбный… м-м-м… инцидент… ваша группа, как и намечено, проведет сегодняшний раунд. Пусть даже в неполном составе. Надеюсь, вы не будет возражать, Илия?
Он называет меня Илия, с ударением на последнем слоге, был такой жестокий ветхозаветный пророк. Тоже — своеобразный юмор. А под инцидентом он, конечно, подразумевает исчезновение Юсефа.
Я поражен этим неожиданным сообщением. Последние два дня ходили упорные слухи, что нашу группу в лучшем случае тихо расформируют, разбросают по другим экспертным сообществам, в худшем же — всех четверых отстранят от переговоров: мы ныне под подозрением, нас нельзя допускать в святая святых.
Лорд, впрочем, видя мое недоумение, поясняет, что нам просто исключительно повезло. Во-первых, треть членов Административного комитета из-за надвигающегося самума застряла в Аммане, кворума не собрать, неизвестно, когда они сюда доберутся. А во-вторых, из дежурной группы экспертов, которая могла бы нас заменить, выбыли сразу два человека: Гомар, этнопсихолог, утром неожиданно грохнулся в обморок, едва откачали, сейчас находится в медотсеке, а Ида Страймер, профессиональный переговорщик, в обморок, правда, не грохнулась, но засыпает каждые полчаса, отключается на две-три минуты, никакими силами ее не разбудить.
— И вообще, — говорит Лорд, — если мистер Халид внезапно исчез, то почему мы должны подозревать всех остальных? Вы ведь ничего не знали о его замыслах? Нет? Я так и думал. Вот, пожалуйста, и придерживайтесь этой версии.
— Это не версия, — отвечаю я. — Это именно так и есть.
— Значит, договорились…
Лорд чуть заметно кивает. И тут я чувствую, что мой мозг как бы обволакивает некий теплый туман, некая субстанция, почти не обладающая материальностью. Она без усилий проникает в мое сознание и пропитывает его, как вода рыхлую ткань. Продолжается это чуть больше секунды, но это, видимо, самая опасная секунда в моей жизни. Я как бы повисаю на тоненьком волоске, который натягивается, дрожит, и кажется, что вот-вот звонко лопнет. Мне, однако, везет: в беседу нашу внезапно вклинивается телефон и вырисовывается на экране его вопросительный знак. Я извиняюсь перед сэром Генри (лордом Стемплтон-Нортумберлендом Седьмым) и отправляю в ответ знак восклицательный. Тут же на экране всплывают — без слов — два вопроса. Я, в свою очередь, тоже отправляю вопрос и через мгновение получаю ответ: «три — ноль».
Это, разумеется, Дафна. Я сижу спиной к залу и поэтому не вижу ее. Но она, несомненно, заинтригована моей внезапной беседой с Лордом и, естественно, хочет знать, что он мне такого сказал. А условными значками мы обмениваемся потому, что внутренняя связь у нас в Центре совершенно официально фиксируется, вот и приходится изобретать «рыбий язык». На самом деле все очень просто. Вопросительный знак — Дафна предлагает увидеться. Мой восклицательный означает, что я согласен. Два вопросительных от нее — «когда?». Мой вопросительный — «назначь время сама». Цифры «три — ноль» означают — через тридцать минут.
Так мы общаемся.
Тайные руны, клинопись эпохи спецслужб.
Туман за это время рассеивается. Я облегченно вздыхаю и захлопываю телефон.
— Очень вам благодарен, сэр Генри.
Лорд разводит руками:
— Напротив, это я благодарен вам, Илия. Я очень рад, что мы с вами сотрудничаем. Ведь нас так мало среди всех этих военных, чиновников, администраторов, среди всего этого обслуживающего персонала, тех, кто озабочен лишь формой, но даже не пытается разглядеть сквозь нее подлинный смысл. Не осознает очевидного: мы, люди, все человечество, держим сейчас экзамен на зрелость, и от того, как мы этот экзамен сдадим, какую оценку получим, зависит наша судьба.
Мы смотрим друг другу в глаза, и я опять, вопреки всем доводам разума, чувствую, что мои подозрения — полная чепуха. Бред, нелепость, фантомы воспаленного воображения. Лорд вовсе не пытался только что взять меня под контроль. Как такое вообще могло прийти мне в голову? Он совершенно искренне ко мне расположен, и я всегда могу рассчитывать на его поддержку.
Это же очевидно.
Я таю, как мороженое в горячей руке.
И тут Лорд наносит мне главный удар.
Он сыплет в кофе три ложечки сахара и замечает, дурашливо вздернув брови:
— Надеюсь, Илия, вы — не поклонник диеты? Диета — это проклятие, которое накладывает на нас благополучная жизнь. Мы только и делаем, что, как безумные, подсчитываем калории. Того нельзя, этого тоже нельзя. Здесь — губительные жиры, там — вредный холестерин. Мы превратились в рабов диетологических фирм. Раскрою вам страшный секрет: все диеты, все рекомендации по питанию — выдумки высокооплачиваемых врачей. Уж вы поверьте, я знаю, о чем говорю. Мне шестьдесят восемь лет, и я прекрасно себя чувствую без всяких диет. Лучшая диета, по моему личному опыту, это ежедневный, осмысленный, целенаправленный труд. Работа, мой друг, работа, работа — и вам не потребуется никаких диет. Но вы, вероятно, это и сами знаете, Илия. Вот, например, я вижу, что ваш англо-американский язык улучшается день ото дня.
— Здесь у меня хорошая практика, — говорю я, пожимая плечами.
— Конечно, практика — это все.
И вдруг до меня доходит, что Лорд на самом деле имеет в виду. Сердце у меня дает сбой, наткнувшись на невидимую преграду. К лицу подступает жар, и оно начинает пылать, словно я грубо соврал.
Хочется отсюда бежать, только некуда.
Спасает меня Бэрримор, который приносит папку и аккуратно кладет ее на свободный угол стола. После чего, ни слова не говоря, принимается за салат.
Сэр Генри смотрит на папку с явным недоумением.
Потом спохватывается:
— Спасибо, мой друг. Я так и думал, что забыл ее там. — Поднимает толстый указательный палец. — О, кажется, началось…
Гомон в ресторане стихает.
Буквально за две-три секунды воцаряется напряженная тишина.
И в тишине этой становится слышно злобноватое шипение ветра и вместе с ним какой-то странный скрежещущий звук — прерывистый, царапающий. Будто трется снаружи о ставни нетерпеливый, голодный, только что пробудившийся, многолапый песчаный зверь…
Дальше все тоже идет кувырком. Самум достигает максимума действительно около десяти часов. Теперь снаружи докатывается уже не шипение, а глухой яростный рев, и по щитам, закрывающим окна, не просто скрежещет, а лупит очередями мелких камней. Гостиница ощутимо подрагивает. Где-то далеко, еле слышно звякает вылетевшее стекло. Впрочем, Марина Тэн чуть ли каждые пятнадцать минут повторяет на тех же девяти языках, что причин для тревоги нет, здание построено с громадным запасом прочности. В случае каких-либо дефектов, вызванных ураганом, следует немедленно сообщить об этом в административную часть.
Я в это время нахожусь в номере Дафны. Мы сидим за столом, под большим, выше человеческого роста торшером, и, перебрасывая друг другу листочки, заполненные каракулями, пытаемся найти выход из тупика, в который уперлись переговоры с арконцами. В принципе с нами должны были бы находиться еще Чак и Ай Динь, но насколько я понимаю, у них происходит сейчас точно такое же приватное собеседование.
Ну и пожалуйста.
Не слишком часто нам с Дафной удается остаться вдвоем.
Жаль только, что голова у меня совсем не работает. Я слишком взвинчен: по пути в номер меня перехватывает Андрон Лавенков и, вытащив на площадку черного хода, где камер наблюдения нет, устраивает нечто вроде истерики. Разумеется, без крика и размахивания руками, но шипящий, как песок за окном, голос Андрона свидетельствует, что внутри себя он кипит.
Беседа протекает у нас крайне сумбурно. Во-первых, Лавенков допытывается, что мне сказал Лорд, и я искренне отвечаю ему, что мы с сэром Генри разговаривали о диетах. Ну и о том, что наша группа, несмотря ни на что, все же проведет очередной раунд переговоров. Это чистая правда, ни капли лжи, но отнюдь не вся правда, как констатировали бы в американском суде. Андрон это сразу же чувствует. Чутье у него, как у голодной лисы. Он взбешен, но понимает, что сделать тут ничего нельзя. Если я не хочу чего-то сказать, то хоть тресни, все равно не скажу. Андрон в этом уже давно убедился. Он берет себя в руки и даже выдавливает, чтобы смягчить обстановку, нечто вроде улыбки. Так мог бы улыбаться пластмассовый манекен. После чего сообщает мне, что главная трудность здесь не в обмороках и не в самуме. Главная трудность здесь заключается в том, что, помимо Юсефа, исчезли еще двое экспертов: Кристофер Раст, аналитик, Соединенные Штаты, и Вальтер Швидке, специалист по информсистемам, Германия. Оба оставили записки, что уходят на Терру.
— На какую еще на Терру? — интересуюсь я.
Андрон смотрит на меня с подозрением. Он не может решить: прикидываюсь я или что?
— Ты тут чем занимаешься? Ты за ситуацией вообще следишь? Террой еще вчера решили назвать этот самый арконский форпост. Так вот, ночью оба они ушли под Купол…
— И защитное поле их пропустило?
— Видимо, да. Представляешь, какая паника сейчас в Комитете?
Секунду мы оба молчим.
Слышно, как скрежещет песок за окном.
И в этом угнетающем скрежете я вдруг ясно осознаю, что все вокруг изменилось. Причем не тогда, когда в Солнечной системе обнаружился звездолет арконцев, и не тогда, когда их посадочный модуль коснулся Земли, а лишь сейчас, в данный миг. Все изменилось. И, как раньше, как секунду назад, не будет уже никогда.
Это странное ощущение. Будто я, в общем оставаясь собой, переместился в какую-то совершенно иную реальность. Все вроде бы то же самое и одновременно — совсем другое. Вот и Андрон сегодня — совсем другой. Не такой, как вчера, полуразобранный, вдрабадан, несущий маловразумительную ахинею то про арконцев, то про явление Иисуса Христа, а такой, каким я привык его видеть: в костюме, при галстуке, свеженький, аккуратный, причесанный, волосок к волоску, благоухающий приятным одеколоном, и все-таки, все-таки — совершенно другой. Отчуждающий холод наполняет его глаза. Брови чуть вздернуты, образуя вопросительные морщинки на лбу. Мы как будто два разных биологических существа. Насекомое и насекомоядное. Добыча и хищник. Если бы только знать, кто есть кто. Мне хочется его просканировать. Риск все же слишком велик. Да и ни к чему рисковать. Я и так догадываюсь, что он хочет у меня выяснить.
И Андрон говорит:
— Так вот, двое экспертов сегодня эмигрировали на Терру. Думаю, что это только начало. Так вот, скажи: ты не собираешься уйти вслед за ними?..
А с Дафной у нас этим утром ничего толкового не вырисовывается. Уже через час весь ее стол оказывается усеян листочками с головоломными терминами, кривоватыми схемами, графиками, небрежно набросанными картинками. Таков ее способ думать — непременно с карандашом в руках. Я к нему приспособился, поскольку с Дафной особенно не поспоришь. К тому же я чувствую, что она нервничает не меньше меня. Наконец отбрасывает карандаш и говорит, что никакие подозрения Лавенкова ее не волнуют.
— Можешь быть спокоен, он ни о чем не догадывается. Просто смутное подозрение, что в Центре происходит что-то не то. Но ведь конкретики у него явно нет. А вот Лорд — это да. Лорд — это серьезно. Ты уверен, что он пытался тебя сканировать?
Я еще раз, тщательно подбирая слова, описываю ощущения, которые испытал, когда мой мозг начал окутывать теплый туман.
— Да, похоже — сканировал, — задумчиво говорит Дафна. — Знаешь, нам надо бы научиться ставить защиту.
— Тогда любой сканнер нас точно вычислит, — возражаю я. — Защита будет сверкать, как стекла в солнечный день. Я же тебе об этом рассказывал. А тут… ну что Лорд смог понять из моих мутных эмоций? Кстати, ты очень вовремя бросила свою эсэмэску.
— Увидела, что надо тебя выручать… А Лорд, я думаю, все-таки что-то понял… Не случайно же он обратил внимание на твой английский язык.
— Англо-американский — так он выразился…
— Ладно, не перебивай! Между прочим, у Лорда есть устойчивая привычка — задавать самый важный вопрос в конце разговора. Я это не раз подмечала. Затем, наверное, чтобы застать оппонента врасплох. Но ты ведь и в самом деле стал говорить значительно лучше. Это всем очевидно. Это демонстративный факт. У тебя теперь встречаются такие неожиданные конструкции, которые одной разговорной практикой не объяснишь. Опять же словарный запас вырос раз этак в пять. Идиомы всякие появились. А если вдобавок выяснится, что ты начал понимать итальянский, немецкий…
— Французский чуть-чуть…
— Знаешь, я как раз хотела тебе сказать… Я вчера сидела в номере у Ай Динь, и кто-то ей позвонил. Разговаривали они, разумеется, по-китайски, но я неожиданно стала догадываться, о чем идет речь. Не понимать, а вот именно что догадываться, немного улавливать смысл. Вот тебе тоже — демонстративный факт… Сколько мы еще сможем держать это в тайне? Сколько мы еще сможем скрывать, что перестаем быть людьми? Или — что мы становимся какими-то другими людьми, биологически отличающимися от стандартной конфигурации хомо сапиенс? Рано или поздно, но нас непременно разоблачат. Да хоть сегодня промелькнет у кого-нибудь в голове такая мысль.
— Не надо драматизировать, — подумав, говорю я. — В конце концов данный феномен можно объяснить и коллективным инсайтом. Мы же тут все слегка сдвинутые: естественно, что у нас возникает психологический резонанс — мы как бы «накачиваем» друг друга сходными когнитивными состояниями. Что-то вроде сектантских радений, когда адепты после долгих и горячих молитв, вдруг начинают воочию видеть бога. Экзальтация затем прогорает, но ощущение… ощущение трансцензуса остается.
— Это несерьезно, — академическим тоном произносит Дафна. — Ты что, не знаешь людей, которые составляют наш Комитет? Ты на лица их посмотри. Расскажи им про экзальтацию, про трансцензус, про психологический резонанс… Можешь еще попробовать через метод «глубинного погружения» объяснить… Уверяю тебя, все это тут же будет квалифицировано как зомбирование. Мы в их глазах немедленно превратимся в инопланетных агентов, в кукол, запрограммированных арконцами против людей. Какой в этом случае будет наша судьба?
Голос у нее лекторский, монотонный, но мне за размеренными интонациями почему-то чудится крик.
— Ладно, давай работать…
Дафна, не глядя, тянется за карандашом. Пальцы не достают, она нетерпеливо барабанит ими, пытаясь его нащупать, и я вдруг вижу, как карандаш, будто притянутый магнитным полем, сам подползает к ней.
Она замирает.
— Дай-ка сюда!
Дафна, удивленная моим тоном, широко распахивает глаза, но беспрекословно отдает карандаш.
Я кладу его на прежнее место.
— Возьми еще раз!.. Нет-нет, не изгибайся, пожалуйста, не гляди на него!
— Мне не достать… Слишком далеко положил…
— Ты просто представь, что берешь… Закрой глаза!..
Дафна послушно зажмуривается.
И я вновь вижу, как карандаш подползает к кончикам ее пальцев, которые скребут по столу.
— Теперь — повторим!
В этот раз я снимаю все действие на телефон, а затем, перегнав ролик в компьютер, мы вместе, уже на экране, просматриваем его.
И вот тут Дафна пугается по-настоящему.
— О-о-о!.. — обхватив горло ладонями, стонет она. Словно плачет в саванне птица, оставшаяся в ночном одиночестве. — Я знала это… Я это знала… Я чувствовала… — Она вся дрожит. На щеках ее проступают пепельные, светлые пятна. — Что нам делать, Илья?.. Мы будем теперь как монстры… как мутанты среди нормальных людей… Ты понимаешь, Илья?.. Мы теперь просто обречены…
Я успокаиваю ее тем древним способом, который известен человечеству уже несколько тысяч лет. Это не столько любовь, сколько шаманский обряд, волхвовство, магическое ритуальное действо, вырастающее из стремления жизни победить неотвратимую смерть. Ревет за стенами гостиницы жаркий ветер, шуршит и постукивает по ставням раскаленный песок, подрагивает широкий плафон торшера, а мы сквозь это неистовство и напор плывем в совершенно иную реальность, манящую спасением ото всего. До этой реальности, разумеется, не доплыть, но пока к ней плывешь, она действительно существует. Это уже не иллюзия, это конкретная данность, свет маяка, возвещающий, что за горизонтом — земля. Ритмика однообразных движений способствует релаксации. Затем Дафна по обыкновению несколько минут дремлет, а я лежу в щитовой скорлупе номера и под завывания урагана думаю, что она права. Мы с ней другие. И ничего странного в этом нет. Что до меня, то я, в сущности, всегда был другим. По крайней мере, так я себя ощущал. Как будто родился среди не тех людей, не в той стране, не в ту эпоху, не на той планете. И культурология, которой я занимаюсь, тоже свидетельствует об этом. Ведь что такое культурология? Это отстраненное изучение жизни, текущей мимо тебя. Превращение всех ее проявлений в символы, которыми можно оперировать безболезненно и легко. И между прочим, Дафна обмолвилась как-то, что тоже всегда ощущала себя другой. Поэтому мы с ней и стали так быстро близки. Сработал известный «психосоматический таксис»: на эту тему смотри монографию Микеле Сфортини и Кэтрин Армстронг. А вообще такие «другие», видимо, время от времени на Земле возникают. И вовсе не арконцы с какими-то зловещими целями их создают, арконцы только способствуют их проявлению, сами не подозревая о том. Ведь спонтанная, «земная» инаковость — это нечто вроде слабенькой искры, попавшей на сырые опилки. Она быстро гаснет, удушаемая потоком обыденности. Разжечь ее удается лишь гениям, сгорающим потом на этом костре. А я не гений, уж в этом можно не сомневаться. Дафна меня явно переоценивает. Кстати, что-то долго она дремлет сегодня. Я поворачиваю к ней голову, и в это время Дафна открывает глаза и ясным голосом, будто продолжая дискуссию, говорит:
— Лорд нас не выдаст. Потому что если он выдаст нас, он тем самым выдаст себя. А Лорд этого не захочет. — Она смотрит вверх, в потолок и продолжает, словно читая на нем невидимый текст: — Но, знаешь, я обязана поставить тебя в известность: сегодня ночью я вошла на сайт «Терры» и зарегистрировалась там на отъезд… Визу, то есть согласие меня принять, получила через десять минут.
Я не сразу понимаю, что она имеет в виду.
А когда понимаю, то приподнимаюсь на напряженных локтях.
— С ума сошла!
Мне кажется, что я проваливаюсь в пустоту.
— Нет, ты сначала послушай, — говорит Дафна. — Здесь, на Земле, нас все равно вычислят — это вопрос месяцев, недель, может быть, даже дней. Я сегодня прокололась на телекинезе, а на чем — совершенно случайно, конечно — проколешься ты? И главное — что за этим последует? Объясняю: за этим последует то, что нас обоих посадят в какой-нибудь там вивариум, в спецлабораторию, в изолированный медицинский центр со всякого рода принудительными исследованиями. Будут мучить, как ежиков, помнишь, ты недавно рассказывал: был у вас в школе странный такой «живой уголок». И объяснять это будут исключительно заботой о безопасности человечества… — Она делает паузу примерно на пять секунд. Проводит розовым языком по губам. — Но дело даже не в этом… Я говорила тебе, сколько осталось от народа икомо?
— Да, примерно сто пятьдесят человек.
— А ведь нас было более двадцати тысяч… Всех убили, теперь сто пятьдесят человек живут микроскопическими общинами в странах, которым они не нужны. Дети языка икомо уже почти не знают. А дети этих детей вероятно, даже не вспомнят, что был когда-то такой народ.
— При чем здесь Терра?
— На Терре я выйду замуж и рожу десять детей. И прослежу, чтобы все они знали родной язык. И дети моих детей тоже будут разговаривать на языке икомо. И тоже будут иметь по десять детей. Можешь считать меня ненормальной, но в наших мифах существует одно пророчество, восходящее к эпохе космогонического первобытия: явится в конце лет земных великий дух Чамба Иком и уведет своих детей на небо, дорогой сияющих звезд. И обретут они там хлеб, воду и мир. И будут жить счастливо во веки веков.
— Аминь, — добавляю я и падаю обратно — в постель.
Скрежет за окном вроде бы становится глуше.
Дафна между тем говорит:
— Мне вообще кажется, что наши дни уже сочтены. Время Земли исчерпано, это — печальный закат. Посмотри, что вокруг происходит: мы, будто одержимые первобытным неистовством, уничтожаем сами себя. Много ли еще нам осталось?.. Когда окончательно сдадут нервы?.. Когда кто-то решит обрушить огненный смерч на вражеские города?.. Когда полетят баллистические ракеты?.. Когда прорастут над мировыми столицами ядерные грибы?.. — Она поворачивается ко мне. — Ну что ты молчишь?
А что мне ответить?
Я просто не знаю, что тут можно сказать.
Я знаю одно: если Дафна что-то решила, ее так просто не переубедишь.
Тут надо выбрать подходящий момент. Вот что я знаю.
И вместе с тем я не знаю другого. Я не знаю, что подходящий момент не наступит для нас никогда. Все уже решено. Вертолеты в закрытых ангарах готовятся к вылету. Через два часа они поднимутся в воздух, а еще через час нанесут удар по нашему Центру.
Вот чего я не знаю.
И еще я не знаю, и даже не догадываюсь об этом, что вижу сегодня Дафну в последний раз.
ЧАСТЬ 2. ИЗ ГЛУБИНЫ
Все с чего-нибудь начинается. Черная грозовая туча вырастает из невесомого облачка. Могучее дерево — из семечка размером с ноготь мизинца. Ефим был чокнутым, об этом в городе знали все. У него и фамилия была соответствующая — Чокин. Так что за школьной кличкой дело не стало. А чокнутым Ефим прослыл потому, что еще в детстве полностью и окончательно помешался на звездах. Однажды, будучи с ребятами на ночной рыбалке, ему только-только исполнилось четырнадцать лет, он по известному делу отошел от костра и вдруг, когда ночь сомкнулась вокруг темной водой, как подкошенный повалился в траву, доходящую до колен. Никогда он еще не испытывал такого странного ощущения. Небо распахнулось над ним во всем своем ошеломляющем великолепии: бездонная глубина космоса, мерцающие, переливчатые брызги серебряных звезд. Сердце словно омыл теплый нектар. Кто он такой?.. Что он делает здесь?.. Зачем, зачем это все?..
Словами увиденного было не выразить. Да и не было в его языке слов, которые могли бы охватить этот простор. Другие в таком состоянии чувствуют бога. Ефим встрепенувшимся сердцем почувствовал взыскующий зов Вселенной.
Домой он вернулся совсем иным человеком. В ближайший год он перечитал все книги о космосе, которые только имелись в местной библиотеке. Он узнал, почему небо выглядит голубым: короткие волны, синие и фиолетовые, рассеиваются в атмосфере и потому их можно увидеть. Он выяснил, почему звезды мерцают: турбулентность, взвихрения воздуха, искажают лучи света, направленные от них к нам. Он понял, почему Луна предстает то как истаявший, льдистый серп, то как металлический рубль: она то между Землей и Солнцем, то с обратной от него стороны Земли.
Однако гораздо больше его поражало другое. В одной только нашей Галактике, оказывается, четыреста миллиардов звезд. Четыреста миллиардов! Невозможно вообразить! Свет по Млечному Пути летит от края до края сто тысяч лет! А Солнечная система находится в одном из спиральных боковых рукавов, в галактическом захолустье: тусклое пятнышко в море безбрежной тьмы.
Напрашивалось сопоставление с родным городом. Бельск был известен в летописях еще со времен Золотой Орды, но все восемь веков так и пребывал тлеющей искрой в необозримом российском раздолье: кривые улицы, чернеющие грязью после дождя, деревянно-каменные дома, частично вросшие в землю, унылый ров на главной площади, который для чего-то когда-то выкопали, да так и забыли зарыть, каждое лето он порастал гигантскими лопухами. На одной окраине — спиртовой заводик, распространяющий на весь город крепкий водочный дух, на другой — цеха глиноземного комбината, почти скрытые кучами выработанного сырья, от него тоже на половину города разлеталась грязновато-желтая пыль. Около тридцати тысяч человек населения: кто сумел, тот пристроился на спиртзаводике, всем доволен, чего еще можно желать? Кто не сумел, тот — горбатился на комбинате, проклиная себя и нескладную жизнь. Остальные в основном копались на огородах. Текли дни, месяцы, годы, столетия — ни морщинки не появлялось на глади времен.
Единственное, чем Бельск выделялся в россыпи таких же оцепенелых российских селений, — это чистое небо, почти никогда не затянутое облачной пеленой. Какая-то, объясняли метеорологи, уникальная природная аномалия. То ли геопатогенный разлом, то ли что-то еще. В начале восьмидесятых годов здесь даже начали было строить обсерваторию на одном из холмов, но грянула перестройка, затем — кавардак реформ, стране стало не до звездных пространств, теперь между заброшенными корпусами бродили козы да с жестяным шорохом колыхались те же гигантские лопухи, шершавые от жары.
Реформы, правда, поколебали сонную зыбь. Новый мэр, он же директор глиноземного комбината, пообещал бельчанам быструю модернизацию, демократию и необыкновенный расцвет, после чего оборудование с комбината куда-то вывезли, сам комбинат закрылся, а мэр начал возводить себе замок — с башенками, с гнутыми фонарями, с коваными воротами, опять-таки на холме — но закончить его не успел: застрелили в собственном кабинете. Следующим мэром избрали директора спиртзавода. Тем не менее когда Ефим вернулся из армии, Бельск все-таки уже был другим. Исчезли вымахавшие, как поганки, ларьки, вместо них появились вполне доброкачественные стеклянные павильоны. Открылись два супермаркета, полтора десятка кафе, избы на беленых фундаментах начали вытесняться домами из серого или кровавого кирпича. Заасфальтировали даже главную площадь, лопухи на ней более не росли — разбили пышный цветник.
И все же внутри себя жизнь практически не изменилась. Она как бы сделала робкий шажок вперед, но вдруг опомнилась и снова застыла в привычной обыденной летаргии. Ни на расширившийся спиртзаводик, ни на комбинат, который неожиданно ожил, Ефим идти не хотел и, поразмыслив немного, вместе с парой армейских друзей создал бригаду «Домашний ремонт». А что? Руки откуда надо растут. Голова на плечах тоже вроде бы есть. И ведь угадал, угадал, как номер на лотерейном билете. Под золотым дождем нефтедолларов, заморосившим в те времена над страной, у бельчан тоже начали появляться кое-какие деньги. А вместе с ними образовался и гонор: зачем самому копаться в ржавчине и грязи, если можно вызвать бригаду и недорого заплатить. Зачем вообще погружаться в трясину бытовых мелочей. И вот, одному надо было сменить кран: вместо прежнего с кривым медным носиком еще довоенной поры поставить новенький немецкий смеситель, другому требовалось протянуть через участок трубу, чтобы вода шла прямо в сад-огород, третий хотел скрыть внешнюю электропроводку в стенной штробе, было невозможно больше смотреть на разлохмаченную матерчатую изоляцию. Оказалось, что подобной работы в Бельске не счесть. Тем более что Ефим утвердил в бригаде суровый закон: в рабочие дни — ни-ни. Сам-то он не пил вообще. Молодые жены друзей были теперь за него горой. А кроме того, почитав прессу, внедрил удивительную для бельчан инновацию — клиент всегда прав. Хоть переломись, но сделай, как он велит.
Ему даже трудности шли на пользу. Обнаружилось, например, что в Бельске не достать нормального крепежа. За нужными саморезами поезжай в Заборинск, за дверными петлями — опять же гони за сто километров в районный центр. Ефим подумал-подумал и открыл магазин — здесь и гвозди любых размеров, и саморезы, и петли, и разных видов сверкающие, никелированные крючки (их вообще раскупили за первые же три дня). Одновременно выяснилось, что существует громадный запрос на окна. Сами-то стекла резали в заброшенном гараже двое заросших, как лешие, нечленораздельно разговаривающих мужиков, с этой работой еще кое-как справлялись, но на просьбы заказчиков не просто отрезать нужный размер, а еще грамотно застеклить, отвечали: ну это уж ты, хозяин, как-нибудь сам… Ефим порасспрашивал родственников, приятелей и друзей, нашел трех толковых ребят, из которых создал самостоятельное подразделение. Заодно пришлось открыть магазин рам и дверей. Бельчане будто очнулись: каждый хотел, чтобы у него было не хуже, чем у других. Так Ефим самостоятельно открыл эффективность производственной специализации. Через пять лет у него уже было четыре больших магазина, два склада материалов, трест из шести бригад, готовых быстро выполнить любой строительно-ремонтный заказ. Конкуренты, по-прежнему ютившиеся в гаражах, скрипели зубами, но победить в конкуренции не могли. Трижды в его магазинах били витрины, угрожали по телефону, один раз даже пытались поджечь. Выход нашелся быстро. Бельск был городок небольшой, молодежные банды, рыхлые и сумбурные, были наперечет. Ефим просто купил самую вменяемую из них: положил им приличные деньги, пошил форму, провел соответствующий инструктаж, и «чок-гвардия», как ее тут же назвали, начала прохаживаться по улицам, помахивая дубинками. На любое обращение вежливо отвечали: слушаю вас… Заодно пресекали драки, присматривали (за небольшую мзду, разумеется) за ресторанами и кафе, гоняли пьяниц, вообще — неформально улаживали разные бытовые конфликты. В городе сразу стало потише, и за одно это бельчане готовы были носить Ефима Чокина на руках. На ближайших выборах мэра «партия власти», единственная, имеющая в Бельске серьезный ресурс, предложила выдвинуть его кандидатуру. Собственно, конкурентов и не было: действующему мэру (директору спиртзавода) исполнилось шестьдесят девять лет, замок с башенками и коваными воротами он себе уже выстроил, пора на покой. Ефим набрал девяносто четыре процента голосов — самый высокий в области результат.
Звезды тем не менее не отпускали. Жену, Алену (к тому времени Ефим уже был женат), он сразу предупредил, что как только появятся свободные деньги, купит себе телескоп. Алена не возражала: пусть хоть крестиком вышивает, лишь бы не пил. И потому, возведя новый дом (кирпичный, но скромный — всего два этажа), Ефим торжественно водрузил в застекленную ротонду на крыше новенький, восхитительный «Галилей», выписанный из Москвы. Теперь он часто сидел, прильнув к нему, до рассвета — пока звездное небо над Бельском не начинало бледнеть. Пыль глиноземного комбината ему не мешала: еще прежний мэр, когда сам начал задыхаться от астмы, поставил там мощный немецкий фильтр. Очень кстати вырос и окреп интернет. Ефим жадно, до слипания глаз, глотал статьи и текущие публикации по астрономии. Он даже за три года выучил английский язык, поскольку материалов на русском катастрофически не хватало.
Понятно, что с профессиональными обсерваториями он тягаться не мог. Его «Галилей» не шел ни в какое сравнение с тамошними оптическими тяжеловесами. Тем более что современная астрономия уже перешла от визуального инструментария к радиотелескопам, а рутинные наблюдения и велись, и обсчитывались компьютерами. Но ведь дело тут было не только в науке. Есть еще редкое удовольствие (для тех, кто понимает, конечно) выйти, хотя бы взглядом, за пределы небес, заглянуть в тайны звездной механики, увидеть то, на что не способен обычный человеческий глаз.
Ефим с тихим восторгом исследовал кратеры, моря и горы Луны, наблюдал громадные, длиной в тысячи километров пылевые бури на Марсе, изучал Большое красное пятно в атмосфере Юпитера, восхищался необыкновенной гармонией системы колец Сатурна… Ну и, конечно, — глубокий, глубокий космос, здесь одни лишь названия окунали его в легкий озноб: галактические стены, протянутые через всю Вселенную, галактические войды (громадные, беззвездные океаны), галактические туманности, великий аттрактор… Звучало как песня на неведомом языке… Дух захватывало, в какие дали он проникал... Уже от корки до корки была прочитана книга Карла Сагана, и теперь Ефим знал, что в древности люди называли планеты в честь верховных богов. Одна из них, яркая, медленно движущаяся по небу, получила у вавилонян имя Мардук, у норвежцев — Один, у римлян — Юпитер, у греков — Зевс. Бледную быструю планету, никогда не удалявшуюся от Солнца, римляне назвали Меркурием, самую сверкающую — Венерой в честь богини красоты и любви. Кроваво-красная планета именовалась Марсом, богом войны, а самый медленный в этой плеяде получил имя в честь бога времени — величественный Сатурн. Боги пребывали на небе и управляли оттуда жизнью людей. Всего древнему человечеству известны были лишь семь планет, в число которых включали и дневное Солнце, и ночную Луну. Семь планет, семь верховных богов, семь дней недели, семь священных миров. Число «семь» стало обретать мистические коннотации. Считалось, что существует семь сфер небес, в центре которых — Земля, творение мира продолжалось тоже семь дней (с учетом воскресенья, когда бог отдыхал), в человеческой голове — семь отверстий, есть семь добродетелей и, соответственно, семь смертных грехов, жизнь искажают семь злобных демонов, в греческом алфавите семь гласных букв (каждой из них соответствует и свой собственный бог), есть семь Правителей судеб, семь Великих книг, семь Таинств, семь Мудрецов, семь алхимических «тел» (золото, серебро, железо, ртуть, свинец, олово, медь), полагали также, что седьмой сын седьмого сына обладает сверхъестественными способностями. В Апокалипсисе семь печатей снимаются со свитка, «написанного внутри и отвне», семь ангелов поочередно трубят в семь труб, наполняются гневом божьим и проливаются на землю семь чаш.
Ни на какие выдающиеся открытия он, разумеется, не рассчитывал. Человечество смотрело на небо уже тысячи лет. Казалось бы, что может добавить к этому астроном-любитель из провинциального городка? Но мерцал внутри слабенький огонек: бывают, бывают в жизни разные чудеса. Вот, например, Юдзи Хякутакэ, тоже любитель, открыл две кометы, названные его именем; одна из них, между прочим, прошла в непосредственной близости от Земли. Или Роберт Эванс, ни много ни мало — кинопродюсер, открыл визуально, то есть через наблюдение в телескоп, сорок две вспышки сверхновых звезд. А Камил Горнох, тоже любитель, открыл аналогичные вспышки, но — уже вне пределов Галактики. А как повезло Кэролайн Мур: открыла и зафиксировала сверхновую, когда ей (Кэролайн) было четырнадцать лет. Или вот Лесли Пелтье, простой фермер, клубнику выращивал, даже высшего образования не получил, но обнаружил и официально зарегистрировал аж целых двенадцать комет.
Чем он, Ефим, хуже них?
Главный стимул все-таки заключался в ином. В нашей Галактике действительно четыреста миллиардов звезд. Неужели ни у одной из них так и не смогла зародиться жизнь? Трудно было в это поверить. Ефим уже был знаком со знаменитым «принципом заурядности»: Вселенная является однородной и изотропной, Солнечная система — не исключение среди других звездных систем, значит должны существовать целые сонмы планет, подобных Земле, и на многих из них вполне могли возникнуть высокоразвитые цивилизации. Тогда где они? — как темпераментно воскликнул однажды Энрико Ферми. Почему мы не видим и не слышим их?.. Действительно, почему? Ведь уже с середины прошлого века началось систематическое радиопрослушивание Вселенной, а также поиск того, что можно было бы интерпретировать как разумный сигнал. И — нигде, ничего. Несколько быстротечных сенсаций лопнули, как пузыри. Ефим этого не понимал. Великое молчание космоса он рассматривал как вызов лично себе. Иногда среди ночи он откидывался от телескопа и, давая отдых глазам, смотрел из ротонды на Бельск, погруженный в невнятные сны, на равнину за ним, на расплывчатые тени холмов, на выгнутый, как в средневековых гравюрах, звездный купол небес, и его охватывало что-то вроде отчаяния.
Неужели мы в самом деле одни?
Нет-нет, этого просто не может быть…
Жители Бельска тем временем относились к увлечению мэра спокойно. Между собой называли его «наш звездочет». Рассуждали здраво: главное, чтоб звездолеты не стал строить за счет городского бюджета, а так — ради бога, пожалуйста, какой от этого вред?
Вместе с тем мэр — фигура публичная. Вообще — тем, кто чего-то достиг, невольно стараются подражать. В социологии это называется «демонстрационный эффект». Однажды на прием к Ефиму явился директор соседней школы и рассказал, что у них в старших классах — просто повальное увлечение астрономией. Пришлось даже организовать «Звездный кружок». Чуть ли не каждый второй купил себе сильный бинокль. Но что там — бинокль? Разве в бинокль что-нибудь интересное разглядишь? В общем, нельзя ли провести для ребят экскурсию к настоящему телескопу? Ефим только руками взмахнул: да сколько угодно! В тот же вечер явились к нему аж двадцать семь человек. В ротонду их пришлось набивать последовательно — тремя партиями, так что в круглом зальчике было не продохнуть. Половина энтузиастов, разумеется, быстро отсеялась, но двенадцать ребят начали приходить теперь чуть ли не каждую ночь. Да еще подтянулось с десяток из других городских школ. Алена стонала: не дом, боже мой, а прямо какой-то рок-клуб, всю ночь топают по лестницам вверх и вниз. И потом, ведь эту ораву надо чем-то кормить. Неудобно же, надо хоть чай с бутербродами предложить. А с другой стороны, не выгонять же ребят: не в пивбар все же идут, не на дискотеку с каким-нибудь порошком, а изучать звездное небо.
Все чаще посматривал Ефим на развалины обсерватории. Понимал, что если уж браться за это дело, то браться надо продуманно и всерьез. В одиночку такую махину не своротить. И наконец решился, взял месячный отпуск, поехал сначала в область, потом оттуда, не оглянувшись, — в Москву. Как он позже рассказывал, это была целая эпопея: в Москву пришлось съездить еще одиннадцать раз. Тем не менее месяцев через шесть начались на развалинах восстановительные работы, а еще через год новенький раздвижной купол просиял с вершины холма матовым серебром…
Обсерватория получила необычный открытый статус: проводить наблюдения в ней мог в принципе любой гражданин России. Начали приходить заявки от объединений астрономов-любителей. Стали слезно проситься астрономические кружки из других городов. А когда Ефим — с помощью уже нового поколения старшеклассников — сделал для нее увлекательный сайт: плыли по нему галактики, вспыхивали разноцветные звезды, будто в танце вращались хороводы планет, то поток желающих посетить Бельский астрономический центр вырос в десятки раз. Пришлось возвести гостиницу для приезжих. Основой тут послужил замок-терем, который не успел достроить первый городской мэр. О Бельске начали писать в центральной прессе, был снят телефильм «Город Неба», где Ефим давал обширное и (честно говоря) не слишком внятное интервью. В обсерваторию заглянул (проездом) даже премьер-министр, и по такому случаю губернатор немедленно заасфальтировал дорогу от Бельска в райцентр.
Город вообще заметно преобразился. Бойкие журналисты писали, что там даже поддатые мужики знают, что такое эксцентриситет. Так прямо и говорят: что-то у меня сегодня эксцентриситет — не того, добавить бы надо… А на вопрос полиции: где живешь? — бодро отвечают: в Ланиакее!.. — имея в виду колоссальное галактическое сверхскопление (по-гавайски «необъятные небеса»), куда тоненькой ниточкой входит и Млечный Путь. На что тут же получают совет: вот и дуй отсюда на третьей космической!.. Однако, если серьезно, то на всероссийских олимпиадах по астрономии школьники Бельска теперь регулярно занимали призовые места. Бельск удостоился принимать «Астрофест» — крупнейший в России астрономический фестиваль. И уже солидный московский еженедельник в статье «Кому нужны звездочеты?» без тени иронии написал, что «будущее страны создается в Бельске»: ведь там дети с пятого класса запросто оперируют такими понятиями, как реликтовое излучение, эффект Доплера или параллакс.
Было в обсерватории и научное отделение. Сотрудники его, аспиранты и кандидаты наук, охотно приходили к Ефиму — пообедать как следует, выпить чая, кофе, хорошего коньяка, осмысленно поговорить с хозяином, как устроено мироздание. Почему, например, Вселенная несимметрична, какой тут скрыт глубокий и таинственный смысл? Или что такое темная материя, етить ее в кочерыжку, и — поставить вопрос ребром — а существует ли она вообще?
Ефим тоже — иногда целые ночи — проводил в обсерватории. Вокруг него накапливался , медленно обновляясь, кружок продвинутых в астрономии учеников. Попасть туда считалось за великую честь. Заскакивали и повзрослевшие выпускники — вспомнить юные годы, вновь окунуться в загадочную звездную даль. И вот однажды, о чем Ефим поведал одной из центральных газет, к нему подошла Галя Поспелова, седьмой «б» класс, четырнадцать лет, именно столько когда-то было ему, и, смущаясь до самых ушей, сказала, что зафиксировала на последних сеансах какой-то странный объект. Вы, Ефим Петрович, не могли бы взглянуть?.. Четыре часа утра, конец марта, дежурство подходило к концу. Снег уже почти стаял. Звезды, казалось, пахли весной. Ефим без особого интереса просмотрел на компьютере один снимок, другой, после пятого или шестого, подумав, вернулся в начало, уже целенаправленно, сравнивая, пролистал всю серию, выпрямился рывком, напрягся, стал смотреть еще раз, и вдруг, выражаясь его собственными словами, у него «мягко и горячо подпрыгнуло сердце».
Нельзя сказать, что сенсация грянула неожиданно. Первые публикации, сообщающие о том, что в Солнечной системе, примерно на орбите Марса, обнаружен космический корабль пришельцев, появились уже в начале апреля, когда Международный астрономический союз (самая серьезная в этой сфере организация) официально подтвердил наблюдения Бельской обсерватории, осторожно классифицировав обнаруженный ею феномен как «аномальный объект».
Но и этого было достаточно. Новостные агентства тут же запестрели сногсшибательными заголовками. Утверждалось — без тени сомнений, конечно, — что это действительно звездолет, что он не один, что к Земле приближается грозная «галактическая армада», вооруженная «позитронными лазерами», что вторжения следует ожидать через месяц, через неделю, вообще завтра с утра, что спасения нет и что истекают последние дни существования человечества. Необычайную популярность набрал в сети ролик анонимного автора, ник — «Дикозавр», где пупырчатый, как огурец, крейсер «галактов» приземлялся непосредственно на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне, из него выскакивали тысячи бронированных пауков и без особых усилий превращали в дымящиеся развалины и Пентагон, и Капитолий, и Белый дом.
Кстати, именно в это время мне позвонил из Москвы Андрон Лавенков и попросил срочно выслать ему мои соображения насчет возможных версий контакта с инопланетной цивилизацией. Три странички, не больше: что это будет — переговоры или конфликт?
— Какие еще пришельцы? — туповато осведомился я.
— Ты что, телевизор не смотришь? — фальцетом вскричал Андрон.
Только тогда я сообразил, что дело серьезное.
Особой паники, впрочем, не было. Подавляющее большинство пользователей интернета (и я в том числе) уже давно привыкли к информации типа «космический крейсер инопланетян найден во льдах Антарктиды». Или «НАСА сфотографировала тайную базу пришельцев на обратной стороне Луны». Реакция на первые сообщения был слабой. Мир, захлебывающийся в пузырях фейковых новостей, утратил способность отличать вымысел от реальности . И только когда тот же Астрономический союз опубликовал бюллетень, где говорилось, что «бельский объект» имеет, скорее всего, искусственное происхождение, а буквально через пару часов после этого генеральный секретарь ООН Чармонг Ал Бешт, подводя итог чрезвычайному заседанию Совета Безопасности, длившемуся всю ночь, объявил, что к Земле действительно приближается космический корабль инопланетян, ситуация начала обретать характер повального сумасшествия.
Конечно, сначала, как полагается, разразился скандал. Один из сотрудников обсерватории Маунтин-Бейлз (Скалистые горы, северо-запад Соединенных Штатов) заявил в интервью Си-эн-эн, что приоритет открытия «бельского артефакта» вообще-то принадлежит им, а не обсерватории Бельска, поскольку они наблюдали данный объект тремя неделями ранее, о чем существуют соответствующие протоколы. Публичное же сообщение ими сделано не было, поскольку сведения об этом открытии были сразу же засекречены правительством США. Правда, директор обсерватории данное заявление немедленно опроверг. Результаты астрономических наблюдений не были засекречены, пояснил он в собственном интервью Си-эн-эн, ни правительственные чиновники, ни министерство обороны Соединенных Штатов на нас давления не оказывали. Публикация была задержана по вполне понятным причинам: эти данные необходимо было тщательно изучить. Мы ученые и не гоняемся за дешевыми сенсациями, подчеркнул директор обсерватории, мы печатаем лишь проверенные, подтвержденные, строго обоснованные результаты. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома на вопросы журналистов ответила, что она насчет «звездного корабля» не в курсе, но в ближайшее время наведет справки в Госдепартаменте. А Международный астрономический союз в тот же день разъяснил, что приоритет открытия устанавливается по первому официальному публичному извещению. И поскольку первой такое извещение прислала обсерватория в Бельске, то и приоритет остается за ней, с чем Бельскую обсерваторию поздравил по скайпу президент России.
Впрочем, этот скандал продержался в топе всего около суток. Он был немедленно вытеснен гораздо более увлекательными новостями. Всего через двенадцать часов после заявления генерального секретаря ООН на несущих частотах мировых информационных агентств, прервав текущие передачи, как будто вообще их отключив, прозвучал сигнал, тут же идентифицированный как простой арифметический ряд: «один — один — два», «два — два — четыре» и «три — три — шесть», а затем те же агентства приняли трехминутный «космический видеоролик». В нем сообщалось, что корабль прибыл из звездной системы Аркон, расположенной, по всей вероятности, вне нашей Галактики, что планета Аркон хотела бы установить дружественный контакт с планетой Земля, что арконцы прибыли исключительно с мирными, научными и культурными, целями и что они просят разрешения Организации Объединенных Наций занять над планетой орбиту и высадить на поверхность Земли делегацию для переговоров.
Интересная подробность, на которую сперва не обратили внимания: сообщение было передано одновременно на девяти земных языках, именно на тех, что использовали при вещании соответствующие агентства, и эта подробность, как позже выяснилось, имела далеко идущие следствия.
Признаюсь, что я сам в эти эпохальные дни испытал лишь «чувство глубокого удовлетворения». Дело в том, что моя аналитическая записка, которую я незадолго до того послал Лавенкову, почти полностью соответствовала данному сообщению. В записке я, в частности, указал, что цивилизация звездных пришельцев, скорее всего, не имеет по отношению к нам каких-либо враждебных намерений. В координатах Вселенной агрессия просто бессмысленна. Арконцам вряд ли потребуются рабы: на уровне их технологий для производства проще использовать механизмы. Маловероятно, что им потребуется сырье: при межзвездной логистике доставка любого сырья окажется экономически не эффективной. Им вряд ли потребуется колония: что с ней делать — надувать имперской гордостью щеки? И вообще цивилизацию, которая освоила просторы Галактики, не следует оценивать в рамках исторически обусловленного, сугубо земного мышления. У нее могут быть цели, которые нам абсолютно неведомы, и интересы, которые с нашими, земными интересами просто не пересекаются. Гадать о них сейчас совершенно бессмысленно.
Более того, подытожил я, если пришельцы запросят у нас официальное разрешение на посадку, значит у них есть четкое представление о границах культуры. А это одно из фундаментальных мировоззренческих представлений, которое определяет собой весь коммуникационный формат: существуют границы личности (нельзя, например, обнять незнакомого человека на улице), существуют границы нации, границы государства (которые нельзя просто так пересечь), существуют также границы цивилизации, границы всей планеты Земля, никак внешне не обозначенные, но тем не менее предполагающие демаркацию. В общем, подобный запрос (особенно на каком-нибудь из земных языков) будет означать, что арконцы заведомо признают суверенность и самостоятельность человечества, то есть базисные основания наших цивилизаций гомологичны, а это, в свою очередь, дает перспективы для равноправных и дружественных отношений.
Отсюда следовали и рекомендации. Не предпринимать никаких резких действий, которые могли бы быть истолкованы как враждебные. Не пытаться устраивать «смотр» противокосмических сил, пусть даже на этом будут настаивать все генералы Земли. Лучшее, что мы можем сделать сейчас, — это ждать первого шага с их стороны.
Вот так примерно я написал. Все это было, конечно, банально, на популистском, разжеванно-школьном уровне, но ничего другого от меня и не требовалось. Опыт аналитических докладных у меня уже был, и я знал, что политики ко всякого рода интеллектуальным изыскам, которыми грешат аналитики, относятся очень скептически. Политикам все следует объяснять на пальцах — тогда поймут. И ведь, как ни странно, я угадал, угадал! Позже Андрон мне доверительно рассказал, что эти мои дурацкие три страницы произвели впечатление на «ответственных лиц». А с запросом разрешения на посадку я вообще попал в яблочко, и это послужило убедительным аргументом для приглашения меня в Международную группу экспертов.
Однако подробности стали известны чуть позже. А тогда, после демонстрации ролика, наибольший фурор, разумеется, вызвал внешний облик арконцев. Представьте себе зеленого полутораметрового человечка с приплюснутой и расширенной в области щек головой, с огромными, как у стрекоз, фиолетовыми, выпуклыми глазами, по-детски хрупкого, с бугорчатыми суставами на локтях и запястьях, да еще одетого тоже аналогично — в совершенно детский коричневый комбинезон: шорты выше колен, на груди — симпатичный карманчик, лямочки на узких плечах, только аппликации с зайчиком не хватает. Он как будто вышел из фантастических фильмов Стивена Спилберга. Оказалось потом, что он и в самом деле вышел оттуда. Но поначалу на весь мир ахнул медийный взрыв: так, значит, зеленые человечки действительно существуют. Это не бредни уфологов, не конспирология маргинальных сект, арконцы и в самом деле уже давно присутствовали на Земле. Они внимательно изучали нас, они за нами следили, они бесшумно и незаметно внедрялись в земную жизнь.
Пресса сразу же расслоилась на два противостоящих потока. С одной стороны началось бешеное извержение жутких алармистских материалов. Причем не только в суетливых таблоидах, готовых ради сенсаций и тиража печатать любую чушь, — нет, даже серьезные издания вроде «Гардиан», «Нэшнл интрест» и «Таймс» публиковали статьи, где содержался призыв к осторожности. Настоящую бурю вызвало выступление на Би-би-си отставного американского генерала, бывшего члена Объединенного комитета начальников штабов армии США, где вопрос был с военной прямотой поставлен ребром. Почему, спрашивал генерал, арконцы заранее не известили нас о своем прибытии? Почему вместо легкого разведывательного судна, что было бы естественно и понятно, к нам сразу же приближается крейсер, скорее всего несущий тяжелое вооружение на борту? Почему он хочет встать на земную орбиту, откуда удобно нанести смертельный удар? Мы что, собираемся жить под прицелом чужих орудий? Мы что, капитулируем раньше, чем нам объявят войну? И далее генерал требовал принятия срочных и решительных мер: объявить чрезвычайное положение на всей Земле, вручить диктаторские полномочия Совету Безопасности ООН, провести мобилизацию армий крупнейших стран, привести в боевую готовность все имеющиеся ракетно-космические войска. Мы должны открыто продемонстрировать, что готовы сражаться за каждую пядь нашей земли, заявил генерал. Только это вызовет сдержанность и уважение к нам со стороны непрошеных «звездных гостей».
Масла в огонь подлил прогноз группы социальных психологов, заказанный тем же СБ ООН и неизвестно как попавший в печать. Психологи, в числе которых присутствовали очень авторитетные имена, предупреждали, что ситуация, с которой ныне столкнулась Земля, является уникальной в истории человечества. Народы Земли, как бы они ни конфликтовали между собой, все-таки образуют единую, целостную земную культуру. У нас всех есть общий фундамент: вид хомо сапиенс, то есть не подлежащий сомнению биологический идентификат. Другое дело арконцы — они могут иметь принципиально иные, нечеловеческие характеристики, даже такие, какие мы просто пока не способны вообразить. Результатом контакта может быть общеземной культурный шок, который проявит себя в виде широкомасштабных психических эпидемий. Вектор ксенофобии будет направлен не только вовне, но и внутрь, что, в свою очередь, породит непредсказуемые социальные потрясения. Нам нужно быть готовыми к пандемии спонтанных коллизий, они могут стать более разрушительными, чем любая война. Прогноз поверг в смятение правительства многих стран.
И все же преобладающим настроением в это время была эйфория. Вероятно, никогда еще человечество не испытывало такого прилива сияющих и вдохновенных надежд. Как выразился обозреватель «Нью-Йорк таймс», «Вселенная перестала быть вечным вызовом, темным кошмаром, перед которым мы испытываем удручающее бессилие. Она стала открытой дверью, куда нас приглашают войти». Гомерически вырос спрос на домашние телескопы и подзорные трубы. Расцвела «уличная астрономия», ранее существовавшая лишь как некое экзотическое развлечение. Миллионы людей выходили по ночам на площади и проспекты, чтобы, отстояв жуткую очередь, увидеть своими глазами корабль пришельцев. К тому времени уже установлены были его очертания: как ни странно, действительно бочка в пупырышках, насаженная на длинную, постепенно истончающуюся иглу, на конце иглы — громадный ажурный диск, а из самой бочки торчат во все стороны как бы булавки с разноцветными шариками на концах. Размер корабля — около четырнадцати километров в длину. В экспертной группе рассказывали потом, что когда у Лорда на заседании соответствующего комитета ООН спросили, что эти шарики означают, он выплеснул на блюдце кофейную гущу, внимательно изучил ее и ответил: концентраторы гравитонной энергии. Почему вы так думаете? — растерянно спросил председатель. А Лорд совершенно серьезно указал на блюдечко с растекшейся гущей: так вот же — смотрите сами… Ему все это сходило с рук: седьмой лорд Стемплтон-Нортумберленд и должен был обладать изрядной долей экстравагантности.
Ожидания возникали самые феерические. Казалось, что с прибытием арконцев на Земле немедленно наступит блаженный Золотой век. Будут решены все проблемы, излечены все болезни, утешены все страдающие и т. д. и т. п. Обводнят Сахару, победят СПИД и рак, прекратят войны, накормят голодных. Мечтания зачастую превращались в гротеск. Президент Украины, например, сразу же заявил, что его страна готова помочь арконцам в освоении безбрежной Вселенной. Выступая перед курсантами срочно открытой в Киеве Космической академии, президент подчеркнул, что Украина уже в ближайшее время, несомненно, станет великой звездной державой. «На всих пирсеках буде звучати украинська мова, — пообещал он. — Ми будемо завозити газ з Юпітеру і позбавимося від поставок из страны-агресора. Зірки вітають нас!» Одновременно президент пригрозил, что граждан так называемых Харьковской, Одесской, Запорожской, Донецкой и Луганской «свободных республик», а также сепаратистов так называемого «государства Галичина» Украина с собой в Галактику не возьмет. «Пусть прозябают на Земле!» — воскликнул он. Журналисты тут же поинтересовались, что президент подразумевает под словом «пирсек»? Но пресс-секретарь, взойдя на трибуну, непререкаемым тоном сказала, что на провокационные вопросы президент отвечать не будет. И вообще президент сейчас занят — он формирует части галактической безопасности.
Настаивался крепкий коктейль восторга и страха, разума и безумия, неконтролируемых эмоций и расчетливых политических интриг. Так, вероятно, четыреста лет назад островные народы южных морей смотрели на приближающиеся к ним с горизонта европейские корабли. Смесь ужаса и благоговения. На мой взгляд, как и на взгляд многих наших экспертов, крайне взрывоопасная смесь. Мои же собственные ощущения в эти дни можно было определить как смутное беспокойство. Мне казалось, что эйфорическое ожидание чуда свидетельствует об одном: народы Земли больше ни в грош не верят в действенность избранных ими властей и рассчитывают лишь на всемогущих богов, спускающихся с небес.
Впрочем, разбираться в своих ощущениях мне было некогда. Уже была сформирована Международная группа экспертов, пятьдесят человек, которые должны были обеспечить Контакт. Через три дня я вылетел сначала в Москву, где получил инструктаж, сводившийся к одной фразе «Ну чё делать-то, дык?», а затем через Эр-Рияд — в Напалеб, где был развернут наш временный лагерь.
Арконцы запросили разрешение на посадку в Аравийской пустыне. Непонятно было, какими соображениями они руководствовались, и впоследствии выяснить это тоже не удалось (честно говоря, было просто не до того), однако данный вопрос породил был неожиданные конфликты. Богословский совет исламского духовного университета в Каире (чуть ли не старейшего в мире, основан он был аж в 988 году) принял специальную фетву, где говорилось, что поскольку пришельцы из звездных миров выбрали для Контакта священную землю Аравии, то возможно, что на это решение их незримо сподвиг сам Аллах. Таково его божественное благоволение. А потому и Контакт (непосредственные переговоры) должны вести те, кто способен эту волю Аллаха неукоснительно исполнять, то есть наиболее авторитетные исламские богословы. С другой стороны, мало кому известная до сих пор радикальная группировка «Аль-Хазгар» заявила в своем манифесте, который, видимо сгоряча, озвучил известный телеканал, что не позволит осквернить Землю ислама мерзким инопланетным кафирам: они в своем ролике даже не вознесли славу Аллаху, а заодно пригрозила свергнуть нынешний богопротивный, полностью прогнивший саудовский королевский режим, воплощающий собой лишь двуличие и коррупцию. Отрицательно, по-видимому, отнеслись к Контакту и главы многих традиционных церквей, хотя из их велеречивых посланий мало что можно было понять. Другое дело — политики. Всех затмила речь президента Соединенных Штатов, который на очередной пресс-конференции вдруг сказал, что он лично намерен предложить арконцам приземлиться не в Аравии, а в любом месте на территории США. Америка, будучи самой развитой и самой богатой страной, может лучше других обеспечить безопасный и полноценный Контакт. Американцы всегда были в космосе первыми, сообщил изумленной аудитории президент. «Они были первыми э-э-э… на Луне, они были первыми в исследованиях э-э-э… Марса, Юпитера и… э-э-э… остальных планет, они будут первыми также и в диалоге с иными цивилизациями». Это неосторожное заявление вызвало такой протест во всем мире, что уже на другой день пресс-секретарь Белого дома была вынуждена объяснять, что президент вовсе не это имел в виду. Но что именно имел в виду президент, сама пресс-секретарь объясняла так долго и путано, что большая часть журналистов с пресс-конференции разошлась.
Времени до Контакта тем не менее оставалось немного. СБ ООН после острых дискуссий сформировал особый Департамент (ДЕКОН), куда вошли представители каждой географической части света — странный принцип и компромисс, который, на мой взгляд, сильно осложнил работу экспертных групп. Арконцы, в свою очередь, прислали еще один ролик, демонстрирующий техническую сторону высадки. Сам звездолет предполагалось вывести на орбиту, более высокую, чем у земных спутников, образующих довольно плотную сеть, спуститься на Землю был должен лишь модуль, по форме и цвету напоминающий срезанное снизу яйцо. Далее, как показано было в ролике, модуль преобразовывался в купол диаметром около девяноста метров, а вокруг купола арконцы предполагали поставить защитное поле, преодолеть которое, по их словам, не сможет ни один земной человек, а также — ни один земной механизм. При этом особо подчеркивалось, что данное поле не причинит никому никакого вреда — это чисто механическое препятствие, обладающее отталкивающим эффектом, более ничего.
Со своей стороны ДЕКОН объявил, что месту высадки придается особый статус: это будет экстерриториальный анклав под прямым управлением СБ ООН (претензии Саудовского королевства на особую роль в данном вопросе были отклонены), территория вокруг Центра в радиусе двухсот километров объявлялась запретной зоной и для людей, и для любых несанкционированных транспортных средств. Мгновенно были прокопаны рвы, поставлены надолбы, закрутились решетки локаторов, сразу три спутника (американский, китайский и русский), обеспечивая непрерывный обзор, повисли на геосинхронных орбитах. Строительством Центра руководил Технический комитет, который сформировал тот же ДЕКОН, и ему безоговорочно подчинялись военные и гражданские подразделения.
Через месяц все телеканалы Земли показывали во множестве ракурсов одну и ту же картинку. В бледно-сером небе Аравии появляется еле видимое даже в приборы пятно, проступающее первоначально просто как сгущение воздуха. Оно быстро растет и за минуту превращается в модуль, действительно очертаниями похожий на срезанное снизу яйцо. Высота модуля — пятьдесят восемь метров, диаметр — двадцать пять. Инверсионного следа, оставляемого самолетами, за ним нет. Модуль плоским дном своим садится на верхушку бархана, застывает, как позже было подсчитано, на двенадцать секунд, а затем медленно, но вполне заметно для глаз, погружается в блеклую, какую-то соляную на вид толщу песка. На поверхности остается лишь конус, быстро меняющий цвет: только что он был серебристо-морозным, и вот уже — черный, непроницаемый, как антрацит. Далее около часа не происходит вообще ничего, паузу заполняет безудержная трескотня комментаторов, и вдруг опоясывает бархан четкая, ярко-оранжевая полоса, а над ней легкой синью смыкается купол защитного поля.
Я видел все это собственными глазами. И скажу честно: по телевизору зрелище выглядело гораздо более впечатляющим. Я это потом специально сравнил. Но ведь здесь важен еще и эффект присутствия, чего, конечно, ни один экран не может воспроизвести. Арконцы заверили, что никакой опасности для людей посадка не представляет, не будет ни излучений, ни ударных, ни световых, ни акустических, ни электромагнитных, ни гравитационных волн, и потому метрах в двухстах от заранее отмеченного бархана, у ограничительной линии — военные ее все-таки провели — скопилось около трехсот человек: пятьдесят официальных экспертов, которых назначил ДЕКОН, столько же политиков и чиновников, в том числе делегация во главе с генеральным секретарем ООН, ну и, конечно, свободный от дежурств технический персонал.
Говорят, что один из многочисленных обозревателей, кажется Си-эн-эн, находясь в прямом эфире, искренне сожалел, что в этот судьбоносный и торжественный миг не прозвучал во всю мощь Гимн Земли (который, заметим, еще требовалось написать; почему-то за месяц подготовки к прибытию никому это в голову не пришло). Не знаю, может быть, он был и прав. Меня, однако, охватило тогда какое-то тревожное настроение. Был яркий полдень, сушила горло ошеломляющая жара, я находился в толпе, средь оживленно переговаривающихся людей, две желто-патлатые дамы возле меня, повизгивая как болонки, подпрыгивали и размахивали флажками ООН. Все было абсолютно, абсолютно нормально, и вместе с тем мне почему-то казалось, что я пребываю на острове, затерянном в океанской глуши, что я один, на тысячи миль нет более никого, — и вот из тревожного плеска волн, из темных глубин, куда человек еще не проник, всплывает некое мифическое существо, бьет щупальцами по воде, приподнимает тяжелые веки, и светлые, без зрачков, фосфорические глаза его начинают ощупывать мир, принадлежащий отныне — только ему…
Лизетта — это не имя. Лизетта — это домашнее прозвище, которое придумал отец. И сразу же пояснил, что так звали любимую собачку Петра Первого. Лизетта видела в Кунсткамере ее чучело: жалкая такая бродяжка с кривыми лапками. Но иногда Лизетта и в самом деле ощущает себя собачкой, стоит отцу поманить, и она бросается к нему со всех ног, захлебываясь от счастья.
Сейчас, правда, бросаться ей не к кому. Отца в последний раз она видела месяц назад, когда он на полдня прилетел в Петербург из Саудовского королевства, уже вечером должен был уехать в Москву, оттуда — на арконскую Станцию. Домой, к ним с Анжелой, заглянул всего на пару часов, даже чуть меньше, и основную часть этого нескладного времени они гуляли по городу. Он сам ей вдруг предложил. Прошлись по Загородному проспекту, чиркнули по Измайловскому, свернув направо мимо Троицкого собора, затем по Садовой аж до самого Невского, назад вернулись по изогнутой набережной Фонтанки. Отец сказал, что соскучился по городскому пейзажу.
— В пустыне — жара, ветер, песок… До горизонта — одни барханы… Нет красок… Утомительное однообразие… Ящерицы бегают вот такие — полметра длиной…
И действительно, будто впитывая в себя, смотрел на разноцветные фасады домов, на пожарное депо с вытянутым к небу четырехугольным пеналом башни, на громадный безлюдный сад, скрывающий Военно-медицинскую академию, на раздробленную мелкими всплесками воду Фонтанки, в перспективе которой вздымались синие, в веселых серебряных звездах купола Троицкого собора.
Именно тут она вдруг решилась и напрямую спросила:
— Какие они?
И отец, немного подумав, ответил, что если коротко, то они — просто другие.
— Ты только не читай всякую чушь в интернете. Они не плохие и не хорошие, не добрые и не злые, не коварные и не наивные, просто — совершенно другие. Нам их не понять. И я не уверен, что они, в свою очередь, понимают нас, сколько бы сведений о Земле они ни собрали…
— Но они же не собираются нас завоевывать?
Отец усмехнулся:
— Смотря что считать завоеванием…
Лизетта, кажется, догадывалась, о чем речь. Именно в этот последний месяц ей все чаще стали попадаться люди с каким-то нездешним взглядом: глаза, будто выточенные из стекла, не смотрят, не видят, лишь равнодушно отражают в себе окружающее. Человек как бы не здесь. Для него все, что вокруг, не имеет значения. Недавно один прохожий с таким вот отсутствующим лицом вдруг повернулся и пересек Невский проспект, не обращая внимания на поток машин, мчащихся в обе стороны: визг тормозов, ругань, бешеные гудки, а он идет сквозь эту катавасию, как слепой. Через десять минут, уже у Гостиного, так же поступил еще один человек. А буквально позавчера водитель маршрутки, в которой она возвращалась домой, вдруг ни с того ни с сего аккуратно притормозил у «зебры» — вылез из кабины и побрел куда-то по тротуару, даже не потрудившись захлопнуть за собой дверцу. Слова никому не сказал, но как-то всем в салоне стало понятно, что обратно он уже не вернется… Интернет пестрит подобными историями. Шофер фургона вдруг бросил его посередине шоссе. Работник банка вдруг встал со своего места и ушел домой, даже компьютер не выключил. Продавцы продовольственного магазина, все шесть человек, вдруг вообще не явились к его открытию... Считается, что это мозговой паралич, «синдром угасания», вызванный психогенетическими лучами. Уже появляются люди в металлических шлемах, похожих на рыцарские, в проволочных шапочках, чтобы защититься от них. Вот — тоже другие…
Отец тогда объяснял это обесцениванием труда. Сказал, что с появлением телевидения аналогичный феномен стал наблюдаться в государствах третьего мира. Когда граждане бедных стран узрели воочию, как живут в Европе и США, то многие из них поняли, что напрягайся — не напрягайся, хоть переломись пополам, так жить не будешь. Тогда зачем работать вообще? Кстати, движение дауншифтеров, это уже в богатых западных странах, когда человек вдруг бросает все, переезжает куда-нибудь «ближе к природе», отказывается от карьеры, начинает вести непритязательную, спокойную жизнь: семья, сад, рыбалка — явление того же порядка. Только здесь сравнение происходит не с зарубежными, а с собственными, европейскими и американскими, миллиардерами. Ну и, конечно, играет роль вот эта штука, которая висит сейчас над Землей…
Он ткнул пальцем в выцветающее сентябрьское небо. Там, сквозь солнечную невнятную дымку ничего видно не было.
— Но они же вроде не вмешиваются в нашу жизнь, — сказала Лизетта. — А насчет всяких психогенетических излучений ты сам говорил, что это полная ерунда…
Отец причмокнул:
— Дело ведь не в прямом — инструментальном — воздействии, а в том, что звездолет арконцев сам по себе рассматривается подсознанием человечества как угроза. Представь, что над тахтой, где ты спишь, повесили гирю килограммов этак в шестнадцать. Конечно, закрепили ее надежно: на толстой стальной цепи, которая, в свою очередь, прочно принайтована к потолку, не оборвется, даже если ты сама повиснешь на ней. Физической опасности нет. Но сможешь ли ты, видя ее над собою, спокойно спать?
Лизетта представила себе эту картину: бр-р-р… И ей вроде бы стало понятно, почему ее иногда, как зимний воздух из форточки, прохватывает неожиданный страх. Ужасно хочется обернуться, будто за спиной у нее движется что-то опасное. Что-то рыхлое и бесформенное, но уже обретающее мерзкую плоть. И вот сейчас сфокусируется злоба зрачков, распахнется пасть, вытянутся хищные щупальца, обхватят ее мокрым холодом, чтобы утащить неизвестно куда… Но ведь не только это. С некоторых пор ей вообще кажется, что мир сейчас не такой, каким был всего год назад. Из него словно испарилась собственно жизнь. Вырожденное бытие, как по какому-то другому поводу сказал однажды отец: батарейка еще немного работает, слабенький ток течет, фигурки людей, благодаря этому, непрерывно перемещаются, но из движений их исчез прежний смысл, они хаотически тычутся то туда, то сюда, бесчувственно стукаясь друг о друга. Еще немного, и все это безнадежно замрет — она в одиночестве будет бродить среди пялящихся на нее, человеческих кукол.
Очень неприятное ощущение.
Как жить в таком мире?
Нет, жить в таком мире нельзя.
Из такого мира можно только бежать сломя голову.
Если, разумеется, есть куда.
У нее, к счастью, есть.
Вот почему Лизетта сидит сейчас на кухне, в квартире у Павлика, это через дом от нее, и терпеливо ждет, пока в смежной комнате закончатся сборы. Окно в кухне открыто, втекает снаружи сладко одуряющий зной, четвертый этаж, над подоконником чуть шелестят верхушки крупнолиственных тополей. Двор — в оконных расплывчатых бликах, отчего он кажется светлее, чем есть, а на детской площадке, в дальнем его конце, пузатый малыш пытается вскарабкаться на качели. Мать ему помогает, но он отталкивает ее руки: сам, сам, сам… На них, приподняв в полушаге переднюю лапу, взирает дворовый кот. Картинка необычайно яркая, и Лизетта вдруг понимает, что видит это в последний раз. Да, в последний раз, этого не будет уже никогда.
У нее сжимается сердце. Она вздрагивает и, чтобы скрыть волнение, посматривает на часы.
Около девяти утра.
— Хочешь чая? — сразу же приподнимается Павлик.
Чай он предлагает ей уже в пятый раз.
Лизетта едва удерживается, чтобы не ответить ему: хочу, чтобы ты замолчал. Павлик иногда ужасно ее раздражает. Целый год ходит за ней, как привязанный. Отец как-то сказал, что это инверсия гендерного репертуара. Тут сугубо биологическая основа: в мире животных самец в репродуктивный период демонстративно отказывается от доминирования и во всем, вплоть до поведенческих мелочей, подчиняется самке. Работает программа сопровождения — он следует за ней, куда бы она ни пошла. Работает программа демонстративной полезности — он всегда под рукой и готов помочь. Таким образом он доказывает, что способен обустроить совместную жизнь. Конечно, забавно звучит, но не следует забывать, что человек — существо не только социальное, но и природное. Нельзя абсолютизировать ни одну из этих сторон. Разве что у человека собственно «биология» подверглась интенсивной аккультурации: мужчина дарит цветы, клянется женщине в вечной любви, обещает достать с неба звезду, готов ради нее совершить любой идиотский поступок — ввязаться в драку или, скажем, прыгнуть в реку с моста. Биологическая основа сквозь эти культурные ритуалы практически не просматривается, и вместе с тем здесь наличествуют все те же брачные танцы, сложные и красивые, которые исполняют, например, журавли…
Он вдруг запнулся:
— Извини, я все время читаю тебе какие-то лекции. Занудство, наверное.
— Нет-нет! — воскликнула тогда Лизетта. — Напротив, мне очень интересно!.. Очень!..
А отец не слишком понятно сказал:
— Во многой мудрости много печали. Кто умножает познания, умножает скорбь. — И через секунду как бы нехотя пояснил: — Это Экклезиаст.
Пришлось потом смотреть в интернете, что такое «экклезиаст»…
Между тем сборы, кажется, близки к завершению. Слышно, как Ираида Игнатьевна, мать Павлика, судорожно вздыхает и, сдерживая в себе тугой воздух, сипит:
— Ну ты дави, Зина, дави… Иначе не застегнуть…
— Я давлю, — покорно отвечает Зиновий Васильевич. Это его отец.
А Тетка, сестра Ираиды Игнатьевны, говорит:
— Подвинься, болезный, дай я навалюсь…
И сразу после этого раздается облегченное:
— Справились наконец…
А затем насмешливый голос дядь Леши:
— Ну и зачем эти муки? Ведь ясно же сказано: никаких вещей с собой брать нельзя.
— Ничего, протащим, — говорит Тетка.
— Кто протащит, ты?
— Да хоть бы и я.
— Ну-ну, я посмотрю…
— Раз вы с Зинкой забздели, мужики хреновы, придется самой.
И Тетка так это увесисто говорит, что становится ясно — она, конечно, протащит, хоть чемодан, хоть три чемодана, хоть на Станцию, хоть куда, хоть на Терру, хоть на Кассиопею. Сердце у Лизетты снова сжимается. Тем более что Тетка, не понижая голоса, вопрошает:
— И объясните мне, ради бога, зачем нам нужна эта фифа?
Под «фифой» она, конечно, подразумевает ее.
Лизетта слышит, как дядь Леша озадаченно крякает, как мать Павлика поспешно сдвигает что-то тяжелое, пытаясь с опозданием заглушить эти слова, как бормочет Зиновий Васильевич: «Ну, ты, мать, осторожней — того…» А сам Павлик громко и неестественно кашляет, со стуком переставляет чашки, краснеет чуть ли не до корней бледных волос и шепотом, не поднимая глаз, говорит:
— Не обращай внимания…
Лизетте его немного жалко. Ну ведь не виноват человек, что у него такая семья. Или все-таки виноват? Жалко, жалко его. Однако жалость — это еще не любовь. И вообще, не совершает ли она ошибку: если на Терре окажутся такие, как Тетка, там будет не лучше, чем на Земле.
Она стискивает кулаки, так что ногти впиваются в мякоть ладоней.
Нет, этого просто не может быть!
Нет, ни за что!
Мы не позволим, чтобы земная дурость проникла вместе с нами еще и туда.
Это будет совсем другой — новый, прекрасный мир.
И все равно, уверенности у нее нет.
Выскакивают две мяукающие ноты из телефона. Марусик напоминает о том, что сегодня в десять часов возле здания школы состоится акция «День Открытой Земли», которая охватывает полторы тысячи городов. Все наши уже подтвердились, ждем. А где ты? Куда-то пропала… Лизетта морщится — ну да, очередной дурацкий флешмоб: соберутся толпой, вытянут руки к небу и будут махать, как бы давая сигнал арконцам, что хотят с ними дружить.
Девичий инфантилизм.
Павлик показывает ей свой сотовый. Ему пришло точно такое же сообщение.
— Будем им отвечать?
— Не стоит…
— А попрощаться?
На кухню заглядывает Ираида Игнатьевна:
— Вы тут как? Мы вроде бы — все…
Дядь Леша ей в спину кричит:
— Еще пятнадцать минут. Сейчас — глянем новости.
— Это на кой хрен? — возмущается Тетка. — Поехали уже. Хорош время терять…
Вдруг наступает странная пауза, а потом дядь Леша коротко говорит:
— Ну-ка присядь.
— Да я… — начинает Тетка.
— Кресло видишь?
— Вот: сядь туда и молчи.
Кресло грузно скрипит. Тетка, видимо, в самом деле усаживается в него. Ничего себе блям, отмечает Лизетта. А дядь Леша, оказывается, вовсе не прост. Неужели и Павлик такой же, как он, а я вижу его лишь сквозь «инверсию гендерного репертуара»?
Она с интересом смотрит на Павлика.
Тот как раз поднимается и слегка ей кивает: пошли.
Комната выглядит как после бандитского грабежа: ящики шкафа выдвинуты, в них матерчатыми цветными пластами проглядывает белье, одна из секций для одежды опустошена, зато на диване вздымается груда платьев, курток и шуб. Везде валяется скомканная бумага, пластиковые сумки, обрезки веревок, смятые полиэтиленовые мешки. И посреди этого пугающего разгрома, поставленный на попа, высится чудовищный чемодан, совершенно неподъемного вида.
Ну-ну. И как они собираются его тащить?
К тому же воздух в комнате напряжен. Он насыщен эмоциями выдернутых из обычной жизни людей. Кажется, чиркни спичкой, и он вспыхнет бледным огнем — сгорит дотла, образуется пустота, в которой будет нечем дышать. Тетка, как новогодняя елка, увешанная побрякушками, уже сейчас судорожно, по-рыбьи открывает и закрывает рот. Так же нервно вздыхает Ираида Игнатьевна, с потерянным видом топчущаяся у письменного стола. Она словно ищет что-то забытое и никак не может найти. И медленно, пытаясь, видимо, сохранить спокойствие, делает глубокий вдох, а затем выдох Зиновий Васильевич, сидящий как на допросе у следователя: руки на коленях, прямая спина, в глазах — тоска. Напряжения не чувствует, похоже, лишь один человек, неподвижный, примостившийся на стуле в углу. Зовут его, как уловила Лизетта, Чинок, и непонятно, что это — имя, фамилия или прозвище. Кажется, армейский товарищ дядь Леши. Правда, лучше бы уж он нервничал, как и все. Страшновато смотреть на его твердое, мертвое, как из застывшего парафина, лицо, на пластмассовые глаза, уставившиеся в одну точку. Кажется, что если Чинок вдруг попытается заговорить или, не дай бог, улыбнуться, то парафин потрескается, ссыплется чешуей, с мелким шорохом и откроется чуть сплюснутый по бокам череп в белизне гладких костей.
Так может выглядеть зомби, живой мертвец.
Хотя возможно, что у Лизетты тоже — нервные глюки. Тем более что дядь Леша, тычущий пальцем в пульт, не поднимая лица, говорит:
— Слушай, Чинок, ты бы пока откатил эту хрень. Вообще — сядь в машину, присматривай, как там и что…
— Угум, — отвечает Чинок.
И ничего, парафин с него не сыплется.
Чемодан с глухим грохотом едет к дверям. От его колесиков остаются вдавленные следы на паркете. Ираида Игнатьевна, глядя на них, чуть ли не всхлипывает:
— Год назад всего постелили, и вот…
— Спокойно, Маш, я — Дубровский, — прерывает ее дядь Леша, щурясь на пульт. — Сойди с «мутного глаза», мешаешь…
— Вон туда…
Экран телевизора наконец загорается, и диктор, точно с нетерпением дожидавшийся этого, строгим голосом говорит, что «по сообщениям из различных источников, имеется большое число жертв с обеих сторон. Бои идут в непосредственной близости от арконской Станции, периметр которой части, верные Нуала Ндогу, действующему президенту страны, контролируют со вчерашнего дня. Зафиксированы прямые попадания в защитное поле. В район столкновений срочно выехала миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций. Напоминаем, что представитель арконской цивилизации еще три дня назад заявил: прием мигрантов на данной Станции временно прекращен. Он подчеркнул также, что Аркон по-прежнему придерживается принципа абсолютного невмешательства во внутренние дела Земли».
Изображения, сопровождающие закадровый текст, темные и расплывчатые. Снималось, видимо, ночью, к тому же картинка непрерывно подпрыгивает и дрожит. Можно различить только вскакивающие и падающие фигуры, мутные вспышки, разрывы, плавающие в воздухе звездочки сигнальных ракет. И вдруг ясный и четкий кадр — огненный осьминог, корчащийся на пленке: защитное поле Станции растворяет в себе попавший в него артиллерийский снаряд.
— Это где? — испуганно спрашивает Ираида Игнатьевна.
— Это в Африке, — не оборачиваясь, говорит дядь Леша и поманивает ладонью мечущийся экран. — Ну, давай-давай, родной… Ближе к делу… Давай!..
Словно повинуясь его призыву, картинка меняется. Теперь это город, широченный проспект, ближние новостройки с мощными, будто крепости, мрачноватыми, еще сталинскими домами. Трехэтажное здание с портиком, чуть сдвинутое газоном от мостовой, окружено, будто кляксой, плотной толпой. Видны транспаранты: «Предатели!», «Арконские крысы!», «Руки прочь от Земли!», «Вы же люди! Останьтесь!», «Эта планета принадлежит только нам!»… Видна цепь полицейских, похожих в своем черном, стеклопластовом обмундировании на марсиан, виден лежащий на боку рогатый автобус, безобразно помятый, с выбитыми по всей длине стеклами, и другой автобус, еще на колесах, но тоже покореженный ударами в лоб.
— Разрастается инцидент в Санкт-Петербурге, — комментирует диктор, — где к гражданам города, уже третий день блокирующим эмиграционный пункт, присоединились жители Ленинградской области. Полиции пока не удается восстановить порядок. Во вчерашних столкновениях пострадали пять человек. Они госпитализированы. Дорожно-патрульная служба информирует петербуржцев, что проезд от центра по правой стороне Московского проспекта закрыт…
Камера смещается немного вперед, и становится видно, как из толпы в сторону трехэтажного особняка летят бутылки и камни.
— Сволочи! — с чувством говорит Тетка.
Дядь Леша тут же интересуется:
— Кто, те или эти?
— А все они сволочи, что здесь, что там — разницы никакой…
— Как же ты будешь там жить — если со сволочами?
Тетка машет рукой:
— А как жила здесь, так и там буду жить…
Лизетта думает: вот в том-то и дело. Тетка там будет жить точно так же, как здесь. И, наверное, не только она. Многие, оказавшись на Терре, впрягутся в лямки привычного муторного бытия. Спрашивается, зачем им лететь? Лизетта колеблется. Ей кажется, что выйти из квартиры — это пересечь невидимую черту, остротой лезвия отделяющую то, что было, от того, что есть. Ступить в иной мир, где все будет не так.
Она сама теперь станет иной.
Чувство это еще больше усиливается, когда они гуськом идут через двор. Солнечные блики, отражаясь от окон, бьют по глазам. Старухи на скамейке, приткнутой у парадной, комментируют их проход:
— Из четырнадцатой квартиры, намылились…
— На свой этот Уркон…
— Утекают?..
— А вот если нашим ребятам про них сказать?..
Шуршат, как змеи, ядовитые голоса.
— Не оборачивайся, — шепчет Павлик, взяв ее под руку.
Кожа его чуть обжигает.
Он в первый раз — вот так — осмелился прикоснуться к ней.
Машина ждет их недалеко от ворот. С виду это — маршрутка, у нее за стеклом даже прикреплена, как положено, табличка с указанием адресов. Чинок уже сидит на месте рядом с водителем. Дядь Леша неторопливо устраивается за рулем и, подождав, пока все успокоятся, говорит:
— Значит так. Слушайте внимательно, повторять не буду. Если нас остановят — полиция там, патруль или блокпост, то объясняться с ними буду я сам. Остальные молчат. — Он обводит командирским взглядом салон. — Все поняли? — Отдельно спрашивает у Тетки: — Ты поняла?
Та невнятно бормочет:
— Да поняла, поняла…
— Ну тогда — все. — Дядь Леша кладет руки на руль. — Как там Гагарин сказал, «Поехали!».
Урчит мотор, дядь Леша отжимает сцепление, маршрутка осторожно переваливает с тротуара на проезжую часть, колеса соскакивают с поребрика, салон слегка вздрагивает, и Лизетте, прильнувшей к окну, кажется, что вместе с ним вздрагивает весь мир…
Андрон сидит, прижав ладони к коленям, и старается, чтобы вид у него был естественный. На самом деле это не просто. Внутреннее напряжение дает о себе знать. Конечно! В такие административные выси он еще не взлетал. На первый взгляд, кабинет самый обычный: полированный стол с круглой лампой, с календарем, с держателем для авторучек и карандашей, еще один столик сбоку, поменьше, на который водружен большой монитор, в углу — тумбочка, где поблескивает электрочайничек и несколько чашек, шторы на окнах, стандартный, из трех матовых дисков светильник на потолке. Ничего особенного. Разве что вместо ламината — паркет, и разве что дверь, в которую он из приемной вошел, закрылась мягко и плотно, исключив какое-либо проникновение звуков изнутри и извне.
И все же чувствуется, что кабинет этот пропитан властью. Воздух здесь будто из электричества: вот-вот засверкают по всей шири его обжигающие, мелкие искры. Андрон, как и многие, знает, что это не простой кабинет. Именно сюда спускается президент, чтобы в тесном кругу, где можно разговаривать откровенно, обсудить назревшие стратегические вопросы. По слухам, именно здесь в напряженные дни присоединения Крыма, когда в Черное море выдвинулся для демонстрации силы американский военный эсминец, один из новейших имеющихся на вооружении США, обсуждался тяжелый вопрос: насколько далеко мы можем зайти в ответных действиях? Вот когда действительно полыхали электрические разряды. Вот когда жутковатый, сухой треск заглушал голоса. Мы не нападаем, мы защищаемся, сказал тогда президент. Он тер серые щеки, в складках отливающие желтизной. Набрякли под глазами мешки. В четыре часа утра вопрос был решен. Через сутки российский бомбардировщик СУ-24М имитировал на эсминец боевую атаку, одновременно вырубив на подлете всю корабельную электронику, после чего тот, ковыляя, покинул Черное море.
— Так в чем все-таки состоит главная трудность? — негромко спрашивает Скелетон.
Отвечать надо сразу, кратко и четко. Раздумья и длинные объяснения воспринимаются им как признак некомпетентности. Оргвыводы могут последовать незамедлительно. Никто не умеет так быстро и беспощадно избавляться от ненужных людей, как этот немногословный и очень сдержанный человек. Поэтому Андрон одним абзацем формулирует мысль: главная трудность переговоров заключается в том, что арконцы ни под каким видом не передадут нам своих технологий: разрыв знаний слишком велик, есть риск, что посыпятся целые секторы мировой экономики, мы просто не сможем выкарабкаться из-под обломков.
— А что там наш российский эксперт? — спрашивает Скелетон. — Он реально осознает, какая задача поставлена перед ним?
В руках у него появляется карандаш, и Скелетон начинает его тупым, круглым концом постукивать по полированной деревянной поверхности. Согласно «табличке жестов», которую Андрон недавно купил, это и не хорошо, и не плохо. Это просто состояние неопределенности. Постукивание означает, что Скелетон еще не пришел к какому-либо решению.
Если только табличка не врет.
— Профессор Коврин… Это ведь вы его рекомендовали.
В том смысле, что ответственность за рекомендацию несет тоже он.
Андрон опять очень коротко объясняет, что контроль над переговорами, в частности над каждой группой экспертов, с самого начала организован был таким образом, что никакую информацию, полученную от арконцев, скрыть невозможно. ДЕКОН за этим строго следит. Фиксируется каждый взгляд, каждое слово, протоколы тут же выкладываются в рабочую сеть Центра и непрерывно, в режиме онлайн, анализируются экспертным сообществом.
— Мы можем лишь по-своему интерпретировать то, что известно всем, — заключает он. — Аналогичным образом действуют и другие группы экспертов. Однако даже эту нашу собственную интерпретацию мы обязаны зарегистрировать в протоколе. Либо — держать ее при себе. Технической возможности передать информацию вне официальных каналов у нас нет.
Андрон недоумевает. Все это должно быть Скелетону известно не хуже, чем ему самому. Протоколы переговоров Скелетон, разумеется, не читает, но референты, несомненно, представляют ему соответствующие конспективные изложения. И со спецслужбами он данный вопрос, вероятно, уже не раз обсуждал. Так в чем же дело? Стоило ли ради этого его вызывать? Стоило ли десять часов лететь в самолете, чтобы на банальный вопрос дать такой же банальный ответ?
Между тем Скелетон костяными пальцами перехватывает карандаш и направляет его острие вперед.
Такой жест требует повышенного внимания.
Если опять-таки табличка не врет. Скелетону в ней уделено двадцать шесть строк. Президенту, кстати, немногим больше — тридцать одна. Не случайно шепчутся в кулуарах, что правит у нас не президент, а именно Скелетон. Президент соглашается с ним в восьми случаях из десяти.
Итак — Скелетон.
— Задача наших экспертов, — скрипучим голосом поясняет он, — заключается не только лишь в том, чтобы отстаивать на переговорах интересы всего человечества, чему мы, разумеется, будем неукоснительно следовать, но еще и в том, чтобы по мере возможностей отстаивать национальные интересы России. Мы не можем позволить, чтобы стратегические инновации, которые способны изменить весь облик Земли, присвоила и использовала какая-то одна из держав. Вам это понятно?
Недоумение у Андрон сменяется разочарованием. Так это что? Это обычная начальственная накачка? Они видят, что переговоры идут, а результаты работы — микроскопические. Они рассчитывали на чудо, которое, пролившись дождем изобилия, позволит им и дальше удерживать власть в стране. Но чуда, вопреки их надеждам, все нет и нет. Нет чуда, нет волшебного преображения. Нет благодатного ливня, предвещающего спокойные, тучные годы, заслугу за которые можно было бы приписать себе. Напротив, понемногу становится только хуже. Паркет в кабинете чуть-чуть поскрипывал, когда Андрон шел по нему. И точно так же сейчас чуть-чуть поскрипывает все здание, вся страна. Он вспоминает, что недавно прочел статью, где говорилось, что Контакт с иным разумом — это испытание земной цивилизации на прочность. Проверке на излом подвергается все: мировоззрение, культура, экономика, геополитическая конфигурация. Причем относится это не только к цивилизации в целом, но и к каждому отдельному государству — к каждой нации, к каждому народу, к каждому человеку. Вся земная жизнь должна теперь измениться. А мы разве способны на это? У нас — вертикаль, жесткая конструкция власти, арматура, в принципе не подлежащая никаким изменениям. Она прочна, пока представляет собой монолит, но стоит треснуть хоть одной из опор, и начинается вот такое тихое, но опасное поскрипывание. Скелетон это поскрипывание уже слышит. И, вероятно, так же слышит его президент.
А больше всего они, видимо, опасаются, что Америка, которая технологически сейчас намного сильнее других, аккуратно, в тайне от всех выпиливает для себя из тех же переговоров некий важный фрагмент, и это уже в ближайшие годы даст ей реальную власть над миром. Вот страх, от которого их трясет по ночам, от которого прошибает пот и леденеют даже бесчувственные костяные пальцы. И что с этим делать? Ну ясно — вызвать непосредственного исполнителя и накачать его так, чтобы и того ледяной пот прошиб. И ведь действительно прошибает. Андрон чувствует, как у него стекает по сердцу омерзительный холодок. Сколько было потрачено сил, чтобы попасть в этот треклятый ДЕКОН. Сколько потребовалось перешептываний, интриг, обещаний (которые он вовсе не собирается выполнять, хотя кое-что выполнить все же придется), сколько было взято на себя обязательств, сколько было сделано суетливых телодвижений, чтобы втиснуться в лифт, стремительно движущийся наверх. Но попал он туда все же чисто случайно. Взмахнула крылами та пара страниц, которые еще в мае ему переслал Илья. И вот теперь этот лифт грозит обрушиться вниз. Пара полузабытых страниц его уже не спасет. Потому что кто окажется виноватым, что чуда не произошло? Что те двенадцать — четырнадцать человек, которые на самом деле управляют страной, лишь облизнутся при виде вкусного пирога, но сами от него не получат ни крошки? А это значит, что он, Андрон Лавенков, ссыплется в придонную слизь, в тину, в мелкий исполнительский бентос, где копошатся моллюски, ракообразные и червячки. И — уже навсегда.
— Да, я это понимаю, — отвечает он.
Он лишь надеется, что ненависть, переполняющая его сейчас, в голосе не слышна. Ненависть к идолу, демиургу, который движением высохшего мизинца может смахнуть его в склизкую черноту.
Отвратительное ощущение — чувствовать себя червячком.
Острие карандаша по-прежнему нацелено на него.
— У вас есть конкретные предложения?
Конкретных предложений у Андрона, разумеется, нет. Однако сознаваться в этом нельзя. Сознаться — значит, самому вычеркнуть себя из административного бытия. Поэтому, выждав для солидности пару мгновений, он отвечает, что конкретное предложение у него, разумеется, есть. Сейчас они вместе с профессором Ковриным как раз разрабатывают сюжет, на который пока никто внимания не обратил. Не вдаваясь в научную терминологию, можно сказать, что мы хотим сделать ставку на гуманизм.
Бесцветные брови у Скелетона на миллиметр сдвигаются вверх.
— Гуманизм?
Скелетон, кажется, удивлен.
Словно в кабинет залетел немыслимый здесь майский жук, стал гудеть над нашими головами.
Но ведь удивить — это почти победить. И Андрон, не торопясь, объясняет, что наши… э-э-э… политические партнеры… акцентируются в переговорах по большей части на технологических инновациях. А это, как давно стало ясным, тупик. Делиться с нами своими технологическими достижениями арконцы не станут. Мы же сейчас хотим сосредоточиться на инновациях гуманитарных, прежде всего — как сделать так, чтобы эффективнее, качественнее стал сам человек. Вот что может арконцев действительно заинтересовать. Гуманитарные инновации, собственно гуманизм — это, если так можно выразиться, их слабое место, то, что они ценят выше всего. Арконцев шокируют масштабы насилия на Земле. Они считают, что уровень его недопустимо высок. И если мы сумеем грамотно задействовать данный регистр, то вполне можем рассчитывать на их содержательное внимание. Полагаю, что через две недели проект будет готов…
Андрон и сам не очень хорошо понимает, о чем говорит, но надеется, что течение слов породит в конце концов некую мысль. Или, по крайней мере, видимость мысли, семантический призрак, который потом можно будет оформить в проект.
Сейчас главное — выиграть время.
Остаться в кабинке лифта, пока еще продвигающегося на верхние этажи.
Ведь не случайно же он оказался именно здесь.
В кабинете, где на острие простого карандаша сконцентрирована настоящая власть.
Вместе с тем он чувствует в себе тревожную пустоту и очень боится, что ее также почувствует и Скелетон. Ведь за словами, которые он произносит, ничего не стоит, а Скелетон как раз и славится тем, что, словно рентгеном, просвечивает каждого человека насквозь.
И вдруг карандаш, нацеленный на него, опускается.
— Проект? — переспрашивает Скелетон.
— Да, проект…
Две или три секунды в кабинете царит настороженная тишина, а затем Скелетон откидывается на спинку кресла и чуть-чуть приподнимает уголки бледных губ. Согласно той же табличке — высшая степень административного одобрения.
— Ну что ж, тогда через две недели я жду от вас соответствующий документ…
«Что я ему такого сказал? — думает Андрон, идя по длинному коридору. — Что я ему такого сказал, что он при всей своей легендарной выдержке изменился в лице? Ведь, если говорить откровенно, я ему, в общем-то, ничего не сказал: набор случайных фраз, формально сцепленных между собой».
Он жмет руки и отвечает на приветствия встречных. Коридор за эти минуты претерпевает поразительные изменения. Сюда Андрон шел — ни одна муха не прожужжала: пустота, эмаль белых дверей, хранящих государственные секреты. Теперь же двадцатый, наверное, человек, вынырнувший из кабинета как бы по делу, со значением в голосе сообщает, что рад его видеть. Сколько искренних, доброжелательных восклицаний, сколько торопливо протянутых дружеских рук. Они уже знают, думает Андрон, приветливо улыбаясь в ответ. Прошло тридцать секунд, не больше, а они уже знают, что Скелетон мою работу одобрил. Прямо какие-то излучения просачиваются сквозь стены. Какие-то бюрократические нейтрино, распространяющиеся со скоростью света.
И не то чтобы ему это не нравилось. Нет, на данном этапе — это громадный карьерный плюс. Это гарантия, что в ближайшее время он не слетит. И все же внутри у него что-то ноет, что-то побаливает, будто воткнулась туда заноза, выточенная изо льда.
Андрон знает, что это надолго.
До тех пор, пока все не станет предельно ясным.
Вот только когда это произойдет?
«Так что же такое я Скелетону сказал? — думает он, направляясь к лестнице. Что я ему такое сказал, черт меня побери? Что я ему сказал? Ведь я же явно подкинул ему какую-то очень неплохую идею…»
«Инцидент первого дня», как он был назван впоследствии, до сих пор служит предметом ожесточенных дискуссий. Одни эксперты, видимо под впечатлением фильмов типа «День независимости», рассматривают его как прямую агрессию пришельцев против Земли. Дескать, арконцы сразу же попытались взять под контроль сознание большой группы людей, и не просто людей, а представителей властных и когнитивных элит, и через них навязать свою волю всем остальным. К счастью, им это не удалось. Земляне в подавляющем большинстве оказались устойчивыми к воздействию зомбирующего «психогенного поля». Зато теперь стали предельно ясны планы «галактических оккупантов» — они намерены превратить человечество в стадо покорных рабов.
Другие эксперты, напротив, считают, что это была лишь неудачная попытка тестирования. Арконцы попробовали таким образом выявить, насколько их психика совместима с психикой человека и можно ли на этой основе установить с людьми прямой (экстрасенсорный) контакт. Впрочем, в подтексте речь здесь тоже идет об агрессии, ведь тестирование, как оно было осуществлено, проводилось без ведома и разрешения реципиентов.
Обе точки зрения, хоть и были официально отвергнуты, но легли мрачной тенью на последующие события.
Сейчас трудно сказать, кому пришла в голову светлая мысль превратить первый раунд переговоров в торжественный и вдохновляющий церемониал, в общеземной Праздник Контакта между арконцами и людьми. Вероятно, здесь сработала компенсация за довольно-таки глупое стояние делегации Генеральной Ассамблеи ООН при посадке арконского модуля, когда к великому разочарованию всех, из него так никто и не вышел. (Арконцы в конце концов известили, что им необходимо время для адаптации к земной атмосфере.) Ну да это неважно. Подготовка к прибытию звездных гостей и без того была исключительно напряженной. Мы, и прежде всего наш Технический комитет, испытывали острейший дефицит времени. Согласно расчетам арконцев они должны были выйти на орбиту Земли всего через месяц после установления радиосвязи, и, кстати, группа физиков Массачусетского технологического института, исходя из расстояния от Земли до Марса, уже попыталась — в первом приближении, разумеется — нащупать возможные принципы движения инопланетного корабля. Я в физике мало что понимаю, и потому в данную проблему вдаваться не буду, зато видев многое своими глазами, могу твердо сказать, что Технический комитет, отвечающий за материальную сторону подготовки, с первой же отмашки флажка работал в режиме непрекращающегося аврала. В зоне прибытия (пятьдесят километров от Напалеба) монтировались ячеистые, как соты, огромные геодезические купола, возводились корпуса трехэтажных гостиниц для экспертов и технического персонала, оборудовался мощный центр связи, накатывались асфальтовые дорожки, высаживались вдоль них пальмы и цветники, копались рвы, укладывались трубы и кабели, создавался в отдельном секторе обширный транспортный парк, бурились артезианские скважины для воды. Воды у нас вообще катастрофически не хватало. Та, что начали качать из водоносных пластов, имела какой-то специфический минеральный состав, пить ее без сложной очистки было нельзя, она использовалась только для технических нужд. Из Напалеба, где были пробиты скважины к другому пласту, ежедневно прибывал громадный автопоезд цистерн. Все равно норма выдачи питьевой воды ограничивалась лишь четырьмя литрами в день. На жизнь, в общем, хватало, но, как я понимаю, нервировало нашу администрацию тем, что в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств мы могли продержаться на аварийных запасах не более двух-трех суток.
Особое внимание, разумеется, уделялось самому сектору переговоров. Все две недели, прошедшие после посадки (и если бы не этот внезапный временной лаг, строительство не успели бы завершить), черный конус арконского модуля, первоначально едва высовывавшийся из песка, быстро рос и наконец превратился в гладкую сферу диаметром около девяноста метров и высотой около тридцати. Цвет его из зловеще черного стал серебристым, легким, будто отвердевший туман, а сам громадный бархан при этом исчез (физики говорили, что тут, наверное, работает «конвертер материи»). Так вот, по взаимному согласованию, метрах в пятидесяти от защитного поля, обозначенного яркой оранжевой полосой, был возведен шестигранный Павильон в виде ротонды: зеркальные, односторонние окна, кондиционеры, зал на семьдесят мест, начиненный аудио- и видеоаппаратурой. Чак Джабата (для меня к тому времени уже попросту Чак), профессиональный переговорщик, некоторое время работавший в ФБР (о чем меня тут же проинформировал Андрон Лавенков), объяснил, что это так называемый «показательный жест»: арконцы, видимо, изучили дипломатические протоколы Земли и таким образом демонстрируют нам равенство обеих сторон. Если бы они пригласили нас под Купол, к себе, то это выглядело бы как «побеждённые» являются к «победителю». Если же переговоры ведутся на земной территории — то есть, напротив, арконцы сами являются к нам, — то это означает, что они признают суверенитет Земли. Так что Павильон был возведен неспроста, и неспроста от Купола, точнее от границы защитного поля, была к нему пристроена округлая стеклянная галерея, по которой арконская делегация должна была каждый день проходить.
Ну что ж, может быть.
Профессионалам виднее.
Во всяком случае, в течение этих полутора полутора месяцев обстановка в Центре представляла собой настоящий строительный ад: все вокруг дико ревело, подрагивало, как при землетрясении, жутко бухало, взвизгивало, оглушительно грохотало, проползали тяжелые грузовики, вгрызались в оплывающие барханы бульдозеры, поворачивались монтажные краны, взмахивали зубчатыми пастями экскаваторы, то и дело приземлялись транспортные вертолеты, рычали бронетранспортеры, едущие неизвестно куда, трусцой пробегали туда же солдаты, на каждом свободном метре, будто термиты, копошились рабочие в желтых светоотражающих куртках. Нигде шагу нельзя было ступить, чтобы не споткнуться о доску, кабель, перегородку, трубу или о какой-нибудь загадочный растопыренный механизм.
Мы, теперь имеется в виду команда международных экспертов, провели в этом аду почти три недели. Размещать нас, пускай даже временно, в Эр-Рияде оказалось рискованно: там как раз в эти дни начались масштабные столкновения демонстрантов с полицией, выросли на улицах баррикады, то и дело вспыхивала беспорядочная стрельба, счет пострадавших шел на десятки, а по неофициальным данным на сотни гражданских лиц. Правительство объявило в стране чрезвычайное положение, но сбить репрессиями волну протестов не удалось. Напалеб же, ближайший к нам городок, для размещения нашей компании тоже совершенно не подходил: полсотни мелких строений, полузаброшенных, среди песков, никакого приемлемого жилья, никакой инфраструктуры. Неделю нам пришлось прожить в армейских палатках, каждая на шесть человек, воспоминания об этом, я думаю, сохранятся у меня на всю жизнь, и лишь в середине мая, когда уже навалилась жара, нас переселили в гостиничные корпуса, где еще полным ходом шли отделочные работы. Спать приходилось то под сверление, казалось, над самым ухом, то под упорное, с утра до утра, долбление стен, вдыхать то запах краски, то свежезамешанного бетона, то просто душную белесую пыль, висящую между стен.
Бытовые мелочи, впрочем, отходили на задний план. У нас, экспертов, был свой аврал, тоже не прекращающийся ни на секунду. Лавенков как-то обмолвился о «битве народов», которая вспыхнула во властных верхах, едва команду экспертов начали формировать: каждая из великих держав пыталась протолкнуть туда побольше своих. Аналогичная битва теперь вспыхнула и у нас. И если со структурой рабочих групп из четырех-пяти человек (так просили арконцы) мы справились довольно легко, то ожесточенные разногласия вызвал вопрос о стратегии переговоров: что именно в результате их мы хотим получить. (Всё! — сразу же вскричал Пламен Дончев, как выяснилось, самый темпераментный среди нас.) Спичку к сухой щепе поднес Чак. Дождавшись, пока Пламик после своего восклицания перестанет довольно ржать, он спокойным голосом пояснил, что наша позиция на переговорах является очень слабой. Конечно, хорошо, что арконцы придерживаются внешнего, формального равноправия, но ни о каком содержательном равенстве и речи не может быть. Слишком уж различаются силы сторон. Слишком велик разрыв в уровнях цивилизационного бытия. И здесь же Чак сформулировал главную мысль: основная трудность для человечества заключается в том, что нам, в сущности, нечего предложить. У нас нет ничего, что могло бы арконцев заинтересовать. И потому базовая стратегия переговоров, если выражаться простыми словами, должна быть такой: брать, что дают, и непрерывно за это благодарить. Модель — детский сад, куда заглянула проверочная комиссия. Мы не должны надоедать взрослым людям своими капризами и нытьем. Мы не должны дергать их за полы одежд и клянчить всякую привлекательную мишуру. Нам следует наивно радоваться и лопотать, тогда есть надежда на горсть вкусных орешков, пряников или конфет.
Это выступление Чака вызвало катаклизм эмоций. Разумеется, руками никто не размахивал и никто, кроме Пламика, голоса не повышал. Сдержанность и корректность — одно из положительных качеств научной среды. Вместе с тем тут же хлынула такая лавина язвительных замечаний, сразу же возник вокруг Чака такой смысловой накал, что, казалось, его разъедают пары невидимой кислоты. Мне особенно врезалось в память высказывание Хаймы ван Брюгманс, профессора социологии из Амстердама и одновременно президента известной организации, отстаивающей права меньшинств, что «уважаемый доктор Джабата навязывает нам всем комплекс «хорошего негра», который белые американцы пытались внедрить в своем расовом обществе еще сто лет назад». Дескать, «хороший негр» заведомо признает белого человека неким высшим по отношению к себе существом, заведомо соглашается, что белый человек желает негру только добра и потому безоговорочно подчиняется ему, белому человеку, всегда и во всем. Своеобразная инвектива, особенно если учесть, что сам Чак, типичный афроамериканец, был чернее смолы.
Интересно, что в роли главного оппонента Чака неожиданно выступил я. Когда дискуссия двинулась по второму кругу, то есть по обыкновению всех дискуссий начала буксовать, я высказался в том духе, что, как ни странно, нам все-таки есть, что предложить нашим звездным гостям. Речь идет о глобальном гносеологическом кризисе, скромно заметил я и пояснил, что земная наука пока развивается исключительно экстенсивным путем: каждая разгаданная тайна природы высвечивает две новые, которые опять-таки требуется разгадать. Фронт познания расширяется непрерывно. Пока явных границ ему вроде бы нет. Однако это не означает, что так будет всегда. Вселенная, разумеется, бесконечна, но не бесконечно разнообразна, сказал я. Она однородна и изотропна. (Именно так! — своим музыкальным голосом немедленно подтвердила Ай Динь. Она как астрофизик уже поняла, к чему я веду.) Для цивилизации, неимоверно превосходящей земную, может в конце концов наступить тот час, когда основные законы мира будут прояснены. Тогда процесс познания из творческой деятельности превратится в рутину, в механическое накопление унылого «информационного вещества». Говоря проще, если при делении одной амебы образуются две, то принципиально нового организма не возникает: происходит количественный, но не качественный рост. Достижение гносеологического предела — вот с чем, скорее всего, столкнется любая высокоразвитая цивилизация. Между тем познание — имманентная функция мозга. Человек, хомо сапиенс, лишь постольку является человеком разумным, поскольку он способен учиться и познавать. То же самое, видимо, верно и для всякого разумного существа. Остановка познания приведет к острому системному кризису: гносеологическая энергия, наткнувшись на внешние ограничения, обратной волной хлынет внутрь и породит конфликт, который в границах данной цивилизации (или данной вселенной) будет неразрешим. Единственный выход из этого кризиса — найти другую вселенную. И такой вселенной, правда вселенной метафизической, является другая культура. Вот что человечество может вложить в межзвездный проект: другую вселенную, другую культуру, познавая которую, арконцы одновременно будут по-новому познавать и себя. Мы можем предложить им Вселенную смыслов, Вселенную художественных эмоций, которую, даже в первом — чисто культурологическом — приближении, будет не исчерпать.
Должен заметить, что речь моя возымела определенный эффект. Чак сразу же поднял обе ладони, как бы признавая: сдаюсь. Довольно быстро было выработано и то, что мы — все же после некоторых разногласий — назвали «стратегией ожидания». Это была стратегия медленного смыслового сближения, стратегия постановки вопросов, ответы на которые (или отказы от ответов на них) позволили бы нам судить и о технологическом уровне арконской цивилизации, и о том, чего они в действительности от нас хотят. По крайней мере, наметить примерные, рабочие контуры отношений. Интересно, что позже Чак мне честно признался, что именно этого он, в сущности, и стремился достичь: сразу же обозначить крайности и тем самым их избежать. С одной стороны, чтобы мы не ринулись навстречу арконцам с инфантильными криками «Давайте дружить!», а с другой, чтобы мы не считали их заведомыми врагами, ни одному слову которых верить нельзя.
Интересно, что первое, по его мнению, было даже опасней второго.
— Вспомни, — сказал он мне где-то дней через пять, — как в девяностые годы, когда в России рухнула тоталитарная власть, вы, распахнув объятия, ринулись к Западу именно с криком «Давайте дружить!». А дружить с вами никто не намеревался. Запад, то есть Европа и США, вообще не понимают, что такое «дружить». Они воспринимают лишь конвенциональные отношения: вот договор, его следует соблюдать. Отсюда — претензии и обиды обеих сторон, закономерно — через несколько лет переросшие в острый конфликт.
Это было в ночь «бунта экспертов». Мы сидели у Чака в номере, в пахнущей краской гостинице, на втором этаже, к тому времени приведенном в божеский вид, Чак потягивал виски, я — привезенный с собой армянский коньяк. Присутствовала вся наша группа, которая уже была сформирована: и Дафна, время от времени странным тягучим взглядом посматривавшая на меня, и Ай Динь, похожая на воздушный цветок, в свою очередь, улыбавшаяся каждому слову Чака, и полный нервного смятения Юсеф, в чьем желтоватом, истаявшем, будто от лихорадки, лице, казалось, проступала судьба. Юсеф только что произнес страстную речь перед собравшимися в конференц-зале экспертами и все еще пребывал в горячечном ораторском возбуждении. Как я начинал понимать, он в таком состоянии пребывал всегда.
Собственно, мы все пребывали в таком состоянии. Все же бунт — не бунт, бунтом это было трудно назвать, но мы только что предъявили нашей администрации подлинный ультиматум, и никто не знал, каким будет его итог.
Неизвестность, неопределенность — вот что изматывает человека больше всего.
Чак в эту ночь успокаивал нас как мог. Сам он считал, что независимо от причины «бунта» мы поступаем правильно. Рано или поздно, мы такой ультиматум все равно должны были бы предъявить. Так почему бы этого не сделать сейчас, в самый благоприятный период, когда структура административного подчинения еще четко не определена. Конкретная причина протеста, говорил он, не столь уж важна. Гораздо важнее то, чтобы мы проявили себя как организованное смысловое сообщество, как самостоятельная единица, имеющая права, которые никто не может у нас отобрать. Если мы сразу же на этом не настоим, нас будут в дальнейшем рассматривать лишь как обслуживающий персонал, который должен без возражений исполнять любой административный приказ.
Аргументы его выглядели вполне логичными, но мне все же было как-то не по себе. Слишком уж неожиданно закрутился этот водоворот. Связан он был с мерами секретности и безопасности, которые с самого начала попытался установить наш Комитет. Мы, разумеется, понимали, что и то, и другое необходимо, пресса уже больше месяца вскипала самыми дикими предположениями, никому не хотелось, чтобы таблоиды, тем более «народные» электронные СМИ, обмусоливали едкой слюной каждый наш шаг. Определенные ограничения были естественны, и меня, например, нисколько не удивило, что сразу же по прибытии в Центр нас вежливо попросили сдать сотовые телефоны, вместо них выданы были другие, специальные аппараты, замкнутые исключительно на внутреннюю локальную сеть: выйти во внешний мир с них было нельзя. Связываться с родственниками, коллегами или с друзьями нам разрешалось через особый переговорный пункт, и кстати, хоть напрямую об этом объявлено не было, но как-то подразумевалось само собой, что наши разговоры будут прослушиваться, как будут прослушиваться и разговоры по локальной сети. Неприятно, конечно, но все же как бы в порядке вещей. И, между прочим, когда я, будучи еще в Эр-Рияде, позвонил оттуда домой, Анжела мне сообщила, что как раз вчера вечером к нам на квартиру приходили двое мужчин, представившихся сотрудниками ФСБ, и очень подробно расспрашивали ее обо мне, в том числе — не имеются ли у меня какие-нибудь психические или сексуальные отклонения.
— Вежливо так расспрашивали, почти три часа, записывали ответы на диктофон. Ну насчет отклонений я им ответила — один, который моложе, даже слегка покраснел!..
Я, конечно, попытался устроить Лавенкову скандал, но Андрон даже слушать не стал, скучно заметив:
— А ты чего ожидал? Взрослый же человек. Конечно, будут просвечивать и меня, и тебя. И всех, кто причастен к процедуре Контакта. Надеюсь, Анжелка твоя ничего не брякнула? Люди, склонные к маргинальному сексу, считаются ненадежными…
В конце концов я махнул рукой.
Но тут, в гостинице, все выглядело по-другому. Выяснилось, что во всех номерах смонтированы компактные видеокамеры. То есть наблюдать за нами будут круглые сутки. Обнаружил это, конечно, Юсеф, сам я на черный глазок, подсматривающий из угла, внимания не обратил. И вот, надо же — не поленился обойти все три этажа, через час в конференц-зале образовался стихийный митинг. Руками, замечу, опять-таки никто не размахивал и немедленно выйти на баррикады не призывал, но общее мнение было единым: мы не подопытные морские свинки, чтобы регистрировать и исследовать каждый наш шаг. У нас есть право на частную жизнь. Предложение немедленно начать забастовку было все же отклонено, но протест против видеонаблюдения подписали практически все.
— Ну-ну, — с иронией сказал Лавенков, заглянувший ко мне после митинга на пару минут. — Съест-то он съест, да кто ж ему даст.
Тем не менее с середины следующего дня видеокамеры из номеров начали убирать. Говорят, что на бурном заседании Комитета наш протест неожиданно поддержал сам Лорд, пригрозивший, что в противном случае подаст в отставку. Господину Петру Буреску с его «сигуранцей», координировавшему в Центре работу спецслужб, в этот раз пришлось отступить. В пузырении митинговых страстей, как-то запамятовалось, что номера наши могут еще и прослушиваться, но когда сообразили об этом, собирать второй митинг уже никто не хотел. К тому времени образовались у нас другие заботы. Первоначальный энтузиазм быстро угас. Тем более что обнаружить «жучки» можно было лишь с помощью специальной аппаратуры, которой мы, эксперты, естественно, не располагали. Пришлось положиться на честное слово господина Буреску, что никаких «жучков» в наших номерах нет.
«Ночь бунта» имела еще одно важное следствие. Она необыкновенно нас сплотила и сблизила. Я имею в виду прежде всего нашу группу. Ночи в пустыне вообще-то холодные, температура в гостинице, если учесть, что отопление еще не успели полностью запустить, стояла такая, что при дыхании заметен был пар изо рта. Сидели в куртках, джемперах, свитерах, грелись виски и коньяком — впрочем, последнее касалось лишь нас с Чаком. Зато Ай Динь заварила какой-то волшебный чай — согревал, буквально обволакивая гортань, один его пряный, травяной аромат. За окном горели прожектора, рычали и лязгали экскаваторы, выкапывающие на Стрите ямы для пальм. Настроение у всех было приподнятое. Обсуждали мы, разумеется, в первую очередь «бунт», но в подтексте сумбурного разговора звучало нечто иное. Нечто такое, что действовало на всех нас. Напрямую об этом слова никто не сказал, но, по-моему, мы все чувствовали, что попали в какой-то удивительный сон, в нездешнюю, преобразованную реальность, где, как в фокусе, сошлись векторы земных чаяний, и что отныне мы — это уже не просто мы, а облеченные доверием, полномочные представители человечества, что истекают последние минуты старого мира и что с нас начинается высокая миссия, которая изменит всю жизнь на Земле.
Это был, вероятно, лучший вечер из тех, что мы провели в Центре. Начало любого большого дела — всегда немножечко праздник. Помню, что ближе к концу чаепития я случайно глянул на Дафну, и она вдруг ответила взглядом, от которого меня бросило в жар. Так мы сидели, изучая друг друга, наверное, секунд пять. И если можно сказать что-то без слов, то это была именно такая безбуквенная и беззвучная речь. Пять секунд протекли, словно вся жизнь. А потом Дафна отвернулась, резко вздохнула и встряхнула ладонями, будто ссыпав с себя шелуху прежних дней.
— Все… Уже поздно… Я, пожалуй, пойду…
К сожалению, я не могу разложить по полочкам «инцидент первого дня». То есть я, конечно, могу — и во всех подробностях — рассказать, как этот злосчастный день начинался, как я утром вставал, умывался, одевался, завтракал и т. д., как прослушал по внутреннему оповещению очередные инструкции, зачитанные Мариной Тэн, как наблюдал из окна прибытие делегации Генеральной Ассамблеи ООН (кстати, урезанной после долгих дискуссий до пяти человек), как, точно пчелы, роились вокруг прибывшие журналисты и как опять, уже второй раз, выстраивался взвод почетного караула — в белых мундирах, с золотыми перьями бунчуков. Все это я рассказать могу. Но кого это будет интересовать? И наш Центр, и подробности нашего быта, и саму делегацию, и подготовительный церемониал много раз показывали по телевидению. Ничего нового я сюда не внесу.
Я могу рассказать также о реальном начале Контакта: как в серебристом покрытии Купола образовался небольшой темный овал (именно образовался, не сдвинулся назад или вбок, а как бы взял и исчез), как появился оттуда Виллем, хотя это имя еще не было произнесено, и поднял руки в традиционном арконском приветствии. Как он, не торопясь, прошествовал за стеклянным покрытием галереи, как пропорхнул по аудитории шорох, когда во плоти шагнул в конференц-зал неземной человек, как генеральный секретарь ООН произнес короткую речь и как Виллем, вновь приподняв руки над головой, попытался произнести в ответ несколько слов. Все эти кадры опять-таки можно легко найти в интернете. Однако о самом главном, о том, что читателей интересует больше всего, о хаосе, внезапно обрушившемся на нас, о невообразимой сумятице, перевернувшей конференц-зал вверх дном, я внятно рассказать уже не могу и лишь замечу в свое оправдание, что никто из присутствовавших там в этот день, несмотря на последующие многочисленные интервью, так и не сумел нарисовать полной и объективной картины. Роликов ее в интернете вы тоже не обнаружите. Все записи, сделанные журналистами, были по распоряжению Петру Буреску беспощадно изъяты. Сигуранца сработала тут быстро и четко. Единственная же полная запись, которую произвел официальный оператор ДЕКОНа, согласно решению Совбеза ООН была засекречена, как было сказано в протоколах, «на неопределенное время», ознакомился с ней лишь избранный круг лиц, в число которых я, разумеется, не вхожу.
Мои собственные наблюдения инцидента ограничились интервалом всего в пять-шесть секунд. Я успел заметить, как в одном из передних рядов вскочил журналист — вскочил, дико вскрикнул, будто подстреленный, и повалился лицом вперед. Успел заметить, как вскочили, тоже, по-моему, с криком, еще несколько человек. Успел увидеть, как мой сосед слева (между прочим, Джионо Фраскатти, итальянец, эксперт) схватился за голову и мучительно застонал. У него чудовищно, как у глубоководной рыбы, выпучились глаза. На этом мои воспоминания и заканчиваются. Дальнейшее представляло собой тот же хаос — ряд невнятных картинок, размытых болью, вспыхнувших у меня в голове. Ощущение было такое, будто где-то в глубинах мозга извергся тугой огонь, хлынула багровая лава, сжигающая все внутри. Я едва удержался, чтобы, как большинство присутствующих, не закричать. А быть может, и закричал, но в общем диком многоголосии моего крика было не различить. Не представляю, как мне удалось выбраться из конференц-зала наружу. Повезло, наверное, потому, что, явившись чуть позже других, я сел с краю в предпоследнем ряду. И совершенно не помню, как я добрался от Павильона до входа в гостиницу: вроде бы все шаталось и вроде бы какие-то люди изумленно таращились на меня. Но вполне возможно, что не таращились. Поле психогенного действия, как удалось позже установить, накрывало зону, если считать от Купола, диаметром метров в сто семьдесят — сто семьдесят пять. Бригада рабочих, ковыряющихся на Стрите, тоже перестала что-либо соображать. Зато я вроде бы помню лестницу на второй этаж — я полз по ней, как переломленный пополам, с трудом преодолевая каждую из ступенек. Сознание я потерял в коридоре, примерно на середине, совсем немного не добравшись до своего номера. А последнее, что я запомнил тогда, — блекло-серый, унылый, в древесных прожилочках ламинат, набранный из квадратных плах, который, необыкновенно расширившись, вдруг начал застилать от меня весь мир.
Очнулся я приблизительно часа через три. Во всяком случае, так мне сказала Дафна, чье лицо я увидел, едва оказался в силах открыть глаза. С Дафной мне повезло ни много ни мало четырежды. Во-первых, она не потеряла сознание, несмотря на то, что ей в каждый висок будто закручивали острый шуруп. Во-вторых, из конференц-зала ей тоже удалось каким-то образом ускользнуть. Как именно, она объяснить не могла. В-третьих, она сумела затащить меня к себе в номер, перед дверями которого я покоился как бревно. И, наконец, Дафна когда-то стажировалась в организации «Врачи без границ», владела кое-какими практическими медицинскими навыками и сразу же запихала в меня пару таблеток, которые я, даже будучи без сознания, проглотил. Вполне возможно, что она спасла мне жизнь. Во всяком случае, шесть человек, присутствовавших на пресс-конференции, умерли в тот же день. Еще полтора десятка людей надолго потеряли сознание, некоторым потом пришлось заново учиться говорить и писать. А из оставшихся — журналистов, экспертов, технического персонала, делегатов ООН — по меньшей мере сорок процентов испытали приступы умопомрачающей боли, как будто у них внутри черепа произошел синаптический взрыв.
В общем, мне, видимо, повезло больше всех. Правда, этого своего везенья я, разумеется, не понимал. . Я не понимал даже, где нахожусь. Все застилал зыбкий, чуть подрагивающий туман, и голос Дафны доносился откуда-то издалека.
— Ну как, ты — жив?..
— Частично, — прохрипел я.
— Лежи, лежи…
Я все-таки попытался сесть. И чуть не упал обратно в постель, но Дафна мне помогла.
— Что это было?
— Контакт, — сказала она.
— Нет, я не про это…
— А что же?
— Ужасный сон…
Туман рассеивался. Кажется, я начинал понемногу соображать. Голова уже не раскалывалась, хотя в ней по-прежнему плескался багровый расплав.
— Сон… — повторил я.
Да, помимо прочего, еще был и сон: исключительно яркий, правдоподобный, точно я физически переместился в некую другую реальность. . Я находился в хижине, сплетенной из длинных прутьев, глиняная обмазка ее частично осыпалась, открыв приличную щель, к тому же прутья здесь были раздвинуты, и сквозь них я видел пыльную деревенскую улицу, образованную рядами таких же глинобитных жилищ, двух пятнистых свиней, больше похожих на отощавших собак, пеструю курицу, что-то выклевывавшую из земли — вдруг она порскнула в сторону, словно ее кто-то пнул, и сразу же в поле зрения появилась группа людей: десять — двенадцать женщин, некоторые с младенцами на руках, примерно столько же большеголовых детей, цепляющихся за их юбки, и вслед за ними — пять или шесть солдат в рваном обмундировании, но с винтовками и автоматами. Женщины всхлипывали, солдаты, видимо, покрикивали на них, я догадывался об этом по жестам и движениям губ, но ни одного звука не доносилось — все происходило в безмолвии, я как будто оглох. Хуже того — лица у всех были черные, черные руки прижимали к груди черных детей, черные босые ноги ступали в черную пыль. При этом в воздухе стоял сладковатый, душно-гнилостный запах, словно ломтями живого мяса распустился поблизости некий страшный цветок, меня буквально выворачивало от него, и одновременно я откуда-то знал, что так пахнет смерть.
— Ты это действительно видел? — переспросила Дафна.
— Да, вот такой… дурной сон…
И вдруг я заметил, что лицо ее — обычно цвета летнего меда — сейчас как будто обсыпано серой мукой.
— Что с тобой?
Я протянул руку, но Дафна отступила на шаг.
Как будто испугалась меня.
Кажется, даже дрожала.
Похожая на загнанную газель.
— Это был не сон, — странным голосом сказала она.
Ближе к вечеру арконцы принесли извинения. Переговоры шли не воочию, а в видеоформате, по кабелю, экранированному от прослушивания и помех. Обеими сторонами использовался английский язык. Суть извинений, а также сопутствующих им комментариев сводились к следующему. Наша цивилизация уже давно не использует аудиальную речь как средство коммуникации, сообщила арконская сторона. Это связано и с технической медленностью звукового сигнала, и с его низкой ментальной емкостью, и с фундаментальной неоднозначностью интерпретаций аудиальных (аудиовизуальных) пакетов. Несколько столетий назад арконцы перешли на непосредственное и прямое общение, которое на земных языках определяется как экстрасенсорное. Термин не очень точный, но, к сожалению, иного в словаре человечества нет. То есть при контакте одного субъекта с другим используется не собственно речь (речь как буквенный текст), а комплекс эмоционально-смысловых ощущений, выражающих необходимый контент. Этнические языки у арконцев остались в далеком прошлом, и потому воплощение смыслов в любом из них (английском, русском, китайском и т. д.) представляет определенные трудности. Прежде всего потому, что смысл высказывания неизбежно искажается нормами конкретного языка.
Трагические события «инцидента первого дня» явились для арконской стороны полной неожиданностью. Сведения об анатомии, физиологии и биохимии человека, давно почерпнутые из инфосферы Земли, позволяли предполагать, что мозг хомо сапиенс и мозг арконцев структурно и функционально подобны, то есть человек может без ограничений воспринимать экстрасенсорный канал. Однако, видимо, мозг значительной части людей (можно считать, что это примерно тридцать — сорок процентов от общего их числа) обладает некими специфическими особенностями, суть которых пока неясна, — экстрасенсорный сигнал вызывает у них блокировку нервных сетей, за чем следует их отключение, частичный распад и в ряде случаев — летальный исход.
Короче, арконцы приносят самые глубокие и искренние извинения за этот прискорбный инцидент, подчеркивают, что никакого враждебного умысла он в себе не несет, просят учесть, что у них это первый опыт общения с инопланетной цивилизацией (тем более — такого опыта нет у Земли), готовы к продолжению переговоров, но вместе с тем полагают, что раз вид хомо сапиенс обладает значительным числом индивидуумов, способных к экстрасенсорным коммуникациям (тех, кто при контакте болевых симптомов не ощущал), то все же лучше использовать для общения именно этот канал. Просто группы реципиентов (экспертов), участвующих в переговорах, следует формировать из соответствующих людей.
Мы изучали это послание целых пять дней. Такой срок ДЕКОН запросил для обдумывания ответа. И прежде всего обратили внимание, что впервые — видимо, из-за экстраординарности ситуации — получили от арконцев некие конкретные сведения о них. На наш взгляд, стратегически важным здесь было то, что арконцы, по крайней мере в изначальном своем варианте, относились к гуманоидной расе: и внешний их облик (наблюдаемый фенотип), и мозг (носитель сознания) имели антропоморфный формат. А значит (пусть даже такое предположение и было спекулятивным), гуманоидность есть главный вектор развития разума во Вселенной, который движется в русле определенных координат. А это, в свою очередь, означало, что биологический базис у землян и арконцев един, и обе наши цивилизации имеют возможность найти общий язык.
Второй существенный вывод, к которому мы пришли, — это то, что арконцы, по-видимому, обладают индивидуально-коллективным сознанием. То есть каждый арконец, конечно, представляет собой строго суверенную личность, но одновременно включен в общий психогенетический пул. . Как здесь поддерживается взаимный баланс — другой вопрос, но это дает арконской цивилизации явное преимущество на переговорах: слабо интегрированному интеллекту земных экспертных групп будет противостоять объединенный интеллект сотен, а возможно, и тысяч арконцев — имеется в виду экипаж корабля. Арифмометр против компьютера, как красочно выразил это в своем выступлении Юсеф.
С другой стороны, что тоже немаловажно, арконцы ясно дали понять (или, быть может, просто проговорились, находясь в таком же смятении, как и мы), что у них это первый контакт с иным разумом. То есть Земля для них — уникальная цивилизационная сущность, а это сразу же повышало наш статус.
— В общем, хорошо уже то, — подвел итог нашей дискуссии Лорд, — что мы имеем дело не с гигантским Содружеством галактического масштаба, где Земля затерялась бы как пылинка в груде песка, а тоже — с отдельной, изолированной цивилизационной культурой, ищущей собеседника в безбрежном океане Вселенной.
Что же касается конкретных рекомендаций, которых с нетерпением ждали от нас и ДЕКОН, и Совбез ООН, то мы почти единогласно пришли к мнению, что извинения арконцев необходимо принять, компенсаций не требовать, рассматривать «инцидент первого дня» именно как трагическую случайность, которую следует просто локализовать, переговоры продолжить, более того — согласиться с предложением о формировании таких экспертных групп, которые могли бы, пускай пока в одностороннем порядке, использовать для коммуникаций экстрасенсорный канал.
Последний пункт вызвал наиболее серьезные возражения. Опять были высказаны аргументы, что экстрасенсорным воздействием арконцы пытались взять нас под контроль, что при обратной трансляции этот канал приводит к чтению наших мыслей и что через него арконцы способны трансформировать сознание человека, превратив его в некое подобное себе существо. Споры длились практически круглые сутки. Накал страстей был такой, что не помогали никакие кондиционеры. Воздух превращался в кисель, в конференц-зале, где проходили дискуссии, было трудно дышать. И хотя арконцы вторично заверили нас, что ни скрытых, ни враждебных намерений не имеют, а чтение мыслей — это вообще полная чушь: люди, как и арконцы, думают в основном не словами, а слабо структурированными комплексами ощущений, которые очень трудно вербализовать, , но опасения все равно оставались. Данный пункт был в рекомендациях утвержден незначительным большинством голосов, да и то только лишь потому, что альтернативой ему, как подчеркнул тот же Юсеф, могло стать известное «беличье колесо»: бесконечное уточнение слов, терминов, формулировок, переливание из пустого в порожнее, чем так любят заниматься профессиональные дипломаты.
— Нам нужен результат, а не процесс, — сказал он.
И все равно пертурбации в экспертном сообществе произошли очень существенные. Прежде всего были отсеяны те, у кого экстрасенсорный канал вызывал патологическую симптоматику. Собственно, иначе и быть не могло. И вот тут я должен подчеркнуть нечто важное. Уже вечером «инцидента первого дня», когда я только-только очнулся от обморока и еще не слишком хорошо понимал, что к чему, Дафна, лежа рядом со мной, вдруг сказала (точней — прошептала на ухо, опасаясь прослушивания), что мы ни в коем случае не должны никому сообщать о своем состоянии.
— Что мы почувствовали при Контакте? Практически ничего! Не было никаких обмороков, никаких болевых ощущений. Может быть, легкое головокружение, которое быстро прошло. Все начисто отрицаем. Иначе нас просто отчислят отсюда, — сказала она, предугадывая решение Комитета. — А я этого не хочу. Прошу тебя: обещай, что будешь молчать.
Конечно, я ей такое обещание дал, правда, нисколько не сомневаясь, что наш обман будет выявлен при первом же ближайшем сеансе. Но к моему удивлению, когда начались короткие, чисто медицинские раунды, притирка, «психогенетическая селекция», как это у нас окрестили, никаких эксцессов не произошло. Голова у меня, разумеется, тут же вспыхнула, но сознание в этот раз я, как ни странно, не потерял, мозг по-прежнему слегка плавился, но не настолько, чтобы я не мог, оставаясь внешне спокойным, трезво и последовательно рассуждать. Со стороны, как и у Дафны, тревожных симптомов не наблюдалось. Так что мы благополучно прошли и «селекцию», длившуюся, между прочим, целых три дня, и затем — тщательное, из сотен всевозможных анализов, медицинское обследование у доктора Йонгера.
Доктор Йонгер, сыгравший в Контакте не последнюю роль, возник именно в эти дни. . То есть он, конечно, и ранее существовал, но — отдельно от нас, экспертов, где-то далеко на задворках. Вряд ли кто-нибудь даже знал, как он выглядит: в память врезалось бы на всю жизнь. Внешность у него была на редкость запоминающаяся. Если взять обычную человеческую физиономию, стесать ее по бокам, а потом обтянуть тоненькой, клейкой, прозрачной пленкой так, чтобы она легла без морщин, то и получится наш гениальный врач, доктор Йонгер. Или попросту доктор Менгеле — такую кличку, по слухам, ему дал сам Лорд. При взгляде анфас его стиснутое с обеих сторон лицо похоже было на лезвие зазубренного топора. Особенно дико смотрелись на нем глаза — светлые, выпученные, как у рака, будто бы даже слегка выдвинутые на стебельках. Зрачки их непрерывно вращались, точно были не в силах остановиться на чем-то одном. А дополнялось это судорожным подергиванием острых плеч, и таким же подергиванием кончиков пальцев, как бы ощупывающих незримую плоть. Ну и голос — непрерывно срывающийся на фальцет, словно вели тупым ножом по стеклу. В общем, если считать что гениальность — своего рода безумие, то доктор Менгеле служил ярким примером, что оно так и есть. На все это можно было бы не обращать внимания, в конце концов список регалий у доктора был длиной в километр, видимо, врач он был действительно гениальный, если бы не его отношение к пациентам. Ничего особенного доктор Менгеле вроде бы и не делал, никаких этических норм в явном виде не нарушал, но я, например, во время бесчисленных и утомительных процедур, когда он, посверкивая глазами, с любопытством склонялся ко мне, чувствовал себя каким-то беспомощным насекомым, каким-то пойманным тараканом, жуком, пауком, которому можно оборвать лапки, усики, разрезать брюшко — исключительно для того, чтобы посмотреть, как оно будет дергаться на стекле.
Такие же ощущения были и у многих наших экспертов. Дафну от его холодных прикосновений просто трясло. Она говорила потом, что доктор Йонгер — это законченный медицинский маньяк. Знаешь, бывают такие, к которым лучше не попадать. Тем не менее данный этап мы с ней благополучно прошли. Наша группа из пяти человек оказалась единственной, которая полностью сохранила свой первоначальный состав. Другие понесли существенные потери, а две или три просто таки исчезли совсем. У нас были все основания гордиться собой. Хотя Чак наперекор общему мнению полагал, что в этом есть и серьезные минусы.
— Теперь нас будут рассматривать под микроскопом, — предрек он в один из ближайших после обследования вечеров. — Чем это мы, интересно, отличаемся от остальных?
— А разве мы отличаемся? — подняла брови Дафна.
— Полагаю, что — да.
И он скользнул проницательным взглядом сначала по ней, а затем точно так же — по мне. Казалось, Чак догадывается обо всем, что мы с Дафной пытаемся скрыть. Но одновременно мне показалось, что и самому Чаку тоже есть, что скрывать.
Причем не ему одному.
И как выяснилось несколько позже, я тут был совершенно прав.
Мне неизвестно, какие процессы происходили тогда во властных верхах — на совещаниях Совбеза ООН, на коллегиях руководства ДЕКОНа, куда включены были представители великих держав. Думаю, соответствующие документы и протоколы будут рассекречены этак лет через тридцать, когда это уже никого не будет интересовать. Тут даже Лавенков ничего толком не знал, не такой у него был статус, чтобы попасть в святая святых; при всем нюхе своем он был вынужден, как и мы, довольствоваться лишь слабеньким эхом, долетающим иногда с горних вершин. Все же кое-что понять было можно. Шла великая битва за шкуру медведя, которого (заметим в скобках) еще только предстояло убить. И результатом ее, политическим компромиссом, достигнутым не без взаимных потерь, явилась так называемая «Декларация о Контакте», утвержденная в срочном порядке Генеральной Ассамблеей ООН. Согласно ей все знания, которые могут быть получены от арконцев, все звездные технологии или даже просто намеки на них, отныне и навсегда считаются достоянием человечества: ни одна страна, ни одно юридическое или физическое лицо не имеет права использовать их без официального разрешения Объединенных Наций. Серьезный был документ. Видимо, страх, что кто-то оторвет себе больший, чем у других, кусок, в очередной раз сыграл позитивную роль. Группы экспертов потому и были сформированы из представителей разных стран, чтобы никакая из них не могла получить даже мизерного преимущества. Требования Гвинеи-Бисау, Украины, Соломоновых Островов и Литвы включить их граждан в состав экспертов ДЕКОНа были решительно отклонены.
Компромисс, впрочем, успокоил не всех. Юсеф, например, сразу сказал, что при всей внешней демократичности Декларации она дает очевидные преимущества западным странам. Ведь освоить звездные инновации смогут лишь те, кто имеет развитый технологический базис, то есть прежде всего — Европа и США. Они, несомненно, сделают колоссальный рывок вперед: разницу между ними и странами Третьего мира последние уже никогда не смогут преодолеть. Неравенство, существующее сейчас, будет навеки закреплено. Мы вступим в эпоху, разделенную на рабов и господ.
— Ну и что ты тогда предлагаешь? — спросил Чак.
А Юсеф пожал плечами:
— Лучшее, что мы можем сделать сейчас, — это прервать Контакт. Мы к нему ни этически, ни психологически, ни технологически не готовы…
— Н-да… — подвел итог Чак.
Декларация тем не менее была принята, и ее проекция на реальность начала обретать структурные формы. Было установлено, что каждый раунд переговоров будет проводить отдельная группа экспертов и чередование групп будет происходить механически — по порядковым номерам. Еще одна группа экспертов будет присутствовать в качестве наблюдателей, но — нейтрально, не имея права вмешиваться в переговорный процесс. Базовым языком протоколов станет английский, но те эксперты, для которых речь Виллема прозвучит на родных языках, в случае смысловых расхождений обязаны будут вносить примечания в текст. Окончательную редакцию будет делать группа лингвистов, но вычитывать документ и опять-таки, если нужно, вносить примечания обязаны все эксперты.
В общем, заскрипела тяжеловесная канцелярская машинерия. Забором выросли циркуляры, узенькими тропами легли меж них чиновничьи рекомендации и предписания. Мы начали тонуть в необозримом море бумаг. На работу с черновым протоколом у меня, например, уходило восемь часов, а окончательная редакция вместе со всеми примечаниями, дополнениями и рекомендациями представляла собой фолиант объемом в сто двадцать — сто пятьдесят машинописных страниц. И такой фолиант появлялся у меня на столе каждый день. Труд совершенно немыслимый. Результат, несмотря на опасения Юсефа, все-таки превращался в бесконечный процесс. В конце концов я просто перестал это читать.
Да и особого смысла в том не было. В первый же день возобновившихся переговоров, то есть когда «психогенетическая селекция» была наконец завершена, а, между прочим, заняло это около трех недель, мы получили от арконцев такой удар, который вбил нас по самую шляпку, как гвоздь.
Я имею в виду знаменитые «Арконские принципы», которые сразу же огласил Виллем.
Суть их была чрезвычайно проста.
Во-первых, арконская цивилизация не будет передавать Земле никаких технологий — ни биологических, ни социальных, ни производственных — вообще ничего. И даже обсуждения этих вопросов производиться не будет. А во-вторых, арконская цивилизация также не будет передавать Земле никаких сведений о себе — ни о своей культуре, ни о социальном устройстве, ни о бытовых (межличностных) отношениях, то есть и в этой области — полный абзац.
Вот это был удар так удар.
Гвоздь был вбит так, что шляпку его было даже не подцепить.
Разумеется, представлено это было в самой корректной форме. Дескать, по мнению арконских исследователей, техносфера Земли является в настоящее время столь сложной и динамичной, она образует собой сейчас такой неустойчивый, подверженный влияниям конформат, что любые «перпендикулярные» технологии могут вызвать ее полный обвал. Арконцам, которые стараются предвидеть последствия, не хотелось бы стать причиной, спусковым крючком соответствующих катастроф. Так нам было объяснено. Но в действительности дело, по-видимому, обстояло значительно проще. Как сказал во время вечерней дискуссии лингвист Олле Крамер, вручить нам сейчас звездные технологии — это все равно что дать автомат Калашникова первобытному человеку: он тут же нажмет на спуск, перебьет половину племени и даже сам не поймет, как это произошло. Неужели вы думаете, что наши политики хоть чем-то отличаются от дикарей? Ну разве что ходят они не в шкурах, а в костюмах, при галстуках и знают множество обтекаемых слов. Психология вместе с тем точно такая же: если можно из чего-то сделать оружие, то это оружие непременно будет произведено. И если можно перебить половину планеты и при этом самим остаться в живых, то это будет рассматриваться ими как вполне приемлемый вариант.
Олле здорово завел тогда весь зал. Даже Лорду с его многолетним опытом ведения самых разных собраний не всегда удавалось гасить бурные словесные извержения. Сдержанность научных дискуссий канула в прошлое. Я тоже не удержался и, вклинившись в разбухающий гам, привел пример, как в период вьетнамской войны, это шестидесятые — семидесятые годы прошлого века, к одному из первобытных племен горных кхмеров-охотников попали американские карабины. Так вот, освоив это оружие, туземцы за несколько лет истребили в своем регионе всех крупных животных, уничтожив тем самым главный свой пищевой ресурс, затем также быстро перестреляли друг друга в междоусобной войне, а оставшаяся горстка живых просто-напросто деградировала. Вы уверены, что нас не ждет подобный финал? (При этих моих словах Лорд неодобрительно поднял бровь.)
— Практически все технологии имеют двойное значение, — сказал я. — Даже фармацевтика, лекарства, которые арконцы могли бы нам дать, можно, вероятно, использовать для модификации поведения, для биохимического зомбирования, для создания, например, солдат, которые не рассуждая исполнят любой приказ. Мы не можем так рисковать.
Дафна заметила после этого, что ей просто стыдно за Землю.
— В самом деле, подумайте, как мы выглядим со стороны? Далеко ли мы сумели уйти от варварского, полудикого состояния? Сколько войн идет сейчас на Земле? Сколько обстреливают городов, сколько гибнет детей? Сколько человек страдают от голода и одновременно сколько людей пытаются сбросить лишний вес? Сколько человек строят виллы на роскошных тропических островах и сколько людей ютятся в удручающей нищете? Кто-нибудь из вас когда-нибудь заглядывал в бидонвиль? Кто-нибудь заходил в дома тех, кто вынужден жить на один доллар в день? И при этом надуваем щеки перед арконцами: мы — тоже цивилизация, не хуже других…
Снова всплыли гипотезы о «неявном вторжении». Мне запомнилось выступление профессора Ежи Гармека из Торонто, с которым, кстати, я ранее был немного знаком. Говорил он сухо и ясно, как семечки, отщелкивая слова, и полагал, что предостережением нам должен служить сам внешний облик арконцев.
— Они метаморфы, насколько мы можем судить. Во всяком случае, это более чем вероятно. У них нет модельного, строго фиксированного фенотипа, есть лишь вариабельность в пределах морфогенетических координат. Данный образ — «зеленые человечки» — вероятно, был сформатирован специально для нас, и апеллирует он к древним человеческим архетипам: невысокий рост, хрупкое телосложение — значит, слабый; чрезмерно большие, как у детей, глаза — беспомощный, не таящий в себе угроз. Транслируется четкий посыл: «мы не опасны», и, в свою очередь, мы, земляне, неосознанно, на уровне животных инстинктов считываем данный сигнал. Это манипуляция через визуал: создан образ, вызывающий заведомую симпатию. Это вкрадчивое зомбирование: арконцы максимизируют позитивную реакцию людей на себя. Кстати, могут использоваться и более тонкие методы управления нашим сознанием, которые мы, не зная физики психогенных полей, пока не улавливаем.
Интересно, что с метаморфизмом арконцев профессор Гармек попал в самую точку. На ближайшем раунде переговоров этот вопрос, естественно, был поставлен, и Виллем без колебаний сразу же подтвердил, что дело обстоит именно так. Арконцы действительно метаморфы — в пределах, которые позволяет их морфогенетический тип. И образ «зеленого человечка» был избран именно для того, чтобы избежать при контакте кросс-культурного шока. Вообще-то (возможно, с некоторой иронией), пояснил Виллем, арконцы первоначально хотели явиться землянам в виде магистра Йоды, персонажа популярного фильма, который земной аудитории прекрасно знаком, однако потом решили, что зеленые человечки выглядят традиционней. Это просто как надеть гостевой костюм, сказал он. Одновременно, кстати, смолкли и победные фанфары уфологов, поскольку Виллем заодно объяснил, что арконцы никогда раньше Землю не посещали, ни к какой летающей посуде отношения не имеют, а так называемые «космические артефакты» — это чисто земные глюки, порожденные фантазиями самих людей.
Таким образом мы об арконцах кое-что все же узнали. На некоторые вопросы Виллем вообще отвечал четко и однозначно. Да, действительно, обращаться к нему можно именно Виллем: это наиболее близкий к его имени звуковой адекват. Да, действительно, помимо него, на корабле есть экипаж, примерно в сто двадцать гуманоидных единиц. Да, действительно, арконцы представляют собой распределенный разум: одна и та же личность может базироваться на нескольких материальных носителях. Да, действительно, биологическая основа арконцев — белковая, «углеродный шовинизм», так это называется на Земле, пока подтверждается всем, что им, арконцам, известно о жизни.
Так же четко он ответил и на вопрос о местонахождении арконской цивилизации. Координаты ее по отношению ни к Солнечной системе, ни к Млечному Пути (нашей Галактике) пока определить невозможно. Пейзаж местного звездного неба им, к сожалению, незнаком. И в ходе дальнейшего обсуждения пояснил, что Вселенная имеет очень сложную, «складчатую» внутреннюю конфигурацию. Корабль арконцев перемещается не в обычном трехмерном пространстве, лететь сквозь него пришлось бы сотни тысяч или даже миллионы лет, а в особых структурах, которые вы определяете как «кротовые норы», «межпространственные туннели», «нулевой коридор». Основная же трудность здесь заключается в том, что география этих «нор», а также многие физические характеристики их даже арконской науке до конца неясны: никто не может заранее предугадать, куда приведет тот или иной «туннель». Сейчас арконские астрофизики пытаются найти хоть какие-нибудь знакомые реперы, пробуют по фазам темпоральных смещений рассчитать хотя бы примерный звездный квадрант, но вполне вероятно, что сделать этого не удастся. К тому же сами «туннели», как уже известно, не очень стабильны: «туннель» может вдруг, ни с того ни с сего раздвоиться на два расходящихся рукава, он может распасться на самостоятельные «течения» или внезапно, без каких-либо предваряющих признаков закрыться совсем. «Внутренняя Вселенная» спонтанно изменчива. Прохождение по «туннелю» представляет собою громадный риск. Экспедиции превращаются в своеобразную лотерею. За последние два столетия арконцы потеряли таким образом уже три корабля.
Это была тоже чрезвычайно важная информация, означающая, что арконцы пришли к нам не навсегда. Они будут стремиться как можно быстрее вернуться домой, и это мгновенно снимало значительную часть возможных угроз. Вздох облегчения, раздавшийся в Совбезе ООН, долетел и до нас. Лорд сиял, как будто данная слабость арконцев была его личной заслугой. Лучше всех чувствовали себя земные физики: представление о внутренних «складках» Вселенной сразу же похоронило несколько тупиковых гипотез. Более того, в процессе уточняющего диалога выяснилось, что «межпространственные туннели» анизотропны, они подобны рекам, имеющим направленное течение: вниз по потоку сплавляться чрезвычайно легко, зато возвращение в исходную точку требует значительного количества энергии. Обнаружилось также, что в этой звездной конструкции Земля — условно геометрически — находится как бы «вверху», а Аркон — тоже условно — как бы «внизу»: чтобы подняться к Солнечной системе против течения, арконцам пришлось накапливать энергию почти семьдесят лет. А потому следующий их визит может состояться не ранее чем лет через сто, да и то если результаты нынешнего Контакта будут признаны позитивными. С вершин власти долетел до нас еще один радостный вздох.
Заодно выяснилось, откуда у арконцев такие подробные сведения о нас. Электромагнитные волны (радио и телевидение), попадая в «туннель», проносятся по нему мгновенно и почти без рассеивания. Как только на Земле начались первые регулярные радиопередачи, арконцы получили возможность изучать жизнь людей практически в реальном времени. А вот обратная связь («снизу вверх») блокируется встречным «течением»: даже мощный нейтринный луч тут же расплывается в нем, как чернила в воде.
В общем, получили мы не так уж и мало. Пусть технологическая конкретика в данной информации не присутствовала, зато были ясно очерчены некоторые перспективные гносеологические направления — конфигурация наших знаний в некоторых областях стала совершенно иной. Да и бог с ними, с конкретными технологиями! На нашем уровне цивилизационного бытия хватает и тех, что есть. Главным, на мой взгляд, было то, что потерпела крушение гипотеза уникальной Земли. Прервалось Великое молчание космоса, длившееся тысячи лет. Мы уже не могли в самоупоенном восторге рассматривать себя в качестве центра Вселенной. Нас ожидали удивительные философские метаморфозы, которые, постепенно просачиваясь в сознание, должны были в корне изменить нашу жизнь.
И все же, если в целом охарактеризовать настроение этих дней, то его можно было бы определить как сильнейшее разочарование. Развеялись надежды на быстрое преобразование человечества, на ослепительное, прекрасное будущее, которое иной, высший разум мог бы нам дать. Стало ясно, что мы не получим ни удивительных технологий, ни панацей от болезней, ни перспективных социальных идей. Никаких земных проблем арконцы решать не намерены. Врач лишь осмотрел пациента, но не предложил ему никаких лекарств. Мы останемся в прежнем межеумочном состоянии: в гнетущей лихорадке противоречий, в коросте и язвах абсцессов, которые не умеем лечить, озлобленные на всех, испуганные сложностью мира, в котором непонятно, как жить.
Мы чувствовали себя обманутыми. Нам обещали праздник с аттракционами, с тысячами ярких огней. Нам показали зал, где, переливаясь, заманчиво сверкали подарки. Мы услышали музыку, предвещающую игры и смех. А потом вдруг выключили в том зале свет и заперли дверь.
Невольно всплывал главный вопрос. Зачем арконцы все-таки к нам прилетели? Особенно если учесть энергетические издержки пути.
Что им в конце концов нужно от нас?
— А что нам нужно от муравьев? — спросил как-то Чак. — Не природе, где они включены в экологический круговорот, а именно нам, человечеству? Муравьиную кислоту мы уже давно получаем промышленными методами. То же самое с формиатами, которые вроде бы где-то используются. А в остальном — лишь бы они не мешали. Если же станут мешать, например поселятся в доме, мы будем их беспощадно травить.
Конечно, это был не ответ.
Ответ на данный вопрос нам могли предоставить только сами арконцы.
И мы довольно скоро этот ответ получили.
Правда, мне кажется, что уж лучше бы мы пребывали в неведении.
Зачем человеку знать, что он смертельно болен, что болезнь скоротечная и что надежды на спасение у него нет.
— Ни хрена себе! — говорит Алена, глядя в окно. — Их там, наверное, человек пятьсот.
Она в утреннем домашнем халате, который сейчас поспешно застегивает.
— От силы — сто пятьдесят, — отвечает Ефим. Осторожно, взяв Алену за плечи, сдвигает ее за штору. — Вот так. Не надо, чтобы нас видели. Любое движение может спровоцировать… спровоцировать…
Он не знает, какие слова подобрать, чтобы успокоить ее.
В это время в подоконник ударяет еще один камень — отскакивает от наличника, щелкает по стеклу, но, к счастью, не разбивает.
Алена вскрикивает и отшатывается.
— Звони в полицию!
— Полиция уже здесь, — говорит Ефим. — Видишь машину? Бекасов еще вчера поставил дежурный пост.
— И где они?
— Что могут двое полицейских против целой толпы?
— Тогда пусть присылает ОМОН!.. В конце концов ты — мэр или кто?
Сквозь приоткрытую форточку доносится шум, крики, невнятные голоса:
— Предатели!..
— Крысы!..
— Долой!..
И что-то еще неразборчивое.
— Тогда — я сама ему позвоню!
— Ты вот что, — говорит Ефим, оттягивая ее от окна, — во-первых, оденься. Первая леди! Так и будешь в халате ходить? А во-вторых, иди к мурашам. Разбуди их, тоже одень. Вообще — будьте готовы.
— Ко всему!.. Вниз пока не спускайтесь.
— Ты только не вздумай выходить к ним — с речами…
— Ладно, ладно — иди!
Звонит сотовый телефон.
Ефим вглядывается в экран:
— А вот и он сам.
Бекасов, начальник полиции, размеренным, как всегда, голосом интересуется:
— Ефим Петрович, как вы там? Мне доложили, что у вашего дома — толпа.
— На штурм пока не идут.
— Ну это пока… Мы тоже — в осаде. На площади собралось, по нашим оценкам, четыреста человек. ОМОНа, как вы знаете, у нас неполное отделение. Если что — нам мэрию не удержать… В общем, есть такой вариант. Звонил Керимов, предлагает перенести штаб к нему. И местоположение удобное — легко защищать, и личную охрану он успел подтянуть, еще пять бойцов…
— Не знаю… Мэр города ринулся за помощью к криминальному авторитету.
— Керимов уже не авторитет, он — бизнесмен. То есть, конечно, авторитет…
— А я что говорю?
— Ефим Петрович, другого выхода нет.
— А как же город?
— На все у нас сил не хватит. Если я выведу своих людей на улицу, их просто сомнут. Не забывайте: две трети личного состава полиции сейчас отправлены к блокпостам, отзывать их оттуда нельзя… «Чок-гвардия» ваша — там же… Ефим Петрович, алло!.. Вы сможете добраться до Керимова самостоятельно? Или я попробую выслать за вами наряд. Правда, это рискованно. Полицейские в форме только раздражают толпу…
Ефим до белизны в пальцах стискивает телефон.
— Доберемся сами…
— Хорошо. Тогда мы вас ждем… И, Ефим Петрович, советую: захватите семью. Мало ли что. Сейчас лучше не оставлять их одних…
Несколько секунд Ефим стоит, пытаясь сообразить, что делать. Просверком мелькает безумная мысль: выйти к людям, поговорить с ними по-человечески, объяснить, что от администрации города почти ничего не зависит. Сказать им: мы же не специально. Сказать им: мы же не можем дать больше того, что у нас есть. Сказать: ну опомнитесь, ну оглянитесь вокруг, если в городе воцарится анархия, всем станет хуже, вам — в первую очередь… Впрочем, порыв тут же гаснет. Ефим понимает, что Алена права. Ни к чему хорошему это не приведет. Толпа есть толпа, ее можно призвать на подвиг, призвать на месть, призвать даже на смерть, и она пойдет — босыми ногами по углям, преодолевая ужас и боль. Но взывать к ее разуму, остудить эмоции логикой — это абсурд. Он не народный трибун. Ему такое чудо не сотворить.
Из ступора его выводят шаги в коридорчике, ведущем на задний двор. В сознании они отдаются громом — как будто обваливается потолок. Ефим судорожно хватает вазу, посверкивающую посередине стола. Запустить ею в тех, кто войдет, затем — в три прыжка, по лестнице, на второй этаж, там в верхнем ящике тумбочки — пистолет.
Выдал позавчера Бекасов.
Какого черта он не носит его с собой?
Секунды сливаются в одно тягостное мгновение. Оно мучительно утекает то ли из жизни в смерть, то ли из смерти в жизнь.
Дверь, как в ночном кошмаре, медленно отворяется.
— Здравствуйте, Ефим Петрович…
— Марат! Откуда ты здесь?
— Да вот увидели, что возле дома толпа, и сообразили, что раз не местные, то через переулок они не пойдут. Ну и черный ход у вас, оказывается, открыт…
Вслед за Маратом в гостиную протискивается Галя Поспелова.
— Ефим Петрович, здрасьте, мы тут подумали… Может быть, вам, пока здесь такое… пожить у нас? Папа сказал, что будет этому только рад. Знаете, как он вас уважает!.. А мама говорит, что детей обязательно надо где-то укрыть…
Она смотрит на вазу, которую Ефим так и держит в руках. Тот с кривоватой ухмылкой — ему неловко — возвращает ее на стол.
— А что там? — Он кивком указывает на дверь.
Марат радостно извещает:
— В переулке сейчас — никого…
Мгновение еще тянется.
— Нет, в самом деле, — говорит Галя, — Ефим Петрович, пожалуйста… Идемте к нам… Я вас прошу…
Передвигаются они так. Впереди — Марат, который тащит большой синий баул. Молодец Алена, успела его собрать. За ним следует сама Алена, несущая на руках мураша. Тот мирно дремлет, причмокивая во сне. Второго мураша тащит Галя: глаза — сверкают, вид — боевой. И замыкает шествие, чуть отставая, Ефим — оглядывается, придерживает полу куртки, карман которой оттягивает пистолет.
Настроение у него отвратительное. В родном городе, где его знают вот с таких лет, он крадется, точно преступник, опасающийся за свою жизнь.
А что делать?
Как утихомирить завывающий ураган?
Он вспоминает вчерашнее совещание в мэрии, продолжавшееся почти четыре часа. Мрачный доклад Бекасова о ситуации в городе. Каждая фраза его грохотала, как глыба, рухнувшая с горы. Драка возле водоразборной колонки: пострадали три человека, один из них тяжело, все трое сейчас в больнице. Драка во Второй школе, куда утром пробовали подселиться уличные мигранты. А куда подселяться — в каждом классе сейчас и так проживают по четыре семьи. Спят друг у друга на головах… Драка на пункте раздачи питания: группа парней, внезапно напав на дружинников, захватила почти целый фургон армейских пайков. Опять-таки пострадали три человека. Сержант Мариков в том числе… И это если не говорить о том, во что превратился Звездный (в прошлом — Центральный) парк: мигранты рубят деревья, палят костры, грабежи, у людей отбирают деньги, одежду, еду, непрерывная пьянка, откуда только они берут алкоголь, днем и ночью — разборки соперничающих банд. У полиции недостаточно сил, чтобы ликвидировать эту клоаку. И потом, если даже ее ликвидировать, где их всех размещать? Там, по примерным оценкам, более тысячи человек. Ну, хлынут они на улицы, будет вообще полный Содом...
— Это катастрофа, товарищи… — Бекасов замолкает, и его молчание наваливается кладбищенской тишиной. — И вот, мне только что сообщили: на улице Сердобольской разграблен продовольственный магазин. Вынесли все, что было, это средь бела дня… Я в сотый раз вам твержу: своими силами нам не справиться, надо вводить в город войска…
Директор обсерватории Карл Осипович Мильштейн вздыхает:
— Ночью какие-то люди пытались прорваться и к нам. Пока что отбились, ударили по ним пеной из огнетушителей. — Он усмехается. — Осенила одного из наших сотрудников гениальная мысль. Но что будет в следующий раз?..
— Вот, я о чем говорю…
И выступление капитана Погребняка из ближайшей воинской части. Дополнительные палатки мы вам дадим, поставим их у реки, пайки из наших резервов тоже подбросим. Можем развернуть у вас полевой медпункт. С хозяйственным управлением округа это уже согласовано. Но тут вопрос: как они к вам попадут? Последние два «Урала» были разграблены, их стопорнули за километр от главного блокпоста. Наше сопровождение — что, оружия при себе не имели. Да и кто, товарищи, будет стрелять? По кому там стрелять? Там — женщины с детьми, старики… Окружили их сто человек… Хорошо хоть машины потом удалось вернуть… А насчет введения войск в город скажу вам так. Это вопрос, товарищи, не нашего уровня. И даже не уровня штаба округа. Существует Росгвардия, это из реестра ее задач…
И лейтенант Пелец, Росгвардия — выцветшие льняные волосы, ярко-розовое, будто слегка обваренное лицо:
— У меня всего-навсего двенадцать бойцов. А сколько беженцев в городе? Тысяч пять или шесть? Мы запрашивали командование. Неофициально мне сообщили, что резервы Росгвардии сейчас рассредоточены по столицам республик, по областным центрам, по крупным промышленным городам. Обстановка везде очень сложная. Никто не знает, где в очередной раз рванет…
Вопрос Ефима:
— Блокпосты по внешней границе города вы удержать сможете?
Ответ лейтенанта Пелеца:
— Гарантировать не могу. Вы не хуже меня знаете соотношение сил: на одного бойца Росгвардии несколько сот мигрантов, отчаявшихся людей… К тому же сплошной границы по периметру нет. Люди просачиваются по боковым тропкам, через поля, там, где вообще нет дорог…
Опять капитан Погребняк:
— Все-таки неужели нельзя как-то растолковать, разъяснить людям, что мы ничем им не можем помочь? В конце концов ведь не мы же визы даем…
Олсуфьев, директор телерадиокомпании «Бельск»:
— Призывы сохранять спокойствие и порядок передаются каждые три часа. Мэр выступал, вон — Ефим Петрович, выступал отец Иафет, директора всех школ, представитель военных властей…
Снова Карл Осипович Мильштейн:
— В советское время был такой анекдот. Абрама спрашивают: что ты будешь делать, если откроют границы СССР? Абрам отвечает: залезу на дерево. Это зачем? Иначе затопчут… Тем, кто не помнит советские времена, объясняю. Просто так выехать за рубеж тогда было нельзя, а потому считалось, что если границы откроют, то из СССР побегут — поголовно все. Прошу прощения за анекдот, но ведь у нас сейчас точно так же. Только люди пытаются вырваться не из СССР, а с Земли. Спросите их, зачем вы едете, почему — никто толком не объяснит. Это как с леммингами, есть такие зверьки, которые вдруг громадными стаями трогаются с привычных мест обитания и устремляются неизвестно куда. Думаете, отдельный лемминг понимает, что с ним происходит? Нет, он просто чувствует, как и все остальные, что надо бежать. Это чисто животный инстинкт. Коллективное бессознательное, которое начинает кипеть в тусклых мозгах… Они же приезжают сюда, думают, что их сразу переправят на Терру. А тут — сумятица, каша, дикий водоворот… Никто их не ждет…
Вопрос Ефима:
— Что вы хотите этим сказать?
— Я полагаю, что никакие разъяснения не помогут. Люди жаждут попасть в рай: вот он, рядом, его можно коснуться рукой. А мы их туда не пускаем.
— Вовсе не мы…
— Но они-то полагают, что — мы.
Включается лейтенант Пелец:
— Я с Карлом Осиповичем совершенно согласен. Вообще, если собрать в одном месте большое число людей, то есть толпу, и чем-то внешним ограничить ее, то беспорядки вспыхнут сами собой.
Каменные перекаты Бекасова:
— А вы, лейтенант, оказывается, психолог…
Но лейтенант держит удар:
— У нас был спецкурс по работе с толпой, по массовым беспорядкам, ну и тому подобное… Если сразу не взять толпу под контроль, то начинается спонтанная взрывная реакция. — Он одаривает Бекасова снисходительным взглядом. — Возникает, как говорят в народе, психический эксплозив…
— Что мы и наблюдаем сейчас!
Ефим поднимает ладонь, призывая остановиться:
— Все это теоретические рассуждения. Давайте к конкретике. На мой взгляд, главный вопрос — продовольственный. Если мы за сутки не сможем его решить, начнутся повальные грабежи…
И — удручающая тишина.
Все отводят глаза.
Вот такое было у них совещание.
Отцы города.
Лучше не вспоминать.
Он окликает Галю:
— А как там у вас с продуктами? Не в обрез? Мы же, елки-палки зеленые… черт бы их всех подрал… не догадались ничего захватить.
Галя на ходу оборачивается:
— Ой, да не беспокойтесь, Ефим Петрович. Всего в доме полно! Помидоры уже вызрели, ранний сорт, огурцы. Картошки еще с прошлого года четыре мешка. Десять банок тушенки, успели купить… А грибов — маринованных, соленых, сушеных… Весь погреб забит. Слышали, наверное, какой осенью выдался грибной урожай?
— Мы, если что, подбросим, — обещает Марат. — У нас запасов, мать накопила, до Рождества можно в магазин не ходить. За хлебом разве что. Так ведь есть сухари… А осень прошлая грибная была, это да. Я помню, на свою полянку свернул, там подосиновиков — ух, красный ковер. Я так — охренел. Корзину с верхом набил, пластиковый пакет, куртку мешком свернул, связал рукава, еле допер… Старуха Авдеевна, когда шел, увидела — аж руками всплеснула, сказала, что это — к войне. Хотя у нее все — к войне. Много грибов — к войне. Мало грибов — тоже к войне. Кошки ночью мяучат — это уж точно к войне…
— Авдеевна зимой умерла, — сухо сообщает Алена.
— Да я не к тому, а просто вот… ну… к слову пришлось… — Он вдруг тормозит перед выходом из переулка. — Стой!
И тут же с улицы, на которую они должны были свернуть, доносится треск, будто бы, оскалясь щепой, переломилась доска, и вслед за этим женский пронзительный крик: «Да что же вы делаете!.. Боже мой!.. Да у вас совесть есть?!» — И тут же — мужской голос, тоже срывающийся на крик: «Уйди, мать, уйди!.. Да ты посмотри на них!.. Я сказал: уйди, мать, в доме запрись!..» И еще какие-то скомканные от ненависти, приглушенные голоса.
— Назад! — шепотом приказывает Марат. И торопливо подгоняет всех к щели меж двух островерхих деревянных оград. — Сюда!.. Давайте сюда!..
Проход между оградами узкий, встречным не разойтись. Яблоневые ветви, согнутые грузом уже спеющих, желто-красных плодов, шаркают листьями по головам.
— Огороды чистят, — тем же шепотом сообщает Марат. — Их там человек десять — двенадцать, мигрантов, лучше, чтоб нас не видели. — И еще больше понизив голос (они с Ефимом слегка отстают): — У вас, извините, Ефим Петрович, виза когда заканчивается?
— Через четыре дня, — так же тихо отвечает Ефим. — А у тебя как?
— У меня тоже — через четыре дня. Не знаете, ходят слухи, что их продлят?.. Тут вот в чем дело… Сам я, конечно бы, полетел, но вот мать и отец — ни в какую. Даже разговаривать не хотят. Останемся здесь, в Бельске, и все. А я как же — без них? Или, с другой стороны, как они — без меня? Ведь эти что говорят: не увидимся уже никогда…
— Из наших кто-нибудь эмигрировал? — спрашивает Ефим.
Под нашими он подразумевает членов астрономического кружка.
— Пять человек: Евдокимов, Смирнов, Костырева, Ланецкая, Таечка Зимогляд. Девчонки — вместе с родителями, а Евдока и Смирный — они просто сами ушли. Только записки оставили, чтоб не искали их… Ефим Петрович, а правда тут говорят, что вы решили остаться?
— Да, мы остаемся, — после короткой паузы отвечает Ефим.
— А почему? Вы посмотрите, что происходит.
— Именно потому, — опять после паузы говорит Ефим. — Ну как тебе объяснить? Если я сейчас отсюда уйду, скажут — сбежал. Я ведь тут как бы отвечаю за всех. — И добавляет поспешно: — Но это, учти, касается только меня. То есть, конечно, меня и моей семьи. У тебя могут быть совсем другие ориентиры.
— Что-то я не въезжаю…
— Ну, Марат, ты же — не мэр. Ты на себя никаких общественных обязательств не брал. Так что советовать не берусь. Опять же — родители твои, видишь, против… Извини, ты уж решай это сам…
— А как вы полагаете, что думают президент и правительство?
— Ну… они, наверное — думают, — нейтральным голосом сообщает Ефим.
— Понятно… В интернете вон пишут, что политикам виз не дают.
Ефим отводит ветку, лезущую в глаза.
— Марат, видишь ли, практически любой человек время от времени вынужден сделать выбор: поступить так или этак, повернуть туда или сюда. Другое дело, что большинство людей этого даже не замечает, для них выбора нет — они инстинктивно сворачивают туда, куда идут все. Очень трудно плыть против течения. У многих, пожалуй, почти у всех, для этого просто нет сил. Да, в общем, и не хотят они никуда плыть, они хотят, чтобы течение само их несло. Никто здесь никому не может помочь. И потому скажу еще раз: решай сам.
Марат молчит. Чувствуется, что он разочарован. Он, похоже, рассчитывал получить простой и ясный ответ. Ефим раздраженно думает: все жаждут получить простой и ясный ответ. Но что делать, нет у меня простых и ясных ответов. И ни у кого их нет. У всего человечества нет.
Проход выводит их на площадку, усыпанную пережженной гарью. Заборчик, когда-то огораживавший ее, сейчас лежит на земле. У бетонной стены с черным, напрочь высаженным окном высится нагромождение проеденных ржавчиной труб. Так это же старая котельная, догадывается Ефим. Я же сто лет собирался ее снести и устроить здесь сквер. Не успел, черт, почти ничего не успел.
— Смотрите, — протягивает руку Марат.
От края площадки идет длинный травяной спуск к реке. В солнечном воздушном просторе отчетливо виден мост, между перил которого перекипает, как каша, густая масса людей. Приподнимаются над ней кабины грузовиков, перегораживающих дорогу, на них — фигурки бойцов Росгвардии, размахивающих руками. Они что-то кричат, но отсюда не разобрать. А дальше, на другой стороне реки, на пространстве примерно в километр длиной-шириной — чудовищный бидонвиль из палаток, фанерных листов, обрезков досок, коробок, ящиков, полиэтилена, черт-те чего. Выползает оттуда копоть костров, чернеют жуткие очереди, тянущиеся к пунктам питания. И над всем этим адом, над месивом слипающейся в отчаяние человеческой маяты — серый купол арконской Станции, окруженный чуть поблескивающей на солнце пленочкой защитного поля.
Разглядывать эту босхианскую панораму им, впрочем, некогда. Со стороны города, лежащего сейчас у них за спиной, как тяжелая волна в океане, вздымается низкий, протяжный, почти нечеловеческий звук: вой — не вой, стон — не стон, исходящий будто из недр земли. И сразу же из проулка, по которому они только что шли, выскакивают две девушки — в синем и красном платьях существенно выше колен — обе перепуганные до полусмерти, трясущие растопыренными ладонями. Ефим догадывается, что это те, которые уже неделю толпятся на площади перед мэрией, держа плакатики: «Выйду замуж за эмигранта с визой!», товар с брачных рынков, мотыльки, скопом летящие на огонь.
Марат отрывисто спрашивает:
— Что там?
Девушки не в состоянии продышаться. Чувствуется, что мчались они, не понимая куда и зачем. Наконец одна из них кое-как, сглатывая, выдавливает из себя:
— Не ходите туда, там — ужас…
А вторая внезапно визжит:
— Уроды!.. Придурки обдолбанные!.. Они там все чокнулись, все!..
— Пожар, — негромко замечает Алена.
Над садами, над треугольными скатами крыш, не спеша, точно во сне, поднимается толстый столб дыма, загибается, прикрывая собой еще низкое солнце, и перьевыми зыбкими лохмами также неторопливо плывет куда-то в сторону водонапорной башни.
У Ефима обрывается сердце.
— Кажется, это наш дом, — подтверждает его догадку Алена. И передергивает плечами, будто на них лег инеем бледный озноб. Лицо у нее, как ни странно, спокойное. — Ладно, все. Что мы тут топчемся? Надо идти…
Прежде всего скажу, что, в отличие от многих мемуаристов, я не собираюсь ни с кем сводить счеты. Я не собираюсь ничего выворачивать наизнанку, обнажать махристые швы, вытряхивать из складок на свет дурно пахнущую, комковатую, серую пыль. Пусть даже именно эти затхлые катыши времени особенно привлекают читателей.
У меня совсем другая задача.
Так получилось, что я, конечно недолго, но поработал в администрации двух президентов, был свидетелем и даже немного участником неких грандиозных событий, пронзивших все человечество точно электрошок, и пока события эти еще не стали историей, то есть пока они не превратились в мумифицированный официоз, состоящий лишь из сухих жил и костей, мне хотелось бы добавить к ним несколько своих обертонов, несколько живых красок, несколько мелких деталей, которые, возможно, сделают картину более полной. Вот все, чего я хочу, и вот, что заставляет меня садиться за клавиатуру компьютера.
Предложение стать одним из советников президента по кризисным ситуациям (в основном с упором на культурологический их аспект) мне передал мой старый приятель Гленн Осковиц, с которым мы были знакомы еще со времен Колумбийского университета, да и позже как-то не потеряли друг друга из виду. Гленн вполне откровенно объяснил, в чем тут дело. Нынешний президент Америки, на которого некогда возлагали столько надежд — ему даже авансом присудили Нобелевскую премию мира, — несмотря на то что он без особых трудностей отбарабанил два срока, надежд этих совершенно не оправдал. Ожидаемого обновления страны при нем не произошло. Напротив, Америка еще больше увязла в трясине неразрешимых противоречий. Естественно, началась фаза общественного разочарования. А поскольку приближались очередные президентские выборы и поскольку республиканцы явно рассчитывали взять на них реванш за поражения прошлых лет, то решено было освежить состав президентской администрации, ввести в нее несколько ярких медийных фигур, что могло бы поддержать рейтинг демократической партии в глазах избирателей.
Подумав несколько дней, я дал согласие. И на решение мое повлияло вовсе не то, что меня сочли «яркой медийной фигурой», хотя именно в последние годы, после неожиданного успеха моей книги «Власть как источник угроз», меня стали приглашать на различные телешоу, а чисто исследовательские, можно сказать, научные соображения: одно дело писать о природе власти, наблюдая ее как бы со стороны, и совсем другое — увидеть ту же самую власть изнутри, посмотреть на ее шестеренки, пружинки, штифтики, на ее анкеры, на ее скрытые передаточные ремни. Я мог приобрести уникальный опыт, которым не следовало пренебрегать. Пример Платона, дважды изгнанного из Сиракуз, казался мне историческим артефактом. Мы ведь живем совсем в иную эпоху. Современная власть, пусть мучительно, пусть скрипя зубами, но научилась в конце концов ценить профессиональный интеллектуализм, свидетельством чему являются судьбы и Джорджа Кеннана, архитектора холодной войны, и Збигнева Бжезинского, и Генри Киссинджера. К тому же в науке отрицательный результат часто не менее значим, чем положительный. Результат — это всегда результат, не так ли? В общем, в конце сентября, признаюсь, в несколько приподнятом настроении, я в сопровождении Гленна Осковица вступил в Белый дом, и в тот же день президент в Овальном кабинете пожал мне руку, приветствуя нового члена своей команды.
Скажу сразу, ничего хорошего из этого моего эксперимента не получилось. Разумеется, я был далек от иллюзий, будто бы люди, находящиеся у власти, руководствуются в своей деятельности исключительно высокими идеалами — теми, которые воистину сделали нашу страну великой, идеалами равных возможностей, свободы и демократии. Люди есть люди, даже политики, и нередко личные интересы вытесняют из их сознания любой идеал. Повторяю, я это все, разумеется, понимал. Однако мне и в голову не приходило, что сами идеалы как таковые давно перестали играть в нашей политике хоть сколько-нибудь заметную роль, что это лишь стандартная упаковка, в которую облекается ныне любой политический жест, пышная демагогическая фата, призванная скрыть находящиеся внутри элементарную некомпетентность, жадность и эгоизм. К этому я был не готов и потому почти сразу же совершил грубый промах, поставивший на моей карьере советника жирный и безнадежный крест.
Промах мой заключался в следующем. Уже через два месяца, пользуясь своими предшествующими наработками, я представил докладную записку, где прямо сказал, что, поддержав сирийскую оппозицию, требующую свержения президента Башара Асада, мы совершили стратегическую ошибку. Во-первых, президент Асад был готов на определенные демократические уступки и это могло послужить хорошей платформой для переговоров, то есть совершенно необязательно было развязывать гражданскую войну в этой стране. Во-вторых, я подчеркнул, что нельзя мгновенно утвердить демократические институты там, где исторически не существовало подобных традиций. Демократизация — это не акт, а процесс, для инсталляции демократии требуется смена нескольких поколений. Традиционное сознание трансформируется очень медленно, и если силовым путем свергнуть в авторитарной стране «жесткий режим», то сборку социальной реальности тут же начнут осуществлять атавистические механизмы: этнический экстремизм, религиозный фанатизм, что мы и видим на примере Афганистана, Ирака и Ливии. И наконец я напомнил, хотя, конечно, это знали и без меня, что так называемая «сирийская оппозиция» вовсе не озабочена утверждением в Сирии мира и гражданских свобод. Она озабочена только борьбой за власть, а все высокие принципы являются для нее лишь прикрытием. К тому же по составу она сильно неоднородна и потому в случае победы ее мы можем получить известную «афганскую версию»: там, после свержения просоветского режима Наджибуллы, лидеры оппозиции тут же начали ожесточенно сражаться между собой, в результате чего к власти в стране пришел «Талибан». Стоит ли опять наступать на те же грабли? — вопрошал я.
С этим докладом мне исключительно не повезло. В принципе, понимая, что существует местная специфика интересов, я хотел сначала проконсультироваться насчет него с Гленном Осковицом, и если бы мне это тогда удалось, то Гленн, зная внутреннюю ситуацию, несомненно, убедил бы меня, что я лезу в огонь. Но Гленн в эти дни был на переговорах в Куала-Лумпуре: экземпляр доклада из его кабинета каким-то загадочным образом перекочевал в канцелярию государственного секретаря, и мадам Бентон, занимавшая эту должность, едва ознакомившись с ним, прошипела, как меня тут же уведомили, лишь два слова: «законченный идиот!» Прозвучало это как приговор, и президент, насколько я понимаю, поддержал ее выводы. На другой день Гленн, вернувшись из Англии, объяснил, что, оказывается, своим докладом я невольно дискредитировал гениальный план, разработанный лично мадам Бентон: свергнуть Асада, поставить вместо него суннитское и одновременно прозападное правительство, тогда нефть и газ с Аравийского полуострова могли бы прямым ходом пойти в Турцию и дальше — в Европу. Экспорт российских энергоносителей был бы таким образом заблокирован, и Россия была бы оттеснена на уровень третьеразрядных, региональных стран. Предполагалось даже, что в результате там начнутся социальные потрясения, которые могут привести к распаду ее по сценарию СССР. Одновременно будет ослаблен Китай, который лишится сильного стратегического партнера.
Гленн был в ярости. Он полагал, что дело тут не во мне: главный удар этой интриги был направлен против него. Они с мадам Бентон давно недолюбливали друг друга и между ними давно шла не всегда заметная, но очень отчетливая борьба за влияние на президента. К тому же часть тезисов моего доклада неожиданно просочилась в печать (Гленн считал, что это была намеренно организованная утечка), и республиканская пресса с радостью начала обсуждать ошибки, допущенные правительством демократов. Особенно часто они цитировали мою фразу о том, что борьба с террористами ведется каким-то удивительным образом: тридцать лет исламских радикалов финансировали аравийские нефтяные монархии, а теперь вдруг они же являются ближайшими союзниками США в борьбе против террористического «Исламского государства». СМИ также охотно писали об экономических связях кланов Бушей и Бентонов с правящей династией Королевства Саудовская Аравия, которые складывались ко взаимной выгоде много лет. В преддверии выборов это было совсем ни к чему.
Так что судьба моя была решена. Меня, разумеется, не уволили: привлекать по такому поводу внимание прессы никто не хотел, но тут же твердо и необратимо задвинули на периферию. Ни в каких совещаниях я более участия не принимал, никакой инсайдерской информации о текущих делах ни грамма не получал (довольствовался тем, что обозревал интернет), мнением моим никто не интересовался, а при случайных встречах в коридорах или на брифингах на меня смотрели как на неодушевленный предмет. Лучшим выходом было бы, конечно, подать в отставку, но Гленн Осковиц уговорил меня этого не делать. Причина — те же близкие выборы.
— Ну потерпи немного, — попросил он, предварительно намекнув, что аналогичного мнения придерживается и президент. — Ну что тут такого? С тебя ничего не требуют, зарплата тебе идет, а сменится администрация — и тихо исчезнешь вместе со всеми.
Отказывать Гленну мне было неловко: старый приятель, пострадал по моей вине (мадам Бентон теперь всей яростью обрушилась и на него). В общем, пришлось согласиться, что несколько месяцев я вполне могу подождать.
Тянулись какие-то светлые, невесомые, насквозь прозрачные, почти бесплотные дни, как струйки дыма, сливающиеся в поток неощутимого времени. Потом, вспоминая их, я с удивлением сообразил, что давно уже не работал так много и продуктивно, как в этот злосчастный период. Утром я оставлял машину на стоянке подземного гаража, поднимался в свой крохотный кабинет, два на три метра, чуланчик, даже без окон, включал компьютер, защищенный моим личным паролем, и проваливался в пространство слов, мыслей, концепций, которые непроницаемой аурой отгораживали меня от всего. Около половины второго я перекусывал в заведении на втором этаже: там, среди мелких клерков и секретарш, никому до меня дела не было, а ровно в шесть запирал кабинет и ехал домой, где структурировал и осмысливал накопленные за день заметки. Я еще три года назад задумал книгу о психологической множественности современного «политического человека», о быстрой — чисто ситуативной — смене им разных масок, идеологий, идентичностей и культур, в коих он напрочь теряет себя самого, и, конечно, не мог не использовать нынешние благоприятные обстоятельства, чтобы серьезно продвинуть данный материал.
Между тем именно в это время стало понятно, что электоральная атмосфера у нас коренным образом изменилась. В республиканской партии, где, несмотря на все бодрые заявления, царили уныние и разброд, начал стремительно выдвигаться некий эксцентричный миллиардер, которого поначалу никто, в том числе, каюсь, и я, серьезно не воспринимал. У него была «киношная» (что неплохо для рейтинга) фамилия Гамб, которая звучала в эфире звонко и ясно, как удар молоточком в гонг. Такой же звонкой и ясной была его предвыборная программа. Собственно — вот парадокс! — никакой реальной программы у Гамба не было. Сразу же бросалось в глаза, что он не разбирается ни в международной политике, ни в экономике, ни в социальных вопросах. Здесь он был, по выражению одного из газетчиков, «полный ноль». Зато у него была странная смелость пренебрегать всеми правилами политкорректности и говорить об американских проблемах так, как не отваживался ни один из конкурирующих с ним кандидатов. Гамб делал просто самоубийственные заявления. Он обещал построить на границе с Мексикой стену и тем самым пресечь поток нелегальных иммигрантов, текущий в страну. Это вызвало протесты со стороны мексиканцев, живущих в Америке, между прочим — очень большой и очень влиятельный электорат. Он обещал запретить въезд в Соединенные Штаты всем мусульманам, и в результате вызвал протесты уже со стороны мусульманских общин. Он пренебрежительно отзывался о женщинах, и несколько шумных феминистских организаций тут же обвинили его в грубом и вульгарном сексизме. Каждое из таких высказываний, мгновенно подхватываемое и раздуваемое национальными СМИ, которые по большей части контролировались демократами, могло бы насмерть убить любого другого участника этого марафона, но Гамбу, как ни удивительно, было все нипочем. Казалось, его оберегает некая невидимая рука: сам он без ложной скромности называл это «божественным промыслом». Рейтинг его стремительно рос. Он потерпел неожиданное поражение на праймериз в Айове, где все прогнозы предрекали ему твердый успех, но одержал, что гораздо важнее, блистательную победу в Южной Каролине и Нью-Гэмпшире. Он проиграл в Канзасе и Мэне, но в мартовский «супервторник», праймериз сразу в одиннадцати штатах, получил большинство голосов аж в семи, чего никто не предвидел. Конкуренты его отпадали один за другим. Они упархивали с дистанции, как воробьи, завидевшие тень кошки. И даже когда ряд видных деятелей республиканской партии заявил, что они не будут поддерживать Гамба на президентских выборах (факт небывалый: республиканцы выступили против собственного кандидата), это уже не могло его остановить. За Гамба дружно проголосовали Кентукки и Луизиана, ему отдали свои голоса Аризона, Гавайи, Миссисипи и Мичиган, крупнейшую победу он одержал в штате Нью-Йорк, продемонстрировав уверенное превосходство практически во всех избирательных округах. Это было поистине триумфальное шествие, это было наступление подлинного избранника, сметающего все на своем пути, многими это рассматривалось как знак свыше, и в конце концов на съезде, состоявшемся в середине лета, Великая Старая Партия официально провозгласила его своим кандидатом на пост президента Америки.
Поначалу я следил за всем этим вполглаза. Гамб казался мне калифом на час, который исчезнет как только избирателям приестся его клоунада. Такое неоднократно было в нашей истории. Однако через некоторое время я с удивлением сообразил, что невольно начинаю восхищаться энергией этого человека — его отчаянной смелостью, его брутальной и независимой прямотой, тем упорством, с которым он преодолевает любые препятствия. Я даже, как, вероятно, и многие американцы, постепенно стал верить, что его предвыборный лозунг «Вновь сделаем Америку великой!» — это не пустые слова. Гамб не ерничает, просто чтобы привлечь публику. Он действительно может вернуть нашей стране утраченное величие, прежние честь и гордость, основанные на общечеловеческих идеалах.
Интересно, что именно в эти дни я вдруг ни с того ни с сего подал наверх еще одну аналитическую записку, где изложил свой электоральный прогноз. Хотя почему — ни с того ни с сего? Я все-таки работал в администрации президента от демократической партии (за которую, между прочим, голосовал еще со студенческих лет) и считал своей должностной обязанностью обратить внимание моих партийных коллег на совершаемые ими ошибки. В записке я прямо сказал, что как бы парадоксально ни выглядел такой вариант, но Рональд Гамб может победить мадам Бентон на выборах. Конечно, мадам Бентон выглядит гораздо серьезней, чем мистер Гамб (по крайней мере, такой образ ее доминирует в медийной среде), конечно, она имеет несомненный опыт работы в правительстве (государственным секретарем) и уверенно, со знанием дела обсуждает целый ряд самых острых проблем. Вообще женщина во главе великой державы — актуальный вопрос. Вместе с тем здесь наличествует ряд трудностей, которые могут быстро вырасти до серьезных угроз. Во-первых, уверенность мадам Бентон часто, особенно на экране, превращается в самоуверенность: небожитель снисходит до обычных людей, объясняя, как им следует жить. Это от нее многих отталкивает. А во-вторых, мадам Бентон представляет собой хорошо известное прошлое, которое этим обычным людям ничего особенного не принесло, в то время как Рональд Гамб, при всех его очевидных загибах, при всей его клоунаде, которая сотрясает политические круги, олицетворяет собой некое будущее, скажем прямо: не очень определенное, но, возможно, именно потому предвещающее позитивный потенциал. Мадам Бентон лишь поучает американцев, а мистер Гамб призывает их действовать. Мадам Бентон снисходительно обсуждает проблемы, а мистер Гамб намерен эти проблемы решить. В общем, я полагал, что «молчаливый электорат», те простые белые американцы, которые и представляют собой костяк страны и которые устали от бесконечного круговорота одних и тех же политических лиц, могут ощутимо изменить электоральный ландшафт и своим протестным голосованием опровергнуть все социологические расчеты.
По слухам, мадам Бентон, прочтя мой анализ, лишь скривилась, фыркнула: «Полный бред!» — и демонстративно его отбросила так, что страницы веером разлетелись по полу. Разрыв между ней и мистером Гамбом составлял целых одиннадцать пунктов, и мадам Бентон казалось, что победа уже у нее в кармане.
Тем не менее записка моя имела важное следствие. Примерно через неделю после этого высокомерного фырканья мне позвонил Гленн Осковиц, который опять откуда-то прилетел, и, бодрым голосом напомнив, что приближается юбилей нашего с ним знакомства: двадцать лет — это тебе не хрен знает что, предложил встретиться дня через три, чтобы обсудить детали. В действительности это означало, что он будет ждать меня сегодня, в три часа дня, в небольшом кафе на северной окраине Вашингтона. Это был наш шифр, о котором мы условились, когда я только-только пришел в Белый дом. И, помнится, я тогда в очередной раз подумал, что все-таки в каком шизофреническом мире нам приходится жить: двое взрослых людей, старых приятелей, вместе работающих, видящихся чуть ли не каждый день, должны вести себя как агенты спецслужб, чтобы скрыть встречу от своих же коллег.
Вот тогда Гленн и сделал мне предложение. Он сразу же объяснил, что моя аналитическая записка попала на глаза мистеру Гамбу (не надо щуриться, предупредил он, не моя это работа, «кротов», как ты понимаешь, хватает с обеих сторон). Мистер Гамб прочел ее с большим интересом и теперь хотел бы видеть тебя в своей новой администрации, статус примерно тот же — советник-эксперт.
— Он так уверен, что победит? — спросил я.
— Тут дело в другом, — неторопливо ответил Гленн. — Он обязательно победит, не в этот, так в следующий раз. Кстати, я свое согласие на аналогичное предложение уже дал. Просто там все мертвое, — он кивнул в сторону, где невидимый за деревьями парка расположен был Белый дом, — а здесь все же что-то живое… И, ты знаешь, мне кажется, что Гамб действительно победит. Есть у меня такое прогностическое предчувствие. Он победит вопреки всему…
Я отчетливо помню этот наш разговор. День был солнечный, полный неожиданного для осени, ясного, расслабляющего тепла. Неподалеку был пруд, две крапчатые утки поспешно пересекали его, оставляя за собой, как корабли, длинные водяные усы. С противоположного берега им бросали хлеб трое жизнерадостных малышей.
Я представил себе лисью физиономию мадам Бентон и слабо кивнул.
— Ну отлично! — тут же воскликнул Гленн. Выпрямился, будто сбросив с плеч тяжкий груз. — Значит, снова будем работать вместе. Главное, что я могу доверять тебе, а ты — мне…
Он даже слегка поаплодировал мне.
А обе утки вдруг поднялись, резко хлопая крыльями, и через пару секунд плюхнулись в воду неподалеку от нас, подняв тучу брызг.
На исходе июля стало понятно, что переговоры зашли в тупик. К тому времени у нас уже выработалось четкое рабочее расписание: встречи с Виллемом происходили три раза в неделю: понедельник, четверг, суббота, каждый раунд длился не более трех часов и располагался в интервале с десяти утра примерно до часу дня. Интенсифицировать данный график было нельзя: мы просто не успевали осмыслить и проанализировать очередной блок материалов, тем более не успевали оформить его согласно жестко регламентированной процедуре.
Главная трудность, впрочем, состояла не в этом. К концу каждого раунда и основная группа экспертов, и группа наблюдателей тоже из пяти человек неизбежно впадали в состояние полной прострации. Вроде бы ничего особенного не происходило: беседа, как показывали контрольные записи, велась в размеренном и спокойном ключе, никто ни от кого ничего не требовал, никто ни на кого не давил, обстановка была сугубо доброжелательной, и тем не менее к исходу третьего часа каждый участник переговоров ощущал в себе глубокую ментальную опустошенность — как будто невидимый пылесос вытянул из него все мысли и чувства.
Видимо, это был эффект психогенного поля. Мне, например, казалось, что мозг у меня всякий раз превращался в какое-то подобие гречневой каши, в переваренную размазню, из нутра которой вздувались и лопались крохотные липкие пузырьки. Я с трудом мог дотащиться потом до своего номера, где валился в постель и отключался на три-четыре часа. К счастью, этого времени мне хватало. Многим же, чтобы прийти в себя, требовалось часов пять или шесть, а Пламик Дончев, самый темпераментный среди нас, вообще беспробудно спал до следующего утра. Еще хуже приходилось другим, тем, кто после переговоров почему-то отключиться не мог. Они, как зомби, бродили по коридорам гостиницы, не узнавали встречных, были не в состоянии разговаривать, бессмысленно моргали, не реагировали ни на что, иногда вдруг сползали по стене на пол и сидели — час, другой, третий — в летаргическом забытьи. Таких «отчужденных» в конце концов отводили в медицинский отсек, где доктор Менгеле, подрагивая от возбуждения, изучал их как подопытных крыс. Диагноз всегда был один: предельное нервное истощение, каталептический криз, эксперта списывали, отправляли лечиться, а на его место из резерва, срочно созданного ДЕКОНом, назначался другой.
Так что мне исключительно повезло. Я числился среди тех, кто, видимо, обладал «природной устойчивостью к психогенным коммуникациям». Это из заключения того же доктора Менгеле, которое по секрету довел до меня Андрон Лавенков. Меня это, честно признаюсь, не слишком радовало. То есть, конечно, радовало, тем более что и голова у меня к тому времени болеть практически перестала. Вероятно, завершилась некая психофизиологическая адаптация. В чем была ее суть, я не знал и опять-таки, если честно, знать не хотел. Никому, кроме Дафны, я на эту внутреннюю адаптацию даже не намекал. Мне было достаточно и того, что, благодаря мелким особенностям своего мозга, я удержался в группе экспертов, хотя состав ее по сравнению с первоначальным обновился более чем на половину.
Да и нечему тут было радоваться. Тупик, в который мы внезапно уперлись, выглядел унылым и безнадежным. Арконцы твердо придерживались «Двух принципов», провозглашенных ими в самом начале, и никакие ухищрения наших психологов, никакие словесные интервенции, которые — после тщательного обдумывания — рекомендовал нам ДЕКОН, не позволяли найти в них смыслового зазора, куда было бы можно протиснуться. В результате информация, которую мы получали, колебалась где-то возле нуля.
Это жутко изматывало. Все-таки мы уже больше двух месяцев вкалывали, как проклятые, напряженно ожидая, что вот-вот произойдет яркий прорыв: распахнется занавес, откроется дверь во Вселенную, мы вступим в мир, полный сияющего технологического волшебства. Но дверь по-прежнему была заперта. Собственно, ее, двери, перед нами и не было: мы колотились лбами в глухие стены и чем дальше, тем больше ощущали их непробиваемую толщину. Я потом, чуть позже, прикинул, что спал в эти месяцы не более пяти часов в день. А Юсеф как-то обмолвился, что у него бывают периоды, когда он вообще по несколько суток не спит, зато днем много раз вдруг проваливается на пару минут в сонное забытье.
— Странное какое-то состояние. Утром резко стартуешь и сразу же начинаешь бежать, весь день мчишься, как полоумный, не оглядываясь по сторонам, а к вечеру, потный, вымотавшийся, практически никакой, оказываешься там же, где начинал.
Я процитировал ему «Алису в Стране Чудес»:
— Чтобы оставаться на месте, надо бежать изо всех сил.
— Ну да, я об этом и говорю…
Лицо у него было болезненно желтым. Атмосферу нашего бытия пропитывали лихорадка и раздражение. Изменяла выдержка даже Лорду. Уж на что, казалось бы, был не человек, а скала, но и он в финале одной из дискуссий, где обсуждались итоги очередного раунда переговоров, вдруг бросил шариковую ручку на стол и сказал:
— Нет, это какой-то обезьяний концерт. У меня ощущение, что я как глупый ребенок лезу ко взрослым со всякой утомительной ерундой, а они терпеливо ответствуют, что это пока — не моего ума дело. Дескать, повзрослеешь — поймешь. И так — день за днем. И мне не хочется ничего понимать. Мне хочется закатить истерику — кричать во весь голос, ломать игрушки, бить кулаками в пол… Боже мой, сколько случаев Контакта описано в фантастической литературе, и ничего похожего на то, что происходит у нас. Никому в голову не пришло, что это будет такая пресная вермишель.
Мы все ощущали что-то подобное. Исчезло чувство ошеломляющей новизны, которое порождало энергию первых недель Контакта. Меня уже не потрясало, что вот — в десяти метрах передо мной сидит неземное разумное существо, представитель инопланетной цивилизации, пересекший океан космической темноты, метаморф, воплощенное галактическое божество: чудо из чудес подергивалось тусклой ряской рутины. Ну галактический человек, ну зеленый, хорошо еще, что не покрыт чешуей, ну с непропорционально большими (по земным представлениям) глазами и головой. Ну так что? Среди аватар интернета можно было найти гораздо более впечатляющие фигуры. Тем более что и Виллем никаких признаков волнения не выказывал: спокойно, неторопливо — по стеклянной галерее — шествовал в Павильон, садился за круглый стол, символизирующий по нашему замыслу равенство всех сторон, детским пальчиком осторожно пощелкивал по микрофону, показывая, что готов, и терпеливо, обстоятельно отвечал на вопросы экспертов. В выпуклых, будто залитых изнутри тушью, стрекозиных глазах вспыхивали отражения ламп. Начинало крутиться бесконечное переговорное колесо.
На настроении нашем сказывались и бытовые особенности. Я читал как-то о сталинских «ученых шарашках», конструкторских бюро тюремного типа, где арестованные специалисты разрабатывали военную технику. Конечно, с нашими условиями не сравнить, и все равно что-то общее здесь, несомненно, присутствовало. Представьте себе квадрат пустыни со сторонами длиной в километр, окруженный рвами, заградительной полосой, прикрытый дотами, спиралями колючей проволоки. Внутри него — разнообразные секторы, также изолированные друг от друга металлическими решетками. Свободно ходить можно лишь по единственной улице, которая как-то сама собой получила именование — Стрит. Вдоль нее тянутся стандартные двухэтажные здания: гостиница для экспертов, гостиница для технического персонала, ближе к периферии — бараки для военных подразделений, а заканчивается она тяжелым рельсом шлагбаума, по бокам которого, высовывая изнутри стволы, вздымаются два внушительных капонира. Теоретически Стрит асфальтирован, по бокам высажены ряды пальм, обозначающих тротуары, разбито даже несколько цветников, но асфальт всегда скрыт слоем песка, а цветники и пальмы засохли, поскольку вода, добываемая в местных источниках, для них слишком минерализована. Днем это выглядит еще ничего, а ночью, под яркой луной и необыкновенно крупными, гранеными звездами, пейзаж кажется прямо-таки марсианским: черный прозрачный воздух, вселенская сушь, однообразные безжизненные барханы, уходящие за горизонт. Особую тревогу рождает безлюдье: ночью температура воздуха резко снижается и все, кроме караульных солдат, предпочитают сидеть в помещениях. Честное слово, совершенно нереальный пейзаж — ни саксаула, который здесь якобы должен произрастать, ни одного живого существа в поле зрения. Местная фауна, если она вообще тут имеется, распугана шумом и грохотом почти непрерывных работ. Технический комитет почему-то никак не может их завершить. То подвозят и с лязгом разгружают какие-то голенастые трубы, то появляется на Стрите некий фантасмагорический агрегат, который начинает с ревом разбрасывать во все стороны струи песка, то неожиданно берутся рыть очередной котлован и, разумеется, огораживают его, а то вдруг ни с того ни с сего устанавливают загадочную скульптуру перекособоченной постмодернистской конфигурации. Якобы образец земного искусства. Изредка попадаются черепахи и ящерицы, но служба безопасности их тут же бдительно отлавливает и проверяет. Ходят слухи, что в панцире одной из черепах обнаружили таки микроскопическую телекамеру. Время от времени влетают с шипением осветительные ракеты — сигуранца отпугивает грифов, которые у нее тоже под подозрением.
То есть либо тупо сиди у себя в номере, а поскольку больше заняться нечем — работай. В интернет отсюда выхода нет. Либо также тупо слоняйся взад и вперед по Стриту — от одного толстенного шлагбаума до другого. Есть у нас, разумеется, кинотеатр, где крутят в основном американские боевики, перемежаемые по просьбе охраны индийскими и арабскими фильмами, и есть два клуба, которые сами собой разделились на «солдатский» и «офицерский». В «солдатском» я так и не побывал, а в «офицерский» (конечно, «Аркон») мы с Дафной пару раз заглянули. Этого оказалось вполне достаточно. Женщины, как в шарашке и полагается, были у нас в дефиците, и Дафне ежеминутно, точно от назойливых слепней, приходилось отмахиваться от предложений «потанцевать». Одно время Лорд пытался организовать в холле нашей гостиницы некие «вечерние парти», где эксперты, по его замыслу, могли бы общаться и отдыхать, но туда сразу же начали набиваться свободные от несения обязанностей офицеры, возникали коллизии, это дело пришлось прикрыть.
Короче, тупик был полный и безнадежный. Упорно — впрямую и в разговорных подтекстах — всплывал проклятый вопрос: зачем они все-таки к нам прилетели? Зачем грохнули такую уйму энергии? Зачем вообще пошли на подобный риск? Ведь не только Земля не получила никакой информации от арконцев, но и сами арконцы, учитывая, что они принимали сквозь «межпространственный коридор» наши радио- и телетрансляции почти целый век, не узнали ничего нового о Земле. Действительно, зачем было лететь? Или это как с зоопарком: хоть и видел много раз фильмы про диких зверей, но все-таки хочется посмотреть на них вживую, собственными глазами?
Не только нас мучил данный вопрос. Гораздо более бурно его обсуждали во внешнем мире. Конечно, на желтую прессу с ее конспирологическими эмоциями внимания можно было не обращать: гигантские фейерверки, которые там иногда вспыхивали, прогорали буквально за несколько дней, оставляя после себя лишь словесный чад, отравляющий атмосферу, но даже в более уравновешенных социальных сегментах, как видится теперь, задним числом, уже тогда формировались весьма тревожные признаки и тенденции.
Колоссальную популярность приобрела, например, так называемая «Петиция Арколя» (ударение на последнем слоге, гибрид двух имен собственных — Аркон и Земля; Аркеф в англоязычном произношении), предлагающая немедленно передать всю власть на нашей планете в руки арконцев. «Совершенно очевидно, — писал в кратком предисловии автор петиции, Мишель Дерен, француз, инженер одной из строительных фирм, — что современным политикам попросту наплевать на народы, которыми они управляют. Их интересуют лишь власть, деньги и собственные амбиции. Посмотрите: три крупнейшие армии мира, три армии государств — членов СБ ООН, американская, российская и китайская, не могут остановить войны, уносящие жизни сотен тысяч людей. Так спросим себя: они не могут или не хотят? Посмотрите: десяти процентов военных расходов хватит, чтобы преодолеть отсталость и нищету в тех странах, откуда расползается терроризм. Опять спросим себя: почему эта проблема не решена до сих пор? Посмотрите: продовольствия на Земле в избытке, а голод поражает целые регионы. И снова спросим себя: сколько мы будем все это терпеть? Если наши политики так эгоистичны, коррумпированы и бездарны, если они относятся к нам лишь как к «демографическому сырью», то пусть они все уйдут. Пусть они уйдут все. Пусть нами правят арконцы. Пусть они суровыми средствами, если надо безжалостно, восстановят у нас нормальную жизнь». Короче: земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите и володейте нами…
За три недели «Петиция Арколя» набрала более четырехсот миллионов подписей. Захлебнулся базовый сервер, не выдержавший такого наплыва, засбоили маршрутизаторы, которые накрыла эта волна, но десятки и сотни спонтанно образовавшихся групп поддержки тут же вывесили в сети параллельные «зеркала». Фракция анархистов в Европейском парламенте неожиданно поставила данную петицию на обсуждение, и для одобрения ее не хватило всего восьми голосов. Совет Европы в составе представителей сорока семи государств, собравшийся на экстренное заседание в Страсбурге, в течение двух дней работы не смог сформировать даже повестки дня, в итоге председатель его, министр иностранных дел Люксембурга, воскликнул: «А для чего мы тогда здесь собрались?»
Кульминацией этих дней стал грандиозный «Марш на Брюссель», организованный молодежными сетевыми структурами. Даже по сведениям полиции, явно заниженным, в нем приняли участие более четырехсот тысяч человек. Колонны демонстрантов двигались из Франции, Италии, Германии, Нидерландов, перекрывая собой крупнейшие европейские магистрали. Сам Брюссель, город сравнительно небольшой, был просто затоплен бурным человеческим морем. Митинг в Европейском квартале, где располагались главные офисы ЕС, продолжался четыре часа, накрываемый время от времени гулом вертолетов полиции. К радости властей, массовых беспорядков все-таки не было. Правда, не было сделано и надлежащих выводов, вопреки тому, что предвестник будущих потрясений уже продемонстрировал в этот день свою стихийную мощь. Хотя легко делать прогнозы задним числом. Определенную роль сыграло и то, что ни у руководителей марша, ни у его участников не было четко сформулированной программы. Слишком уж неожиданно вспыхнул этот протест. В результате он как бы перекипел сам в себе. Собрались, покричали немного и разошлись с чувством исполненного гражданского долга.
Давление на нас резко усилилось. ДЕКОН требовал во что бы то ни стало и как можно скорей получить хоть какие-нибудь вещественные результаты. Ну хоть что-нибудь! Ну хоть какую-нибудь ерунду, которая оправдала бы трату денег и технических средств!.. Как будто это зависело от экспертов!.. Тем не менее Лорд на очередном «обобщающем семинаре», нервничая, говорил, что напряжение нарастает: согласно многим закрытым прогнозам, увеличивается вероятность масштабных социальных эксцессов. Главной угрозой для нас становится когнитивный диссонанс. Большинство людей, в том числе в Европе и США, искренне не понимает, почему арконцы не помогают Земле? Аргументы о рисках неструктурированных кросс-культурных контактов, о деформации земной идентичности и так далее, разумеется, очень важны, но их важность осознают только специалисты. А для человека, мучительно умирающего от рака, это не имеет никакого значения. Он требует, чтобы ему дали лекарства, он хочет получить их немедленно, срочно, прямо сейчас, тем более что, как он полагает, такие лекарства у арконской цивилизации есть. Того же требуют его родственники, коллеги, друзья, тысячи, сотни тысяч сочувствующих в сети.
— Учтите: многие искренне убеждены, что фармацевтические панацеи, как и другие технологические чудеса, земные элиты — политики, топ-менеджеры, миллиардеры — давно получили, освоили, но используют их исключительно для себя. Вы понимаете, чем это грозит?
Мы понимали: ДЕКОН непрерывно давил на нас, Совет Безопасности непрерывно давил на ДЕКОН, политики мировых держав непрерывно давили на Совет Безопасности, взбудораженные и смятенные избиратели давили, соответственно, на своих национальных политиков. И все это порождало тревожный подземный гул, готовый выплеснуться наружу. Инциденты вспыхивали то здесь, то там. То в Италии группы молодежи заблокируют здания министерств, не пропуская ни туда, ни оттуда чиновников. То в Париже «Альянс правых сил» проведет шумную демонстрацию под лозунгом «Земля — землянам!». То в Исландии, казалось бы погруженной в безмолвие снега и льда, опять-таки стихийно собравшаяся молодежь забросает бутылками и камнями парламент.
Что-то сдвинулось в сердцевине мира. Из него, будто жизнь, испарялась материальность. То, что ранее казалось незыблемым и привычным, стало понемногу дрожать и расслаиваться как мираж.
Подлинным бедствием для нас, сотрудников Центра, стала утечка информации о переговорах. Обнаружилось это через две недели после начала Контакта. В солидной английской «Гардиан», одном из столпов западных СМИ, вдруг стали регулярно появляться статьи, где раскрывалась «кухня» нашей ежедневной работы. Интерес они вызвали необычайный. К тому же по многим деталям, которые автор подробно живописал, чувствовалось, что это сугубо инсайдерская, достоверная информация, источник ее, несомненно, присутствовал среди нас: временной разрыв между событием и газетным материалом о нем составлял не более суток.
Сенсацию вызвала уже самая первая публикация, известившая мир о том, что арконцы категорически отказались выступить перед Генеральной Ассамблеей ООН, куда их торжественно пригласили. Разумеется, приводилась и убедительная мотивировка: психогенное поле землян содержит слишком много негативных эмоций. Виллем (единственный арконец, который был нам известен) может одновременно общаться не более чем с пятнадцатью — двадцатью людьми. Но концентрированное внимание тысячи человек просто, как импульс лазерной пушки, сожжет ему мозг. Вроде бы достаточно убедительная причина. Однако тон статьи сомнений не оставлял: все это лишь отговорки, чтоб отвести нам глаза. В действительности же арконцы относятся к людям как к представителям низшей расы.
В таком же тоне были выдержаны и последующие статьи. И о том, что арконцы отказываются передавать нам какие-либо продвинутые технологии, и о том, что они блокируют любую информацию о себе, но в то же время снимают с инфополя Земли подробные сведения о нас. Так, кстати, был раскрыт секретный план Комитета объединенных штабов армии США — в случае чрезвычайной угрозы нанести по зоне Контакта ракетно-ядерный удар. План без каких-либо комментариев был представлен Виллемом уже в третьем раунде переговоров, и публикация его в той же «Гардиан» вызвала неимоверный скандал. На редакцию газеты было оказано сильнейшее политическое давление, но установить источник информации так и не удалось. Материалы, как продемонстрировал технический персонал, поступали на сервер «Гардиан» с виртуальных одноразовых адресов, идентичность их подтверждалась лишь цифровой подписью.
Не меньший скандал разразился и у нас в Центре. Сигуранца, получив такой удар по башке, впала в неистовство. Полковник Буреску, по слухам, заикающийся от гнева, потребовал заменить всех сотрудников комплекса связи (большей частью арабов), в чем Административный комитет единогласно ему отказал (отношения с саудитами и так висели на волоске). А в требовании пропустить всех сотрудников Центра через детектор лжи (полиграф) ему отказал сам Лорд, который, в отличие от полковника, понимал, что научники категорически не захотят, чтобы их потрошили, как кур. Нового «бунта экспертов» никто не хотел.
Тем не менее сгустилась атмосфера маниакальной подозрительности. Некоторые эксперты, особенно из африканских и азиатских стран, стали жаловаться на косые взгляды своих коллег. Срочно созданная комиссия по этике урегулировать ничего не смогла, поскольку именно в эти дни по нам был нанесен еще один мощный удар. Очередная статья, опубликованная в той же «Гардиан», утверждала, что психогенное поле арконцев давно модифицировало психику всех экспертов, превратив их в кукол, бездумно исполняющих волю галактических чужаков. Никому из них верить нельзя. «Кукушки Мидвича» — так громко, по названию известного фантастического романа, гласила статья, и сразу стало понятно, что это прозвище теперь будет за нами закреплено. Общего настроения это, разумеется, не улучшило. Лорду пришлось дать «Гардиан» специальное интервью, где он, на мой взгляд, вполне убедительно объяснил, что все это — патологический бред.
— Вы на меня посмотрите! — воскликнул он в завершение интервью. И очень отчетливо постучал себя по груди. — Я кукла или человек?
Впрочем, это ничего не доказывало.
Каждый верил лишь в то, во что хотел верить.
На «кукушек» теперь поглядывало с подозрением даже руководство ДЕКОНа.
Мы вдруг почувствовали себя изгоями среди людей.
А в довершение ко всему именно в эти дни в Саудовской Аравии произошел очередной государственный переворот. Правительство «молодых принцев», пришедшее к власти на волне беспорядков всего неделю назад, было свергнуто внезапно вынырнувшими из подполья исламистскими «бригадами Аль-Хазгар», которых, судя по скудным сообщениям СМИ, поддержали части армии, полиции и спецслужб. Обстановка в Эр-Рияде оставалась неясной, на улицах шли бои, но было понятно, что ничего хорошего это не предвещает, поскольку одновременно началось восстание в районах, населенных шиитами, а со стороны Йемена, где уже десять лет полыхала война, в направлении нашего Центра была выпущена пара ракет. Обе они, не долетев, упали в пустыне, комплексам нашего ПВО даже не пришлось их сбивать, и вообще оставалось загадкой: целились ли они именно в нас или были запущены наугад, просто как демонстрация сил, тем не менее бзик служб безопасности достиг критических величин. Раздались голоса о необходимости передислокации Центра, что, разумеется, надо было согласовать с арконцами, а пока полковник Буреску потребовал ввести военное положение: комендантский час с семи вечера до семи утра, вооруженные патрули, обыски в номерах, запрет на любые личные коммуникации с внешним миром. ДЕКОН пребывал в растерянности, но все же постепенно склонялся к тому, что эти меры придется принять.
Физически трудно было дышать в эти дни. В воздухе будто проскакивали электрические разряды — они обжигали горло, как чистый спирт. Эксперты то еле двигались, словно осенние мухи, то вдруг скучивались — все сразу, как правило, в холле гостиницы — и начинали галдеть стаей заполошных грачей.
Казалось, чуть подрагивает земля.
Звезды, нервно мерцая, переговаривались на неведомом языке.
Песок с барханов сползал — осыпью бессмысленно сгинувших лет.
Вот в такой ситуации на двадцать девятом раунде переговоров Виллем вдруг объявил, что арконцы предлагают Земле создать галактическую колонию — автономное поселение, некий форпост, который станет первым шагом землян в глубины Вселенной.
Теперь о некоторых внутренних обстоятельствах, сыгравших в последующих событиях определенную роль.
В 1994 году по Руанде, небольшой африканской стране, расположенной чуть южнее экватора, прокатилась волна кошмарного геноцида. В апреле неизвестными экстремистами был сбит самолет, на котором летел президент страны Жювеналь Хабиаримана, он принадлежал к народности хуту, и правительство, где хуту имели подавляющее большинство, обвинило в этом террористическом акте народность тутси — между ними и хуту давно тянулся вооруженный конфликт. Тутси были объявлены «врагами нации», пришлыми, наглыми захватчиками священной руандийской земли, некий «Кризисный комитет», взявший на себя власть в стране, призвал к их тотальному уничтожению. Руандийские радио и телевидение непрерывно транслировали эти призывы. Были сформированы специальные отряды интерахамве и импузамугамби, которые начали сплошную этническую зачистку. В городах тутси идентифицировали по документам, где была прописана национальность, их проверяли на блокпостах — всех тутси немедленно убивали. В сельской же местности, где обе народности давно жили рядом, и без документов было понятно, кто есть кто. Убивали и тех, кто «был внешне похож на тутси». Считалось, что принадлежность к ним можно определить по черным деснам и языку, по ладоням, по плоской икроножной мышце, по «надменному взгляду», по походке, по росту. Заодно убивали тех хуту, которые не одобряли убийств, а также тех, кто отказывался убивать. По самым скромным подсчетам, общее число жертв составило миллион человек. Страна «тысяч холмов», как из-за специфического ландшафта именовали Руанду, превратилась в болото, хлюпающее кровавой жижей. Миротворческие части ООН в эти события не вмешивались.
— Нас просто бросили, — сказала Дафна. — Согласно конституции исполняющей обязанности президента страны должна была стать премьер-министр Агата Увилингийима, мадам Агата, как ее называли на Западе; между прочим — бакалавр, преподавала в Национальном университете Руанды. Ее охранял отряд из бельгийских и ганских солдат ООН. Они должны были поддерживать закон и порядок. И вот когда дом премьер-министра окружило подразделение президентской охраны, голубые каски безропотно сложили оружие. Мадам Агата с семьей бежала на базу волонтеров ООН, но ее стали искать и там. Тогда, чтобы отвлечь внимание от детей, мадам Агата с мужем вышли из своего убежища и тут же были убиты. Детей все же удалось спрятать среди мебели и затем переправить в Швейцарию. А солдат ООН, которые капитулировали, отвезли на военную базу, где кастрировали, заткнули им рты собственными гениталиями, потом расстреляли, после чего бельгийские части были отозваны из страны.
Дафна говорила спокойным и ровным голосом, будто зачитывала научный текст.
— Генерал Даллер, командующий миротворческими частями ООН, неоднократно запрашивал разрешения на активные действия, чтобы остановить геноцид, но Кофи Аннан, тогдашний генсек ООН, разрешения не давал — ссылался на устав Организации Объединенных Наций, который призывал воздерживаться от силового вмешательства в дела независимых государств. Более того, по его предложению численность военного контингента в Руанде была сильно сокращена. Голубым каскам приказано было соблюдать нейтралитет, им разрешалось лишь отстреливать бродячих собак, поедающих трупы на улицах, чтобы «избежать санитарных проблем». Правда, интересная формулировка? Только через три месяца в Руанду из Заира были переброшены две с половиной тысячи французских солдат, которые заняли юго-запад страны. Власти Руанды формально приветствовали этот шаг, даже вывесили французские флаги, и все равно продолжали убивать…
В кровавом вихре, пронесшемся по стране, прошло незамеченным одно печальное обстоятельство. Сгинуло с лица земли крохотное племя икомо, обитавшее в долине, на юге, между двух мелких рек. Икомо не относились ни к тутси, ни к хуту и потому были чужими и тем, и другим. Они просто без всякой вины попали в огненный ураган. Когда французские миротворцы вошли в Руанду, медленно и осторожно продвигаясь вперед, то на пепелище одного из поселков они нашли девочку четырех-пяти лет, к тому времени почти умершую от голода. Девочку положили в католический госпиталь, а потом, чудом выжившую, передали в миссию, которую возглавлял священник Гийом Делиб. Как ее зовут, девочка сказать не могла, и священник дал ей имя своей матери — Дафна Делиб. Очень быстро у девочки обнаружились большие способности: через полгода она освоила французский язык, еще через год — программу начальных классов католической школы. Священник Гийом Делиб был уже стар и после отставки, вернувшись во Францию, взял Дафну с собой. Он официально оформил над ней опекунство, и таким образом Дафна Делиб стала французской гражданкой. Она с отличием окончила среднюю школу, затем — колледж и университет, где специализировалась в области этнической психологии. Получив степень магистра, Дафна несколько лет проработала в Национальном научном центре, написала две монографии, более сотни статей, издала книгу «Школа ненависти» по материалам руандийской резни, которая стала международным бестселлером. Книгу перевели на множество языков. Дафну начали приглашать на радио и телевидение, где она быстро превратилась в одну из медиазвезд. Популярности Дафны Делиб мог позавидовать любой политик, и это, видимо, сыграло не последнюю роль при отборе экспертов в наш Центр.
— Странная прихоть судьбы, — заметила Дафна. — Если бы не кровавая круговерть, которая уничтожила весь мой народ, я, наверное, так бы и прожила всю жизнь в той деревне — вышла бы замуж, украсила бы себя племенными татуировками, родила бы десятерых детей, сидела бы сейчас на корточках у костра — варила бы похлебку из корешков или лепила бы глиняные горшки… Двадцать тысяч погибших икомо — цена моего нынешнего благополучия…
Я чувствовал ее одиночество. Как будто сам оказался на мерзлой планете, где, кроме меня, других людей нет. Спокойное и вместе с тем непереносимое чувство: везде быть чужим, нигде тебя не примут как своего. Наша близость, которая в «инциденте первого дня» возникла как бы сама собой, была для нее досочками, проложенными через болотную хлябь: один шаг в сторону — и тебя проглотит чавкающий кошмар. По этим досочкам нам и приходилось брести: мы в тайне от всех ставили свой собственный, рискованный эксперимент. Нам уже было ясно, что я могу сканировать сознание Дафны и что это есть следствие того же «инцидента первого дня», когда удар психогенного поля каким-то образом трансформировал у меня в мозгу тонкие нейронные связи. Что-то там, похоже, закоротилось, что-то сомкнулось, создав структуру, обеспечивающую межличностный резонанс. Отсюда следовал важный вывод: не только арконцы могут осуществлять экстрасенсорный контакт, такими же способностями, по крайней мере в потенциале, обладает и земной человек. Мой сон, когда я попал в детские воспоминания Дафны, был однозначным и четким тому подтверждением. Мы с Дафной разобрали его по винтикам, подробно обсудили каждую его значимую деталь и пришли к убеждению: ни о каком случайном совпадении здесь речи не может быть. Если их, как две кальки, наложить друг на друга, они совместятся буквально один к одному. Уверенности нам добавили и последующие сеансы: с каждым разом я проникал в сознание Дафны все легче и легче.
Мне трудно объяснить, как я это делал. Тут было в точности как с компьютером, где проще что-то показать на экране, чем выразить последовательность действий через слова. С той, правда, разницей, что здесь и показать ничего было нельзя. Я просто — особым образом — «поворачивался» внутри себя, слегка напрягался, входил в некий диапазон, ощущаемый по чуткой, как бы «натянутой» тишине, снова чуть-чуть поворачивался, подстраивая несущую аудиовизуальную частоту, и вдруг образовывалась картинка, дышащая чужими эмоциями.
Ощущения, надо сказать, были не из приятных. Тот темный ужас, который Дафна упрятала в подсознание, теперь снова всплывал и просачивался в меня своими ядовитыми испарениями. При экстрасенсорном контакте мы с Дафной образовывали как бы единую личность и то, что раньше принадлежало лишь ей, теперь становилось также — моим. Иногда мне казалось, что я больше не выдержу тех жутковатых картин, которые возникали спонтанно: псы, раздирающие мертвого человека, солдаты, бросающие факелы в окна домов, дымящиеся остатки хижины, где под черно-красными углями, будто освежеванная земля, еще дергается что-то полуживое.
Между прочим, сразу же после руандийского геноцида в том регионе вспыхнул гигантский пожар, названный Великой африканской войной, длилась она почти пять лет, участвовали в ней одиннадцать стран, погибли пять миллионов человек. Самый кровопролитный конфликт после Второй мировой войны. «Цивилизованный мир» на эту бойню внимания не обратил, ему было не до того: американцы как раз в это время бомбили Белград…
Дафне приходилось намного хуже, чем мне. Если я, даже почти полностью включаясь в картинку, все же воспринимал ее как бы со стороны, то сама Дафна в этой картинке жила. И чем глубже я погружался в ее подсознание, чем энергичней взбаламучивал илистую придонную черноту, тем сильнее, как вода в половодье, она затопляла ее. За две недели наших экспериментов Дафна явно осунулась, заострились черты лица, обозначились суставы коленей, запястий, локтей. Невидимый жар сжигал ее изнутри, и я опасался, что доктор Менгеле после очередного обследования официально потребует отстранить Дафну Делиб от участия в переговорах. Спасало ее лишь то, что другие эксперты выглядели нисколько не лучше. Чак тоже подсох и сжег в себе, вероятно, килограммов пять или шесть. При встречах не говорил, а шипел: горло, стянутое струнными жилами, пропускало лишь скрежещущий инфразвук. На Юсефа рискованно было даже смотреть: от одного случайного взгляда он мог взорваться и перейти на яростный крик. Успокоить его потом было очень непросто. Заметно изменилась Ай Динь. Она больше не походила на трогательный воздушный цветок, который хотелось оберегать от всего, скорее — на тот же цветок, но сделанный из сухого папье-маше. При каждом ее движении чудился слабый шорох. У Лорда, по слухам, грянул сердечный приступ, его нигде не было видно целых три дня. Олле Крамер, с виду вроде бы крепкий мужик, вдруг прямо в столовой грохнулся в обморок, четверо суток потом пролежал в медотсеке. А Ян Ржепецкий, специалист по дешифровке криптосистем, тоже в столовой, посередине зала, держа поднос, неожиданно замер, как столб, и стоял так, не двигаясь, минут пять, пока кто-то его не толкнул.
Были и другие мелкие происшествия.
Предполагалось, что на нас таким образом действует психогенное поле арконцев.
Дафна не слишком выделялась на этом фоне. Конечно, я опасался, что она тоже может где-нибудь в людном месте грохнуться в обморок. Или замереть, как Ян Ржепецкий, превратившись в подобие соляного столпа. Или у нее, как у Лорда, вдруг резко сдернется сердце, и она, находясь одна в номере, даже не сумеет дотянуться до сотового телефона. Однако когда я осторожно предложил на некоторое время прервать наши сеансы, она категорически отказалась. Эксперимент есть эксперимент. Его нельзя прерывать. Я ее понимал. Знаменитый Владимир Хавкин, эпидемиолог, прежде чем начать лечение миллионов людей, испытал вакцины против холеры и чумы на себе. Эммерих Ульман точно так же вколол себе вакцину от бешенства, спокойно сказав при этом: «Посмотрим, умру я или нет». Генри Хэд перерезал себе нерв на руке и потом несколько лет скрупулезно наблюдал за его восстановлением. Страсть к истине — своего рода добровольное сумасшествие. Она поглощает своего носителя целиком. Ученые, подлинные ученые, отличаются от религиозных фанатиков только лишь тем, что заражают им не других, а себя.
В общем, мы пришли к выводу, что ментальное сканирование у людей действительно существует. Это не метафора, выдуманная писателями-фантастами, а реальный физический факт. Дафна даже предположила, что, возможно, в этом и состоит скрытая цель арконцев: сформировать внутри человечества некую инновационную общность, активное психогенетическое ядро, которое, укрепляясь и расширяясь, преобразует всю нашу цивилизацию. Впрочем, мы тут же решили, что данную гипотезу пока обсуждать не будем: сперва надо освоить собственно экстрасенсорный контакт. И кое-что нам установить удалось. Мы выяснили, например, что Дафна ощущает его как дуновение теплого воздуха, который, постепенно разогреваясь, превращается в жар, осуществляющий возгонку сознания. Кстати, обнаружилось, что она тоже может меня сканировать, правда слабее, и я тоже ощущаю это сканирование как легкое дуновение, пронизывающее мой мозг.
Расстояние тут вроде бы значения не имело. Конечно, контакт проще всего было установить, когда мы с Дафной располагались рядом, лицом к лицу, но если Дафна находилась у себя в номере, через четыре стены, то, войдя в экстрасенсорный регистр, я все равно мог каким-то образом нащупать ее. Я без особого труда устанавливал связь, даже когда мы расходились на противоположные концы нашего Центра, то есть к шлагбаумам, более чем на километр. Здесь опять-таки просматривалась аналогия с интернетом: если трафик между абонентами всемирной сети один раз проложить, то далее поддерживать его будет легко. Это, как мы сразу же поняли, открывало перед человечеством головокружительные перспективы.
Оставались неясными два фундаментальных вопроса. Во-первых, можно ли закрыться от такого сканирования? Можно ли поставить защиту, блокирующую несанкционированное вторжение в психику? Ведь иначе у нас просто не останется тайн. Как в свое время написал Жюль Ренар, «мозг не знает стыда». У самого нравственного человека могут иногда возникать совершенно патологические интенции. Их выбрасывает «наверх» вечно кипящий котел подсознания, и этот спонтанный, сугубо природный процесс нельзя отключить. Если вывернуть наизнанку наш внутренний мир, если он в яви проступит и станет видимым всем, то любой человек окажется с головы до ног вымазанным в грязи. Никакие оправдания не помогут. Ничто его репутацию не спасет. Так вот, к нашему разочарованию выяснилось, что защиту здесь поставить не удается. Во всяком случае, ни Дафна, ни я, как ни старались, сделать этого не смогли. Конечно, оставалась надежда, что со временем мы разработаем соответствующий метод, но пока это было именно так.
У Дафны однажды вырвалось, что это ужасно.
— Я не хочу, чтобы ты знал обо мне все. Женщина есть тайна, которую мужчина разгадывает всю жизнь. Извини за этот культурософский галлицизм: я все же большую часть жизни провела во Франции. А если разгадывать будет нечего, женщина превращается в вещь — ее можно использовать, а потом отодвинуть куда-нибудь и забыть.
Я был с ней, в целом, согласен, с той лишь поправкой, что тайной, экзистенциальной загадкой является сам человек, и если аура тайны исчезнет, он действительно превратится в вещь, в безликий предмет, значение которого определяет его сугубо утилитарный функционал. Мы как люди, как носители разума существуем в данном статусе лишь потому, что не понимаем сами себя.
Однако пока это были чисто схоластические философемы. Сейчас же нам предстояло исследовать второй прикладной вопрос: мы с Дафной можем сканировать только друг друга или кого-то еще? После непродолжительного обсуждения решено было осторожно расширить эксперимент. На ближайшем «обобщающем семинаре», куда явились двадцать шесть человек, я, улучив минуту, когда разгорелась дискуссия, попытался осторожно войти в экстрасенсорный регистр. Результат был ошеломляющим. Почти в то же мгновение холодные, как у призрака, пальцы начали ощупывать и, точно ком пластилина, торопливо уминать мой мозг, а еще через мгновение сверкнула внутри него бледная вспышка, от которой я на пару секунд ослеп. Надеюсь, что внешне я ничем не выдал себя. Во всяком случае, в мою сторону никто вроде бы не поглядел, и до конца семинара я не ощущал на себе ни чьего повышенного внимания. Тем не менее стало ясно, что в сканнеров или эмпатов, как я предложил это назвать, трансформировались не только мы. Дафна, более склонная к логическому мышлению, тут же заметила, что здесь можно диагностировать присутствие сразу двух человек: первый, несомненно, сам попытался меня просканировать и, может быть, даже взять мое сознание под контроль, а второй, по-видимому, защищался, он поставил тот самый ментальный барьер, антивирус, уничтожающий несанкционированное проникновение. Одновременно она высказалапредположение, что такое, как у меня, безадресное включение не может локализовать ни донора, ни реципиента. Проще говоря, мы не можем установить ни того, кто вступил со мною в агрессивный контакт, ни того, кто этот контакт насильственно оборвал.
— Но есть в этом и позитивное следствие, — сказала Дафна. — Они, вероятно, тоже не смогли тебя локализовать.
И далее она сформулировала любопытную мысль: адресность в экстрасенсорных коммуникациях возникает либо при сознательном и обоюдном взаимодействии, именно что «лицом к лицу», когда контрагенты, оба, четко представляют себе, кто есть кто, либо (второй случай) спонтанно, при межгендерном резонансе, как это поначалу произошло у нас. Она даже добавила, что в латентном, неосознанном виде подобный контакт может возникать в состоянии влюбленности или любви, когда оба партнера, одновременно являясь и донорами, и реципиентами, способны воспринимать друг друга на большую, чем обычно, когнитивную глубину. Рациональное зерно в этом было. Я тут же вспомнил, что некоторые восточные практики трансцендированиятребовали предельной эротической близости; считалось, что в кульминационном слиянии двух природных начал, инь и ян, женского и мужского, возникает новый субъект, способный выйти за границы земной реальности. Видимо, что-то такое люди интуитивно чувствовали уже давно.
В общем, попытки расширить эксперимент на других нам пришлось срочно прервать. Ни Дафна, ни я не хотели, чтобы о наших неожиданных способностях узнал кто-то еще. Мы отчетливо понимали, какая начнется вокруг этого свистопляска, с какой хищной яростью вцепятся в нас когти политиков и спецслужб. Ведь ментальное сканирование — это оружие, оно даст решающее превосходство тому, кто его первым освоит. Тем более что просвечивание своего сознания может обнаружить лишь собственно экстрасенс, а большинство людей, экстрасенсами не являющиеся, его даже не ощутят.
Единственный вывод, который мы в данном случае сформулировали: способностями к сканированию обладают не все наши эксперты. Или, точнее, не все эксперты эти способности в себе обнаружили. Человек ведь может и не подозревать, что он обладает каким-то даром, до тех пор пока этот дар, как правило неожиданно, не вспыхнет ярким огнем.
— Согласен? — спросила Дафна.
— Согласен, — ответил я.
Но что с этим выводом делать, было неясно.
Никаких результатов мы не достигли и при попытках просканировать Виллема. Собственно, когда на очередном раунде переговоров, заручившись поддержкой Дафны, которая обещала, что будет меня страховать, хотя трудно было понять, что она имела в виду, я с замиранием сердца «повернулся» внутри себя, чтобы открыть экстрасенсорный канал, то ничего в сущности не изменилось. Эмоционального сдвига не произошло. Ментальная картинка не изменилась ни на миллиметр. Все так же звучал размеренный голос Чака, задававший очередной, заранее разработанный и утвержденный вопрос, все так же всплывал в сознании размеренный, неопределенного женско-мужского тембра голос Виллема, дававший ответ, из которого нельзя было извлечь никакой информации. Видимо, дело здесь обстояло как с телевизором: если уж канал включен и настроен (а Виллем, напоминаю, использовал на переговорах именно экстрасенсорный канал), то вклиниться в него со стороны было практически невозможно. Обозначились и некоторые любопытные обертоны. Например, я в присутствии Виллема начал ощущать отчетливый горьковатый запах, для сравнения — как бы осенью, на аллее парка, от коробчатой пересохшей листвы. Проступал он, как только Виллем входил в Павильон, и исчезал, когда после окончания раунда закрывалась за ним дверь, ведущая в галерею. Дафна этого запаха не ощущала. Что он означал, было неясно. А кроме того, в паузах, когда та или иная сторона обдумывала ответ, я начал слышать слабенькие, как будто с километрового расстояния, но вполне различимые, реденькие щелчки, точно нарезал время на дольки механический метроном или, скорей, звуковой детонатор отсчитывал истекающие секунды.
— Почему именно детонатор? — нервно интересовалась Дафна. — Откуда такая метафора?
— Не знаю, — так же нервно отвечал я. — Понятия не имею. Детонатор, и все.
Возможно, метафора эта выражала собой напряжение тех апокалипсических дней. Как раз на исходе июля служба безопасности, рывшая носом песок, арестовала четверых операторов центра связи — все арабы, граждане Саудовского королевства, им было предъявлено обвинение в передаче средствам массовой информации секретных сведений о Контакте. Это обрушилось на нас как гром с небес. За какие-то пять-шесть часов атмосфера тревоги и подозрений сгустилась до осязаемости. Каждый вдох, каждый взгляд, каждое самое невинное замечание давались с громадным трудом. Мы вдруг перестали доверять друг другу. Тем более что к вечеру следующего дня стало известно, что исчез наш Юсеф (иначе — профессор Халид): на семинар Лорда он не явился, гостиничный номер был пуст, на территории Центра его обнаружить не удалось. Вот это уже просто сшибало с ног. Что произошло с Юсефом: похищен, бежал, связан с арестованными связистами (ведь от кого-то они должны были получать информацию), как он сумел выбраться с территории Центра, а если не выбрался и скрывается, значит у него еще остались сообщники?
Естественно, что наша группа попала в фокус внимания. Два дня шли допросы, которые полковник Буреску политкорректно называл «собеседованиями». Выматывали они не меньше, чем обследования у доктора Менгеле, и оставляли такое же отвратительное послевкусие. К тому же и результат их был нулевой: ничего подозрительного в поведении Юсефа никто из нас не заметил. Ну, повышенная раздражительность, нервность, ну считал (как, впрочем, и многие), что во всех бедах современного мира виновата Америка, ну полагал, что прибытие арконцев бросило на Землю зловещую тень — что здесь такого, в конце концов аналогичное мнение совершенно открыто высказывали и многие другие эксперты. Настроение у нас было подавленное: ползли слухи, что теперь нашу группу безусловно расформируют, что всех нас для перестраховки из экспертов отчислят и это позорное отчисление ляжет пятном на всю нашу дальнейшую жизнь.
Мы стеснялись смотреть друг другу в глаза. Мы чувствовали себя испачканными: никто не знал, что выдавили из другого на «собеседовании».
В этот памятный день ко мне заглянул Андрон Лавенков. Был поздний вечер, я сидел за компьютером, уныло просматривая бессодержательные текущие материалы, когда он осторожно поскребся в дверь.
— Извини, что без предупреждения. Надеюсь, не помешал?..
Выглядел он необычно: какой-то возбужденный, помятый, какой-то взлохмаченный, с нездоровыми красными пятнами на щеках. И что самое пугающее — без галстука. Андрон без галстука — это значит рухнул весь мир.
— Что случилось?
Ответа на свой вопрос я не получил. Зато тут же образовался коньяк в плоской, имитирующей флягу бутылке, опытная рука плеснула на два пальца в каждый стакан, Андрон выпил, не дожидаясь меня, а потом длинно, со всхлипом втянул в себя воздух, точно придавливая им вспыхнувший в желудке огонь.
— Ты, культуролог, лучше вот что скажи. Кто из наших царей придумал закусывать коньяк лимоном? Я как-то запамятовал. Наверное, умный был человек…
— Считается, что Николай Второй. Только он еще посыпал дольку толченым сахаром или кофе.
— Да?.. Соображал, значит… А как же он тогда революцию проморгал?
Теперь на вопрос не стал отвечать я. Вообще не ко времени он тут был. Предложение арконцев создать форпост Земли в глубинах Вселенной, выдвинутое ими два дня назад, вызвало в нашей среде нечто вроде неуправляемой ядерной реакции. Непрерывно шли какие-то консультации, обсуждались идеи, напряженно работали — и, кстати, прямо сейчас — три семинара, физиков, социологов, политологов, пытавшиеся оценить обстановку. Я ни на один из них не пошел: все трудные вопросы я предпочитаю обдумывать в одиночестве. Что, между прочим, тоже было непросто, поскольку каждые две-три минуты пикал сигнал компьютера и из моей почты вываливалось чье-то очередное гениальное соображение, причем автор желал получить оценку его сей секунд.
Я просто неопределенно пожал плечами.
Впрочем, Лавенков ответа от меня не ждал.
— Конечно, революция не спрашивает, пора ей начинаться или еще не пора, — задумчиво сказал он. — Она подкрадывается как тать в ночи. И сразу — бац, обухом по голове… — Он оглянулся. — Может быть, она уже стоит у нас за спиной…
Я мельком просматривал сообщения.
— Что «нет»?
— Не будет у нас революции. Ты советские фильмы помнишь?
— Кто там представлял собой «революционные массы»? Мужик — заматеревший, в шинели, с винтовкой, лет сорок пять — пятьдесят… Так вот, все это было не так. В действительности это были крестьянские парни, лет восемнадцати — двадцати, взятые от сохи, просидевшие пару лет в окопах, научившиеся убивать… Все революции девятнадцатого — двадцатого века делала молодежь. Выплескивался избыток демографической пассионарности. А у нас молодежи нет. Статистику рождаемости посмотри. Особенно по так называемым «малочисленным поколениям». Как раз они сейчас и вступают в жизнь… Не беспокойся, не будет у нас революции.
— А что будет?
— Будет медленное протухание, социальный застой, необратимое погружение в прошлое…
Андрон замотал головой, так что чуть не упал. Схватился за край столика — звякнули друг о друга стаканы, бутылка ощутимо качнулась.
— Нет, не согласен…
— Интересно, с чем?
Зря я его спросил. Андрон немедленно оживился и снова себе налил.
— Я только что из Москвы, — он мне подмигнул, как будто это все объясняло. — И был у меня там один… м… м… м… затейливый разговор…
— Только, пожалуйста, не надо государственных тайн, — запротестовал я. — Вот не надо, не надо… Честное слово, мне хватает своих.
— А я никаких государственных тайн и не знаю… Ты просто послушай, — сказал Андрон. — Представь себе, что существует некая… м… м… м… страна… неважно, как она называется. Живет не то чтобы здорово, но более-менее благополучно. Люди трудятся, женятся, воспитывают детей, кто-то счастлив, кто-то несчастлив, у кого-то все хорошо, у кого-то — не очень… И вдруг является откуда-то человек и начинает говорить, что все они живут как-то не так, неправильно, дескать, живут, что не должно быть ни богатых, ни бедных, что все люди — братья, что надо любить ближнего, как себя самого… Что там еще?.. Не укради, не убий… Раздай имущество… Отрекись от матери и отца… И за это будет тебе Царство небесное… В общем, бред, откуда ни посмотри…
— Ты про кого рассказываешь? Ты — про арконцев или про Иисуса Христа?
— А есть разница?
Андрон остро на меня глянул, и я вдруг подумал, что не так уж он, возможно, и пьян. Может быть, только прикидывается. Сколько он при мне выпил? Грамм пятьдесят. А до этого? С чего я взял, что он лыка не вяжет?
— Разница в том, что Иисуса тогдашние власти могли спокойно казнить, а у нас, чтобы «распять» арконцев, — руки коротки.
— Ну это ты так думаешь, — сказал Андрон. — А в действительности… В действительности — ничего не известно. — Он вдруг яростно потер кулаком левый глаз. — Чешется, блин!.. Чертов песок!..
— Это к деньгам, — пообещал я. — Если левый глаз, значит — к деньгам. Примета такая.
— А если правый глаз чешется?
— Тогда — к большим деньгам… Шутка, — на всякий случай добавил я.
Андрон ухмыльнулся.
— Ну я был бы не против, чтобы это оказалось и правдой. — Он, вероятно на всякий случай, потер правый глаз. Сообщил хрипловатым голосом: — Хреново как-то. Последнее время спать совсем не могу, закрою глаза — темнота, будто похоронили. Хуже того — высовываются оттуда, значит, из темноты, какие-то иглы и только начнешь засыпать — вдруг как кольнет… Я так подскакиваю, два раза сверзился на пол…
— Обратись к доктору Менгеле…
Лавенков опять выпил, не дожидаясь меня.
— Ну да… Доктор Мне… нгеле, конечно, поможет… Вколет в задницу во-о-от такой шприц… Илья, слушай, я ведь не о том говорю…
— Тогда о чем?
— О том, что — хреново… По-моему, ты меня не слышишь… Я тебе говорю: хреново… Понимаешь, хреново, это от слова «совсем»… — Андрон поднял вверх указательный палец и очертил им кривоватый овал, словно заключая в него неведомых мне людей. Повторил еще раз по слогам: — Хре-но-во… Форпост какой-то вот теперь предлагают. Слушай, зачем нам этот форпост?
— Шаг человечества во Вселенную…
— Да видел я твою Вселенную, знаешь где?.. И человечество, кстати, там же и в белых тапочках… — Он хмыкнул. — Ничего ты не понимаешь… Ладно, мешать не буду, давай бацнем на посошок, и я побреду. Между прочим, ты прогноз слышал? Над северо-западной частью Аравийского полуострова формируется область пониженного давления… Самум формируется… Улавливаешь? Идет самум.
Он вкладывал в это слово какой-то особенный смысл.
— Ладно, давай. — Я был согласен на все, лишь бы он поскорее ушел.
Зарычал в отдалении какой-то строительный механизм.
Скользнул по стене луч мерно поворачивающегося прожектора.
Наши стаканы, соприкоснувшись, чуть звякнули.
Андрон вздохнул.
— Самум… Никто не понимает, что это — самум…
Коньяк чуть обжег меня изнутри.
ЧАСТЬ 3. ИСХОД
Первые сообщения о Станциях поступили 9 августа, около десяти утра с острова Хоккайдо (Япония). В один из теплых солнечных дней, которые на этом острове большая редкость, жители поселка Ниикаппу (округ Хидака) с удивлением обнаружили, что примерно в километре от их домов возвышается над землей гладкая серая полусфера, каковой еще вчера не было, и сфера эта быстро растет, буквально на глазах увеличиваясь ввысь и вширь. Местная полиция тут же выставила возле данного феномена пост и сообщила о странном явлении в Саппоро (столицу префектуры Хоккайдо), приложив к докладу качественные видеозаписи, а там, сразу же оценив важность сведений, без промедления передали их в Токио.
В ближайшие несколько часов аналогичные известия посыпались одно за другим. Оказалось, что Станции проросли за ночь на всех континентах (конечно, за исключением Антарктиды) в количестве пятидесяти двух единиц и являлись копиями первого арконского сооружения на Земле — серый купол высотой в двадцать пять метров и диаметром чуть меньше ста, ярко-оранжевая заградительная полоса и чуть дальше за ней — синеватая прозрачная дымка защитного поля.
Распределение Станций, бесспорно, подчинялось какой-то закономерности, однако сама эта закономерность была не слишком понятна. В России, например, образовались сразу пять таких Станций: две в европейской части, косвенно ориентированные на Москву и Санкт-Петербург, одна на Урале, недалеко от Екатеринбурга, одна в Сибири, также косвенно ориентированная на Красноярск, и еще одна на Дальнем Востоке километрах в двухстах от Хабаровска. Косвенно ориентированными на мегаполисы оказались и Станции, появившиеся в США. Там этой чести удостоены были Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Чикаго и Вашингтон. С другой стороны, в Китае четыре из пяти Станций проросли в глухой сельской местности, разве что к одной из них был довольно близок Шанхай. То же можно было сказать и о половине Станций, появившихся в Средней Азии, выросших в явном отдалении от городов. Видимо, помимо плотности населения, арконцы учитывали и еще какие-то факторы, которые мы пока не смогли уловить. Иначе чем можно было бы объяснить образование Станции на том же Хоккайдо, в демографической пустоши, где проживало менее пяти процентов граждан Японии.
Хотя статистические закономерности мало кого волновали. И пресса, и общественное мнение, перекипающее в сетях, и взбудораженные политические круги восприняли появление Станций почти однозначно: началось давно ожидаемое вторжение. Побежал по сухостою быстрый огонь. Вспыхнули фонтанами искр яркие психоделические протуберанцы. Новостные ленты во весь голос кричали, что с минуту на минуту откроются Врата ада (то есть проходы со Станций) и оттуда ворвется на Землю грозный имперский десант. Около тридцати государств выразили резкий протест в связи с грубым нарушением их суверенитета. Десять стран (все мусульманские) потребовали от арконцев немедленно убрать Станции со своих территорий. Совет Безопасности ООН, прозаседав девять часов подряд, передал в адрес арконской цивилизации официальную ноту, в которой «настоятельно просил ее объяснить свои действия». Сильнейшие мировые державы — США, Россия, Индия и Китай — начали срочную переброску войск в районы расположения Станций и, по слухам, перенацелили туда же свои ракеты, несущие ядерные боеголовки. Вспыхнула паника в прилегающих мегаполисах. Сотни тысяч машин хлынули из городов, намертво парализовав заторами множество магистралей. Никто не понимал, чего следует ожидать. Папа Римский, обращаясь к верующим, собравшимся на площади Святого Петра, призвал их молиться о сохранении мира. Московский патриарх провел такой же молебен в храме Христа Спасителя, вокруг которого сплотилась двухсоттысячная обморочная толпа. В сорок раз выросла продажа оружия в Соединенных Штатах. Анонимный блогер, скрывающийся под именем «Дикозавр», обновил свой знаменитый ролик о разрушении Вашингтона, только теперь вместо бронированных пауков выползали из Куполов арконцев тысячи многоногих, зеркально-блестящих гусениц, пожирающих все на своем пути и размножающихся с невероятной скоростью. Земное оружие против них было бессильно. Они тут же атаковали здание Конгресса на Капитолийском холме, и панические вопли поедаемых заживо американских сенаторов заглушались скрежетом металлизированных челюстей.
Особое потрясение испытали военные. Перемещение на Землю арконских Станций, точнее эмбриомеханических зародышей их, не смогла засечь ни одна из систем противоракетного наблюдения. Не зафиксировали их и телескопы обсерваторий, нацеленные на корабль. Как так получилось, никто объяснить не мог. Специалисты пребывали в растерянности. Выдвигались гипотезы одна несуразней другой. И это еще раз показывало, насколько велик технологический разрыв между Землей и Арконом и насколько беззащитной будет Земля в случае военного противостояния с ним.
Психологическое напряжение усилила публикация «Франкфуртер альгемайне», напечатавшая материал о блиц-консультациях, проведенных по инициативе СБ ООН с министрами обороны и начальниками генеральных штабов крупнейших держав. Как сообщал, ссылаясь на неназванные источники, автор статьи, перед военными были поставлены два четких вопроса. Во-первых, может ли Земля объединенными силами уничтожить корабль арконцев? И если «да», то какие действия следует предпринять? А во-вторых, может ли крейсер арконцев, в свою очередь, уничтожить Землю или нанести ей «невосполнимый ущерб»? По информации сайта газеты, на первый вопрос военные единогласно ответили «нет», на второй с разными вариациями подтвердили, что «это возможно».
Предварительное тестирование, впрочем, было проведено. «Объединенная народная армия», конголезские повстанческие отряды, действующие на юго-востоке страны, попытались взять штурмом одну из Станций, выросшую почему-то на территории, которую они контролировали. Сперва они обстреляли ее из артиллерийских орудий, а затем начали бить прямо в купол из «джавелинов»: упорно, долго, с весьма короткого расстояния. (Откуда у партизан взялось такое оружие — это отдельная песнь.) Результаты оказались обескураживающими. И артиллерийские снаряды, и самонаводящиеся ракеты, пробивающие танковую броню, расплывались по защитному полю жидкими лепестками огня, но преодолеть его не могли. Можно было предполагать, что таким же будет эффект и от ядерного удара.
Напряжение нарастало с каждой минутой. В середине ночи, согласно сообщениям некоторых американских информагентств, президент США вместе со своей администрацией и частью сената был эвакуирован на секретный командный пункт, подготовленный еще в конце прошлого века на случай ядерного конфликта. Примерно в те же часы президент России, он же верховный главнокомандующий и председатель Совета безопасности РФ, в обращении по радио и телевидению призвал граждан страны к выдержке и спокойствию, сообщив, что «правительство и генштаб в этой непростой ситуации принимают весь комплекс необходимых мер», но ни у кого не было уверенности в том, что он сам сейчас пребывает в Кремле и вообще — в европейской части России. Небо над Станциями непрерывно барражировала авиация. Премьер-министр Индии ближе к утру заявил, что войска его страны приведены в состояние боевой готовности, а через короткое время выступил президент КНР и в трехминутной речи сказал, что Китай готов к отражению любой формы агрессии, кто бы и с какой целью ее не предпринял. Это вызвало смятение в крупнейших китайских городах. Казалось, плавился воздух. Медиасреда ежесекундно взрывалась какофонией голосов. Миллионы людей, ловя новости, прижимали к ушам айфоны. Многие в эту тревожную ночь были убеждены, что солнце над землей более не взойдет.
Определенная нормализация произошла лишь на следующий день, когда арконцы после томительного молчания обнародовали ответное заявление. Интересно, что направлено оно было не как обычно в наш Центр, а непосредственно крупнейшим международным медиакорпорациям. В заявлении указывалось, что некоторое время назад арконская цивилизация выдвинула на переговорах конкретное предложение: создать на одной из планет их галактики земной «Звездный форпост», с тем чтобы человечество сделало первый свой шаг в глубокий космос. К сожалению, предложение это по непонятным причинам не было доведено до сведения народов Земли, а поскольку сувереном земной цивилизации является все человечество, то именно к нему арконцы ныне и обращаются. Станции — это не подготовка вторжения: никаких агрессивных намерений у арконской цивилизации нет. Станции — это всего лишь особые комплексы, которые должны технологически обеспечить транзит. Через них будет осуществляться нуль-переброска добровольных переселенцев на Терру, это ворота межпространственных коридоров и более ничего. Одновременно в заявлении было подчеркнуто, что действия арконской цивилизации полностью соответствуют Уставу ООН: реализуется право личности на свободное перемещение, реализуется право каждого человека на свободный выбор гражданства и места жительства. Арконская цивилизация заверяет земную цивилизацию и в лице всех народов, и в лице ООН, что сразу же по окончании этапа переселения все Станции на Земле будут полностью ликвидированы, а на территориях их временного размещения будет тщательно восстановлен первоначальный экологический локус.
Правда, нормализация эта была относительная. Точнее будет сказать, что энергия паники преобразовалась в энергию общественного негодования. Мощь его измерялась целыми мегатоннами. Политики нас обманывают — таков был вердикт. Они скрывают от нас то, что мы должны знать. По всей Земле прокатились «демонстрации недоверия». Новые силы вдруг обрела уже было выдохшаяся «Петиция Арколя». Только в Нью-Йорке к комплексу зданий ООН на спонтанный митинг под эгидой ее собралось более двух миллионов людей. Настроение их выразил некий американец, интервью с которым транслировал на весь мир канал Си-эн-эн. Раздирая голубой флаг ООН, этот американец кричал в мегафон: «Пусть они все уйдут!.. Мы устали от их вечной лжи!.. Пусть придут к власти люди, которые не станут нам врать!.. Пусть они уходят!.. Пусть уходят!.. Долой!..», и его призывы тонули в океанском реве толпы.
Грандиозные шествия состоялись практически во всех европейских столицах. В отставку пришлось уйти правительствам Италии, Голландии, Швеции и еще примерно двенадцати стран. Вновь блокировалась работа парламентов. Вновь чиновники не могли попасть в здания своих министерств. Тщетно президенты и премьер-министры, ворохами листвы слетающие со своих постов, — и через прессу, и напрямую пытались объяснить митингующим, что они никоим образом не в состоянии повлиять на решения Департамента по Контактам ООН. Толпа заглушала их непрерывным криком: «Долой!» И также тщетны были попытки руководства ДЕКОНа объяснить, что никто ничего от народов мира не был намерен скрывать, просто предложение арконской цивилизации, как в таких случаях принято, сперва серьезно прорабатывалось экспертами: «мы же не можем представлять общественности сырой материал». Не помогало ничто. Даже журналисты на пресс-конференциях, рискуя быть выведенными, кричали, что такие вопросы должны решать не чиновники, а народ. В конце концов в жертву был принесен председатель ДЕКОНа, бывший премьер-министр Бельгии Жак Лабрюэль, он — с громом и молниями — был с этой должности снят. Тем не менее митинги и демонстрации продолжались. В странах Азии, Африки и Латинской Америки они приводили к жестоким столкновениям с полицией и войсками. Но даже в ряде западных стран было введено чрезвычайное положение, а кое-где и подзабытый со времен Второй мировой войны комендантский час. И все равно громадный митинг, самопроизвольно вспыхнувший на Трафальгарской площади в Лондоне, сопровождался разгромом банков, офисов и магазинов, битьем стекол, поджогом машин. Никогда еще народы Земли не были так едины в своей ненависти к политикам.
В обстановке нарастающего общественного давления Совет Безопасности вынужден был принять специальную Декларацию, немедленно подтвержденную Внеочередной сессией Генеральной Ассамблеи ООН, о том, что любой гражданин Земли имеет неотъемлемое право на «звездную эмиграцию», никакое правительство не должно ему в этом препятствовать. Воздержалась лишь делегация Украины, министр иностранных дел которой, выступая с трибуны ООН, заявил, что творится явная несправедливость: на территории России возникли целых пять Станций арконцев, а на территории Украины, непрерывно подвергающейся российской агрессии, нет ни одной. Между тем заслуги Украины в изучении космоса несомненны: древние укры еще в пятом веке до нашей эры своими глазами наблюдали расширение Вселенной, чему в древних украинских мифах есть неопровержимые доказательства. Министр потребовал от арконцев закрыть все российские Станции, а вместо них открыть «космічні хаты» в его стране.
Разумные же мнения, изредка прорывавшиеся сквозь этот шквал, в основном сводились к тому, что «Звездный форпост» или «Терра», как арконского двойника Земли сразу же начали называть, дает человечеству уникальную гарантию выживания. «Мы просто пока еще не осознаем, насколько хрупким является наше существование, — писал Бернгард Клейни на сайте «Вашингтон пост». — Человечество может исчезнуть в результате столкновения нашей Земли с астероидом, которое мы не сможем предотвратить. Вероятность этого очень мала, но она все-таки выше нуля. Человечество может погибнуть в результате внезапно вспыхнувшей пандемии, которую мы опять-таки не сумеем локализовать. Нас может уничтожить взрыв супервулкана и последовавшая за ним вулканическая зима. Пылающие недра Земли нам пока не подвластны. Наконец мы можем уничтожить сами себя, если вдруг — не исключено, что в силу совершенно идиотских причин — разразится ядерный апокалипсис. Искра жизни, плавающая во тьме, погаснет. Никто никогда не узнает, что мы — были. А Терра, которую предоставляют арконцы, для нас словно счастливый лотерейный билет. Даже если сама Земля внезапно исчезнет, человечество как культурно-биологическое сообщество продолжит существовать — пусть и в другой галактике»…
Статьи подобного рода вряд ли могли остудить эмоциональный накал. Разум в тактическом плане всегда слабее эмоций, и вздымающаяся пена страстей, как правило, заслоняет собой подлинную реальность.
Тем более что всего через сутки обстановка опять резко переменилась: прозвучали сигналы на миллионах сотовых телефонов, планшетов, компьютеров.
Появилось так называемое «Приглашение».
Сложились из микроскопических пикселей картинки и тексты.
Настроение вновь трансформировалось.
Часы стали отсчитывать секунды новой эпохи.
Судя по показаниям навигатора, пробка на Московском проспекте начиналась возле «Парка Победы» и тянулась дальше — километра на четыре по Пулковскому шоссе. Это было еще ничего. За ночь ее, видимо, разгребли. Вчера, как Лизетта помнила, затор образовался еще у «Технологического института» и даже хуже — обе набережные Фонтанки были забиты машинами от Невского аж до Троицкого собора. С моста, где она стояла, прощаясь с городом, это было хорошо видно. Чуть вечерело, накрапывал мелкий дождь, крыши автомобилей блестели, как панцири жуков, вымерших от эпидемии.
Сегодня, конечно, было полегче. И дождевые тучи тоже рассеялись, впитанные небесной голубизной. Зато накатывалась жара, в салоне маршрутки воздух густел, превращаясь в прелую, несъедобную массу. Ничего себе — октябрь наступил. Оба люка на крыше были приподняты, но это не помогало. Тем более что дядь Леша внезапно свернул куда-то налево и притормозил у поребрика. Лизетта прочла указатель на доме — Благодатная улица.
— Все сидят на местах. Никто не выходит, — сказал дядь Леша. — Что там в новостях ДПС?
— Режим ограниченного выезда, — глядя в экран айфона, прочитал Павлик.
Он отслеживал сообщения по интернету.
— Чинок, поменяй табличку…
Чинок тут же со своего кресла в кабине сорвался в салон, перегнулся сзади через Лизетту, которая от неожиданности вздрогнула, вытащил твердый картон, скобами прижатый к стеклу, и аккуратно втиснул на ее место другой.
На снятой табличке Лизетта успела прочесть: «Сенная площадь — весь Московский проспект — Пулковское шоссе — аэропорт Пулково».
Эту табличку он бросил куда-то назад.
Однако дядь Леша тут же укоризненно произнес:
— Чинок!.. Ну ты — что?
— Ага! Понял! — Чинок вновь подхватил ту же табличку, выскочил из маршрутки, нырнул в ближайшую подворотню. Секунд через двадцать шмыгнул обратно. — Я ее в мусорный бак поглубже засунул…
Дядь Леша обернулся с водительского сиденья:
— Значит так. Сейчас на Софийской будет дорожный блокпост. Учтите: вы все сели ко мне на станции метро «Бухарестская». Направляетесь в Колпино, как бы туда маршрутка идет. Наружу не выходить, не встревать, еще раз напоминаю: переговоры с полицией веду я сам… Всем все понятно?..
— У нас же визы, обязаны пропустить, — сказала Тетка.
Дядь Леша некоторое время молча смотрел на нее. Затем разжал губы:
— Я спрашиваю: всем все понятно?..
Тетка насупилась и отвернулась.
— Тогда — с богом, вперед…
Перед постом на Софийской улице тоже образовалась пробка. Но — небольшая, спокойная, преодолели ее за сорок минут. Полиция работала энергично: подавляющую часть машин тут же разворачивали обратно. Пропускали, как Лизетта заметила, лишь фургоны и грузовики, которые, видимо, были из области. Режим ограниченного въезда и выезда, объявленный три дня назад, неукоснительно соблюдался. Никакие протесты не помогали. Вчера по городу прошла десятитысячная демонстрация: от площади Восстания по Суворовскому проспекту до Смольного, где располагалась резиденция губернатора. Размахивали флагами всех цветов, несли транспаранты с требованием «выпустить народ из тюрьмы». Полиция колонну сопровождала, но движению не препятствовала. Губернатор, в свою очередь, выступая по радио, заявил, что порядок в городе будет поддерживаться всеми законными средствами. Нарушители, хулиганствующие элементы будут привлекаться к ответственности.
Блокпост, впрочем, миновали благополучно. Маршрутка встала метрах в пятидесяти от ярко-канареечного ограждения. Дядь Леша, не дожидаясь, пока приблизится полицейский, бодренько соскочил и двинул к нему навстречу. Они о чем-то неслышно переговорили, затем полицейский откатил боковую дверь и обшарил взглядом салон. Это был жутковатый момент. Лизетте казалось, что у них на лицах написано, куда и зачем они едут. Полицейский сразу же все поймет и распорядится непререкаемым тоном: «А ну поворачивайте отсюда!» Краем глаза она видела, как судорожно сглатывает вдруг побагровевшая Тетка, как у нее ходит по горлу бугристый, хрящеватый кадык, видела, как сидя выпрямляет спину Зиновий Васильевич, будто ему дали команду: «смирно!», как испуганно подносит ладонь ко рту Ираида Игнатьевна, и глаза у нее расширенные, пустые, словно она сейчас закричит. Но полицейский за последние дни взирал на такие лица сто тысяч раз, у него самого было равнодушно набыченное лицо — дернул выпирающим подбородком, захлопнул дверь. Они с дядь Лешей отошли назад, за маршрутку и опять о чем-то неслышно поговорили. А через минуту дядь Леша вернулся и с досадливым кряхтением уселся за руль:
— Все… Поехали…
Никто не отозвался. Салон по-прежнему стискивала душная тишина. И лишь когда маршрутка вынырнула с другой стороны кольцевой автодороги, Тетка, уже вернувшая щекам обычный, поросячий, розовый цвет, нервно спросила:
— Сколько ты ему дал?
— Сколько надо, столько и дал, — глядя на пустое шоссе, пробурчал дядь Леша.
И, видимо, дал немало, потому что кряхтение в голосе его еще ощущалось.
— Я к тому, что надо собрать доли со всех.
— Мать твою!.. Помолчи!
— А я говорю — надо собрать. Я вам тут что — Сбербанк?
Маршрутка вдруг стопорнула у перекрестка, хотя для них как раз загорелся зеленый свет, и дядь Леша, не оборачиваясь, тихо, но внятно сказал:
— Слушай, я тебя сейчас высажу и пойдешь домой. Пешком пойдешь, поняла? Покатишь свой чемодан. Вообще заруби на носу: у меня виза есть, а у тебя — нет.
Со своего места Лизетта видела, как Тетка вновь судорожно, будто готовясь дать крупнокалиберный залп, открыла рот, также судорожно, вроде бы даже стукнув зубами, закрыла его, опять открыла, опять закрыла и вдруг, надув обидой лицо, отвернулась к окну, словно ничего такого не слышала.
— Прошу запомнить, — ни к кому персонально не обращаясь, сказал дядь Леша. — Нам нужно пропердолить почти семьсот километров. Это вам не на самолете в Сочи слетать. В каком состоянии сейчас находятся люди, сами знаете. Черт-те что по дороге может произойти. Проселками будем ехать, обходными путями… Так что командовать здесь буду я. И распоряжения мои — без споров, без возражений — исполнять в ноль секунд. — Он выдержал паузу, тем самым придав словам ощутимый вес. — А если кому-нибудь это не нравится, он может сойти прямо сейчас. Желающие есть? — Чуть-чуть подождал, резюмировал: — Желающих нет.
Машина тронулась.
— Павел, ты у нас главный по новостям. Не забывай следить.
Павлик, сидящий рядом с Лизеттой, торопливо перелистнул экран:
— Пока вроде бы ничего. Ну вот, передают выступление патриарха… Бог дал человеку Землю, чтобы он на ней жил… Мы несем ответственность перед Всевышним за этот мир… Бог не оставит нас ни в благости, ни в печали… Милость его безгранична, как безграничен и гнев его… Ну и дальше — призывает молиться с истинной верой в душе…
— Не морочь мне голову, — сказал дядь Леша. — Что там конкретного?
— Конкретики нет.
— А насчет миграционного пункта?
— Сейчас… — Павлик несколько раз ткнул пальцем в экран. — Ого!.. Кажется, начался штурм…
— Дай посмотреть, — попросила Лизетта.
Павлик повернул телефон, и она увидела, как волнами ярости плещет толпа вокруг трехэтажного здания. Строй полицейских, сомкнувших пластиковые щиты, сохранялся лишь по бокам. Видимо, оцепление было только что прорвано. Людская пена колотилась в окна первого этажа. Сама картинка непрерывно дробилась. Изображение то застывало на месте, то двигалось рывками вперед: интернет барахлил, как и все в последнее время.
— Не разобрать ничего…
Павлик сказал:
— Дай поищу какую-нибудь другую камеру.
Тут замурлыкал телефон у самой Лизетты.
— Да, мамочка, — понизив голос, сказала она. — Ну я же тебе записку оставила… Прочитала?.. Ну не было же тебя… А ты что так рано сегодня?.. Мы с Павликом сейчас едем к нему на дачу… Ну, мамочка, ну так неожиданно получилось!.. (Она посмотрела на Павлика, у того резко сморщился лоб.) — В воскресенье вернусь…. Да, вот он рядом. Пожалуйста, передаю…
Она сунула Павлику телефон, глядя на него умоляющими глазами.
Только не выдавай!
Павлик недовольно покрутил головой, но телефон все-таки взял.
— Здравствуйте, Анжела Ивановна… Нет, у нас все в порядке…. Не беспокойтесь… Родители тоже здесь… В школе?.. В школе за один пропущенный день объяснений не спрашивают Ну конечно, я прослежу, чтобы она вам регулярно звонила… — Он сунул телефон обратно Лизетте. — Ну ты даешь! Я думал, что у вас все согласовано…
— С ней согласуешь, как же!.. Ну — извини! Или ты, может быть, хочешь, чтобы я тут осталась? Ну что ты молчишь?
— Нет… я не хочу, чтобы ты… тут оставалась, — ответил Павлик.
И вдруг покраснел, так что брови у него стали казаться седыми. И Лиза тоже неожиданно покраснела, словно до самых глаз ее затопил пылкий сердечный жар. Тогда она откинулась на сиденье и, повернувшись к окну, стала бездумно смотреть, как выворачивают навстречу, а потом уплывают назад граненые ряды новостроек. Вот провалилась в небытие последняя многоэтажка, за ней потянулся луг, как будто плохо побритый, поросший пучками сорной травы, сквозь которую проглядывала иногда цветочная желтизна, а далее, уходя ребрами в горизонт, начали вращаться бесконечные капустные грядки — поля какого-то агрохолдинга «ЮТМ», как пояснял высящийся на обочине броский рекламный билборд. Она немного расслабилась. Вот так бы ехать, ехать и ехать неизвестно куда, погружаясь все глубже и глубже в прощальный осенний зной, и чтобы неторопливо сменялись за окном поля, реки, леса, и чтобы не было в голове ни единой мысли, и чтобы внутри этого зноя, точно мелодию, собранную из скопления нот, чувствовать конвекцию нетерпенияе, исходящую от напряженного Павлика. Интересно, что у них будет? Она вспомнила, как около года назад почти три месяца, дура такая, бредила Костей Пальчиковым, или попросту — Палец, баскетболист из параллельного класса: высокий, легкий, движется, как будто танцует, непрерывно улыбчивый, девчонки исходили на писк при одном виде его, и уже — в юношеской команде города, на уроках-то почти не бывал: то у него сборы, то тренировки, то соревнования. У Лизетты слабели коленки, когда он проходил мимо, так хотелось, чтобы обхватил ее, плотно прижал к себе. Пусть даже у всех на глазах. Острое сексуальное помешательство, как выразилась Марусик. И вот однажды решилась — сама подошла к нему, строго сказала: «Палец, я тебя провожу». И всю дорогу он ей рассказывал про свой баскетбол: как он закручивает что-то там, и как подсекает, и как он долго осваивал какой-то «длинный нырок», и как его два раза чуть было напрочь не поломали, и как он летом поедет на товарищеский матч в Германию. У парадной остановились, она посмотрела ему в ожидающие глаза и произнесла, будто отрезала: «Ну ты, Палец, тупой»… Разозлилась не столько на него, сколько на себя саму: дура и дура. А далее как рукой сняло: Палец потом раза два к ней подходил, отвечала ему: «Нет-нет, Пальчик, сегодня никак не могу».
С Павликом, конечно, у них будет иначе.
Все же полной расслабленности что-то мешало. Будто мучительно ползла по спине тяжелая, холодная капля воды. Лизетта догадывалась, что это на нее опять смотрит Сынок. Подсел он на Загородном, возле Технологического института, и солидно, баском представился ей как Грегор, хотя Павлик тут же шепнул, что на самом деле его звать Гавриил. Сынком же она его обозначила потому, что когда дядь Леша притормозил, увидев его, то насмешливо произнес: «Ну, здравствуй, сынок». И в ответ прозвучало такое же ироническое: «Здравствуй, папаня». Зато Тетка ощутимо обрадовалась: «Все-таки решил с нами ехать. Ну — молодец!» Так вот, когда Гавриил-Грегор-Сынок усаживался на свободное место, он как-то быстро и очень ловко ощупал Лизетту взглядом. Именно что ощупал, словно прикоснулся руками. Она вся вспыхнула и, чтобы не показать этого, притворно зевнула. Почувствовала себя раздетой. Потом, чуть позже, заметила, как он покосился на Павлика и презрительно усмехнулся. Видимо, сразу решил, что тот ему в данном случае не конкурент. Чем-то он походил на Пальчика-баскетболиста, тоже высокий, спортивный, с яркими от веселой наглости, выпуклыми глазами. Своя фирма по экспорту или импорту чего-то такого. Ему-то зачем эмигрировать? Вот вопрос. У него вроде и так все в порядке. Или нет? Ей смутно припомнилось, что Павлик как-то сказал, будто бы Сынок именно за последний год сильно увяз — то ли он кого-то не того кинул, то ли, напротив, кинули его самого. И вот - решил одним махом избавиться от кучи проблем… А зачем, скажите, эмигрирует Тетка? Заведует целым отделом в Торговом центре, и не где-нибудь в глухих новостройках, а в приличном районе, у Пяти углов: Владимирская площадь рядом, Литейный, Невский проспект. Побрякушками — браслетами, ожерельями — увешана как новогодняя ель. Ей-то чего не хватает здесь, на Земле? А не хватает ей, видимо, вот чего: хочет иметь свой собственный магазин, рассчитывает, что на Терре сумеет его создать. И ведь создаст, кто ей там запретит, и с помпой откроет, и усядется в нем, растопырив тяжелый зад. Лизетта сквозь дрему, которая наползла на нее, явственно услышала голос отца: «Если на Терре возникнет психологически тот же набор людей, то и проблемы в этом сообществе возникнут точно такие же. Они их просто воспроизведут».
Прав он был, прав, как всегда.
А зачем едет она сама?
Лизетта не могла бы ответить на этот вопрос. Я сражаюсь, потому что сражаюсь, ответил на дуэли Портос. Я еду, потому что я еду — вот вам и весь ответ. Может быть, потому, что здесь все в самом деле разваливается. Может быть, потому, что маячит за спиной мерзкая, холодная тень. Или вот хоть вчера, когда она, как бы прощаясь, сжимала до боли чугунные перила моста, то вновь — в который раз уже — ощутила, что на Земле для нее места нет. Непонятно, откуда это чувство взялось, но было ясно, что вот через полгода она школу окончит, окончит школу — дальше-то что? А дальше — ничего, муторная пустота. Серый, скучный кисель существования нигде и никак. Талантов особых нет, ума — тоже нет, работоспособность, которой можно и без них протаранить дорогу, практически на нуле. Анжела настаивает, чтобы она поступила в институт государственной службы, долбит, долбит непрерывно: дурочка, тогда у тебя будет все! Лизетта и не сомневается, что тогда у нее будет все, но при этом отчетливо чувствует, что одновременно чего-то не будет. А без этого смутно брезжущего «чего-то» ей Анжелино «все» ни к чему. Отец опять-таки как-то сказал, что это, в общем, стандартная, известная в психологии фаза взросления. Каждое новое поколение вступает в мир, который создан не ими и не для них, он создан предыдущими поколениями для себя. И даже не столько создан, сколько образовался из их противоречивых надежд. Для вас в этом мире действительно места нет. И вы должны либо встроиться в существующую реальность, иными словами, стать такими, как мы, либо создать свой собственный мир, возможно, совершенно иной.
Так он сказал.
— А мы сумеем его создать? — спросила Лизетта.
— Этот вопрос — не ко мне…
И ведь, наверное, опять был прав. Метафора, разумеется, но — метафора, выражающая некую глубинную суть. Она чувствовала себя каким-то третьестепенным, микроскопическим персонажем романа, лишь по случайности обозначенного как «жизнь». Причем роман был написан рыхло, небрежно, скучно, герои — нелепые, ситуации — одна дурнее другой, всяких букафф в нем было понапихано столько, что продираешься через них, как через мертвый сушняк. Автор, по-видимому, был просто бездарен и совершенно не представлял, чем заполнить эти тысячи дней-страниц. Воображения — никакого. Написано в самом деле — не для нее. Но вот бредет по нему, сама не зная куда, и постепенно стирается временем до полной неразличимости… А хуже всего было то, что этот роман сейчас был как бы брошен в костер: уже корчатся корешок и обложка, уже тлеют его страницы, становясь угольными по краям, до нее, персонажа, зарытого в толще бумаги, огонь еще не дополз, но это лишь вопрос времени. Скоро, скоро заполыхают и эти строки — она превратится в дым, рассеивающийся в безжизненных небесах. И единственное спасение — вырваться из горящих страниц, начать новый, совершенно новый роман, никем еще не прочитанный, трепещущий от желания жить, автором и главным героем которого будет она сама…
Ее качнуло вперед. Лизетта распахнула глаза. Маршрутка стояла как будто посередине леса. Во всяком случае, справа и слева теснились деревья. А впереди — она видела это через ветровое стекло — дорогу перегородила группа парней.
Один из них с ленивой растяжкой сказал:
— Ну ты посмотри, Кочумай, сколько умников у нас развелось. Это которые не по шоссе вместе со всеми шпарят, а так — тихонечко, тихонечко, бочком, по проселку… Надеются проскочить, значит. Ну а тут мы, здрасьте, народная власть. Народ нас выдвинул для чего? А как раз для того, чтобы не шастали всякие там уроды по нашей земле… Уловили, чего хочет народ?.. В общем, приехали, умники, вылезай, таможенный досмотр у нас будет…
Он дико заржал.
Тут же с грохотом отъехала дверь, в салон просунулась стриженая башка, неровная, будто из костяных шишек, и возвестила:
— Ух ты… А тут у них, глянь, и девка имеется. Ничего так себе девка, клевая… Пацаны, чур, девку я буду досматривать…
Первый парень опять заржал:
— Куда тебе? Мал еще!.. Ладно, ладно, не гоношись, Кочумай, и тебе на чуток оставим… — И уже явно строже: — Давай их сюда!
Кочумай выдвинул челюсть:
— Кому сказано? Вылезай!..
В салоне воцарилась жутковатая тишина. Никто не пошевелился, лишь Тетка вздрогнула: как колокольчик на сытой корове, звякнул браслет.
— Ч-ч-черт… — невнятно хрюкнул Сынок.
И умолк, будто подавился словами.
У Лизетты все тело покрылось мурашками.
Павлик сжал ей ладонь:
Дядь Леша негромко сказал:
— Вот хрень какая… Не думал, что так быстро напоремся. Слышь, Чинок?.. Отъехали-то недалеко…
— Угум, — подтвердил Чинок.
— Пятеро их всего.
— Ну тогда пойдем, что ли…
Они неторопливо с двух сторон вылезли из кабины, и дядь Леша голосом, которого Лизетта от него никогда не слышала — каждая буква в нем была словно отлита из чугуна, — отчетливо произнес:
— Вот что, ребята, давайте так. Вы сейчас отсюда уйдете, и — мы вас не видели… Договорились? И вам будет неплохо, и нам хорошо…
На секунду все как бы застыло.
А потом парень, который, видимо, был за главного, в картинном удивлении развел руки:
— Ну ты смотри, разговаривает еще… Кочумай, он, по-моему, ни хрена не понял… Кочумай! Объясни мужикам что к чему!..
Он ухмыльнулся.
— Это мы четко, — радостно ответствовал Кочумай. Сделал вразвалку пару шагов к Чинку, протянул руку. — Ну, шибздик, не верещи, сам нарвался…
Дальше произошло что-то, за чем Лизетта уследить не успела. Чинок вроде бы как-то дернулся, развернулся, раздался крик, Кочумай отлетел от него метра на полтора, споткнулся, чуть не пропахав землю носом, выпрямился — изумленный, весь перекошенный, поддерживая одной ладонью другую, вывернутую под невозможным углом:
— Ой, мать твою!.. сука драная!.. Робя!.. Он мне руку сломал!..
Опять все на секунду застыло.
Впрочем, главный тут же опомнился и растопырил пальцы:
— Все, мужики… Достукались… Теперь вам пипец…
И вновь произошло что-то, за чем Лизетта уследить не смогла. Вроде бы парни одновременно кинулись на Чинка и дядь Лешу, образовалась куча дергающихся в судороге тел. Словно возникло из небытия некое кошмарное существо и сразу же начало агонизировать, выбрасывая из себя множество рук, ног, перекошенных остервенением лиц. Все происходило как-то одновременно. Вроде бы начал подниматься Зиновий Васильевич, и тут же: «Зина, куда ты? Не лезь!» — дико заверещала Тетка. Вроде бы стал подниматься и Павлик, но теперь уже Лизетта крепко в него вцепилась: «Сиди!» Ей самой было страшно. Вроде бы заворочался и Сынок, но как-то странно — сползая вниз и прикрываясь спинкой сиденья. Они все равно ничего не успели бы. Уже через мгновение внутри этого кошмарного существа вспучился как бы беззвучный взрыв, некий протуберанец — скорченные ошметки разлетелись во все стороны. А в пустоте, возникшей по центру его, остался один Чинок, поднявший полусогнутые руки на уровень плеч и быстро-быстро, как эпилептик, дергающий ими то вправо, то влево. Вероятно, он так контролировал ситуацию.
Хотя контролировать уже было нечего. Парни, разметанные протуберанцем, стремились поскорее убраться отсюда. Главарь уже мелькал между сосен, еще трое торопливо хромали за ним, вскрикивая, неловко поддерживая, подтягивая сломанные или вывихнутые конечности, а оставшийся, пятый, полз, подвывая, на четвереньках, после каждого движения выхаркивая изнутри сгустки рвоты.
— Ну вот, — спокойно сказал дядь Леша. — Молодец, Чинок, мне и делать-то ничего не пришлось. — Он вдруг замер, словно окостенев. — Чинок, ты это что?..
— Угум, — выдавил из себя Чинок, опуская глаза к тому месту, на которое уставился дядь Леша.
Он стоял боком к Лизетте, и она со страхом увидела, что у него из-под ребер, в левой части груди, высовывается какой-то непонятный предмет.
Черная, с вырезами для пальцев, закругленная на конце рукоятка.
Чинок пару секунд удивленно смотрел на нее, а потом медленно-медленно, точно во сне, сполз на колени, на рыжеватую хвойную землю, постоял так немного, покачался из стороны в сторону, видимо, ловя равновесие, и вдруг, не издав ни звука, мягко, как тряпичная кукла, повалился лицом вперед, в игольчатый дерн…
Местность по виду напоминает окрестности нашего Центра. Та же пустыня, те же бесчисленные барханы, будто стада животных, бредущих за горизонт. Только они не серо-желтого, как у нас, а тревожного кирпично-бурого цвета, похожие на мохнатые скопления ржавчины. Виллем объясняет, что частично это и есть ржавчина. Планета была богата железом, при сверхвысоких температурах, вызванных катаклизмом, значительная его часть испарилась, затем произошли конденсация, окисление… И небо здесь совершенно другое. Оно мутно-гнойное, точно гигантский нарыв, и по нему от края до края тянутся зловещие лиловые облака. Слышно слабенькое шипение ветра, фоном из-под него — шуршание перемещающегося песка: между барханами струятся кровавые ручейки. Скафандр беспрепятственно пропускает звуки. Хотя скафандром то, в чем я нахожусь, назвать нельзя — это нечто вроде прозрачной дымки, облегающей тело, ходьбе и дыханию не мешает.
Мы спускаемся вниз, погружая ноги в песок. Перед нами — расчищенная площадка примерно на километр вдаль и вширь: гнилым зубьем торчат остатки строений, прямоугольники и квадраты с широкими проходами между ними. Здесь, видимо, некогда был город. Возможно, в нем жили сотни тысяч людей. Сейчас — пустота, забвение, кладбищенская тишина, лишь копошится десяток дроидов, перебирающих голенастыми, суставчатыми конечностями. Один из них плавно, как шмель, всплывает, кружит над обломком стены, и от струи воздуха, которую он направляет на нее вниз и вбок, расплескиваются во все стороны волны песка.
— Когда-то здесь производились раскопки, — поясняет мне Виллем. — Вы как раз видите финальный их эпизод. Мы называем эту цивилизацию ильторайской и считаем, что она перестала существовать около ста тысяч лет назад. От нее сохранилось меньше, чем от земных динозавров — фрагменты мозаик, фрагменты настенных надписей, фрагменты скульптур — реконструкция их очень условна.
— А что случилось? Война?
— Да, ядерная война. Радиационный спектр до сих пор смещен в сторону соответствующих изотопов.
Дрон, расчищавший песок, видимо, что-то нашел. Он зависает в воздухе, и к нему устремляются два ближайших собрата. Вместе они выдувают в песке небольшую воронку и затем металлическими цепкими лапками извлекают из нее нечто угловато-продолговатое.
— Вот еще один мир…
Картинка резко меняется. Теперь мы с Виллемом в тех же скафандрах бредем по болоту, заросшему гигантскими хвощами и папоротниками. Листья слоновой величины свешиваются чуть ли не до земли. Правда, заросли не сплошные, между ними — обширные тинистые пространства с озерцами черной воды. Травяной дерн под ногами колышется, чувствуется, что под хлипким покровом его — вязкая жижа, готовая погрузить нас во тьму. Однако мы не проваливаемся — скафандр (так мне кажется) регулирует тяжесть тела.
— Осторожно! — предупреждает Виллем. — Просто стойте на месте, опасаться нечего!
Заросли ближайшего папоротника раздвигаются, из пузырчатых лимфоматозных корней выпрыгивает на нас нечто разлапистое и хвостатое. Воздух вспарывает пронзительный визг. Впрочем, где-то на середине полета ящерица будто врубается в стеклянную стену — вся сминается, как гармошка, шмякается в болотную грязь, пару секунд лежит, судорожно открывая и закрывая пасть, полную хищных зубов, а потом приходит в себя и быстро-быстро, уже без визга, извиваясь всем телом, уползает под защиту корней.
— Пришли, — говорит Виллем.
Мы огибаем очередной куст папоротника и видим нечто вроде гранитной стелы, возвышающейся над болотом метров на пять. Грани ее когда-то давно были отполированы, но теперь изъедены рябью сколов, царапинок и щербин. Тем не менее сразу понятно, что это творение человеческих (нечеловеческих) рук.
— Все, что от них осталось, — поясняет мне Виллем. — Здесь со времени катастрофы прошло около миллиона лет. Видите, биосфера уже восстановилась. Наверное, тут существуют и другие сходные артефакты, вряд ли только один, но эта планета тщательно не исследовалась. Некоторое время предполагалось, что она будет подвергнута пластике, терраформированию — кажется, так у вас говорят? — а потом мы, арконцы, ее заселим. Но затем было высказано соображение, что когда-нибудь — через сто миллионов лет — здесь может снова возникнуть разум. Имеем ли мы право встать на его пути? Дискуссия продолжается, а пока планета закрыта и для исследований, и для посещений.
Зажигается свет, картина болота смывается. Мы вновь оказываемся в помещении, которое я условно называю «гостиной»: стерильно светлые стены, посередине — небольшой круглый стол, два кресла, где сейчас располагаемся мы с Виллемом. Немедленно входит Си-Три с подносом, ставит передо мной чашечку кофе, сахарницу с песком и небольшую вазочку с ярко-желтыми дольками мелькипура (так, во всяком случае, прозвучало это слово в моем сознании). Данный арконский фрукт Виллем предложил попробовать в первый же день, сказав, что он мне должен понравиться. И действительно у мелькипура вкус — необыкновенныйособенный. Ни с чем земным я его сравнить не могу. Есть такое выражение — тает на языке. Так вот, мелькипур — без преувеличений — в самом деле тает. Если положить в рот тонкую дольку, то секунд за тридцать она сама растворяется, обволакивая нёбо сказочным ароматом. Он дурманит, он очаровывает, его хочется вдыхать и вдыхать без конца. Я даже опасаюсь, что это легкий наркотик. А перед Виллемом тот же Си-Три ставит чашечку с напитком бероф (опять-таки, если я это слово правильно произношу). Напиток темно-зеленого цвета, густой, как растопленный шоколад, и про него Виллем сказал, что он вряд ли мне подойдет. Я ему верю. Запах от берофа исходит какой-то лекарственный.
Кстати, о здешних запахах. Уже в первые дни, когда я только-только выбрался из медицинского бокса, то почувствовал, что горьковатое, как от осенних листьев, амбре, которое ощущалось во время переговоров, здесь, под Куполом, чувствуется гораздо сильнее. Виллема это мое замечание удивило. По его словам, никаких посторонних запахов в атмосфере Купола не должно было быть. Вероятно, какое-то мелкое отклонение при настройке.
— Очень интересно. Можно попытаться его убрать.
Я замахал руками:
— Нет, нет!.. Мне не мешает…
Я нисколько не преувеличивал. На самом деле запах мне даже в определенной степени помогал — не давал забыть, где я нахожусь.
Да тут разве забудешь.
— Еще что-нибудь? — спрашивает Си-Три.
Вот что, в частности, не дает забыть. Робот Си-Три точно такой же, как в эпопее о «звездных войнах»: позолоченный, с приветливо-глуповатым лицом, упорно услужливый, непрерывно болтает всякую чушь. Чак сказал бы, что это — элемент психологической адаптации. Встраивая подобные элементы в Контакт, арконцы пытаются сделать для нас чужое — своим. Выражаясь иначе, зомбируют. Позитивирующая кодировка сознания — так Чак называет данный эффект. Ну уж насчет позитива не знаю. Лично меня Си-Три почему-то дьявольски раздражает. Когда он дипломатично, шаркающей походкой, скользит мимо стола, так и хочется ему наподдать. Но ведь он обернется и виновато спросит: «Я что-нибудь сделал не так?» И буду выглядеть — дурак дураком.
И, разумеется, не дает забыть об этом сам Виллем. Одно дело переговоры, где помимо меня присутствует еще десятка полтора человек: эксперты, наблюдатели, техники; на миру, как известно, и смерть красна, и совсем другое — вот так, лицом к лицу, как говорят у нас, в научной среде, «тет на тет». Конечно, образ хрупкого зеленого человечка — тоже кодировка сознания, но в те мгновения, когда Виллем смотрит мне прямо в глаза, кажется, что он просвечивает меня насквозь. Ни одной мысли не утаить. Жесткий экстрасенсорный луч ощупывает каждый нейрон. Правда, Виллем буквально поклялся, что он меня не сканирует: правилами арконцев сканирование без согласия реципиента запрещено. Вместе с тем стрекозиные глаза странно мерцают, фиолетовый жар, как рентгеновское излучение проникает в меня, я вспоминаю читанную когда-то фантастическую новеллу — там аборигенов (инопланетян) гипнотизировала сама речь землян, вступивших с ними в Контакт: ее звучание, ее ритмика, ее интонации, они (тамошние аборигены) впадали от этого в бессознательный транс.
Наверное, поэтому я и спрашиваю не то, что хочу спросить.
Как пациент, который боится услышать из уст врача смертельный диагноз.
— Неужели жизнь такое редкое явление во Вселенной?
— Вовсе нет, — немедленно оживляется Виллем.
Он любит вопросы такого рода.
После чего объясняет мне, что это зависит от конфигурации, в которой Вселенная существует. В антропной конфигурации, как у нас, возникновение жизни не только вероятно, но неизбежно. Собственно, она (вероятность) здесь равна единице. То есть, если учесть бесконечность и однородность нашей Вселенной, жизнь в ней должна была зарождаться бесчисленное количество раз.
— Другое дело — как эту жизнь найти. Межпространственные туннели имеют странную геометрию: подавляющее большинство из них выводит нас в регионы пустого космоса, откуда до ближайшей звезды еще лететь и лететь. Но даже чтобы это установить, каждый такой коридор все равно приходится исследовать до конца. То есть плавание по туннелям дается весьма высокой ценой. За двести лет поисков мы обнаружили, включая Землю, всего восемь планет — всего восемь! — где зародилась жизнь. На трех планетах она достигла высокоорганизованных форм и в двух случаях, как мы знаем теперь, уничтожила сама себя. На двух других возникли антропоморфные существа, в которых искра разума брезжит и, возможно, со временем разгорится настоящим огнем. Еще на трех носители разума так и не появились, почему — загадка, мы пока не можем ответить на этот вопрос. Зато одну из этих планет, соответствующим образом откорректированную, мы можем отдать вам, землянам… в качестве базы для продвижения во Вселенную.
Перед окончанием фразы у него возникает небольшая заминка. Тогда я, напряженно, чуть подаюсь вперед и, уже без страха взирая в зеркала темных глаз, решительно спрашиваю:
— Так что же, здесь — все?
Виллем некоторое время молчит, а потом, словно нехотя, отвечает:
— Согласно нашим прогнозам, вероятность гибели человечества более семидесяти процентов. Она, конечно, немного колеблется. Сейчас — это семьдесят три и четыре десятых…
— Мы тоже уничтожим сами себя?
— Семьдесят три процента — очень… тревожная… вероятность…
Вот и произнесен приговор.
Дипломатично, в процентах, но — в самой высокой инстанции, обжалованию не подлежит.
Я все-таки уточняю:
— Так, значит, Терра, которую вы нам предлагаете, вовсе не звездный форпост?
Виллем кивает.
— Да, это эвакуация. Мы стремимся спасти то, что еще можно спасти.
До этого разговора я четырнадцать дней провожу в медицинском боксе. Он представляет собой прозрачный полусферический саркофаг, наполненный какой-то репарирующей субстанцией. Ее трудно физически охарактеризовать: жидкость — не жидкость, студень — не студень. Может быть, гель, время от времени вскипающий мелкими щекочущими пузырьками. Воспоминаний об этих днях у меня практически нет, я пребываю в забытьи, в бессознательном состоянии, что естественно с пулями в сердце, легком и позвоночнике. Могу лишь сказать, что иногда чувствовал слабое множественное покалывание, точно тысячи мягких иголочек прикасались изнутри то к рукам, то к груди, то к спине, да еще всплывали в сознании какие-то расплывчатые сновидения, зрительно не восстановить, но есть от них остаточное ощущение тепла и покоя, как будто скользил по мозгу сладкий солнечный луч.
Но это и всё.
На одиннадцатый день забытье превращается в обычный сон, который, в свою очередь, быстро переходит в дремоту, гель куда-то стекает, меня омывают струи горячей воды, далее — я это помню уже достаточно хорошо — идет сушка напором такого же тугого горячего воздуха, а затем я удивленно открываю глаза, и в то же мгновение верх саркофага распахивается и голос, звучащий у меня в голове, сообщает, что я могу встать и одеться.
Синтезированная одежда — точь-в-точь такая, какая на мне была — присутствует тут же на невысокой тумбочке. Другой мебели в медицинском отсеке нет: белые закругленные стены, белые потолок и пол, белый постамент саркофага. А когда я заканчиваю одеваться и начинаю оглядываться по сторонам, открывается дверь и появляется Виллем.
— Как вы себя чувствуете?
Вопрос риторический. Я чувствую себя так, как не чувствовал уже много лет. Каждая клеточка у меня наполнена свежей энергией. Каждая мышца звенит, как туго натянутая струна. Я готов копать землю, таскать бревна, писать книги, решать математические задачи. Мне все по плечу. Никакие трудности не выглядят непреодолимыми. Мне даже кажется, что я мог бы ставить сейчас рекорды по бегу, по плаванию, по прыжкам в длину, в высоту. Растворилась муторная усталость, много месяцев накапливавшаяся в мозгу, он работает так, словно в него впрыснули эфедрин: неожиданные и интересные мысли посверкивают одна за другой.
Виллем подтверждает, что так и должно быть. Мне не просто регенерировали поврежденные части тела, но и провели восстановление всего организма: стабилизировали метаболизм, подправили — и существенно — гормональный фон, который был сильно разбалансирован, подняли уровень иммунитета, подсадили особые тотипотентные клетки, которые будут теперь по мере необходимости обновлять ткани, тщательно вычистили геном.
— Знаете, — говорит Виллем, — он был похож на замусоренный чулан. Каких только генных обломков там не было. Кое-что, наиболее интересное, мы, с вашего позволения, возьмем в свой архив. Не возражаете?
— Да пожалуйста…
И далее он объясняет, что никакие земные болезни больше мне не страшны, ни чума, ни СПИД, ни прионные энцефалопатии, ни что там еще у вас, на Земле, имеется. То есть, если вы выпьете цианистый калий, то, конечно, умрете: будет заблокирована вся дыхательная цепь, прекратится усвоение тканями кислорода. В остальном же мало что может вам повредить. Так что живите спокойно. А проживу я, по его словам, еще лет восемьдесят в добавление к нынешнему моему возрасту, это значит, что дотяну примерно до ста двадцати лет.
Ничего себе звездный подарок! Мне пока трудно свыкнуться с мыслью о своем биологическом совершенстве. Через пару дней до меня доходит, что при возрасте в сто двадцать лет я переживу всех, кого знаю — всех, всех вообще. В том числе переживу и Лизетту. На моих глазах она родилась, я помню этот пищащий комочек плоти, мое искреннее удивление: неужели из него вырастет человек? — и вот теперь на моих же глазах она превратится в старуху с трясущимися руками, с пятнами на перерождающейся коже, с катарактой, со старческим слабоумием, со всем тем, что предвещает близкий финал. Мысль эта тяжкой лавиной обрушивается на меня. Весь день я хожу как больной, едва-едва обращая внимание на замечания Виллема. Трижды я совсем было решаюсь попросить его сделать то же самое для Лизетты и трижды внутренне, но совершенно отчетливо ощущаю, что он мне откажет. Откажет вежливо, но бесповоротно. Тоже — обжалованию не подлежит. Видимо, это эхо экстрасенсорной коммуникации, ее интуитивный подтекст, который считывается автоматически.
Все переживания я стараюсь держать в себе. А пока Виллем приветливо показывает мне помещения Станции: гостиная, пульт управления, собственная его каюта, довольно большая нуль-камера, откуда можно мгновенно переместиться на арконский корабль. Сразу скажу: ничего особенного. Разве что все какое-то закругленное, чисто функциональное, без бытовых излишеств, в стерильно светлых, утомительных, медицинских тонах — так, значит, представляют арконцы то, что именно мы, люди, земляне, предполагаем увидеть у инопланетных гостей. По-настоящему поражают меня лишь видеозаписи. Соответствующие технологии, разумеется, разрабатываются и у нас. Кое-какие игры я видел. Но со здешней феноменальной техникой их не сравнить. Тут эффект присутствия полный: виртуальную запись от подлинной, настоящей реальности просто не отличить. О погибших планетах я уже говорил. Между прочим, когда на нас, на болоте, вдруг прыгнула ящерица, сердце у меня тоже подпрыгнуло, как воробей. Но особенно потрясает картина звездного неба — в той части Вселенной, откуда появились арконцы. Представьте: паришь среди черной, как смерть, невообразимой, бездонной, нечеловеческой, оглушающей пустоты и вокруг сонмы — миллионы и миллиарды — пылающих звезд, образующих бриллиантовые архипелаги и материки. Их здесь значительно больше, чем видно с Земли, и они здесь значительно, во много раз ярче. Вот когда понимаешь, что такое вселенское одиночество, что такое жизнь, что такое забвение и что такое бесконечное небытие. Земные философы об этом только догадывались, а тут — видишь воочию и ощущаешь как сокрушительную неизбежность.
Одновременно Виллем еще раз подтверждает мне то, о чем говорилось на официальных переговорах. Они не могут соотнести местоположение Земли и Аркона в обычной трехмерной системе координат. Видимо, говорит Виллем, мы находимся на разных «складках» Вселенной. Нас связывает только межпространственный коридор, русло темной реки, которая может сравнительно быстро иссякнуть.
— Чувствуете, как зыбка эта связь?
Тут же он объясняет, что о мириадах созвездий, окружающих систему Аркона, они не знают почти ничего. Разве что их обычные, гравитационные и спектральные, характеристики. Межпространственных коридоров к ним нет, а чтобы добраться туда обычным путем, перемещаясь физически, придется лететь тысячи лет. Дорога в один конец. Насколько мне удалось понять, для арконцев это очень болезненная тема.
— Вот лично вы осознаете себя частью человечества? — спрашивает меня Виллем.
— Ну — чисто теоретически, пожалуй, да, — отвечаю я.
Конечно, это явное преувеличение. Даже чисто теоретически я себя частью единого человечества не осознаю. Человечество — это такой неощутимый абстракт. Он нам нужен, лишь когда мы рассуждаем о высоких материях. А так — никому до него дела нет.
— А у нас все по-другому, — говорит Виллем.
И поясняет, что хотя каждый арконец представляет собой суверенную личность, абсолютно свободную в персональном своем бытии, но одновременно он еще и часть коллективного разума, который тоже осознает себя как субъект бытия. И в этом своем втором онтологическом статусе Аркон невыносимо и чудовищно одинок. Такой Солярис, плавающий среди звезд. Вы, наверное, знаете этот роман. Земля, появившаяся на горизонте только сейчас, единственная возможность вступить в диалог с кем-то, кроме себя.
Здесь я опять испытываю «чувство глубокого удовлетворения», поскольку именно так, возражая тезисам Чака, сформулировал проблему Контакта на одной из первых дискуссий в группе экспертов.
Приятно ощущать себя прозорливым.
Жаль, что ощущение это быстро развеивается. Виллем переводит проблему в видит всесовершенно иные координаты. Оказывается, согласно данным арконцев, наша Вселенная завершает так называемый «полный онтологический цикл». Энергия Большого взрыва почти исчерпана, она постепенно, но неизбежно сходит к нулю. Далее должен начаться коллапс, когда Вселенная со всеми ее галактиками, со всеми ее созвездиями, с ее темной материей, с ее провалами пустоты вновь схлопнется до сингулярности, до гипотетического «начала начал». По представлениям арконской науки, до этого рубежа осталось от ста пятидесяти до двухсот миллионов лет. Сказать точнее пока нельзя. И все равно — в масштабах Вселенной это пустяк. Так вот проблема заключается в следующем:как могут обе наши цивилизации, Аркон и Земля, себя сохранить? Есть ли у нас возможность преодолеть границу, за которой не существует ни материи, ни времени, ни пространства — только «слепое ничто»?
— Сейчас обсуждаются два решения, — говорит Виллем. — Первое — это сделать разумным весь Космос, заселить его жизнью, по крайней мере, в тех редких мирах, которые могут ее воспринять, соединить материю и сознание, превратить Космос из «онтологического вещества» в «мегачеловеческое существо». В конце концов разум, возможно, и в самом деле есть попытка Вселенной осознать самое себя. И тогда, став разумной, она, вероятно, сумеет отказаться от физической смерти — пересечет этот бытийный предел.
— Значит, вы хотите создать бога? — уточняю я.
— Можно сказать и так.
— Но ведь бог тоже, как только возникнет, будет ощущать свое одиночество.
Виллем не задумывается ни на секунду:
— Ну это когда еще произойдет… — Он обозначает улыбку на детском лице. — И потом, кто сказал, что бог, в том смысле, как мы его с вами определяем, будет один? Есть ведь и другие вселенные…
— А они действительно есть?
— Предполагается, что они есть. Косвенных свидетельств довольно много. Наиболее обоснованная гипотеза — это то, что черные дыры, конечные состояния прогоревших массивных звезд, на самом деле представляют собой проходы в иные миры. И то, что в наших физических координатах выглядит как схлопывание, как стягивание «всего» в микроскопическое «ничто», в зеркальных координатах, в координатах черной дыры, предстает как вспучивание сингулярности, Большой взрыв, Биг Банг, рождающий новую, молодую Вселенную. Если не ошибаюсь, сходная гипотеза высказывалась и у вас?
— Да… — неуверенно подтверждаю я, — что-то такое вроде читал.
В астрофизике я, честно признаюсь, не очень силен. Тут следовало бы подключиться Ай Динь.
— Но есть и совсем иной путь — пройти сквозь горло черной дыры, нырнуть в воронку перерождения, оказаться в другой вселенной. Получить в свое распоряжение еще двенадцать — четырнадцать миллиардов лет…
— Минуточку, — говорю я, — а если выяснится, что эта другая вселенная не антропна? Если там наличествуют такие физические константы, при которых жизнь просто не может существовать?
Виллем пожимает плечами:
— Есть опять-таки вполне обоснованная гипотеза, что любая вселенная, подчеркиваю: абсолютно любая, даже лежащая вне наших координат, может быть только антропной и никакой иной. Антропная конфигурация — единственная, в которой вселенная оказывается стабильной. В противном случае она уже в момент рождения распадается, а вместе с ней дезинтегрируется и черная дыра, то есть проход. Он тоже деградирует до вакуумной «пустоты».
— Гипотеза, — выразительно повторяю я.
— Да, всего лишь гипотеза, — соглашается Виллем. — Но на проверку и реализацию данной гипотезы у нас есть еще сто пятьдесят миллионов лет. Согласитесь, сто пятьдесят миллионов лет - немалый срок…
На некоторое время меня эта картина завораживает. Я потрясен гигантским масштабом задачи, которую поставили перед собой арконцы. Спасти Вселенную, свет разума, предотвратить его гибель в огне сингулярного «первовещества». Можно ли вообразить более высокую цель? А чем на Земле заняты мы? Отпихиваем друг друга от ресурсов, которых все меньше и меньше? Надуваем публично щеки — у кого больше танков, ракет и атомных бомб? Пытаемся представить — каждый себя — в виде универсального эталона для всех? Жизненные цели несопоставимы: Джомолунгма и муравей, копошащийся у ее подошвы. Крупинка соли и океан, в котором она растворена. Однако судьба Вселенной довольно быстро отходит для меня куда-то на задний план. Так уж устроено сознание человека: его волнуют близкие, сугубо прикладные проблемы, а не то, что случится через сто пятьдесят миллионов лет.
А прикладные проблемы вырисовываются пугающие. В первый же день под Куполом, едва выбравшись из саркофага и еще не разобравшись толком, что здесь к чему, я пытаюсь связаться с Дафной, но ее сотовый телефон глухо молчит. Механический голос отвечает мне, что он отключен. Так же глухо молчит и экстрасенсорный канал. Я воспринимаю только его несущую частоту. Ну это, в общем, понятно: канал блокирован арконским защитным полем. Люди ведь не умеют контролировать свои внутренние эмоции. Виллем жалуется, что вне Купола раздражение, злоба и ненависть накатываются на него обжигающей непрерывной волной. Он, даже ставя личный ментальный барьер, едва выдерживает трехчасовой раунд переговоров, а если находиться под этим напряжением постоянно, то у него просто расплавится вся нейронная архитектоника.
Не приносит конкретики и связь с Лавенковым. Разговор у нас получается коротким и на редкость бессодержательным. Тем не менее смутный его подтекст вроде бы объясняет мне, в чем тут дело. С одной стороны, Центр жаждет, чтобы я немедленно вернулся из-под Купола и сообщил новую информацию, которая в нынешнем всеобщем раздрае требуется ему, как рыбе вода. С другой стороны, Центр хочет, чтобы я скачал этой информации как можно больше и потому не рискует меня торопить.
В общем, решать мне предоставляется самому.
Единственно важное, что Лавенков сообщает: Дафна жива, и это вроде бы должно меня успокоить. Но проговаривает он это какой-то странной скороговоркой, и беспокойство мое не ослабевает, а лишь усиливается.
Ничего не добавляет и Лорд, который излагает мне то же самое, ну разве что в более политизированном регистре. Дафна Делиб жива, профессор Халид (то есть Юсеф) убит, погибли еще трое (не четверо, как сообщалось в прессе) сотрудников Центра. Несколько человек ранены, двое находятся в критическом состоянии. Из террористов живым, к сожалению, не взят никто. На прошлой неделе генеральный секретарь ООН, выступая от имени всего человечества, принес арконской цивилизации официальные извинения.
— Ваша роль сейчас чрезвычайно важна, — внушает мне Лорд. — Мы надеемся, что при личных контактах вы найдете возможность представить данный инцидент в правильном освещении. Вы сумеете?
— Постараюсь, — уклончиво отвечаю я.
Быть может, мне кажется, но лицо у Лорда при разговоре чуть-чуть подергивается. Как будто он сдерживает прорывающийся наружу, рассыпчатый, нервный тик. Или это мелкие дефекты связи? Не знаю. К тому времени я уже просмотрел главные новостные каналы и представлял, какое смятение воцарилось сейчас и у нас в Центре, и вообще — на Земле. Дело ведь было не только в нападении террористов. Уже проросли во множестве мест первые арконские Станции, и уже, как лейкоциты, ринувшиеся на инфекцию, концентрировались вокруг них боевая техника и войска. Уже произошли первые вооруженные столкновения, и в самом крупном из них, Богайском, в Центральной Африке, уже погибло более двухсот человек. Уже прозвенели сотовые телефоны, планшеты, компьютеры, и на экранах их высветилось арконское приглашение — переселяться на Терру. Уже растерянность, близкая к панике, захлестывала и правительственные круги, и комитеты ООН, и население многих стран. Уже шли тяжелые бои в Напалебе, куда переброшены были американская морская пехота и российский спецназ, и уже Фронт «Аль-Хазгар», объявивший всемирный джихад, грозил уничтожить наш Центр вместе со всеми окопавшимися там «неверными» в ближайшие сорок восемь часов.
В общем, мне было как-то не до судьбы Вселенной. Все три дня, которые я, выбравшись из саркофага, находился под Куполом, мы с Виллемом провели, переливая из пустого в порожнее. Иными словами, обсуждали вынесенный нам приговор. Я понимал, конечно, что у арконцев здесь давно все продумано, поскольку обдумывать данную тему они начали, как только поймали первые радиосигналы с Земли. То есть еще около ста лет назад. Более того, внутренне я все знал и сам. Я же не слепой. Симптомы смертельной болезни просто бросались в глаза. Но ведь любой случай, упершийся в непроходимый тупик, требуется во всех подробностях проговорить, тщательно проанализировать, осмотреть, ощупать со всех сторон, чтобы убедиться — выхода из него нет.
Виллем объясняет мне суть проблемы буквально на пальцах. Любое развитие, в том числе социальное, проходит через периоды кризисов, прерывающих его механическую линейность. Избежать их нельзя, но управлять ими — можно. Мы же управлять кризисами, к сожалению, не научились, и потому каждая историческая трансформация превращается у нас в глобальную катастрофу. Таковыми, если взять Новейшее время, были обе мировые войны, длившиеся в совокупности целое десятилетие. В первой из них погибли около двадцати миллионов человек, считая и гражданское население, во второй — более семидесяти миллионов. С точки зрения Виллема (арконской цивилизации) — это кошмар, кровавое жертвоприношение богам алчности и безумия. Но самое поразительное здесь то, что никаких выводов человечеством из этого сделано не было. Новый глобальный кризис, развивающийся уже в наши дни, движется по тому же сюжету. Причина же всех этих кризисов абсолютно ясна: технологическое развитие у нас, на Земле, явно, на две-три ступени, опережает гуманитарное, поэтому моральные ограничения, накладываемые на насилие, значительно слабее тех средств, которыми это насилие можно осуществлять. Это закономерный, стандартный и самый опасный кризис развития, его, как полагают арконцы, испытывает любая техногенная цивилизация.
— А цивилизаций другого типа мы пока просто не знаем, — говорит Виллем.
И далее добавляет, что самим арконцам данный кризис преодолеть удалось. В отличие от ильторайской цивилизации (вы ее видели) или от второй (вы ее тоже видели), которую они условно называют миннейской. Арконцам же этот кризис удалось преодолеть потому, что у них, как спонтанный ответ природы на данный вызов, начала образовываться коллективная экстрасенсорная связь. Изменился весь облик арконского общества. Каждый арконец начал ощущать другого арконца почти как себя. Его боль, его ужас, его страдания — как свои. Можете представить, какими громадными потрясениями это сопровождалось: первые эмпаты просто сгорали от запредельных эмоций. Никакая психика не выдерживала. Они стали изгоями — выродками среди обычных людей. Почти целый век потребовался для того, чтобы гуманизировать этот межличностный коммуникат.
— У вас определенные шансы имеются, — говорит Виллем. — Первые эмпаты на Земле, по-видимому, уже появились. Решающее значение будет иметь фактор времени: ямы полагаем, что вы просто можете не успееть осуществить тотальный метаморфоз.
— А если под вашим руководством и с вашей помощью? — спрашиваю я.
И тут выясняется, что фактор времени яограничивает не только нас, но и самих арконцев. Чтобы «подняться» к Земле против течения, по межпространственному коридору, они истратили почти семьдесят пять процентов имеющихся у них энергоресурсов, которые, кстати, накапливали около семидесяти лет, существенно ограничив при этом потребности самого Аркона.
— Мне неприятно говорить об этом, — сухо комментирует Виллем, — но далеко не все наши граждане были согласны с этими ограничениями. Весьма популярной была и противоположная точка зрения: основные силы следует направить на спасение всей Вселенной, а не отдельной, пусть даже антропоморфной, цивилизации.
К тому же им пришлось проложить особый, тоже «восходящий», рукав от Марса к Земле и теперь тратить массу энергии на его поддержание. Энергия также потребуется для переброски семи миллионов землян на Терру: нуль-переход с двумя промежуточными «доворотами» очень энергоемкая операция. В общем, оказывается, что арконский корабль должен будет вернуться домой через сто четырнадцать дней. Сто четырнадцать дней — предельный срок, в противном случае арконцы застрянут здесь навсегда.
Это чрезвычайно важная информация.
Значит, через четыре месяца, в декабре, арконцы вынуждены будут уйти. А второе посещение, поясняет Виллем, как вы, наверное, догадываетесь, может состояться не раньше чем через те же семьдесят лет. А скорее всего даже позже. Если, конечно, оно состоится вообще.
Я не спрашиваю его, почему они не обнародуют свой прогноз. Мне понятно, что если сведения о скорой и неизбежной гибели станут известны всем, то на Земле немедленно воцарится хаос: рухнут все законы, все моральные нормы, все правила цивилизованного поведения. Кровавое цунами насилия покатится по всем континентам. Никакие правительства ничего сделать не смогут. Политики будут озабочены исключительно своей судьбой.
Я спрашиваю о другом:
— Значит, вы спасете не всех?
Виллем опускает зеленые пленки век. Потом поднимает их — глаза его непроницаемы и черны.
— Какой смысл копировать нынешнее человечество?.. Мы не можем спасти вас — от вас самих…
Информация «Приглашения» была изложена в очень простой и ясной форме. Предполагалось, что расселение колонистов будет происходить в пределах так называемого «Плодородного пояса», широкой полосы земель, протянувшихся с востока на запад самого большого, размером с Евразию, терранского материка. Климат, как сообщалось, там был умеренно-субтропический, мягкий, зимы короткие, без суровых отрицательных температур, а лето, напротив, длинное, с достаточными осадками, позволяющее собирать по два или даже по три урожая в год. По всему поясу этих земель наличествовало множество лесов, рек и озер, а также полезные ископаемые, сведения о которых содержались в специализированной базе данных. Крупных хищников, представляющих опасность для человека, на Терре не обитало, микробиологическая и вирусная среда также была благоприятна для вида хомо сапиенс.
Текст сопровождался великолепными иллюстрациями Терры: бескрайние равнины, колышущиеся волнами трав, яркие, необычной формы цветы, светлые, приветливые леса, полные солнца и щебетания птиц, изумительной красоты закаты над морем, пенящиеся водопады, синеватые, будто из сказки, загадочные очертания гор — тем более что шлемы виртуальной реальности позволяли рассматривать все это в натуральном объеме.
В общем, рай, Аркадия, земля обетованная, библейский Эдем, о котором можно было только мечтать.
Не менее привлекательно выглядели и собственно поселения: крохотные аккуратные городки, рассчитанные, видимо, на две-три тысячи человек, чистенький асфальт улиц, на который не ступала еще ничья нога, типовые, но разнообразные по архитектуре дома, разделенные изумрудом лужаек, двухэтажные магазины, где еще не было ни покупателей, ни продавцов, библиотека, кинотеатр, стадион, детские площадки со всякого рода аттракционами.
Яркое, как на рекламном буклете, изображение.
Впрочем, это и был рекламный буклет, представляющий новые земли, новые человеческие отношения, новую прекрасную жизнь…
В анонсе особо подчеркивалось, что при создании типовых колонистских локаций в качестве базового образца ыйиспользовался европейский архитектурный ландшафт, но арконцы готовы оказать всемерную помощь тем, кто желает оформить свои поселения в национальной стилистике.
Сообщалось также, что процесс адаптации колонистов на Терре должен, по расчетам арконцев, продлиться примерно семьдесят пять земных лет и состоять из трех последовательных циклов, сопряженных между собой. Первый цикл (примерно двадцать пять лет) — условно сельскохозяйственный. В этом периоде колонисты должны будут освоить аграрные технологии, соответствующие климату Терры: производство злаков, овощей и плодов в количестве, достаточном для полного самообеспечения. Второй цикл — условно индустриальный. Здесь терране должны будут создать предприятия легкой промышленности, освоить начальную металлургию, добычу сырья и производство первых машин. Предполагалось, что этот период продлится тоже двадцать пять лет. И наконец третий цикл — период цивилизационной гармонизации: образование целостной терранской культуры, способной к самостоятельному развитию. Ожидалось, что к концу третьего цикла Терра выйдет на уровень, приблизительно соответствующий земным технологиям середины ХХ века, то есть уголь, нефть, газ, электричество, радио, телевидение, производство автомобилей, прокладка железных дорог, легкая авиация, синтез необходимых лекарств, появление колледжей и университетов… Особо подчеркивалось, что в течение всех трех циклов терране могут рассчитывать на непрерывную технологическую поддержку Аркона, начиная от полного обеспечения в начальные годы освоения Терры и заканчивая рекомендательными консультациями в финале третьего цикла. Далее, как сообщалось в анонсе, терранская и арконская цивилизации установят между собой равноправные договорные отношения. Всякая политическая и экономическая опека со стороны Аркона будет исключена. Терра как цивилизационный субъект обретет полный и неотчуждаемый суверенитет.
Благостную картину отравляли лишь две ложки дегтя. Во-первых, билет на Терру действовал только в один конец. Возвращение было технически невозможным, подъем в межпространственном коридоре, «против течения», потребовал бы колоссальных затрат энергии. Согласно расчетам арконцев, первые попытки установить физический контакт между Землей и Террой можно будет предпринять не ранее чем через двести пятьдесят — триста лет, да и то лишь при энергетической поддержке Аркона. Даже односторонний прием излучаемой Землей информации Аркон сможет обеспечить терранам не ранее чем по завершении всех трех циклов развития. То есть те, кто покинут Землю, покинут ее навсегда, никакой возможности вернуться обратно у них не будет.
Вторая ложка дегтя была еще больше. Арконцы накладывали на терран всего одно, зато непререкаемое ограничение: любое оружие от самого примитивного до современного на Терре будет категорически запрещено. То есть не только пистолеты, автоматы, винтовки, артиллерия, мины, бомбы, гранаты, не говоря уже о ядерном оружии, напалме и боевых отравляющих веществах, но также — луки и стрелы, копья, арбалеты, мечи… У арконской цивилизации, сообщалось в анонсе, есть возможность отслеживать производственную сферу на Терре в полном объеме, и любая деятельность такого рода будет тут же пресечена. Не следует думать, однако, говорилось в представительском тексте, что Аркон навязывает терранам свои правила жизни. Просто нас тревожит высокий уровень агрессии, существующий на Земле, и мы не хотели бы, чтобы он был воспроизведен на Терре. Пусть терране пройдут тот же исторический путь, но без революций, потрясений и войн. Да, если пользоваться метафорой, мы отбираем у ребенка колющие и режущие предметы. Да, мы запрещаем ему подходить к краю пропасти и играть с огнем. Но мы делаем это исключительно для того, чтобы он не навредил самому себе. И ведь эти ограничения накладываются не навсегда: ребенок вырастет и станет осознавать, что ему можно делать и чего делать нельзя.
Ну и так далее, и тому подобное, целый трактат почти на сотню страниц…
Заявление арконцев и анонс жизни на Терре были размещены на специальном сайте — его адрес также высветился на всех земных планшетах, компьютерах, телефонах. Лихорадочные попытки различных национальных спецслужб вычислить сервер, на котором арконский сайт мог базироваться, ни к каким результатам не привели: сайт находился как бы сразу везде и одновременно — нигде, заблокировать его было нельзя — ни теоретически, ни технически. Можно было, конечно, вообще отключить интернет, но на такой рискованный шаг не осмелилась ни одна страна.
На том же сайте присутствовал и интерактивный сегмент, где можно было задать вопросы о подробностях жизни на Терре. Уже в первые трое суток количество их достигло нескольких миллионов, и здесь интересно то, что сайт под таким гигантским наплывом вовсе не застопорился от перегрузки, более того ответ на каждый вопрос каждый пользователь получал персонально, а вовсе не в бесконечной унылой ленте, где его пришлось бы долго искать.
Вот наиболее типичные из них.
Вопрос. Я по профессии инженер, электрик. Найдется ли для меня работа в сельскохозяйственном цикле?
Ответ. Название циклов развития очень условные. Первичная индустриализация начнется сразу же по заселении Терры. Тогда же, вероятно, будут построены первые, тепловые и водные, электростанции. То есть Ваши опыт и знания, несомненно, будут востребованы.
Вопрос. А как на Терре будет обстоять дело с культурой? Не скатимся ли мы в эпоху первобытного одичания?
Ответ. Мы скопировали практически всю земную культуру, и она будет присутствовать в каждой местной библиотеке на специальных носителях. Любая земная книга будет синтезирована по первому же требованию, причем на том языке, которым владеет пользователь. Точно так же по первому требованию будут воспроизведены любой кинофильм, любая картина или скульптура. Молекулярные копии будут целиком аутентичны оригиналу. Дальнейшая же судьба земной культуры будет зависеть только от самих терран.
Вопрос. Каким образом будет осуществлен транспорт переселенцев на Терру? Не нанесет ли он вреда жизни и здоровью землян?
Ответ. Мы используем межпространственный нуль-транзит уже более пятисот лет, и за это время не было выявлено никаких вредных последствий. Опасаться вам нечего. Субъективно нуль-переход вообще не будет восприниматься никак. Вы с вашей группой примерно из ста человек зайдете в камеру, оборудованную на местной Станции, далее последуют около двух секунд ожидания, а затем вы через ту же дверь ступите уже на терранскую землю. Там вас будет ожидать проводник, а также транспорт, чтобы отвезти в соответствующий поселок. Все инструкции по особенностям жизни и хозяйствования на Терре вы сможете получить в местной библиотеке.
Вопрос. Будет ли запрещено на Терре охотничье оружие?
Ответ. Любое огнестрельное оружие на Терре будет запрещено. Те терране, которые не сумеют преодолеть свою страсть к охоте, представляющую собой, по нашему мнению, сильно задержавшийся атавизм, могут использовать силки, капканы, ловушки. Хотя мы надеемся, что со временем и терране поймут, что немыслимо убивать живое, дышащее существо, даже более низкого таксономического порядка, но тем не менее, как и человек, ощущающее страх и боль. Необходимую белковую пищу могут производить синтезаторы, наладить производство которых не так уж и трудно.
Вопросы были самые разнообразные. И где брать семена для посевов? (На Терре уже созданы специальные банки семян.) И что же, мы будем на лошадях пахать? (Нет, в ваше распоряжение будет предоставлена агротехника, соответствующая земной первой половины ХХ века.) И как на Терре будет организована власть? (Выборные мэры поселков, дальнейшее — в ваших руках. Мы будем элиминировать лишь явно патологические режимы.) И что делать с земными денежными накоплениями? И можно будет ли содержать домашних животных? И как я смогу получить там медицинскую помощь? (В течение всех трех циклов развития Аркон будет предоставлять Терре полное медицинское обеспечение.)
Конечно, вопросы, посылаемые на сайт, представляли собой лишь спонтанную, вполне предсказуемую «реакцию снизу». Культурологический анализ арконской миграционной идеи выявил в ней несколько иные аспекты. В этом смысле характерна статья Иоахима Везенборга, доктора философии, профессора кафедры антропологии Мюнхенского университета, специализирующегося как раз на кросс-культурных контактах.
Профессор Везенборг сформулировал два ясных тезиса.
Во-первых, писал он, жизнь на Терре может показаться раем только при взгляде со стороны. В действительности же она будет представлять собой монотонный, отупляющий, физически тяжелый сельскохозяйственный и индустриальный труд в течение нескольких поколений. Конечно, арконцы на первых порах обеспечат терран определенной техникой, электричеством и фармакологией, но вам все равно придется пахать землю, собирать урожай, обмолачивать его и, скорее всего, вручную печь хлеб, а также заготовлять на холодное время дрова, торф или уголь; вам придется выращивать лен, хлопок, овец, прясть шерсть, создавать ткацкие мануфактуры. Дети должны будут работать с пяти-шести лет, а это значит, что им будет не до учебы. Вновь, как уже было в истории, образуются многопоколенческие, многодетные семьи, и, значит, женщина, обремененная подобной нагрузкой, будет выключена из какой-либо социальной жизни. В общем, ни сил, ни времени ни на какую культуру у поселенцев терранских коммун просто не будет, и культура на Терре будет существовать лишь в самых примитивных, спонтанных «народных» формах. Преодолеть эту когнитивную деградацию удастся очень не скоро, а это, в свою очередь, приведет к деградации политических форм, смещению их к жестким авторитарным или религиозно-авторитарным режимам. История знает примеры массовых переселений, продолжал доктор Везенборг. В начале ХХ века в России, в период реформ, которые осуществлял премьер-министр Петр Столыпин, в Сибирь на плодородные земли было переселено около трех миллионов крестьян. Так вот, примерно двадцать процентов из них не сумели прижиться и вернулись обратно. Можно с уверенностью полагать, что такой же процент «не прижившихся» образуется и на Терре. Только возвращаться им будет некуда, а это значит, что они сформируют мощный слой маргиналов, недовольных своим положением. Говоря проще, произойдет криминализация терранских сообществ, что опять-таки потребует авторитарных методов ее подавления. Вы хотите жить при жестком авторитарном режиме? — спрашивал Везенборг. И отвечал: я — не хочу.
А во-вторых, указывал профессор из Мюнхена, фатальное разобщение — как минимум в триста лет! — приведет к расхождению цивилизационных путей терран и землян. Даже при достаточно плотных коммуникациях XVII — XVIII веков европейцы, переселившиеся в Америку, довольно быстро стали американцами. Фактически они образовали собственную — протестантскую — цивилизацию, и очевидно, что так же земляне, переселившиеся на Терру, через два-три поколения перестанут осознавать себя как землян. Они превратятся в настоящих терран, и это будет совершенно иная, непохожая на человеческую цивилизация. Тем более что развиваться она будет под неусыпным патронажем Аркона и, значит, приобретет качества, явно отличающие ее от земной. Не исключено здесь и то, что помощь Аркона приведет к ускоренному развитию Терры, и когда терране через триста лет восстановят контакт с Землей, они станут относиться к землянам, как завоеватели-европейцы в свое время относились к «диким» народам Австралии, Северной Америки и Азии. Они будут смотреть на нас сверху вниз. Мы будем вызывать у них лишь жалость и пренебрежение. Профессор Везенборг вновь вопрошал: вы хотите, чтобы к вам относились как к неполноценным людям? И вновь отвечал: я — не хочу!
Высказывались, разумеется, и противоположные точки зрения. Сводились они в основном к тому, что Терра — величайший подарок Земле от галактической арконской цивилизации, подарок, который мы должны принять с благодарностью. Осуществляется истинное предназначение человечества — освоение Космоса. То, ради чего человек, носитель драгоценного разума, вероятно, и пришел в этот мир. Все наши беды, все наши конфликты, все наши войны и социальные катастрофы возникают только лишь потому, что мы теснимся в ограниченном пространстве Земли. Нас слишком много, мы по природе своей слишком нетерпеливы, наша энергия, которой мы щедро одарены, растрачивается впустую — она сжигает наш мир, вместо того чтобы расширить его до пределов Вселенной. Нельзя упускать такой уникальный случай: Терра, наше галактическое представительство, может стать необходимым посредником между Землей и Арконом.
Общую растерянность, постепенно перерождающуюся в стресс, усугубили данные, которые опубликовали сразу несколько социологических групп. В известной мере социологам повезло. Они попали в короткий период «переселенческого романтизма», когда большинство опрашиваемых еще не боялись давать прямые ответы на прямые вопросы.
Выглядели эти данные парадоксально. Выяснилось, что, хотя анонсы о Терре получили не менее трех-четырех миллиардов людей, но вот собственно приглашений, «миграционных виз», удостоились очень и очень немногие. Реальные цифры здесь выглядели весьма приблизительными, но по осторожным оценкам, не более одного-двух процентов от общего числа извещенных. Отсюда выводы, сделанные почти всеми исследователями: арконцы проводят среди землян некий отбор, целенаправленную селекцию, пытаясь сформировать будущее терранское сообщество в определенных параметрах. То есть, говоря без обиняков, они уже на данном этапе стремятся отделить будущих терран от землян. Были примерно очерчены и сами эти параметры. Визы, то есть пропуск на Терру, получали в первую очередь работники сельскохозяйственного производства, а также — инженеры, строители, различного рода ремонтники, журналисты, учителя, врачи… Это было понятно: прикладные профессии на новой земле будут востребованы в первую очередь. Также было понятно, почему среди визового контингента практически не присутствовали компьютерщики и программисты: их знания не понадобятся на Терре еще многие десятилетия. Аналогично обстояло дело и с представителями творческих профессий — художниками, писателями, скульпторами, композиторами: удельный их вес в числе мигрантов был пренебрежимо мал. Вероятно, арконцы предполагали, что уже существующие носители творческого начала слишком сильно привязаны к традиционной земной реальности, в условиях новой жизни они просто погаснут, лишившись необходимых корней. А новые, не отягощенные прошлым творцы возникнут на Терре как бы сами собой. Такое объяснение выглядело формально логичным. Однако, как было подмечено теми же социологами, визы на Терру не получил ни один хоть сколько-нибудь заметный политик, ни один священник, к какой бы религии или конфессии он ни принадлежал, ни один чиновник или администратор выше среднего ранга, ни один профессиональный военный, имеющий старшее офицерское звание. То есть определенная селекция действительно проводилась: арконцы формировали не слепок существующего человечества, а нечто совершенно иное.
Как торнадо, прокатились по всему миру протесты. Горизонты рассудка затмила яростная словесная пыль. И если на шум в сетях, который «из-за профессиональной дискриминации» подняли программисты, внимания можно было не обращать, если военные и чиновники промолчали, ожидая, видимо, соответствующей команды с горних вершин, то высказывания церковных организаций не заставили себя ждать.
Патриарх Московский и всея Руси немедленно заявил, что отказ допустить на Терру православных священников, несомненно, измыслен по наущению дьявола, ибо лишь он один, истинное воплощение зла, боится и сторонится светлого Слова Господня. Оставить паству без вероучительного окормления, разрушить духовные скрепы, соединяющие нас всех, значит добровольно предаться в руки врага рода человеческого. Это смертный грех, и с этим Русская православная церковь согласиться не может. Не следует забывать, что Христос, Сын Божий, был явлен именно людям и именно на Земле. Во всяком случае арконцы, пришедшие из вселенского мрака, о нем слыхом не слыхивали. Это означает, что лишь человечество было избрано Богом, что лишь на нем почиет неискончаемая божественная благодать, а так называемая арконская цивилизация была им, Богом, беспощадно отвергнута. На ней, вместо благодати, пылает изначальное дьявольское клеймо. Патриарх призвал всех истинных христиан преодолеть греховный соблазн.
Совершенно иную позицию занял Римский понтифик. Выступая с проповедью «Semper et ubique» («Всегда и везде»), вещая с амвона, то есть согласно догматам католицизма, будучи в эти минуты осененным Духом Святым, он торжественно провозгласил, что каждый искренне верующий католик принесет Бога на Терру в своем сердце. «Там, где верующий, там и Христос, — воздев руки к небу, заключил он. — Католическая церковь просияет на звездных пажитях, на тех землях, куда ранее ее свет не проникал». Примерно так же отнеслось к этому и большинство протестантских деноминаций. «Слово Божье, возвещающее истину и любовь, можно проповедовать во всех уголках Вселенной, — заявил представитель Евангелической церкви Германии. — Оно не знает пределов, Ему нет преград. Если соединить технологические достижения арконской цивилизации с той пламенной верой, которой обладает Земля, то возникнет небывалый еще, одухотворенный, трансцендентальный Разум, познающий Бога во всеумножающейся полноте.
Это был лишь первый всплеск волн, осевший, как и следовало ожидать, демагогической пеной. Второй их натиск, поднявшийся из сфер политики, оказался гораздо мощнее. Начало ему положило выступление одного из депутатов Европарламента, который на внеочередной сессии, продолжавшейся, к слову сказать, с краткими перерывами уже третий месяц подряд, предложил, чтобы отбор переселенцев на Терру осуществлял не Аркон, какими бы побуждениями он ни руководствовался, а национальные парламенты и общественные организации, выражающие волю гражданского большинства.
— Мы не можем перепоручать этот вопрос кому бы то ни было! Земля должна взять переселение в свои руки! — воскликнул он, и в пустом на три четверти, как обычно, зале Европарламента вдруг вспыхнули аплодисменты.
Основной резонанс, как всегда, вызвало выступление президента Соединенных Штатов, который, обращаясь к гражданам Америки, заявил, что на Терру следует посылать только лучших американцев. «Лучших из лучших! Тех, кто воплощает собой сущность и идеалы американской мечты! Тех, кто по праву сможет водрузить на галактических землях знамя свободы и демократии!» Резко выросший рейтинг до того не слишком популярного президента продемонстрировал, что он угадал настроение масс.
Аналогичное мнение тут же высказала и Государственная Дума РФ, немедленно сформировавшая комитет, который начал составлять списки кандидатур — «самых достойных граждан, настоящих патриотов России». Правда, когда «Свободная речь», достав каким-то образом данные списки, выложила их в сети, выяснилось, что среди кандидатов, «настоящих патриотов России», нет ни одного сенатора или депутата. «Ничего удивительного я в этом не нахожу, — ответил на вопрос корреспондента газеты председатель Государственной Думы. — Мы, российские депутаты, чувствуем свою ответственность перед избирателями и не можем оставить их в такое напряженное время». Вместе с тем, как подчеркивалось в сообщении, на вопрос: получил ли кто-либо из сенаторов и депутатов визу на Терру, председатель Госдумы отвечать корреспонденту не стал.
В общем, ураган набирал силу. На следующий день посыпались официальные заявления, что на Терру, вне всяких сомнений, должны полететь лучшие немцы, лучшие французы, лучшие бельгийцы, лучшие англичане, а также — лучшие австралийцы, мексиканцы, чилийцы, не говоря уже о нигерийцах, сомалийцах, кенийцах и гражданах Республики Кот-д’Ивуар… Повсеместно создавались комиссии, повсеместно шел элитный отбор, зачастую напоминающий торг. В этой медийной сумятице не слышен был только голос Китая, но быстро выяснилось, что все получившие визы на Терру граждане КНР, согласно закону, срочно принятому Всекитайским Собранием Народных представителей, должны были официально зарегистрироваться, и уже из этой обширной группы специальное правительственное Бюро отбирало мигрантов. Китай при своей чудовищной численности населения все равно получал требуемый результат.
Арконцы на подобные действия никак не отреагировали. Зато через некоторое время портал «Викиликс», который множество раз пытались закрыть, представил сведения о том, что среди «лучших» мигрантов, отобранных правительственными структурами, непропорционально велик процент людей, имеющих опыт службы в элитных военных подразделениях. В некоторых случаях он достигал девяти десятых от предлагаемого состава. Речь здесь шла не только о мужчинах, что еще можно было как-то понять, но и о женщинах, тоже отслуживших несколько лет в тех или иных родах войск. «Не следует забывать, — писал анонимный обозреватель портала, — что хотя огнестрельное оружие на Терре запрещено, но оружием может быть и сам человек, прошедший специальную подготовку. Нет никаких сомнений, что национальные правительства готовятся к жесткой конкуренции в «звездных просторах» и пытаются переместить туда наиболее боеспособный человеческий контингент. А это, в свою очередь, означает, что на Терре будут воспроизведены те же самые отношения, что и на современной Земле, причем в самом худшем, милитаризованном, агрессивном их варианте. Велика вероятность того, что сразу же после переселения на «новых землях» вспыхнет война «всех против всех», которая для Терры будет иметь катастрофические последствия».
Впрочем, все это было просто сотрясением воздуха. Визы (разрешение на миграцию) приходили независимо ни от каких национальных списков. Более того, вскоре обнаружилось, что в течение первых же двух недель запрос на получение визы направила арконцам чуть ли не четверть землян. В отдельных странах Африки и Азии эта цифра достигала семидесяти процентов (разумеется, среди тех, кто вообще имел компьютер, телефон или планшет), но и в Америке, согласно предварительным данным, запросы отправили, по меньшей мере, два человека из десяти, а в благополучной Европе даже несколько выше — почти тридцать процентов. «Совершенно очевидно, писал один из авторов «Социологического обозрения» (специального выпуска, который осуществил Международный социальный конгресс), что значительная часть населения планеты Земля, независимо от национальности, вероисповедания и гражданства, больше не верит, что на Земле можно обустроить нормальную жизнь, что можно избавиться от войн, расширяющегося насилия и нищеты, не верит, что у человечества есть хоть сколько-нибудь благополучное будущее. Это вотум недоверия всему современному мироустройству. Это общеземной референдум, показывающий, что Земля как цивилизация находится в жесточайшем кризисе. Нам следует пересмотреть самые основы нашего существования. Что за мир, что за общество мы построили, если чуть ли не четверть людей стремится при первой же возможности сбежать из него?»
Данную мысль подтверждали и выдержки из интервью, опубликованные в том же «Социологическом обозрении». Конечно, выборка там в основном опиралась на население западных стран, тем не менее результаты исследования были весьма показательные. На вопрос «Почему вы решили эмигрировать на Терру?» ощутимое большинство склонилось к ответу «Потому что у Земли будущего нет». А конкретизация интервью в фокус-группах лишь распаковала этот тревожный смысл: «Боюсь катастрофы», — объясняли анонимные фигуранты. «Боюсь глобальной войны», «Здесь жить нельзя», «Надоело крутиться в бессмысленном колесе», «Хочется начать новую жизнь», «Верю, что на небе будет лучше, чем на земле»… Или, как колоритно выразился один из образованных белых американцев: «Задолбала эта тупая политкорректность, гребаный этот сексизм и этот ослиный мультикультурализм. Хочется жить в нормальном обществе, где можно свободно назвать дурака дураком, а не «представителем интеллектуального большинства», где мужчина может восхищенно посмотреть на женщину и не нарваться при этом на жуткий судебный иск, где не нужно лизать задницу шефу, который, вежливо улыбаясь, может стереть тебя в пыль, где все зависит не от упертых дуболомов в правительстве, а от тебя самого.
Социологи, правда, предупреждали: не все, кто послал запрос на терранскую визу, потом действительно эмигрируют. Это замер настроений, зыбких мечтаний, а не практических действий, которые будут осуществлены. Почти любой человек время от времени грезит о том, чтобы начать свою жизнь заново: с чистого листа, как будто вторично родившись, и одновременно сохранив весь опыт, который он уже приобрел, дабы не допускать тех же самых ошибок. Цифры соцопросов не следует переоценивать. Но нельзя и не замечать, что вектор отрицания нынешней земной реальности был обрисован ими вполне однозначно.
Проштемпелевано и утверждено.
И все же не это являлось главным. Главным являлось другое, отнюдь не сразу осознанное в широких масштабах: визу для перелета на Терру получат тоже не все — лишь ничтожное меньшинство из тех, кто послал запрос. Сводилось оно, по очень примерным подсчетам, к одной десятой процента. То есть терранским избранником мог стать лишь один человек из тысячи.
Сейчас трудно установить, кто первый высказал эту мысль. Однако, едва зародившись, она тут же заполыхала в медийном пространстве.
И вот тут разразилась настоящая буря.
Началось то, что позже было обозначено как Исход.
Или в других терминах — как Великое переселение народов.
В определенном смысле прибытие арконского звездолета стало для нас спасением. Ситуация, в которой мы тогда очутились, выглядела почти безнадежной. Сразу после неожиданной победы Гамба на выборах, победы, которая, честно скажу, сошла к нам как манна с небес, на него началась яростная, массированная, четко скоординированная атака. Никто этого не ожидал. Мы знали, конечно, что у нас будут трудности, связанные с переходным периодом, мы знали, конечно, что нам обязательно будут вставлять палки в колеса, подсыпать во все втулки песок, но мы и представить себе не могли настоящих масштабов противостояния. Победив, мы разворошили сразу несколько злобных осиных гнезд. Все эти кланы Кеннеди, Бушей, Бентонов, кланы Рокфеллеров, Рузвельтов и еще десятка семей привыкли править страной, как своей латифундией. Между ними, конечно, могли возникать разногласия, между ними то и дело вспыхивали конфликты из-за нарушения негласных традиционных границ, но это были разногласия, в общем, среди своих — их можно было решить между собой. «Внутреннее государство», как это хлестко определил обозреватель из «Нью-Йорк таймс». Более того, им казалось, что так будет всегда. Они всегда будут царствовать. Они всегда будут, как боги с Олимпа, повелевать простыми людьми. И вдруг явился какой-то парень со стороны, гаркнул, жахнул кулаком по столу и отодвинул истинных хозяев Америки на периферию. Конечно, терпеть такое было нельзя. Война разразилась буквально на следующий день после объявления результатов. Силы были несопоставимы. Кланам принадлежали крупнейшие телеканалы, газеты, радиостанции, им принадлежали известные блогеры, журналисты, влиятельные интернет-издания. Им фактически принадлежал и Конгресс, где Гамба вопреки партийной дисциплине не поддерживало даже республиканское большинство. Они располагали огромными деньгами, которые тут же были пущены в ход, и у них были прочные, разветвленные связи в самых разных кругах, позволявшие направить удар в нужную сторону.
Главным двигателем этой кампании, разумеется, была мадам Бентон. Она и раньше славилась неуравновешенным темпераментом, скрывающим за холеной внешностью лавину вулканического огня. Те, кто сотрудничал с ней, рассказывали о вспышках ярости, которые она обрушивала на подчиненных. Она не просто делала сотруднику выговор — она мешала человека с грязью, ровняла его с землей, растаптывала до слизи как ничтожное, отвратительное насекомое. За ней тянулся шлейф увольнений, вынужденных отставок, гипертонических кризов, сердечных приступов и т. д. Теперь же она превратилась в настоящую фурию, непрерывно извергающую на всех горячую желчь. Ее можно было понять. Мадам Бентон искренне верила, что президентские лавры у нее нагло украли. Она ведь не просто рассчитывала победить на выборах, она хотела войти в историю как первая женщина — президент США. Она рассчитывала, что имя ее будет греметь в веках. И вдруг предельно унизительный результат: лишь двести тридцать два выборщика высказались за нее и целых триста четыре — за Рональда Гамба. Разрыв, который невозможно было оспаривать. Ярость мадам Бентон была безмерной. В ее поражении оказались виноваты все, кроме нее самой. В этом виноват был директор ФБР, направивший в Конгресс письмо о нарушении мадам Бентон правил секретной государственной переписки (по данному поводу разразился дикий скандал). В этом была виновата Россия и лично ее президент, по приказу которого был взломан сервер демократической партии. В этом был виноват предшествующий президент Америки, который недостаточно определенно ее поддержал. Виноваты были средства массовой информации, то и дело печатавшие на нее компромат. Виноват был сексизм значительной части американцев, не веривших в то, что женщина способна управлять Великой страной. Виновато было «белое расистское большинство», поведшееся на обещания Гамба ограничить иммиграцию в США. Ну и конечно, больше всех виноват был сам Гамб, заморочивший головы избирателей популистскими, совершенно невыполнимыми обещаниями.
Шторм, обрушившийся на нас, набирал силу от недели к неделе. Был образован специальный общественный комитет «Вместе вперед!», имевший целью противодействовать «разрушительной политике Рональда Гамба». Возглавила комитет, естественно, мадам Бентон. Во время инаугурации прошли массовые демонстрации не только в Вашингтоне, но и в нескольких других городах. Давно Соединенные Штаты не видели таких бурных протестов. Демократические СМИ неистовствовали: любое заявление президента, любой его шаг немедленно подвергались уничтожающей критике. Создавался внятный негативный посыл: Рональд Гамб, неумеха, ведет Америку прямо к пропасти. Результатом его правления будет гибель страны. Хуже всего было то, что министерство юстиции под давлением демократов начало специальное расследование о «вмешательстве России в президентские выборы в США» и о тайном сговоре с ней некоторых сотрудников Гамба. Замаячила уже прямая угроза. В прессе замелькало тревожное слово «импичмент». Понятно было, чего добивалась мадам Бентон. Если бы удалось тем или иным образом добиться отставки Рональда Гамба, то у нее появились бы хорошие шансы победить на следующих президентских выборах.
И казалось, что она уже близка к своей цели. Первые месяцы после инаугурации стали для нас временем хаоса и смятений. Администрация нового президента разваливалась на глазах. Демонстративно, в знак несогласия с нынешней политикой США, покинули свои посты все высшие руководители Государственного департамента. Практически в полном составе ушел в отставку президентский комитет по культуре. Ушли в отставку советники президента по безопасности, по Ближнему Востоку, по экономике, ушел директор по коммуникациям, ушел пресс-секретарь Белого дома, о своем выходе из президентского совета громогласно объявил глава крупнейшей федерации профсоюзов. Из-за политических разногласий были уволены со своих постов глава отдела стратегического планирования, глава аппарата Белого дома, министр здравоохранения, только что назначенный новый директор по коммуникациям, и наконец, как бы венчая этот тайфун, после серии острых конфликтов был отправлен в отставку не пробывший и трех месяцев в своей должности государственный секретарь. Мадам Бентон тут же торжествующе заявила, что «так называемый президент» не только не способен управлять Великой страной, но даже не может сформировать свой собственный аппарат. Нужны ли еще какие-нибудь доказательства, что на высшем посту в Белом доме находится случайный и некомпетентный человек?
К несчастью, сам Гамб, пренебрегая советами, то и дело давал повод для критики — и своими непродуманными высказываниями черт знает о чем, и своими внезапными и слишком импульсивными действиями, переворачивающими привычную реальность вверх дном. Конечно, он стремился побыстрее провести в жизнь свой план, чтобы американцы воочию увидели конкретные результаты его президентства, смогли бы их оценить, смогли бы понять, к чему он в итоге ведет, но к его нетерпеливым кульбитам в этот период прочно приклеилась пущенная кем-то из дипломатов русская поговорка «хотели, как лучше, а получается как всегда». Он разорвал договор о Трансокеанском содружестве, заключенный прежней администрацией, и оттолкнул от себя тем самым многих азиатских партнеров. Он в одностороннем порядке отменил ядерную сделку с Ираном, и Иран немедленно обвинил США в политическом лицемерии. Он грубо надавил на Северную Корею и получил в ответ угрозу обстрелять ядерными ракетами Гавайские острова. Он перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, и тут же в секторе Газа вспыхнуло восстание арабского населения. Он огласил новую стратегию национальной безопасности США, где главными противниками «цивилизованного мира» были названы Россия, Иран и Китай — все три страны сделали из этого соответствующие выводы. Кульминацией же его поспешных политических антраша явилась массовая высылка дипломатов: американских — из России, российских — из США, после чего отношения с Россией были безнадежно испорчены.
Хуже всего для нас складывалась обстановка на Ближнем Востоке. Обращаясь к Конгрессу, Гамб торжественно заявил о победе сил западной коалиции (двадцать стран, воевала в основном армия США) над «террористическим государством» (ИГИЛ), территория которого сократилась в несколько раз. Это была чистая демагогия: даже ежикам было понятно, что западная коалиция здесь ни при чем. Три года она якобы боролась с ИГИЛ, но и территория, и возможности «Исламского государства» только росли. Но вот неожиданно пришла в этот пылающий регион Россия, нанесла несколько сильных и точных ударов, параллельно продемонстрировав свою обновленную военную мощь, и черная пена исламского радикализма начала явственно оседать. Войска президента Асада перешли в наступление. Гениальный план мадам Бентон взять эту страну под контроль потерпел полный провал. Самое же опасное заключалось здесь в том, что теперь американские и российские части оказались в непосредственном соприкосновении друг с другом. То и дело возникали чрезвычайно рискованные инциденты. Приходилось задумываться, а что будет, если русские вдруг — в горячке боя — собьют американский бомбардировщик? Или — как ответит непредсказуемая Россия, если наша ракета, пусть даже в силу нелепой ошибки, уничтожит подразделение русских солдат? Не хватало только, чтобы из-за случайной искры вспыхнула Третья мировая война.
Мы просто не знали, что делать. Мы не знали, что делать с Сирией. Мы не знали, что делать с Балканами. Мы не знали, что делать с Китаем. Мы не знали, что делать с Ираном. Мы не знали, что делать с коррумпированной Украиной, хотя Украина, конечно, интересовала нас меньше всего. Но мы действительно не знали, что со всем этим делать.
В общем, когда подтвердились сведения о приближении к нам инопланетного звездолета, многие в президентской администрации облегченно вздохнули. Как ни странно, но о важности первого Контакта с внеземным разумом, о значении этого неслыханного события для народов Земли никто особо не помышлял, просто всем было ясно, что теперь внимание прессы и публики будет переключено на другую тему — наши политические разногласия отойдут на второй план. Более того, эта волна, если, конечно, правильно ее оседлать, может поднять нас в запредельные электоральные выси. Гамб, как мне кажется, это сразу почувствовал. Уж чем-чем, а чутьем на выгоды при любом раскладе он обладал от природы. Им тут же было сделано несколько широковещательных заявлений, не бог весть каких, но все же вполне приличных на фоне того восторженного идиотизма, которым в те дни отличились многие другие политики.
Надежды наши оправдались только частично. Фокус внимания СМИ действительно мгновенно сместился. Мадам Бентон могла теперь бесноваться сколько угодно: зазвучали другие мелодии, американцам стало не до ее политического кликушества.
Зато выдвинулись на авансцену трудности, которых никто предвидеть не мог.
Во-первых, арконцы избрали для места высадки пустыню Аравии, нанеся тем самым удар по самолюбию Гамба, который красивым жестом пригласил их в Америку. Здесь президент, конечно, опять исполнил торопливое антраша. Даже Гленн Осковиц, назначенный курировать весь проект по Контакту, не смог его от этого удержать. Да и никто бы не смог. К тому времени я уже понял, что удержать Рональда Гамба, если он что-то решил, не сумел бы и сам господь бог.
А во-вторых, неожиданно выяснилось, что те же арконцы вовсе не намерены облагодетельствовать народы Земли никакими инопланетными чудесами. Объясняли они это тем, что земная цивилизация к продвинутым космическим технологиям еще не готова: риск внедрения в нашу жизнь таких инноваций слишком велик, произойдут гигантские пертурбации, и очень маловероятно, что нам удастся их безболезненно преодолеть. С этой позиции арконцев было не сдвинуть. Уже через месяц переговоры с «галактическими гостями» зашли в непроходимый тупик, началось муторное толчение пресной словесной каши, хождение по кругу, бесплодное перемалывание мелочей, и как следствие — всеобщее разочарование, сопровождаемое убийственным вопросом, который непрерывно обсуждался в прессе: зачем они вообще к нам прилетели?
Ответ, данный арконцами: «с целью познания мира», вызывал скептические усмешки. Версии выдвигались самые оригинальные. Я помню, как на одной из ночных конференций, состоявшейся по требованию президентской охраны в Кэмп-Дэвиде, профессор Йельского университета, некто Ярр Смит, сжав лацканы твидового пиджака, монотонно, но так что было не перебить, лекторским тоном доказывал, что их группа только что зафиксировала исходящее от арконского звездолета слабое торсионное излучение; оно, как предполагается, избирательно действует на репродуктивную систему мужчин, потенция от него не снижается, но ощутимо падает вероятность зачатия: уже через два поколения это приведет к полному вымиранию человечества. Планета (Земля) таким образом будет освобождена для заселения ее арконской цивилизацией. Профессор выводил на экран какие-то сложные графики, какие-то таблицы расчетов, якобы подтверждающие данный процесс. Кстати, слушали его всего пять человек. Я был шестым, случайно забредшим сюда, да и то выдержал не более десяти минут. А в это время в другом кабинете другой эксперт, уже из корпорации «CJVБиолаб» утверждал, что арконцам для выживания требуется наш генетический материал, поскольку любая биологическая система через определенное число поколений подвержена «энтропийному вырождению», и арконская цивилизация как раз уперлась в этот предел. И тоже — демонстрировались таблицы, графики, красивые визуально анимированные алгоритмы. Тут я выдержал всего пять минут.
Наиболее конкретны были военные. На совещании представителей лидирующих мировых держав, почему-то происходившем опять-таки глубокой ночью и, что характерно, в бункере, защищенном полутораметровым бетоном стен, усиленных вкраплениями полимеров, председатель департамента по стратегическому планированию армии США заявил, что поскольку возможная угроза со стороны арконской цивилизации все-таки существует, то мы должны заранее подготовиться к ее отражению. Он представил план, согласно которому два военных спутника США, вооруженные лазерами с ядерной накачкой, синхронно ударят с разных сторон по арконскому звездолету, выведя из строя (считалось, что это удастся), все его системы слежения, и одновременно с трех разных баз, расположенных на максимальной близости (базы эти еще требовалось организовать), будут выпущены по звездолету ракеты с ядерными боеголовками.
— Мы не можем гарантировать уничтожение предполагаемого противника, — заключил генерал, — но мы, по крайней мере, продемонстрируем ему свои возможности.
Правда, он тут же признал, что двух лазерных спутников для ослепления арконского корабля будет совершенно недостаточно. Необходимо иметь их штук пять или шесть, иначе ряд секторов останется незаблокированным.
— Поэтому мы призываем другие космические державы поддержать наш проект.
После ожесточенной дискуссии, в ходе которой неоднократно звучало, что ранее Соединенные Штаты наличие у себя таких спутников отрицали, российский представитель, проконсультировавшись с Москвой, неохотно признал, что Россия тоже может предоставить в распоряжение Международного командования два военных лазерных спутника, но это все, что у нее есть, а еще через пару часов аналогичный спутник согласился предоставить Китай.
Не знаю, чем там дело закончилось. Нас с Гленном выдернули из бункера на совещание к государственному секретарю. Помнится, в коридоре я, понизив голос, сказал, что агрессивный психоз есть имманентный, неустранимый признак военных. Не всех, конечно, а только политических и штабных. Война представляется им некой игрой, в которой могут погибнуть все, кроме них.
— Не беспокойся, это такой симулякр, — ответил Гленн. — Никто всерьез воевать с арконцами не собирается. Просто будет организована аккуратная, целенаправленная утечка в прессу: президент тверд, спокоен, Америке есть чем ответить. Ничто так не повышает рейтинг власти, как наличие внешней, прямой и явной угрозы…
— И меня пригласили, чтобы эту утечку организовать? Я ведь там был совсем ни к чему.
— Ну, для этого существуют профессионалы, — сказал Гленн. — И я, и ты, и еще пяток человек — это прикрытие. Где лучше всего спрятать дерево? Среди других деревьев, в лесу… Давай-давай, идем, нас уже ждут…
Все это были еще только цветочки. Настоящие ягоды стали созревать через несколько дней. Внезапно, как гром с ясного неба, разразился «саудовский кризис». Начался он по типовому сценарию так называемой «арабской весны»: мелкий инцидент полиции с лавочником на базаре, в результате которого лавочник при непонятных обстоятельствах был убит, вызвал вспышку народного негодования, на улицы Эр-Рияда вышли сотни, а затем — уже тысячи человек. Правительство проявило сначала нерешительность, потом — чрезмерную жесткость, которой, видимо, способствовал страх, раздались выстрелы, пролилась первая кровь, во мгновение ока выросли баррикады. Борьбу возглавила ранее неизвестная организация «Бригады Аль-Хазгар», судя по всему, типичные исламские радикалы. Саудовская армия, между прочим вооруженная до зубов, внезапно отказалась выходить из казарм. Ходили слухи о расколе в королевской семье. Через два дня в стране произошел государственный переворот: «Комитет молодых принцев», сместивший старого короля, объявил о начале «Эпохи саудовского возрождения». В чем оно заключалось, так и осталось загадкой, поскольку еще через три дня смятений, беспорядочных столкновений, стихийных митингов и стрельбы, «Исламская народная армия», в которую были преобразованы отряды боевиков «Аль-Хазгар», взяла штурмом королевский дворец, и Эр-Рияд погрузился в социальный водоворот, начавший стремительно распространяться на все провинции.
Честно говоря, мы просто не успели ничего предпринять. События развивались слишком быстро, сметая, точно грандиозный сквозняк, все аналитические предложения. Пока ясно было только одно: Америка потеряла своего самого сильного и влиятельного союзника в арабском мире. Попытки же установить контакты с лидерами «Аль-Хазгар», которые вроде бы по своим тайным каналам предприняло ЦРУ, ни к чему конкретному не привели. Лидеры исламистов, предпочитавшие сохранять анонимность (в телероликах их лица скрывали черного цвета платки), провозгласили, что «Соединенные Штаты являются страной победившего дьявола», само их нынешнее существование должно рассматриваться как смертный грех, арконцев же они (хазгаровцы), в свою очередь, охарактеризовали как «исчадие ада» и потребовали, чтобы те убирались прочь со священной аравийской земли, в противном случае «их сметет шторм народного гнева». В дополнение ко всему вспыхнуло восстание в восточных районах страны, населенных шиитами, где давно скапливалось напряжение, а отряды йеменских повстанцев (хуситов) вместе с подразделениями йеменской армии двинулись через границу в провинции Асир, Джизан и Наджран, считая их исторической территорией Йемена, незаконно оккупированной в свое время Саудовским королевством.
Совещания у нас происходили почти непрерывно. Собственно вся жизнь Белого дома превратилась теперь в одно нескончаемое, сумбурное совещание, мгновенно, точно испуганная амеба, меняющее формат: то с президентом, то без него, то с военными, то чисто экспертное, то с общественными организациями, то с представителями спецслужб. Я наблюдал за этим с профессиональным вниманием. Тот, кто думает, что государственный аппарат — это рационализированная бюрократия в духе Вебера, работающая, как часы, где каждое колесико вращается в такт остальным, тот искренне и глубоко заблуждается. Этот механизм собран как будто наспех, из разномастных, часто несовместимых частей: зубчики в нем, как правило, друг с другом не совпадают, штифты разболтаны, одни колесики на них застревают, другие вращаются, не имея никакого сцепления, а все вместе скрежещет, вздрагивает, трясется, грозя рассыпаться в бесполезный и бессмысленный хлам. То есть бюрократия есть, а рационализации нет, и потому все тонет в документированном словоговорении. И вот тут надо отдать должное Рональду Гамбу. Когда припадок административного дерганья достиг апогея, превращаясь в паническую и неуправляемую толчею, он (так рассказывали) вдруг трахнул кулаком по столу и в изумленной тишине произнес: «Я как верховный главнокомандующий приказываю…» — Пара зубчиков обломилась, пара колесиков выкатилась из содрогнувшегося механизма, но остальные все же как-то синхронизировались, и уже утром того же дня подразделения американских морских пехотинцев начали разворачиваться у Саджида (восемьдесят километров от Центра), пытаясь восстановить оборону, а еще через пару часов к ним присоединились войска НАТО и российский спецназ. Правда, в Саджиде им удержаться не удалось. Европейские части Северо-Атлантического Альянса рассыпались в прах при первом же натиске «Исламской народной армии»: ни французы, ни немцы, ни тем более венгры, румыны и латыши не хотели умирать в бесплодных, песчаных отрогах Неджда. Они сразу же, бросая технику и боеприпасы, беспорядочно откатились назад, открыв фланг морских пехотинцев, которым тоже под угрозой уничтожения пришлось отступить. В какой-то мере фронт стабилизировался лишь на окраинах Напалеба, от которого до строений Центра, в том числе и до Купола арконской Станции, было чуть более пятидесяти километров. Хорошо еще, что китайские подразделения очень быстро и твердо остановили наступление йеменской армии с юга.
Ситуация тем не менее оставалась крайне тревожной. Был поставлен вопрос об эвакуации в более подходящее место самих «звездных гостей». Президент Гамб вновь предложил перебраться в Соединенные Штаты, где им будет гарантирована не только полная безопасность, но и современное технологическое обеспечение, и конвенциональный комфорт. Вопрос этот еще более обострился после внезапной атаки неизвестной террористической группы на Центр, когда едва не был захвачен арконец, известный на Земле под именем Виллем. Спастись ему удалось только чудом. И, к сожалению (а как это еще можно назвать), решающую роль в данном спасении сыграл некий российский эксперт, который сам был тяжело ранен, попал под Купол, был вылечен там арконцами и провел внутри Станции почти две недели.
Для нас это был очередной сильный удар. Ни у кого не было никаких сомнений, что за две недели, проведенные под Куполом, мистер Коврин, кстати профессор культурологии, политический аналитик, доктор наук, то есть весьма образованный человек, мог снять с арконцев очень ценную информацию, возможно имеющую стратегическое значение. Задача теперь заключалась в том, чтобы информация эта не стала эксклюзивом России, дав ей неоспоримые технологические преимущества. Не так просто это было осуществить. С громадным трудом нам удалось настоять на одном: чтобы мистер Коврин сразу после своего возвращения из-под Купола не был отправлен «на реабилитацию» к себе домой, на что он как российский гражданин имел полное право. В этом случае мы его никогда больше не увидели бы. В кои-то веки нас в данном вопросе поддержал весь Совет Безопасности, практически весь ДЕКОН и — вот в чем нам особенно повезло — даже Китай, который обычно солидаризовался с Россией. С еще большим трудом удалось сформировать комиссию по изучению «феномена Коврина» и поставить во главе ее вполне нейтрального человека, профессора Хайму ван Брюгманс, гражданку Голландии. Тоже, разумеется, не подарок, но все же лучше, чем выдвинутый Россией некий «научный эксперт», Андрон Лавенков, в действительности, скорее всего, сотрудник российских спецслужб.
И все же задача была решена только наполовину. Новую информацию об арконцах, если только мистер Коврин действительно ее раздобыл, нам заблокировать удалось, но вывести ее на поверхность, сделать достоянием всех оказалось делом невыполнимым. То ли мистер Коврин и в самом деле был сотрудником российской разведки, в чем были твердо убеждены некоторые наши эксперты, то ли мадам ван Брюгманс в качестве председателя Международной комиссии, к сожалению, оказалась не на высоте (слишком твердолобая, через пару дней обмолвился Гленн), то ли (сам я склоняюсь именно к этому) никакой существенной информации там просто не было. Я по поручению Гленна Осковица читал и внимательно изучал протоколы комиссии и не видел в них ничего, что указывало бы на сокрытие каких-либо сведений. Скорее это напоминало все ту же, уже осточертевшую мне, унылую бюрократическую игру со множеством якобы хитрых уловок с той и с другой стороны, и удручающим, до боли в висках, таким же унылым бюрократическим словоблудием. В общем, хотите намертво утопить какую-нибудь проблему — создайте для ее решения представительную комиссию.
А дальше молнии начали бить одна за другой. Немедленно зашатались другие аравийские нефтяные монархии. Грянул государственный переворот в Кувейте, к власти под ликование граждан там пришел некий «Исламский совет». Король Бахрейна, где большинство населения составляли шииты, в свою очередь, не дожидаясь штурма правительственной резиденции, бежал к нам, в США. В срочном порядке запросили политического убежища правители Эмиратов, там также вспыхнули уличные волнения. Весь регион Аравийского полуострова подернулся зыбкой пленкой огня. Но это было еще ничего. Такие завихрения мы могли бы, хоть и с большими трудностями, пережить. В конце концов это были наши внутренние, чисто земные заботы, и мы более или менее представляли, что с ними делать. Однако именно в эти дни в пятидесяти районах Земли внезапно начали прорастать арконские Станции, и с этой минуты весь геополитический антураж стал расползаться на отдельные ниточки, как прогнившая ткань. Я помню ночное (опять-таки ночное) совещание в Пентагоне, на которое зачем-то выдернули и меня, там обсуждался насущный вопрос: считать ли появление Станций актом агрессии, совершенной арконцами, и если да, то какие меры нам следует предпринять? Снова всплыл план превентивного ядерного удара по арконскому звездолету, и хотя через пару часов последовало заявление Виллема об иммиграции, несколько ослабившее напряжение, волны массовой паники уже с шумом покатились по миру. Ситуация становилась неуправляемой. Никто не понимал, чего еще следует ожидать. И вот здесь, в этом бешено вращающемся калейдоскопе мнений, нервных реплик, скороспелых высказываний, возбужденных, почти невменяемых голосов, страстных выкриков, взаимно исключающих точек зрения, истерических телефонов, мгновенных альянсов, скоротечных дипломатических войн, во всей этой атмосфере административных миазмов, ядовитых, першащих в горле, застилающих собой белый свет, проскользнуло непонятное словосочетание — «операция Бонобо» и осело камешком в моей памяти, чтобы возникнуть потом, при совершенно неожиданных обстоятельствах.
Хуже всего тишина. Особенно если это больничная тишина, в которой всегда чувствуется некое нездоровое напряжение. И в сто раз хуже, если это тишина специального медицинского блока, куда ты заключен уже больше недели.
Часы показывают половину третьего ночи.
Я не понимаю, что меня разбудило. Вроде был какой-то толчок, но он соскользнул и исчез по ту сторону яви. Вместе с тем тишина настораживает. В ней нет звукового фона, который обычно просачивается даже сквозь изолирующие перегородки медблока: легкого дрожания воздуха, смутных акустических паутинок, плавающих в пространстве. Зато в ней есть нечто иное: почти неощутимое, размытое стенами и расстоянием завывание, звериная звуковая пульсация за окном. Я как-то не сразу догадываюсь, что это воет сирена тревоги. А когда догадываюсь, резко сажусь и щелкаю переключателем лампы. Свет не горит. Ничего себе, значит, дело серьезное. Через секунду я оказываюсь у окна и в исступленном свете луны, которая сияет не хуже прожекторов, вижу дворик, замкнутый остроконечной железной оградой. Три двухэтажных научных флигеля, построенных буквой «п», предполагалось, что здесь будут изучать внеземную флору и фауну. Левый и правый из них ныне законсервированы за ненадобностью, а центральный, где я нахожусь, отдан в распоряжение доктора Йонгера. И вот я вижу, как через решетку ограды бесшумными призраками перемахивают несколько быстрых фигур. Они, как ниндзя, с головы до ног замотаны черной материей, и в руках у них — отчетливые разлапины автоматов. Какое-то кошмарное дежавю: точно такие же ниндзя месяц назад выпрыгивали из вертолета при нападении террористов на наш Центр.
Я нажимаю кнопку вызова медсестры и давлю ее секунд десять, ожидая, что дверь вот-вот распахнется. В данном временном интервале — с девяти вечера до девяти утра — дежурит Сара, а уж она-то со своего поста не отлучается ни на мгновение. Это вам не Марьяша, которая выскакивает иногда поболтать с охранниками, а потом хлопает кукольными ресницами и говорит, что «готовила физраствор». Но чтобы на месте не было Сары?.. И лишь когда чуть вздрагивает от неблизкого потрясения пол (а разбудил меня, по-видимому, предыдущий разрыв), я неожиданно соображаю, что если электричества нет, то Сара просто не слышит моего звонка. И, наверное, даже не так. Сара должна была появиться здесь, как только объявили тревогу. Кстати, вместе с двумя охранниками, дежурящими у входа. И вот жутковатый вопрос: где они все?
Волнение мое переходит в настоящую панику. Для очистки совести я некоторое время стучу в дверь кулаками, потом бью в ее полотнище ногой, что получается несколько хуже: глухие эти удары вряд ли кто-то расслышит, а затем приказываю себе успокоиться и конкретно подумать, как можно отсюда выбраться.
Собственно, вариантов немного. Окно здесь в принципе не открывается: зачем? — работает кондиционер (который сейчас, правда, молчит), а высадить стеклопласт и связывать веревки из простыней, чтобы спуститься вниз, меня как-то не вдохновляет. Зато я прикидываю, что если выкатить на середину палаты кровать, она на колесиках, и вдарить с разгону по двери, то петли ее могут не выдержать.
Сказано — сделано. Рывком я отделяю кровать от стены, задеваю тумбочку — грохоча валятся на пол бутылочки с питьевой водой «Аби-Дар», — разворачиваю ее, прицеливаюсь, разгон, к сожалению, невелик, но ударить не успеваю — дверь неожиданно распахивается сама и в проеме ее, подсвеченная блеском луны, возникает нелепая, вся в известковой пыли, страхолюдная, растопыренная фигура…
— Ага… Ты здесь… Хорошо…
Мы оба застываем от неожиданности.
И тут раздается еще один взрыв…
Насторожиться мне следовало уже при встрече. Еще когда в галерее, соединяющей Купол с Павильоном для переговоров (его, оказывается, за две недели успели восстановить), меня встретили трое в костюмах высокой защиты и механическим — через трансляцию — голосом предложили надеть на себя такое же облачение.
Парни из «сигуранцы».
Но сразу до меня не дошло.
И даже когда меня везли в джипе по тревожно пустынному Стриту — ни единого человека, только лица, прильнувшие изнутри к окнам по обеим его сторонам, — я еще ни о чем не догадывался, приветственно помахал им рукой: дескать, не волнуйтесь, ребята, со мной все в порядке. И поворот к медицинскому блоку меня нисколько не удивил: куда ж меня было направлять после Купола, если не на тщательный медосмотр. И лишь когда, уже стянув спецкостюм, сидя в страшноватом «зубоврачебном» кресле посередине лаборатории, я услышал от доктора Менгеле, что нахожусь в карантине, у меня неприятно дернулось сердце.
— Что вы имеете в виду, доктор? Какой карантин?..
И доктор Менгеле, между прочим защитный костюм не снявший, визгливо-радостно мне объяснил, что поскольку существует опасность заражения биосферы Земли вирусами и микробами, занесенными мною из Купола, то принято решение о полной биологической изоляции контактера, до тех пор пока специалисты не убедятся, что он никакой инфекционной опасности для человечества не представляет.
— Так что некоторое время будете находиться здесь.
И сквозь стекло шлема было заметно, как он растянул резиновую улыбку к ушам.
Все это, конечно, была полная чушь. Еще до того, как начались с арконцами первые «физические» контакты, Виллем, отвечая на аналогичный вопрос, подчеркнул, что и он сам, и все содержимое Купола полностью адаптировано к земной биосфере. Генетическое заражение Земли инопланетным материалом исключено, никаких медицинских мер по защите можно не принимать.
Собственно, это подтверждалось и самими переговорами: за три месяца, которые протекли с их начала, ни малейших намеков на «внеземные инфекции» обнаружено не было. Пробы воздуха неизменно давали отрицательный результат. Члены экспертных групп подвергались регулярным осмотрам, ни один из них не выявил ничего подозрительного.
И, между прочим, сам доктор Менгеле уже через сутки защитный костюм с себя снял, торжественно объявив, что первичные анализы на чужеродные белки или гены оказались полностью отрицательными.
— Что, впрочем, ничего не значит, — по-мальчишески глуповато хихикнув, добавил он. — Могло иметь место внедрение чужеродных скриптов в ваш генотип или локальная трансформация нейронов головного мозга. Требуются очень объемные дополнительные исследования.
От радости он чуть ли не пританцовывал. И если перевести его слова на понятный язык, то означали они, что скоро меня отсюда не выпустят.
Окончательно я убедился в этом на следующий день, представ перед особой комиссией, которую сформировал ДЕКОН.
Здесь, мне кажется, надо кое-что пояснить. Я, разумеется, даже не пытался просканировать членов комиссии через свой экстрасенсорный канал. Риск был слишком велик. Среди них вполне мог присутствовать скрытый эмпат, я был бы раскрыт, и это могло бы иметь для меня неприятные и непредсказуемые последствия. Однако члены комиссии, видимо, пребывали в таком внутреннем напряжении, в них кипели такие эмоции, отформатированные к тому же по определенному вектору, что весь этот контент просачивался в меня и помимо моих намерений, и безо всяких усилий с моей стороны.
В общем, к концу первых суток допроса, который официально был назван политкорректным термином «собеседование», мне стало ясно, что все две недели (точнее — семнадцать дней), пока я находился в арконском Куполе, шла яростная, но скрытая от внешних глаз битва и в самом ДЕКОНе, и на двусторонних политических переговорах, и в высоких кабинетах ООН: кто будет распоряжаться таким ценным источником информации, каковым я, по их мнению, теперь являлся. Кто будет его (то есть меня) контролировать? Кто снимет сливки с того, что я, по их мнению, знал? Теоретически российское правительство могло меня отозвать и заменить любым другим экспертом по своему выбору. Такое право у него формально существовало. Практически же было понятно, что воспользоваться этим правом ему никто не позволит. Это означало бы — дать явное информационное преимущество одной из стран. Да я и сам, признаюсь, этого не хотел. Ведь немедленно упекут в какую-нибудь тайную лабораторию, упрячут в хищных недрах спецслужб, выжмут, выкрутят так, что от меня останется лишь скомканная человеческая оболочка. Имея же дело с комиссией, с совокупностью разнонаправленных интересов, я обретал и определенные гарантии безопасности, и свободу маневра.
Конечно, с комиссией тоже было не просто. Возглавляла ее профессор Хайма ван Брюгманс, запомнившаяся мне еще с первых наших дискуссий: мятое, тяжеловесное, будто из теста вылепленное лицо, над ним — нелепые, как у девочки, светлые, тугие кудряшки. Ничего женского — полнотелое воплощение чиновничества, упакованное в синий брючный костюм. Она сразу же предъявила мне ряд претензий, прозвучавших как настоящие обвинения. Почему, имея работающий сотовый телефон, вы не сделали ни фотографий внутренних помещений Купола, ни фотографий арконской аппаратуры, ни видеозаписей разговоров с Виллемом? Почему вы не зафиксировали карты звездного неба той части Вселенной, откуда пришли арконцы? Неужели вы не понимаете, какая это ценная информация? Почему вы не взяли проб воздуха из атмосферы под Куполом и каких-либо образцов арконских материалов, в частности пищевых, с которыми соприкасались? Это помогло бы нам разрешить ряд спорных вопросов. Почему вы уверены, что арконцы не модифицировали ваше сознание? Почему в беседах с представителем арконской цивилизации вы не затронули таких-то и таких-то проблем?..
Под ее бронепрожигающим взглядом я чувствовал себя, как грешник на раскаленной сковороде. Она заставила меня подробно нарисовать и саркофаг, и гостиную, детально изобразить каждый предмет, который я там наблюдал, сделать схему звездного арконского неба, набросать такой же подробный портрет робота Си-Три и т. д. и т. п. Не представляю, какую информацию можно было отсюда извлечь, художник из меня был еще тот. А что касается наших бесед с Виллемом, то каждый такой разговор мне пришлось, напрягая извилины, пересказывать по несколько раз. Далее варианты сопоставлялись, корректировались, дополнялись, снабжались пространными примечаниями, которые, в свою очередь, тоже требовалось корректировать и дополнять. Масса документов вспухала с эпидемической быстротой. Думаю, что к концу нашего «собеседования» она приняла совершенно неудобочитаемый вид.
Камнем преткновения, разумеется, стал вопрос о моей человеческой аутентичности. Являюсь ли я той же личностью, что и месяц назад, или во мне есть нечто такое, о чем я сам даже не подозреваю? Как без обиняков выразилась мадам ван Брюгманс, не заложена ли во мне программа, которая может угрожать всему человечеству?
Говоря проще, зомбировали меня или нет?
Мадам ван Брюгманс настаивала, что как гражданин планеты Земля, как человек, принадлежащий к суверенному виду хомо сапиенс, я просто обязан развеять все сомнения по данной теме, развеять их немедленно, окончательно и, по возможности, навсегда. Короче, мне предлагалось пройти обследование на полиграфе, на «детекторе лжи» самой последней модели (такой полиграф готово было предоставить в наше распоряжение правительство США), а после того — беседу с применением специальных фармакологических средств, которые по-простому, в народе, именуются «таблетками правды». Я, разумеется, категорически против этого возражал. И дело здесь заключалось не только в том, что я пока придерживал информацию о надвигающейся катастрофе, но и в том еще, что мне была отвратительна сама мысль, что меня выпотрошат как цыпленка. В жизненной изнанке любого человека неизбежно накапливается грязь, и я вовсе не хотел предъявлять ее на всеобщее обозрение.
Спасал меня, как ни странно, сам бюрократический механизм «собеседования». Бюрократией, этим социальным феноменом, я заинтересовался еще несколько лет назад, рассматривая ее как внутреннюю формализацию власти, и уже тогда отчетливо понял, что никакие эмоции не могут на этот механизм повлиять. Кричи не кричи, возмущайся не возмущайся, хоть удавись, хоть бейся об стену башкой, ему все равно, шестеренки его так и будут равнодушно отщелкивать один зубец за другим. Сила бюрократии в безликой механистичности, с которой она расчленяет мир, превращая его в набор схоластических правил, значит, и отвечать ей следует такими же механистическими, формальными средствами. Проскочить между шестеренками можно, только двигаясь вместе с ними, по тем же осям, обращая эту механистичность против нее же самой. И потому никакого гнева или раздражения я на «собеседованиях» не выказывал, ничего не требовал, даже голоса ни на йоту не повышал, напротив демонстрировал прямо-таки идиотическую готовность ответить честно, искренне и подробно на любой вопрос, который мне задавали, а при каждой попытке мадам ван Брюгманс серьезно надавить на меня с таким же идиотическим упорством подавал официальный протест. И Андрон Лавенков, который, естественно, тоже был членом комиссии, аналогичным скучным, казенным голосом немедленно добавлял, что он как представитель России этот протест поддерживает. Судя по всему, он такое мое поведение одобрял. В общем, мы втянулись в изматывающую позиционную битву, где ни одна из сторон не могла прорвать фронт противника. Результатом данного коловращения являлись лишь кипы бумаг, не содержащие в себе ни капли здравого смысла.
Замечу, что в этой битве у меня были определенные преимущества. За те две недели, которые я провел под Куполом, пресса сделала из меня подлинного героя: я буквально пожертвовал жизнью, чтобы спасти представителя арконской цивилизации и тем самым, как броско написал обозреватель одной из газет, «в критической ситуации отстоял честь Земли». Начался спонтанный медиатаксис. В интернет хлынуло жуткое количество моих фотографий, на многих из которых, честно скажу, я выглядел дурак дураком, одновременно забурлил водопад всяческих интервью, где про меня говорили такое, от чего я вздрагивал, краснел, бледнел и вытирал хладный пот со лба. Анжела, например, поведала репортерам, что я «всегда был человеком, для которого на первом месте стоит долг перед своей страной, что я всегда сначала думал о других, а уж потом — о себе». Или один мой школьный приятель, которого я, кстати, вспомнить так и не смог, утверждал, что еще в те давние времена (в третьем классе!.. кто помнит что-либо про свой третий класс?) — я вел себя как настоящий герой. И приводил в пример случай, когда я якобы спас котенка, которому какие-то дегенераты хотели отрезать хвост. Клянусь — полный бред!.. В общем, брызг и мыльной пены в прессе хватало. Замечу, что была от этого шума и определенная польза: журналисты и блогеры хором требовали объяснений — где я сейчас пребываю и что со мной, действительно ли выросли у меня копыта и витые рога, и почему в таком случае меня скрывают от глаз общественности? Никакие обтекаемые объяснения пресс-центра ДЕКОНа, что «проводится медицинское обследование и тщательное выяснение всех обстоятельств», их не удовлетворяли. Мадам ван Брюгманс (и тем, кто за ней стоял) не так просто было применить дисциплинарное принуждение к общепризнанному герою.
Я отчетливо помню эти тягостные августовские дни. Это медленное кафкианское сумасшествие, пропитывающее сознание. Первое время членов комиссии и меня разделяла сплошная стеклянная перегородка, общались мы через специальный коммуникатор, затем перегородку убрали, но она все равно как бы незримо осталась: вопрошающие голоса приходили ко мне словно с другой стороны бытия.
Все это было чрезвычайно скучно и утомительно. Мы начинали работу в девять утра и заканчивали ее — с двумя перерывами — около девяти вечера. Причем членам комиссии было легче, чем мне. У них послеобеденный отдых длился целых четыре часа, я же в это время проходил этап за этапом обследование у доктора Менгеле.
Вот кого действительно следовало опасаться.
Доктор Менгеле хоть и дал заключение, что инфекционной угрозы для человечества я, вероятно, не представляю, тем не менее потребовал и добился продолжения медицинских исследований.
План у него был обширный.
Подробный, тщательно разработанный план, о коем он меня тут же и известил.
— А в чем дело? — спросил я.
Мне его писклявый голос очень не нравился.
— А в том, что кровь у вас слишком нормальная. Я бы даже сказал — просто идеальная кровь, такой в принципе не бывает. У обычного человека всегда присутствуют какие-то мелкие отклонения.
Зрачки у него дико вращались, острые плечи дергались, словно подкалываемые изнутри, он даже причмокивал от возбуждения, разворачивая передо мной увлекательную программу дальнейших работ: биопсия печени, селезенки, других внутренних органов, высаживание культур клеток для системного генетического анализа, томография, обычная и панорамная, иммунологическое тестирование, которое одно займет несколько дней, пункция спинного мозга, а также целый ворох различных психометрических процедур, по которым предполагалось определить конфигурацию моего теперешнего сознания.
Мое твердое «нет» ряду исследовательских затей он воспринял как личное оскорбление. Как это так? Вместо того чтобы пожертвовать собой ради науки, то есть дать разобрать на части свой интереснейший организм, я капризничаю, цепляясь за бренное тело, которое никому особо не нужно, кроме меня самого.
Конфликты у нас вспыхивали буквально при каждой встрече.
— Почему вы отказываетесь от элементарных анализов? — кричал доктор Йонгер.
Это он о пункции спинного мозга.
— Потому, что не хочу, чтобы в меня втыкали иглу.
— А почему вы отказываетесь принимать норбутал?
— Отказываюсь, и все. Имею такое право, — с упорством умственно отсталого переростка твердил я.
Доктор Менгеле хватался за голову и стонал.
Спасало меня лишь то, что доктор Менгеле был стиснут теми же ограничениями, томположениичто и мадам ван Брюгманс. Он мог сколько угодно кричать, впадать в бешенство, бить пробирки и колбы, что он, кстати, делал не раз, топать ногами, взывать к моей совести, к долгу перед наукой, к ответственности перед Землей, перед человечеством, которое прямо-таки жаждет узреть мой спинной мозг, но ни одного анализа без моего согласия произвести не мог. Он был, как кот, почуявший валерьянку: сходит с ума, царапает когтями стены, мяучит, шипит, но не в состоянии извлечь лакомство из стеклянного пузырька.
И все же опасность здесь была очевидной. Доктор Менгеле был, пожалуй, единственным сотрудником Центра, кто был действительно убежден, что я уже не вполне человек. Во всяком случае обладаю качествами, которые человеку не свойственны, и потому в самом деле могу представлять угрозу Земле. Хорошо еще, что доказательства у него были лишь косвенные, явно недостаточные для того, чтобы продавить соответствующее решение через ДЕКОН. К тому же я был под защитой. Лавенков уже трижды, видимо специально, чтобы успокоить меня, заявлял, что Россия, неукоснительно следуя международным законам о гражданских правах, ни на какие принудительные медицинские обследования разрешения не дает.
В общем, к девяти вечера я чувствовал себя так, будто меня прокрутили через цикл стиральной машины. В голове — ни единой мысли, в теле — вялая ломота, расслаивающая движения. Возвращаясь в свой бокс, я валился на аккуратно застеленную кровать и минут пятнадцать просто лежал не в силах пошевелиться.
Даже дышал, кажется, через раз.
Конечно, особо расслабляться мне не давали. Уже в четверть десятого появлялась Сара, ночная сестра, как раз в это время заступавшая на дежурство, и начинался новый спектакль в трех частях. Она меряла мне температуру, давление, слушала сердце, проверяла реакцию глаз, выстукивала молоточком, рукоятью его чертила по коже и аккуратными строчками записывала показания в рабочий журнал. Зачем это было нужно, я совершенно не понимал, но возражать смысла не видел. И вообще: рискованно было возражать Саре. Это была могучая негритянка, на целых полголовы выше меня, где-то раза в полтора шире в плечах. Тут серьезно подумаешь, прежде чем возражать. Однако олимпийские габариты Сары имели и позитивный эффект: у нее из халата выпирала такая крепкая грудь, а сзади, особенно когда она наклонялась — такие мощные ягодицы, что я, несмотря на полную свою обессиленность, вновь начинал чувствовать себя человеком. Разумеется, ничего такого в наших отношениях не было. Обращаясь ко мне, Сара обязательно добавляла «сэр», но в этой подчеркнутой вежливости проскальзывала и нотка презрения. Наверное, из-за худосочности моего телосложения, которое с комплекцией Сары даже сравнить было нельзя. Я парировал ее показным смирением, отвечая: «Слушаюсь, мэм! Будет исполнено, мэм!» Сара, как и положено квалифицированной медсестре, мою иронию полностью игнорировала.
Далее я до утра был предоставлен самому себе. Впрочем, две видеокамеры, закрепленные по углам, напоминали, что мое одиночество весьма относительно. Сна, как назло, в эти дни у меня практически не было — было некое скарлатинозное забытье, в котором невозможно было отличить морок от яви. Склонялось ко мне костистое лицо доктора Менгеле, в руках он держал полуметровый стеклянный шприц с явным намерением вонзить его в мою грудь. Я его отталкивал и кричал: «Отстаньте, доктор! Я не могу ни читать ваши мысли, ни управлять вашим сознанием, ни передвигать взглядом предметы, ни телепортироваться отсюда!» Крик мой, как теннисный шарик отскакивал от стен бокса. «Кто знает, кто знает, дорогой Ватсон», — отвечал доктор Менгеле и, передергивая щеками, страшновато подмигивал: «А вот мы сейчас это проверим». Игла шприца неотвратимо и больно входила мне в сердце… Или я вдруг оказывался на крыльце незнакомого дома. Сам дом виден не был, но я знал, что он дышит свежеоструганным древесным брусом у меня за спиной. Прохладой отсвечивает на земле тень от него. А со ступенек крыльца открывается прямо-таки волшебный, изысканно пасторальный пейзаж: шелковистый, громадный луг, полого спускающийся к реке, рябью мелкой огранки посверкивает в ней вода из синего хрусталя, плывут в небе ватные облака, а на другом берегу, будто сказочный град, сияет золотистая роща — кажется, что над ней стоит нимб теплого света. Но главное, что в этом сладком, очаровательном мороке была Дафна, вне поля зрения, но я все равно каким-то образом ощущал ее близость.
К тому времени я уже знал, что Дафна ушла на Терру. Она сделала это, пока я лежал в беспамятстве под стеклянным куполом саркофага. На экстрасенсорном канале ее царила мертвая тишина. А вслед за Дафной, как оказалось, ушла почти четверть наших экспертов. Они уходили и утром, и днем, и вечером, и среди ночи, и группами, и поодиночке, как бы соскальзывая в небытие, исчезая в звездных далях Галактики. Ушла Ай Динь, я больше никогда не услышу ее музыкального голоса, ушел Пламик Дончев, видимо прямо в своей дурацкой, пестрой рубашке, ушли Олле Крамер и Джионо Фраскатти, ушла даже Марина Тэн, кто теперь будет вещать для нас на девяти языках? Неожиданно ушли несколько полицейских, ушло десятка полтора человек обслуживающего персонала, ушло целое подразделение немцев из международного контингента: вокруг Павильона уже выстроили блокпост, но немцы продавились через него, угрожая оружием.
Аналогичная картина наблюдалась сейчас и по всей Земле. Сотни тысяч, миллионы людей срывались с насиженных мест, бросали семьи, дома, работу, друзей, и на машинах, велосипедах, а то и пешком, будто лемминги к пропасти, двигались к расположению Станций. Ничто не могло их остановить: ни угрозы властей, ни кордоны полиции, ни срочно выставленные воинские оцепления. Даже в законопослушной Европе, вспыхивали яростные столкновения граждан с частями внутренних войск. А многие страны Азии и Африки, судя по новостям, вообще охвачены были какой-то макабрической жутью. Телевидение показывало бесчисленные тела, лежащие вдоль дорог, и сидящих на них, как в апофеозе войны, торжествующих, мерзко-облезлых грифов. Далеко не у всех тронувшихся в путь были визы, но «отказники» тем не менее требовали, чтобы их тоже взяли на Терру, они образовывали громадные стихийные лагеря, и у многих национальных правительств, помимо прочих проблем, теперь болела голова еще об одной: как упорядочить человеческий муравейник, который начинался уже за несколько километров от мест расположения Станций.
Честно говоря, я не знал, что мне делать. Было совершенно понятно, что в такой ситуации нельзя даже заикаться о будущей катастрофе. Если пробежит хотя бы догадка об истинных планах арконцев, то та бесноватая пена, которая пока просто переваливается через край, мгновенно поднимется, хлынет и зальет кипятком все вокруг. Собственно о том же предупреждал и Виллем: если обнародовать негативный прогноз, то вероятность глобального потрясения возрастет не менее чем на десять процентов. Прогноз станет самосбывающимся. Обвал будет не остановить. Я вовсе не хотел быть тем камешком, который сдвинет лавину с горы.
Больше всего меня пугало мое собственное состояние. Мир погибал, крошился, растрескивался, рушился на глазах, он целыми живыми кусками сползал в огненный ад, скоро от него не останется ничего, кроме дыма и пепла, а я по-прежнему, как будто у меня заморожены сердце и мозг, спокойно завтракаю, хожу на тягостные, бессмысленные «собеседования» в комиссию, воюю с мадам ван Брюгманс, поддевая ее гендерными комплиментами, сражаюсь с доктором Менгеле, иронизирую над непрошибаемой медсестрой. Вообще — размеренно и тихо живу. Такое ощущение, что мне все равно. Или катастрофа слишком масштабная и потому не укладывается в сознание? Или человечество, включая меня самого, уже не имеет в моих глазах никакой цены?
В таких настроениях протекли у меня восемь дней. Они слиплись в ужасный ком, внутри которого ничего было не разобрать. Проступали лишь какие-то мелочи: нападение на конвой, везший воду, из-за чего ее выдача была существенно ограничена, отказ половины кондиционеров, не выдержавших пыльной бури (хорошо еще, что при этом не пострадал медблок), гипотеза, неожиданно высказанная мадам ван Брюгманс, что Юсеф «взял под контроль», то есть загипнотизировал, нескольких человек, в том числе и меня (что, в свою очередь, было следствием «инцидента первого дня»), и последнее время управлял нами как кукловод.
Все это смешивалось и путалось.
Все это искажалось, сминалось, заливало сознание стеариновой немотой.
Я постепенно терял сам себя.
И только в ночь на девятый день я, словно подброшенный, вдруг распахнул глаза и ощутил вокруг настороженную, непривычную тишину.
Что-то произошло.
В бокс просачивалось звериное, отдаленное завывание за окном.
Надрывалась сирена.
Я повернул голову.
Часы показывали половину третьего.
А когда я щелкнул выключателем лампочки, она — против ожидания — не зажглась…
Как ни странно, первый Арконский миграционный пункт был взят в блокаду в Берлине, на южной его окраине, в самом центре Европы, где, как казалось многим, давно утвердились закон и порядок. Ранним утром, в день отправления очередной группы мигрантов, по счету двадцать первой или двадцать второй, сведения о чем каким-то образом всплыли в сети, многотысячная толпа окружила невзрачное строение из желтого кирпича примерно в километре от Трептов-парка, и преградила путь тем, кто собирался переселиться на Терру. Собственно, будущие терранцы, увидев сгрудившуюся толпу, появиться возле пункта и не рискнули. Полиция тоже ничего не могла сделать. Люди просто стояли, не проявляя особой агрессии. Попытки полицейских оттеснить их, чтобы образовался проход, привели к пассивному, но очень упорному сопротивлению. Толпа тут же перетекла к образовавшемуся коридору, вновь превратив его в непроходимый тупик. Телевидение крупным планом показывало плакаты: «Я тоже хочу на Терру!», «Арконцы, возьмите меня!», «Либо — все, либо — никто!». Протест был чисто стихийным. Организаторов его выявить не удалось. Скорей всего, их просто не существовало. Настроение собравшихся было, в общем, спокойное. «Это и настораживало, — сказал в интервью один из полицейских чинов. — Если бы вспыхнули беспорядки, мы бы знали, что делать. А вот когда тысячи людей стоят и молчат, в этом есть что-то пугающее». Правда, когда на крышу здания приземлился арконский «пузырь» и серые стенки его растаяли, обнажив ряды кресел в гондоле, вмещавшей примерно сто человек, над толпой вздулся тяжелый крик и сила его была такова, что полиция не решилась предпринять какие-либо активные действия. Тем более что некоторые полицейские, опрошенные анонимно, признались: они сочувствуют протестующим. «Берлинер цайтунг» по этому поводу написала: «Разрешение на эмиграцию должно быть предоставлено всем. Кто дал арконцам право судить? Кто дал им право решать, что один человек лучше другого?», на что популярный молодежный сайт «Наша борьба», уже дважды получавший от министерства юстиции предупреждения за экстремизм, ответил: «Не лучше, заметьте, не лучше, а просто больше подходит для Терры. Новую цивилизацию следует создавать из новых людей, которые не обременены мещанскими предрассудками прошлого».
Медийный резонанс этой акции был колоссальный. Весь мировой интернет вспучился лавой раскаленных эмоций. Немедленно по той же модели начались блокады миграционных пунктов во Франции, Англии, Люксембурге, других европейских странах. Сборка протестов происходила спонтанно, люди стекались из соседних районов, будто притягиваемые магнитом. А когда в Нетре, недалеко от Парижа, полиция заранее выставила оцепление, надеясь взять ситуацию под контроль, то заблокированы были все дороги, ведущие к этому населенному пункту, тысячами машин, поставленными вплотную друг к другу. В Пакистане же, где правительство плохо контролировало даже столицу, аналогичный миграционный пункт был просто разгромлен и подожжен. То же самое произошло в Афганистане, Туркменистане, Йемене, Бразилии, Венесуэле… Хуже всего дела обстояли в Африке, где из одиннадцати арконских Станций девять тут же оказались под колпаком местных банд или правительственных частей (различия между которыми не всегда удавалось определить): проход за оцепление, с визами или нет, разрешался лишь за солидные деньги. Африканский союз, объединяющий пятьдесят пять стран, обратился в связи с этим в СБ ООН, умоляя его вести в данные регионы миротворческие войска, чтобы прекратить произвол, но Совету Безопасности, как всегда, было ни до чего; он в это время обсуждал столкновения в Косово и Македонии.
Первый «пузырь» был сбит также в Центральной Европе, недалеко от Ренна (Франция, департамент Иль и Вилен). На видеосъемке, произведенной боевиками группы «Земляне», которая взяла на себя ответственность за данный теракт, было отчетливо видно, как пенистой струей рассекает небо ракета, выпущенная из стингера, как вспыхивает на дымчатой оболочке арконской гондолы венчик разрыва, как обломки, переворачиваясь в воздухе, валятся вниз, и как потом всплывают на белом фоне черные строки: «Тот, кто предал Землю, умрет!» Гондола, к счастью, была пустая. Она шла как раз, чтобы забрать группу мигрантов. Однако за неделю в разных местах Земли были сбиты еще три гондолы, тихоходные, маломаневренные, прекрасная цель для ракет, и в катастрофе с одной из них погибли около ста человек. Видимо, поставить на гондолах защитное поле было нельзя, и арконцы через какое-то время от них отказались.
Одновременно масштабная трагедия разразилась в Неваде. Арконская станция выросла там посередине пустыни, откуда до ближайших населенных пунктов было километров сто двадцать — сто пятьдесят. После объявления о миграции туда двинулось, по самым скромным подсчетам, около трехсот тысяч машин, уже к вечеру все шоссе и грунтовые дороги, ведущие в том направлении, встали в автомобильном параличе. Выбраться из этой каши было нельзя, скудные запасы воды мгновенно закончились, утром следующего дня тысячи людей, как сомнамбулы, брели по песку, под безжалостным солнцем, падали в обморок, так и оставались лежать. Начались столкновения. За глоток воды вспыхивали драки со смертоубийством. Видео с телефонов, выложенные в сети, повергали зрителей в шок. Президент США Рональд Гамб объявил Неваду зоной национального бедствия. Сотни вертолетов, срочно мобилизованных ВВС США, эвакуировали пострадавших, развернуты были медпункты и временные лагеря, и все равно количество жертв исчислялось четырехзначными цифрами.
ДЕКОН категорически отказался заниматься аспектами «звездной миграции». «Наше дело — Контакт, для всего остального у нас нет ни обученного персонала, ни денег, ни технических средств», — заявил на внеочередной «специальной» сессии его новый руководитель Роман Гардье. «И вообще это проблема не столько организационная, сколько политическая», — добавил он. Но кто будет решать эти вопросы, оставалось неясным. Группа стран — непостоянных членов СБ ООН — внесла проект резолюции, запрещающей переселение с Земли вообще. Мотивировалось это тем, что в числе лиц, получивших визу на Терру, слишком много людей достаточно молодых (в возрасте до сорока — сорока пяти лет), включенных в сферу научной и производственной деятельности. Будут изъяты самые лучшие, утверждалось в проекте, будут изъяты те, от кого в значительной мере зависит технологический и интеллектуальный прогресс, пусть количество их по сравнению со всем человечеством невелико, но это творческий драйвер, катализатор, закваска в тесте, без них человечество начнет деградировать. Резолюция не прошла, заблокированная голосами стран — постоянных членов СБ ООН, но и взамен ничего предложено не было. Общая дискуссия на сессии Генеральной Ассамблеи ООН тоже никаких конкретных решений выработать не сумела. Ситуация прочно зависла. Комитеты работали, эксперты давали рекомендации, принимались громкие резолюции, вспыхивали конфликты, массой произведенных бумаг, вероятно, можно было бы загрузить небольшой железнодорожный состав… Результат данной деятельности был нулевой. Никогда еще Организация Объединенных Наций не демонстрировала так явно свою деятельностную анемию. И все это — под непрерывные вопли прессы, под скороговорку политических комментаторов, под хронику телеканалов, показывающих толпы людей, бредущих, как выразился один журналист, «в надежде вырваться из того ада, в который они превратили собственный мир».
В конце концов под давлением Китая, Индии и России, которых немедленно поддержали Турция и Иран, было принято постановление, где говорилось, что каждое государство должно самостоятельно обеспечивать эмиграцию своих граждан. Общего принципа здесь нет и не может быть. То есть проблема была спущена на уровень национальных правительств. Фактически Организация Объединенных Наций признала себя бессильной, и уже не в первый раз всплывал из кулуаров вопрос: а зачем она нужна вообще? Так или иначе, но остановить стихийный процесс было нельзя. Выкручивались кто как мог. В зависимости от страны принимались и соответствующие меры. Наиболее эффективным оказался метод, спонтанно возникший в ЕС: большие конвои, где десятки армейских фургонов с мигрантами двигались под охраной полиции или военных. Все же и тут возникали неожиданные инциденты, например, когда «Церковь Божьей Звезды» — одна из множества сект, образовавшихся в эти дни, — застопорила испанский конвой, выведя на шоссе более двадцати тысяч «избранных», одетых в белые балахоны и несущих приваренные к металлическим жезлам остро заточенные звездочки-сюрикены. Неизвестно, что спровоцировало насилие — то ли случайный выстрел (так утверждали общественные организации), то ли удар сюрикеном, от которого один из полицейских упал (официальная версия), но оцепление было мгновенно смято, фургоны заполыхали, а «избранные», которым, по утверждению следствия, добавляли в питье наркотики, начали безжалостно и исступленно рубить всех подряд. В кровавой бойне пострадали более восьмидесяти человек. «Церковь Божьей Звезды» была тут же объявлена тоталитарной сектой и специальным законом запрещена, что, надо заметить, нисколько не помешало ей и дальше спокойно существовать, тем более что Священный Гокун ее (патриарх, между прочим, по национальности иракский курд), взойдя на зиккурат, только что возведенный в Бремене, провозгласил, что каждый погибший за веру немедленно воплотится на Терре, где всех «избранных» ждет вечный рай. Прямая трансляция в интернете этого действа увеличила число сторонников ЦБЗ почти в восемь раз. Неудивительно, что запреты остались лишь на бумаге: приближались выборы, правительство Испании старалось не потерять голоса.
А вскоре аналогичный инцидент произошел в Роттердаме, где уже «Церковь Воинствующего Христа» объявила набор солдат для «последней из галактических битв». «Благо Христово, — проповедовал ее предстоятель, — должно быть утверждено во Вселенной огнем и мечом. Ибо меч в этот мир принес сам Божий Сын». Интересно, что под Роттердамом использовались уже не сюрикены и заточенные пруты, а автоматы, винтовки и даже армейские гранатометы. Сражение на окраинах города, где на стороне «Церкви» выступали в основном национальные меньшинства, продолжалось более суток и привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Сильное впечатление на пользователей сетей произвел подрыв Центра международных расчетов, светло-коричневой девяностометровой башни, спиралью вздымающейся над рекой. Данная акция, видимо, была спланирована заранее: ролики, зафиксировавшие ее, отличались высоким профессионализмом. На них было отчетливо видно, как синхронно выросли грибы дыма у подножия башни, как заколебалось все тело ее, расслаиваясь на неровные каменные сегменты, и, наконец, как они один за другим легли в реку, подняв волны, выплеснувшиеся на набережную. Хорошо еще, что многочисленные офисы башни были пусты: воскресенье, «день, заповеданный Господом нашим для битв», — как возвестил в своем обращении глава ЦВХ.
Еще более сильное впечатление производили репортажи из Центральной Африки. Вот где действительно овеществилась метафора о «переселении народов». Вновь вспыхнуло пламя Великой африканской войны, раскаленные угли которой тлели даже после официального ее завершения. Армии Уганды, Руанды, Бурунди снова вторглись на территорию Демократической Республики Конго, где к власти в результате военного переворота только что пришел президент Йоно Либагго Меме (по гражданской профессии — ветеринар). Одновременно с этим заполыхал мятеж в Верхней Катанге, откуда «Армия джунглей» генерала Дуду, объединившего местные племена, почти не встречая сопротивления, двинулась на Киншасу. Помощь новому президенту оказали Ангола, Чад и Намибия. Северная Корея, напротив, прислала оружие и военных специалистов формированиям оппозиции. Сразу несколько фронтов рассекли кровоточащий континент. В сражениях использовались артиллерия, танки и авиация. Мгновенно разразилась эпидемия малярии, сопровождаемая какой-то ранее неизвестной «бронхиальной чумой». Смертность от нее, по предварительным данным, достигала девяноста процентов. Из зараженных районов бежали толпы людей, выкашливающих белую пену. Всемирная организация здравоохранения изо всех сил била в набат. Дело тут было даже не в борьбе за ресурсы и геополитическое влияние: с поразительной быстротой, преодолевая языковые и племенные барьеры, чуть ли не по всей Африке распространился слух, что наконец снизошел к людям Милостивый дух Мнаганга, который распахнул врата в небесные пажити. Царят в них вечные покой, счастье и изобилие. Храмы его (купола Станций) открыты ныне для всех. Сонмы людей тронулись с места. Дороги, там, где они имелись, превратились в человеческие потоки, текущие неизвестно куда. Редкие кадры, доставляемые оттуда корреспондентами, тут же получали престижные премии на различных фотобиеннале в Европе: матери, несущие детей на руках, старики, волочащие на привязи коз и свиней, равнодушные лица тех, кто уже не в состоянии был идти и просто сидел на обочине в ожидании неминуемой смерти.
Многими ощущалось, что пока это только прелюдия. Увертюра перед началом неизбежной вселенской трагедии. Настоящий апокалипсис еще впереди, он лишь брезжит на горизонте зловещей, инфернальной стеной. Реакция политиков на него была чисто инстинктивной. Парламентские словопрения, составлявшие ранее гордость Европы, были мгновенно прекращены. Так же мгновенно были отброшены все иллюзии насчет гражданских прав и свобод. Правительствами большинства западных стран был в аварийном порядке принят — по рекомендации одного из комитетов ООН — так называемый «пакет мер по обеспечению общественной безопасности»: полиция и военные части, которым придали полицейские функции, получили право стрелять «в случае угрозы массовых беспорядков», и хотя первые же попытки применить эти законы на практике вызвали возмущение многих правозащитных организаций, стремление к безопасности быстро возобладало над миражами европейского гуманизма: конвои к арконским Станциям начали проходить без особых задержек, лагеря мигрантов (гнойные очаги криминала) были частично блокированы, частично расселены, а количество экстремистских групп, по крайней мере в Европе, заметно снизилось, поскольку лидеры их в большинстве были помещены под превентивный арест. Эмоции несколько поутихли. Началась естественная психологическая адаптация к новой среде: раздражающий фактор стал восприниматься просто как данность и уже особых протестов не вызывал. Жесткие меры правительств дали соответствующий результат. И возможно, прав был один из аналитиков крупнейшего центра по прогнозированию «АК Старлаб», который, проработав головокружительный массив документов, опубликованных, кстати, сразу десятью сайтами «Викиликс», пришел к выводу, что главы великих держав, а также ряда влиятельных региональных стран, видимо негласно, договорились между собой всячески способствовать миграции своих граждан на Терру: пусть этот процесс, ограниченный, как выяснилось, во времени, поскорей завершится, пусть арконцы уйдут, пусть они сгинут (желательно навсегда), тогда, быть может, удастся постепенно успокоить людей.
Мировому сообществу было из-за чего тревожиться. Причем главной угрозой, которую по обыкновению затмевал популистский надрыв, считались в соответствующих кругах вовсе не стихийная миграция и дикие лагеря, стремительно разрастающиеся возле арконских Станций, а эскапизм (движение дауншифтеров) и медленное, но неуклонное ослабление основных мировых валют. Последнее вводило экономистов в настоящий ступор. За шесть месяцев, прошедших с начала Контакта, доллар по отношению к золоту обесценился почти на двадцать процентов. Не помогали никакие внутренние закупки, которые в громадных объемах производила Федеральная резервная система Соединенных Штатов. Еще быстрее снижалась стоимость евро: фантики ярких дензнаков превращались теперь в память о прежнем благополучии. Срочно созванный Экономический форум в Давосе призвал все правительства мира регулировать курсы своих национальных валют любым доступным путем. То, что раньше считалось ересью — администрирование и тарифы, — ныне превратилось в единственный путь спасения. Глобальный рынок начал стремительно сегментироваться: страны огораживались таможенными барьерами и переходили на взаимные бартерные расчеты. Настоящую панику на мировых биржах вызвало неосторожное высказывание главы той же Федеральной резервной системы (фактически — четвертой власти Америки, наравне с президентом, Конгрессом и Верховным судом) о том, что западная экономика в тупике. «Последние десятилетия мы занимались не столько производством товаров, сколько производством денег и ценных бумаг, и теперь расплачиваемся за последствия этой грандиозной ошибки»… Основные биржевые индексы тут же рухнули, зато до небес взлетели курсы основных криптовалют. Биржи останавливали торги одна за другой. В наиболее выгодном положении оказались страны, могущие предложить сугубо материальный актив: зерно, нефть, металл, то есть обеспечивать базовые потребности производства, а значит, и хозяйственную жизнь вообще.
Впрочем, внутренние страдания экономики мало кто понимал. Внимание прессы, а следовательно, и основной массы людей было сосредоточено на внешних факторах. И потому новостью номер один, захлестнувшей каналы мировых информационных агентств, стало в эти последние дни августа неожиданное известие о том, что «Исламская народная армия» (напомним — это бывшие «бригады Аль-Хазгар») внезапным ударом прорвала линию обороны Международных вооруженных сил в окрестностях Напалеба, продвинулась на пятьдесят, местами на шестьдесят километров, и что бои идут уже за Центр по Контакту, в самой непосредственной близости от арконского Купола.
Ночью громят обсерваторию. Телефонный звонок выдирает Ефима из вязкого забытья, куда он провалился часа три или четыре назад. Суховатый голос Бекасова сообщает, что в здании был небольшой пожар, уже потушен, пострадали двое — Карл Осипович Мильштейн, он в эту ночь оставался дежурным, и аспирант Громельчук. Обоих везут в больницу. Сейчас все в порядке, ты можешь не приезжать.
— Я приеду, — отвечает Ефим.
Он лупит ладонью по выключателю и в первую секунду, как обычно, не может понять, где находится: серые казенные стены, шкаф с папками, большой письменный стол с лампой под абажуром, над ним — глянцевый, магазинный портрет президента. Ну да — кабинет Бекасова. А где еще прикажете жить? Гостиница забита под крышу, спят даже в холле ресепшена — на тощих больничных матрасах, в спальных мешках. То же самое — школы, откуда метров на сто распространяется кухонный чад. Здесь же — относительная тишина, диван, кожаный, довольно удобный, за небольшой выгородкой — раковина, душ, туалет. Хорошо еще, что Алена и мураши у родителей в Курске.
Кстати, сегодня надо бы им позвонить.
Время на настенных часах — без четверти шесть.
— Я — счастливый человек, — хрипло говорит он, плеща в лицо холодной водой и видя в зеркале перед собой нечто бледное, воспаленное от бессонницы.
Все последние дни он пытается убедить себя в этом. Он ведь и в самом деле получил то, что хотел. Он мечтал услышать голос далеких звезд, и он услышал его. Он жаждал увидеть пришельцев из глубокого космоса, и вот — они на Земле. Он надеялся, что человек когда-нибудь вновь двинется во Вселенную, и вот, пожалуйста, виза на Терру в кармане, можно лететь. А если все получилось не так, как он грезил в своих зыбких снах наяву (и, кстати, заметим, грезил не только он), то это уже оборотная сторона медали. Боги наказывают людей, исполняя самые страстные их желания. Кошмарный итог: дым над всей планетой, дым над всей страной, дым над разворошенным Бельском. Кара, обрушившаяся с небес. Правда, в данном случае нас наказывают не боги. В данном случае мы сами наказываем себя.
За окнами, как всемирный потоп, стоит октябрьская темнота. Фонарей почти нет, с трудом угадываются очертания улиц. В них колеблются какие-то тени, и кажется, что это слипшаяся масса людей, пытающаяся выплыть к Ковчегу из апокалипсического наводнения. Они протягивают к нему руки, они, как водоросли, колышатся, пятнами расплываясь в глазах, они беззвучно кричат: спаси нас, спаси!.. Но как их спасти? Ковчег и так переполнен чудовищным тварным грузом. И что может сделать мэр провинциального городка, почти неразличимого на оцепенелых российских равнинах? Бельск — один из тысячи городов в России. Россия — одна из двухсот стран мира, пускай и самая большая по территории на Земле. Земля — одна из восьми планет Солнечной системы (было девять, но Плутон недавно перевели в более низкий ранг). Солнечная система входит в Галактику Млечный Путь, где содержится около четырехсот миллиардов звезд. Млечный Путь вместе с тридцатью тысячами других галактик входит в сверхскопление Девы. А оно вместе с другими галактическими сверхскоплениями образует Великую Ланиакею. Лучу света, чтобы пересечь эту империю звезд, требуется свыше пятисот миллионов лет: пропасть вечности, которая поглощает собою все. Вымирают на Земле гигантские ящеры, выползают из нор первые неуклюжие млекопитающие, из покрытой шерстью, длиннорукой, пугливой праобезьяны появляется человек, идут войны, воздвигаются пирамиды, зарождаются и гибнут цивилизации, имени которых уже не помнит никто, наступает эпоха машин, затем — эра широкополосного интернета, тысячи телескопов стеклом темных глаз начинают взирать на звезды, а тонкий свет все летит и летит к той границе, за которой в бесконечной анфиладе Вселенной распахиваются бездны новых и новых пространств.
Что может здесь сделать мэр Бельска?
Провести еще одно совещание?
Лучше не думать об этом…
Через двадцать минут Ефим уже на территории комплекса. Навстречу ему попадается «скорая», мигающая синей тревогой проблескового маячка. Неужели кто-то все же погиб? Бекасов об этом не говорил. Хотя возле самой обсерватории особой паники нет. Дымом, конечно, попахивает, но внешне здание выглядит как обычно: купол, два коротких одноэтажных крыла. И народу, в общем, немного: пожарные, сворачивающие брезентовые рукава, группа телевизионщиков, с помощью экрана, затянутого белой материей, налаживающая свет, двое полицейских с калашниковыми и в шаге от них — Бекасов, который кричит в сотовый телефон:
— Какого черта?.. Какой, к ядрене-фене, конвой?.. Они с ума там сошли?.. Не знают, что тут, у нас, происходит?.. Почему не пустили в обход?.. — Он засовывает телефон в карман и сообщает Ефиму: — Опять двадцать пять! Перекрыли дорогу в Заборинск, так эти хреновы куклы не придумали ничего лучше, как пустить конвой через Бельск!..
— Какой конвой? — тупо спрашивает Ефим.
Он еще не отошел от встречи со «скорой».
— Какой-какой? Вот такой!.. Четыре автобуса, человек двести мигрантов — все через нас!.. Через полчаса подойдет… Представляешь, какая тут образуется кутерьма?..
— С ума сошли!
— А я что говорю?..
Он безнадежно машет рукой, а потом добавляет, что у Мильштейна, кажется, сломан нос, а у Громельчука, врач сказал, два ребра. Нападавших было человек пять или шесть… Ногами, палками били… Ну — я этих чучмеков найду!.. Обсерватория вроде пострадала не сильно. В «башне», как вы это называете, ну где телескопы стоят, был пожар, плеснули бензином… Остальное — просто разгром…
— А что Карл Осипович здесь ночью делал?
— За дежурного, я ж тебе говорил… Гуманист хренов, отправил всех сотрудников отдыхать. В последние дни все вроде притихло…
— Притихло… Н-да…
Незаметно приблизившаяся журналистка трогает его за рукав:
— Ефим Петрович… Интервью… Буквально на пять минут…
Ефим отмахивается:
— Не сейчас!..
Они обходят обсерваторию. Внутри дымом пахнет заметно сильней, чем на улице. Сам воздух здесь плотный и душный, стиснутый парами воды. Шибает в нос от мокрой бумаги, от волокнистых плашек паркета в промоинах мелких луж, от чего-то еще, напоминающего о жженой резине. Поперек коридора лежат опрокинутые шкафы. Правда, масштабы погрома меньше, чем Ефим ожидал. Серьезно пострадала лишь «башня», где все четыре компьютера сброшены на пол, мониторы раздавлены, вырваны провода, от горелых столов вздымаются языки сажи вдоль стен. Да и то — винчестеры, скорее всего, удастся спасти. А вот копоть на механизме рефлектора — это, конечно, да… И особенно — вмятины и царапины, как будто по тубусу били железной кувалдой.
Что там осталось от оптики?
— Мы сделаны из пепла сгоревших звезд, — бормочет он.
— Что? — переспрашивает Бекасов.
— Это я так… Мысли вслух… — И отвечая на его вопросительный взгляд, Ефим поясняет: — Надо разбирать телескоп, смотреть, что там внутри…
— Ну теперь-то будет полегче, — замечает Бекасов. — Как только арконцы отчалят… Конечно, нам тут еще разгребать и разгребать, но это уже ничего, как-нибудь справимся…
Ефим останавливается, будто ударяясь о столб.
— Кто отчалит?
— Вы что, Ефим Петрович, не слышали? — От удивления Бекасов даже переходит на вы. — Арконцы приняли ультиматум этих… из Сомали. Было официальное сообщение. Через семьдесят два часа они, значит, тю-тю. Собственно, уже — через шестьдесят восемь часов… Теперь нам только бы сплавить этот конвой…
— Я — спал… — глухо отвечает Ефим.
Он поворачивается и выходит на улицу. После мокрой духоты помещения воздух снаружи холоден, сладок и свеж, как ключевая вода. От него слегка кружится голова. Тут же вспыхивает яркий, неестественный свет, и чей-то голос из его ослепительного нутра командует:
— Чуть-чуть левее!
Ефима аккуратно передвигают, и та самая журналистка подносит к его лицу микрофон:
— Итак, представитель арконской цивилизации объявил, что через сутки их звездолет уйдет с орбиты Земли. Галактические пришельцы нас покидают. Как вы прокомментируете это событие?
Ефим пару секунд смотрит в ее ожидающие глаза, а потом неожиданно для самого себя говорит:
— Что делает человек, когда принимает гостей? Он убирает квартиру, тщательно вытирает пыль, подметает, наводит порядок, готовит угощение, по-праздничному одевается. И, встречая гостей, старается, чтобы они чувствовали себя как дома… Ведь так?
— Так, — автоматически откликается журналистка.
— А что сделали мы, когда к нам в гости пришли арконцы? Вывернули на них весь мусор, всю грязь, выворотили наружу все мерзкие, отвратительные подробности нашего человеческого бытия. Затеяли жуткую семейную склоку, скандал, который перерос в мордобой, начали прямо у них на глазах лупить кого в глаз, кого в ухо… сопровождая все это криками, нецензурной руганью… И одновременно начали клянчить у гостей подарки: вроде бы они нам должны и то, и се, и пятое, и десятое… А когда оказалось, что подарков нет, или что они не те, которых мы ожидали, просто вытолкали гостей из дома: убирайтесь, вы нам тут ни к чему, не мешайте нам жить в нашем сумасшедшем свинарнике…
— Какой ужас! — восклицает журналистка. — Ефим Петрович, вы в самом деле так думаете?
В эмоциях она слегка переигрывает, но по восторженно расширившимся зрачкам чувствуется, что — довольна. Интервью получается шокирующее, скандальное. Может быть, его даже возьмут на какой-нибудь федеральный канал.
Она говорит:
— Но ведь и гости, арконцы то есть, не принесли нам ничего, кроме несчастий. У вас, например, дом сожгли, я вам сочувствую… А сегодня ночью произошло нападение на обсерваторию… И вот только что мы получили сообщение «Инопресс»: террорист — пока неизвестно, кто — захватил группу немецких туристов на вершине Эйфелевой башни. Это в Париже, — зачем-то добавляет она. — Тоже требует, чтобы арконцы ушли…
— Не арконцы сожгли мой дом, — говорит Ефим. — И не арконцы воюют сейчас на десятках фронтов в Африке, Азии и Европе. И не арконцы, как крысы, мечутся сейчас в лагерях возле Станций, ощерив зубы и загаживая все на километры вокруг… — Он, прерывая съемку, поднимает обе ладони. — Минуточку!.. Подождите!.. Что?
В круг света ступает Бекасов:
— Ефим Петрович, конвой подошел…
— Я возвращаюсь в город… Немедленно… Вы — как, со мной?.. Отлично… Сергейко! Пригонишь машину мэра!.. — И, уводя Ефима от микрофона, говорит: — Пелец только что доложил: раздрай там полный, его людей смели в пять секунд…
— Вот черт! — спотыкаясь на ровном месте, отвечает Ефим.
Они втискиваются в полицейскую «хонду». Хлопают дверцы, свет за спиною гаснет, и сразу же бесшумным прыжком наваливается на стекла гладкая чернота. Бекасов протыкает ее световыми штырями фар.
— Ох, чувствую, вляпались мы, — вздыхает он, берясь за руль.
— Переживем, — говорит Ефим.
Слышно, как с визгливыми нотами в голосе командует журналистка:
— Сворачиваемся!.. Двигаем в Бельск!.. Артем! Константин! Ребята, быстрей, быстрей!..
Время вдруг обретает странную консистенцию. Оно то разрыхляется до пустой глухоты, словно образуются в нем провалы беспамятства, то, наоборот, резко сгущается: события сталкиваются друг с другом, как машины, закрутившиеся на обледенелом шоссе.
Уже через мгновение, во всяком случае так мнится Ефиму, они оказываются на развилке, где грунтовая дорога, ведущая к обсерватории, перетекает в асфальт. Здесь Бекасов неожиданно тормозит — они оба чуть не стукаются головами в ветровое стекло, — выскакивает из машины, размахивает в ярости кулаками:
— Мать твою так!.. Опоздали!.. Ты посмотри, где они! — выхватывает сотовый телефон, тычет в номер, прислушивается, трясет головой. — Что за черт!..
Снаружи чувствуется, что начинает светать. Пространство ночи теряет угольную глубину. Звезды меркнут, край неба над дальним лесом заволакивает белесая муть. Проступает с одной стороны дороги луг в пятнах застоявшейся темноты, с другой — ровные, уходящие вдаль, гребенчатые посадки капусты. А на самом шоссе, километрах в двух или трех, — красные габаритные огни удаляющихся автобусов.
— Ничего не понимаю, — обернувшись к Ефиму, сообщает Бекасов. — Как всегда у нас полный бардак. — Снова нажимает кнопку на телефоне. — Пелец? Ну, слава богу, хоть ты там живой!.. Пелец! Почему нет связи с конвоем?.. — Опять напряженно слушает пару секунд. — Какое, на хрен, радиомолчание? На войне мы, что ли? Опупели совсем?..
Подходят полицейские из второй машины.
Сергейко, старший видимо, предлагает:
— Давайте я их догоню, товарищ майор.
— На кой ляд они нам сдались! Мне надо знать, где остальные два катафалка… — Бекасов поворачивается. — Стой!.. А это еще что за хрень?..
Из-за холма, скрывающего часть дороги на Бельск, выползает неряшливая колонна людей. Это похоже на какую-то жутковатую демонстрацию: идут молча, тащат детей, катят за собой багаж на колесиках.
— Ё-ка-лэ-мэ-нэ… — изумленно произносит Бекасов. — А ну — все по машинам. — Вправо, вправо берем! Там — тракторная колея!..
Еще через мгновение машина начинает тяжело переваливаться по рытвинам. Что-то дребезжит у нее внутри, грозя то ли переломиться, то ли совсем отскочить. Она стукается и длинно скрежещет днищем. — Пришельцы, мать их туда!.. — еле удерживая руль, рычит Бекасов. — Братья по разуму, ё-ка-лэ-мэ-нэ!.. Откуда только свалились на нашу голову!.. А знаешь, Еф-фим П-петр-ров-вич, когда, в прошлый раз, мы задержали троих, тоже пытались ворваться в обсерваторию, они заявили, что это вы телескопами всякими приманили арконцев… Подали им, значит, отсюда тайный сигнал… Даже один местный был среди них. Колесников Анатолий, знаешь такого?..
— Нет. — Ефим, чтоб не упасть на него, буквально висит на руках.
— Кто-то, по их мнению, должен быть виноват. Ведь не бывает же так, чтобы виноват был народ. Значит — власть виновата, или астрономы, или эти арконцы, опять же мать их туда!.. Кто угодно, только не они, не народ. Народ, понятно, у нас всегда прав…
— Бред, — невнятно отвечает Ефим.
— Конечно, бред, ну так ведь верят всегда именно в бред. Построил обсерваторию, значит и виноват. Арконцы ссыпались — виноват, зачем на небо смотрел?.. Вот возьмут и прокатят тебя на выборах…
— Да ну их в болото, — отвечает Ефим. И тут же вскрикивает: — Ай!..
— Что случилось?
— Язык прикусил.
Бекасов неожиданно ухмыляется:
— Ну так не болтай лишнего, мэр, сиди и молчи!..
Они снова выворачивают на проселок. Впрочем, это не столько проселок, сколько длинная плешь вдоль полей, наезженная тракторами. Бекасов умудряется вести «хонду» так, что она не съезжает ни в правую, ни в левую колею. Наконец они переваливают гребень спуска к реке, открывается склон, упирающийся песчаными осыпями в ширь тусклой воды. Площадь на другой стороне черна от народа. А на мосту — отсюда толком не разобрать, но впечатление возникает такое, что происходит что-то невообразимое.
— Не пойму… — вглядываясь, бормочет Бекасов.
Вновь тормозит.
Точно дождавшись этого, появляется из-за леса жидкий краешек солнца. Воздух сразу светлеет, очищаясь от сумрака, и становится видно, что мост со стороны Бельска тоже заполнен толпой, она бешено напирает, сдерживает ее лишь одинарная цепь солдат, наверное, остатки Росгвардии. А дальше, перегораживая собой весь проход, стоит грузовик, мордой проломивший перила, и с этой мордой сцеплена желтая туша автобуса, почти вертикально висящая над водой.
Как-то сразу же ощущается, что еще чуть-чуть и она, сорвавшись, тяжело ухнет вниз.
На мгновение все замирает.
Доносится лишь приглушенный пространством гул множества голосов.
Оба полицейских таращатся, разинув рты.
Ефим моргает, словно пытаясь движением век стереть эту картину.
Разумеется, ничего не меняется.
— Ну ни хрена себе закидон! — наконец изрекает Бекасов…
Страх, который сразу же охватывает Ефима, какого-то неопределенно бурого цвета. Он до отвращения приторный, теплый и размягчает тело, превращая его в оплывающий пластилин. Кажется, что невозможно ни шевельнуться, ни двинуться, ни вздохнуть. Но, как ни странно, откуда-то возникают и силы, чтобы эту пластилиновую слабость преодолеть.
Бекасов смущенно кряхтит:
— Эх, надо бы мне, конечно, но я килограмм на десять тебя тяжелей. Вот — нарастил пузо…
Он хлопает себя ладонью по животу. На самом деле пузо у него вовсе не выпирает, но он действительно — крепкий, массивный, этакая литая глыба мышц и костей.
Подбегают запыхавшиеся полицейские с тросами.
— Давайте, ребята, цепляйте, ты — справа, ты — на левую сторону!.. Шевелитесь, чучмеки, времени — нет!..
Бекасов оглядывается на толпу метрах в пятнадцати от грузовика. Солдаты Росгвардии, сцепившиеся локтями, опустив головы, принимая удары на шлемы, на металлическую скорлупу, медленно пятятся под напором тысяченогого человеческого безумия.
Цепь их дрожит, и кажется, что вот-вот лопнет.
Ефим, пересиливая себя, ставит ногу на ступеньку кабины.
— Ладно, тогда я пошел…
— Ни пуха тебе!
— К чертям!..
Он неловко вскарабкивается на радиатор. Окно задней стенки автобуса уже оббито по краю, но из него все равно торчат опасные сколы. Ефим осторожно пытается нащупать сиденья. Где же они?.. Глубже, чем кажется… Вот!.. Сдерживая дыхание, он переносит тяжесть тела на них. Автобус чуть проседает, раздается невыносимый железный стон: рвутся жилы металла в сцепке с грузовиком. Внизу, в темноте салона, отчаянно вскрикивают.
— Тихо! — командует Ефим. — Кто там есть?.. Сколько вас?..
— Ой, Ефим Петрович?.. — плача и радуясь, откликается девичий голос. — Это я, Галя Поспелова… Со мной тут Настена, Вадик Хохлов… Швырнуло нас — так… У меня, кажется, нога зажата, вывихнута, не могу ступить…
Ефим пытается разобрать, что там внизу. Вроде бы сорваны два задних сиденья, и среди их горбылей — невнятное шевеление тел. Фонарик надо было бы прихватить. Эх, крепок задним умом!..
— Можешь подать мне Настену?
— Попробую…
Ефим чуть оборачивается назад:
— Эй!.. Вы там готовы?
— Готовы, готовы… — чуть ли не в самое ухо отвечает Бекасов. Он, вероятно, тоже вскарабкался на радиатор грузовика. — Нет! Подожди три секунды! Сейчас!.. — Взлетает какая-то тень, и на сколы стекла в заднем окне ложится изнанкой кверху полицейский пиджак. — Все! Начинай!..
Цепляясь одной рукой за заднюю спинку, Ефим осторожно, по сантиметру приспускается вниз, нащупывает подошвами сиденья посередине салона, спинки гнутся, но держат, хотя он чувствует, что это — предел.
— Галочка… Давай, осторожно…
— Ефим Петрович!.. Сейчас…
Становится чуть светлее или просто привыкают глаза, но начинают различаться нагромождения у кабины водителя. Крупная фигура — это Галя Поспелова. Вот она поворачивается, вскрикивает, наверное, от боли в ноге, наклоняется, говорит голосом воспитательницы в детском саду:
— А кто это плачет у нас?.. Не надо плакать, ты ведь большая уже. Видишь, Ефим Петрович пришел… Сейчас нас отсюда вытащат… Ну, давай вместе… поможешь мне… Вот так. Правильно, Настена… Правильно… Молодец!..
Она разгибается, подавая девочку вверх, снова вскрикивает, пошатывается, ее ведет вбок, но Ефим успевает подхватить Настену под мышки. Та больше не плачет, приникает к нему, и быстро-быстро, надсадно дышит, как мышь, пойманная в капкан.
— Ничего, ничего… — шепчет Ефим. Кое-как подтягивается, просит ее: — Подними руки вверх… Настена, слышишь меня? Пожалуйста, вытяни ручки. Дядя тебя возьмет…
Продолжая все так же мелко, часто дышать, Настена поднимает ладони, и их тут же клешнями обхватывают крепкие пальцы Бекасова.
— Осторожно!.. Тащу!.. — Настена, как сдернутая, исчезает в проеме окна. — Принимай, Сергейко, держи!.. Назад ее, сразу — назад!..
— Все в порядке, Ефим Петрович… Следующего давай…
Автобус чуть вздрагивает и вроде бы слегка проседает. Вновь где-то над головой раздается надрывный, железный стон. И тут же — взрыв голосов: «Цепляй его, Сергейко, цепляй!..» — «Да я цепляю, товарищ майор, оно не цепляется!..» — «А ты цепляй, крепче цепляй, едрить твою так!.. Другаль! Слышишь, Другаль?.. Ты там чего, уснул или как?!» — «Дык, закрепляю я, товарищ майор!..» — «Ну закрепляй, закрепляй, не спи!..»
Таким же путем уходит наверх и Вадик Хохлов. Он, к счастью, молчит, лишь посверкивают в темноте яркие, расширенные глаза.
А затем Ефим делает небольшую паузу, переводит дыхание, укрепляется, насколько это возможно, и нарочито спокойным голосом говорит:
— Галочка, теперь давай ты… Просто подтянись немного, чтобы я тебя подхватил…
— Сейчас, Ефим Петрович… Мне только… а-а-а!.. ногу освободить…
Галя медленно ворочается внизу, то ли что-то приподнимает, то ли пытается сдвинуть в сторону, стонет, чувствуется, что ей больно, выпрямляется наконец, протягивает вверх руку. Ефим обхватывает ее за запястье, и тут спинка, в которую он уперся ногой, отламывается, не выдержав груза. Они с треском проседают на метр, Ефим, растопырив локти, удерживается кое-как, чтобы не рухнуть совсем.
Снова стонет железо.
Галя ахает, отшатывается.
— Ну что там у вас?.. — кричит сверху Бекасов. — Погодите!.. Сейчас бросим трос… Сергейко!.. Ну ты, едрить, опять спишь или где?..
— Разматываю, товарищ майор!..
— Ефим!.. Бросаем!..
Падает на плечи веревка толщиной в три пальца. Крепкая, где они только такую достали? Ефим нащупывает ногами опору внизу, отпускает локти, как эквилибрист, балансируя, приседает, оказывается почти на одном уровне с Галей.
У нее на щеках поблескивают дорожки слез.
— Ефим Петрович, я не могу… Ногу заклинило… Вот — ни туда ни сюда… Больно-то как!.. Ефим Петрович, ну ладно… Вы — выбирайтесь сами…
Она всхлипывает.
— Галина! — железным, педагогическим тоном произносит Ефим. — Ты это как? Чтобы я таких глупостев от тебя больше не слышал! — Мельком проскакивает в голове, что это цитата. Боже мой, мне сейчас не хватает только цитат. — Показывай, где у тебя там застряло? Галочка, я все вижу… Ничего страшного… Соберись!.. Давай по команде — и раз!..
Он берется за округлую загогулину, которая придавливает лодыжку.
— Галочка… Ты готова?.. Давай… И — раз!..
От напряжения чуть ли не лопается что-то внутри. Куча железного лома немного приподнимается.
Галя дергается и кричит во весь голос.
— Ну — все, все… Галочка… Все… Видишь, освободились.
Ефим обвязывает ее веревкой под мышками.
— Давай, руками тоже цепляйся… Тащи! — кричит он наверх.
— А вы, Ефим Петрович?
— Я — вместе с тобой…
Трос звонко натягивается. Галя хватается за ножки сидений. Ефим, крепко ее обняв, помогает себе свободной рукой с другой стороны.
Сил у него почти не осталось, и тем не менее сердцем, внутренним тонким чутьем он ощущает, что с каждым новым движением, с каждым рискованным перехватом, с каждым натужным рывком они понемногу, пускай по чуть-чуть, но все же становятся ближе и ближе к звездам…
Петер как-то странно подергивается, будто через него пропустили электроток, трясет ладонями, чуть изгибается, из горла его вылетает легкий хрип, а затем все тело вытягивается и обмякает — тряпичной безжизненностью.
Сара осторожно опускает его на землю, оттягивает ему веко, машет над ним рукой.
— Все, готов, — сообщает она. И добавляет с досадой: — Предупреждала же всех: не высовывайтесь, мы тут как тараканы на скатерти…
Она права. Позади нас метрах в пятидесяти пылает пакгауз, где хранилось то ли обмундирование, то ли запас стройматериалов. Яркое пламя охватывает его со всех сторон. На этом фоне, конечно, заметно любое движение.
— Жалко мальчишку… Вы знаете, это кто? Петер ван Брюгманс, сын вашей мадам… Очень хотел посмотреть на арконцев. Вот мадам ван Брюгманс его и пристроила…
— Ну она скорей не наша, а ваша, — чисто механически отвечаю я.
Для меня это полная неожиданность. Петер был одним из тех двух охранников, что дежурили при входе в медблок. Первый из них, по словам Сары, погиб сразу же, как только вспыхнула перестрелка, а второго, Петера то есть, она все же успела задернуть внутрь. Я против воли вижу помятое лицо Хаймы ван Брюгманс. Желтоватое тесто его вдруг размякает, сползает крупными каплями, под ним проступает влажная серая плоть, собранная в морщины.
Так, наверное, выглядит смерть.
— Возьми его автомат, — говорит Сара. — И вот тебе запасной рожок. Стрелять умеешь?
— Только в теории…
Сара усмехается:
— Ну вот… А еще говорят, что русские жаждут захватить весь мир.
— Кто говорит?
— Эти… политики…
— А-а-а… — Я слабо отмахиваюсь, на большее меня не хватает.
Андрон Лавенков чуть-чуть подтягивается на локтях.
— Давай покажу. Вот это предохранитель. Нет-нет, не трогай пока, пусть так и стоит. Вообще, не наводи на меня!.. А вот тут нажимаешь, отламываешь магазин, вставляешь новый… Видишь — все просто…
— Откуда ты знаешь?
— Так ведь — два года служил…
— Ты служил в армии? — Для меня это новость.
Андрон кривит губы:
— Ну не с рождения же я был чиновником. Тоже — школу сперва окончил. Сдуру, как и половина нашего класса, подал на матмех. Зачем? И математику-то никогда не любил. Конечно — провалил вступительные экзамены. Не все же такие талантливые, как ты…
После таблеток, которые ему скормила Сара, он выглядит значительно лучше. Боль в развороченном животе, видимо, поутихла, кровь тоже больше из-под повязки не проступает. Хотя, возможно, внутреннее кровотечение продолжается.
Черт! Ни хрена в этом не разбираюсь.
Чувствую только — по взгляду Сары, — что он не жилец.
Она цедит сквозь зубы:
— Плохо то, что они теперь знают, где мы. И даже, может быть, догадываются, что это — именно мы. Правда, могут этого и не знать. И если мы будем сидеть тихо…
Сара не договаривает.
Все ясно и так.
— А что там вообще с обстановкой? — интересуюсь я.
Сара прикладывает к уху свой телефон. Он, как уже понятно, у нее не простой: позволяет прослушивать чуть ли не весь эфир в радиусе до километра. Да и сама Сара тоже отнюдь не простая. Ай да девушка из Алабамы, медсестра, профессионально владеющая оружием! Как она уложила двух выскочивших на нас хазгаровцев! А как она протащила нас по пожарной лестнице, затем — по подвалу, я о нем и не подозревал, и далее — к остову грузовика, за которым можно было укрыться. Ведь еле-еле сумели вывернуться. Если бы не она, лежали бы сейчас связанными под дулами террористов. И то, что Лавенков получил пулю в живот, не ее вина: надо было без раздумий падать на землю, когда она вдруг скомандовала: «Ложись!» Я-то рухнул, как в обморок, мордой в песок, лоб расшиб, а он, кажется, попытался что-то сообразить, отстреливаться, и вот результат… И она же потом перетащила его сюда. Нет, я верю, что она, по-видимому, и медсестра в том числе, но это явно не главная ее специальность.
Сара между тем извещает нас, что капитулировало сенегальское подразделение международных войск. Выбросили белый флаг, сложили оружие. Значит, «Хазгар» теперь контролирует и территорию гаража.
— Это вон там… — Она тычет куда-то рукой. — Ну нас это пока не волнует… Удалось также связаться с полковником Буреску… Черт!.. Он прислать помощь не может, говорит, что сами с трудом отбиваются, осаждены в Клубе. Утверждает, что уже летят вертолеты с авианосца «Джордж Буш». Два звена… Ну это я и сама знаю…
— А российское подразделение?
— О них ничего не известно… Еще новость: откуда-то с севера выдвигаются «абрамсы». Новозеландцы два танка подбили, но считают, что массированной атаки не выдержат. Собираются отходить в сторону Клуба, соединиться с Буреску… — Она, вертя головой, прикидывает. — Так, а это откуда?.. Понятно. Ну, до нас им тоже — пока еще далеко…
— Когда ожидаются вертолеты? — спрашивает Лавенков.
— Думаю… что им нужно… Я полагаю… тридцать — сорок минут…
— Мы столько не продержимся.
— Ну это как посмотреть…
Я пользуюсь образовавшейся передышкой и пока Сара вновь слушает телефон, осторожно ее сканирую. Я еще очень плохо читаю взбудораженные слои сознания, но мне все же удается понять, что Сара — офицер ЦРУ, спецподразделение Департамента активных действий, и у нее четкий приказ: если позволят обстоятельства, то живым или мертвым доставить меня на территорию США. Меня это не удивляет. Чего-то подобного я ожидал. И обстоятельства сейчас для этого самые благоприятные. В общем, с Сарой надо держать ухо востро. Тем более что эмпат она — не эмпат, но все же вроде бы что-то такое чувствует: левой свободной рукой усиленно трет затылок.
— Черт, черт, черт!.. Голова ноет… Не вовремя!..
Я поспешно от нее отключаюсь, но поскольку не успеваю одновременно с направленной коммуникацией сбросить и общую — опыта еще не хватает, — то невольно воспринимаю и всю картинку окружающей нас обстановки: и хазгаровцев, залегших за машинами метрах в семидесяти от нас, их пять человек, один ранен, атаковать пока вроде бы не собираются, и суету на территории гаража, где постепенно концентрируется ударная группа, однако гараж от нас действительно далеко, и отчаяние осажденных в офицерском Клубе, у них ранены почти все, и даже — на самом краю сознания — песчаного цвета танки, медленно продвигающиеся вперед.
У меня, вероятно, после арконской реабилитации, какое-то слегка искаженное, цветное восприятие мира. Своего рода ментальная синестезия. Охарактеризовать ее можно следующим образом: черное с огненными разрывами, которые гаснут, истекая багровыми струями. Словно то здесь, то там лопаются пузырьки красных чернил. И мне кажется, что в этом, точно в капле воды, отражается сейчас весь наш мир: всюду горит, везде стреляют, везде гибнут люди, везде содрогается от мучительных конвульсий земля. Кто мог бы предвидеть это весной? Ведь ждали от прибытия арконцев огромного праздника, ждали, что распахнется теперь дверь в таинственную Вселенную, что уже завтра, ну, может быть, послезавтра, пронзят ее трассы построенных нами могучих космических кораблей, что мы сами чудесно преобразимся, что звезды и галактики примут нас к себе как долгожданных гостей. Сияла заря ярких надежд. И вот во что это все превратилось буквально за три месяца. Ну почему, почему у нас всегда именно так? Я смутно помню — был еще молодой, но потом, уже в зрелом возрасте, много об этом читал — что точно такое же праздничное настроение воцарилось у нас в стране во времена перестройки: рухнула стена, разделявшая Запад и СССР, президенты двух великих держав провели историческую встречу в Рейкьявике, казалось тогда, что — все, идеологического противостояния больше нет, началась эпоха доверия, отныне мы будем дружить и с Америкой, и с Европой, будем сотрудничать, рука об руку, вместе построим новый прекрасный мир, мечту человечества — мир без ненависти и вражды. Сколько тогда было надежд! Какие вдохновенные речи звучали в эфире! А потом словно щелкнуло что-то в небе, свет надежды померк, время переломилось, войска НАТО двинулись к границам России, праздник закончился.
То же самое и сейчас.
Лавенков тяжело вздыхает и с трудом выдавливает из себя:
— Еще таблетку не дашь?
Сара пару мгновений колеблется, но все-таки достает из кармашка крохотный тюбик и выщелкивает оттуда зеленоватую гранулу.
Андрон жадно ловит ее спекшимися губами.
Поворачивает лицо ко мне:
— Пить хочется, а нельзя… Знаешь, я ведь два дня назад послал запрос на арконскую визу. Тихонечко так, слова никому не сказал. И получил ответ: «К сожалению, мы не можем предоставить вам статус добровольного переселенца. Ваша профессиональная принадлежность не соответствует тем требованиям, которые мы предъявляем»… Ну и так далее… — Он пытается усмехнуться, высвечивается между губ кромка зубов. — Вишь ты… «к сожалению»… «не соответствует»… Научились таки у нас канцелярскому языку… Но самое интересное тут вот что: по слухам… из коридоров… президент наш вроде бы тоже визу запрашивал и тоже — согласия не получил.
— Он что, действительно собирался на Терру? — Я, честно говоря, изумлен.
— В том-то и дело, что нет. — Андрон снова кривит губы в усмешке. — Зачем это ему? А вдруг на Терре его президентом не изберут? Нет, он рассчитывал, что на ближайшей пресс-конференции он эту визу предъявит журналистам, телевизионщикам и перед мониторами так это — эффектно ее порвет. Дескать, я остаюсь со своим народом, со своей великой страной! Повысит рейтинг. И вдруг — полный облом. Оказывается, он Новой Земле не нужен… Какой удар по амбициям!.. Снял после этого, к черту, своего пресс-секретаря. Видимо, его идея была… Кстати, опять же по слухам, американский президент тоже визу не получил. И ни один европейский политик. А то, что Рене Маркон заявил, что он на Терру не полетит, так ведь ему никто и не предлагал…
Говорить Лавенкову трудно. После каждой фразы просачивается у него из горла мокрый, надсадный хрип, сопровождающийся иногда слабым бульканьем.
— Ты бы отдохнул, — советую я.
— Спасибо… Уже отдыхаю… От всего… Честно говоря… Илья… я ведь рассчитывал на тебя… Рассчитывал… что ты замолвишь за меня словечко перед арконцами… Они ведь тебя послушают… Ты Виллему жизнь спас… Кстати, как они относятся ко всему этому?.. Так и будут спокойно смотреть, как нас убивают одного за другим?..
Я чувствую, как напрягается Сара. Мы с Андроном, разумеется, говорим между собой по-русски, но есть у меня сильное подозрение, что она понимает русский язык. Что, впрочем, естественно для работающего с россиянином спецагента ЦРУ.
Ладно, пусть понимает.
В конце концов мы ничего особенного не говорим.
Я смотрю туда же, куда и Андрон — в сторону арконского Купола. Кластер прожекторов, направленных на него, освещает пустое пространство вокруг защитного поля. Оно, как обычно, равнодушно мерцает, и это его равнодушие — само по себе дает ответ на вопрос.
— Арконцы не вмешиваются в дела Земли, — казенным голосом объясняю я. — По их мнению, то, что сейчас происходит, — наши внутренние дела.
Мне перед Андроном неловко. Я почему-то уверен, что если попробую скрыться под Куполом, то меня защитное поле легко пропустит. Но ведь оно не пропустит ни Андрона, ни Сару, ни любого другого, кто вдруг захочет найти там спасение. Без визы, без предварительного арконского разрешения внутрь Купола не проникнет никто. Не знаю, откуда у меня такая уверенность появилась. Быть может, это Виллем исподтишка, через экстрасенсорный канал, предостерегает нас от опрометчивых действий. А быть может, это просто я сам научился через тот же канал понемногу «считывать» намерения арконцев. В конце концов не все ли равно? Важно, что уверенность эта четкая, внятная, не вызывающая никаких сомнений. Вместе с тем Андрон меня прямо-таки поразил. Вот уж не ожидал, что он — именно он! — запросит визу на Терру. Кто угодно, только не Андрон Лавенков. Воистину человек — это умопомрачительная загадка. Никто не знает, что у него внутри. Если некое существо выглядит словно кошка, ведет себя словно кошка и мяучит как кошка, то это кошка и есть. И если человек называет себя чиновником, имеет статус чиновника и ведет себя как чиновник, то это тоже — чиновник и есть: частично одушевленный, департаментский функционал. Какие вопросы тут могут быть? И вдруг функционал начинает вести себя, как живой человек… Секундой позже я все же соображаю, что это так, да не так. Если Андрон говорит «замолви словечко», то это как раз типичное высказывание чиновника, нисколько не сомневающегося, что везде — блат. С другой стороны, если уж бегут с Земли такие, как Андрон Лавенков, значит, здесь действительно — все. Финал, спасения нет. Чутье чиновника, вырабатываемое годами, нельзя сбрасывать со счетов.
Я не знаю, что можно ему ответить.
Но ответ, как тут же выясняется, и не нужен.
Сара вдруг быстро и при этом бесшумно перекатывается назад и, выставив автомат, приглушенным голосом спрашивает:
— Кто здесь?
— Не стреляйте!.. Свои!.. — раздается сразу на двух языках.
Песчаные неровности метрах в пяти от нас вдруг оживают и превращаются в двух людей, струящихся по земле точно ящерицы. Оказавшись под прикрытием грузовика, они усаживаются, и передний докладывает:
— Капитан Фарков, сержант Загарко, российская армия. У нас — вертолет, вывезем вас в Оман…
— Как-как? Капитан Фарков? — Сара неожиданно фыркает.
До меня доходит с некоторым опозданием, но потом я все же улавливаю, в чем тут дело. По-английски это звучит как «фак офф», в самой мягкой, литературной трансляции означает: отвали или отстань. В действительности — гораздо грубее. Капитану такая реакция, видимо, не впервой, поскольку, не обращая внимания, он указывает большим пальцем назад:
— Нам туда… — Поворачивается к сержанту. — Серый, раненый — на тебе!
— А почему мы вас не слышали? — с подозрением спрашивает Сара.
Капитан пожимает плечами:
— Наука умеет много гитик.
— «Имеет», — автоматически поправляет его Сара.
Вот она и прокалывается на знании языка.
Кажется, никто, кроме меня, этого не замечает.
— Это у вас «имеет», а у нас, в России, «умеет», — говорит капитан Фарков. — Так что, будем дискутировать или хотите жить?
— За нами идут вертолеты армии США. Они будут здесь примерно через двадцать минут…
Капитан опять пожимает плечами:
— Мы, разумеется, не можем насильно забрать с собой гражданку Америки. Оставайтесь, если вам и тут хорошо. Но у нас — тяжело раненный, мы ждать не будем…
— Старший агент Роттербек! — начальственным тоном произношу я. — Вам приказано не отходить от меня ни на шаг. Выполняйте приказ!
На Сару это действует как удар кнута. Она не понимает, откуда я могу знать ее звание и подлинную фамилию. Хотя, надо отдать должное, быстро приходит в себя.
— Ладно!.. Поехали!..
Сержант за это время успевает очень ловко, не поднимаясь, перевалить себе на спину Лавенкова, образовав как бы сэндвич из двух человек.
— Ты, браток, только не умирай… Дотащим… Тут — всего ничего…
Стараясь держаться под прикрытием грузовика, мы огибаем дымный, пылающий склад. За ним стоит вертолет, весь черный, острой мордой похожий на хищную глубоководную рыбу. Ранее его не было видно из-за всплесков огня. Наверное, потому и присоседились здесь, молодцы!
— Живее!.. Живее!.. — торопит нас капитан.
Из вертолета выпрыгивают еще двое бойцов.
Лавенков стонет. Ноги его, оставляя борозды, волочатся по земле.
— Потерпи, браток, уже все, все, скоро… — успокаивает сержант.
Прямо над нами взлетает ракета и фотографическим, магниевым сиянием превращает все в графику лунных теней. Бледным и каким-то бесцветным становится даже огонь. Одновременно сбоку раздается беспорядочная стрельба и, повернув голову, я вижу группу хазгаровцев, бегущую к нам. Их человек пять или шесть… Нет, кажется, больше… Они безумно кричат… Арабский я понимаю плохо и выделяю только известное всем «Аллах акбар!»…
— Твою мать!.. — тоже кричит капитан. — Бегом!.. Все — бегом!.. Горбунков, помоги!..
Один из десантников кидается нам навстречу, другой залегает и начинает бить по хазгаровцам короткими очередями. Сара тоже начинает стрелять, но не падает, а быстро-быстро смещается какими-то нелепыми, косыми прыжками. Двоих хазгаровцев точно сметает, но остальные, истошно вопя, несутся, как звери.
Кажется, их ничто не может остановить.
Действия вообще разворачиваются быстрее, чем я успеваю что-либо сообразить. Вроде бы капитан пытается поднять на ноги Лавенкова. Вроде бы сержант подхватывает Андрона с другой стороны. Вроде бы Горбунков, десантник, бегущий к нам, падает и, развернувшись к хазгаровцам, тоже начинает стрелять. Меня же в это время словно подбрасывает самум и, оторвав от земли, влечет по направлению к вертолету. Я едва-едва касаюсь ногами песка. Это — Сара, она как котенка, забрасывает меня внутрь. И — точно, вовремя. На том месте, где мы только что находились, вырастает земляной, страшный букет, переворачивающий собою тела. Песок больно сечет мне лицо. Я зажмуриваюсь, стукаюсь обо что-то, тоже дико кричу, а когда вновь открываю глаза, капитан, поддерживаемый Горбунковым, оказывается уже в вертолете. По лицу у него текут струйки крови, правый бок, за который он обеими руками держится, намокает пугающим, темно-багровым пятном.
— Взлетаем!.. — хрипит капитан.
И еще я вижу два тела, лежащие на песке.
Лавенков и сержант.
— Нет!.. — кричу я. — Их надо забрать!..
— Взлетаем!.. Это приказ!..
Я знаю, что это за приказ. Такой же, как и у Сары: доставить меня любой ценой, живым или мертвым.
— Нет!.. — снова кричу я.
Но вертолет уже отрывается от земли. Сара наваливается на меня и оттаскивает под защиту борта.
— Лежи, идиот!..
Под таким весом мне не пошевелить ни рукой, ни ногой.
И все же краем глаза я успеваю заметить, как подгребает к себе песок Андрон Лавенков.
Руки его движутся медленно.
Точно у краба, погибающего без воды.
Таким я и запоминаю его.
Он с громадным трудом, мучаясь и напрягая все силы, переползает из жизни в смерть…
Лизетта пробиралась сквозь бесконечное кладбище автомобилей. Машин были тысячи, может быть, и десятки тысяч: легковушки, грузовики, пикапчики, микроавтобусы, внедорожники. Уткнулась бампером в яму «волга» еще советского образца, пара, видимо, армейских фургонов, прижавшись друг к другу, вздымали полукруглые ребра, с которых был содран брезент. Валялись искореженные велосипеды. Виднелось даже желтое тулово «катерпиллера», придавленного металлическим суставом ковша. Все это как будто пребывало здесь уже лет сто пятьдесят: проржавело, заросло паутиной, из салонов, из распахнутых помятых дверей доносился запах тлена и сырости. Нигде ни единого человека. Куда все подевались? Лишь распластанные останки одежды — джинсы, куртки, майки, рубашки, — слежавшиеся до твердости дерева. И тихое ощущение ужаса, которое пропитывало собою весь воздух: из этого погребального многорядья не выбраться.
Она обогнула трейлер, накренившийся так, что казалось, он вот-вот повалится на бок. За трейлером находилась коляска, сплющенная почти до земли, и, прислонившись к кожаной гармошке ее, сидела большая кукла в грязноватом сиреневом платье с полуоторванным воротничком. Увидев Лизетту, кукла заворочалась, поднялась и сказала неестественно детским голосом:
— Я тебя жду, жду… А тебя все нету и нету…
Это была именно кукла: поцарапанные пластмассовые щеки, выцветшие, частично облупившиеся глаза. Одна из рук кошмарно вывернута назад.
Лизетта шарахнулась за облепленный грязью «ровер». Кукла поковыляла за ней, переваливаясь коряво, как утка, при каждом шаге.
— Не иди так быстро, у меня ножка болит…
Впрочем, она тут же затерялась за нагромождением столкнувшихся грузовиков. Зато впереди, сравнительно недалеко, Лизетта увидела человека в черном, скользком плаще, в черной широкополой шляпе, который тыкал палкой в боковое окно пикапчика.
— Эй!.. — Она обрадовалась — все-таки живая душа.
Человек обернулся. В дополнение ко всему он был еще и в черных очках. Снял их свободной рукой, разжал пальцы, очки упали на землю.
— А вот и ты, — сказал он, мелко хихикнув. — А я подумал, что ты уже не придешь.
Глаз у него не было.
Из морщинистых провальных глазниц высовывался коричневый мох.
Ворсинки его шевелились.
Лизетта вскрикнула и остановилась.
А человек ухмыльнулся, показав конические, как у мурены, зубы, обеими руками взял палку, с треском переломил ее и выставил вперед щепастые подрагивающие концы, отливающие почему-то металлическим блеском.
— Ну, подойди, подойди ко мне, — приветливо сказал он…
Лизетта открыла глаза и села. Сердце у нее подпрыгивало. Что это за придурь! Надо же, чтобы такое приснилось!.. Никакого кладбища машин, разумеется, не было. Стоял вокруг черный, чуть шевелящийся лес, горел костер, освещающий небольшую поляну, вполне мирно и даже как-то уютно дышал Павлик рядом, под одеялом.
Все было спокойно и тихо.
Однако что-то же ее разбудило.
Неподалеку опять громко хрустнуло. Кто-то выругался вполголоса. Из темноты, из деревьев выделились дядь Леша и Зиновий Васильевич, подошли к костру, и дядь Леша — Лизетта это отчетливо видела — воткнул в землю небольшую лопатку с короткой ручкой.
Оба вздохнули.
И одновременно она вдруг поняла, что исчез Чинок. Вон его одеяло в бурых кровяных пятнах, вон его куртка, тускло поблескивает заклепками, а самого Чинка нет. Нет его, как будто и не было никогда.
Что же это такое?
Чинок был ранен в живот. Или даже, может быть, не в живот, а чуть выше. Лизетта толком не разглядела. Дядь Леша одним движением разодрал на нем клетчатую рубашку, затем майку линялого, голубоватого цвета, как-то очень ловко выдернул нож — кошмарно широкий, с изогнутым острым кончиком, с него капала кровь — приложил к ране свернутое полотенце, сказал: «Зина, у меня там, в бардачке, такая коричневая коробочка»… — Из коробочки достал шприц, ампулу с зеленоватой жидкостью, отломил кончик, набрал жидкость в шприц, воткнул его в руку — все это также быстро, четко, уверенно. Ощущался в его движениях отработанный навык. Чинок застонал — хрипло, точно выпуская из себя жизнь, приоткрыл веки:
— Леха… Ты только это… Ты давай так, чтобы никто ничего…
— Да понял я, понял… — сказал дядь Леша. — Ты главное — лежи, не трепыхайся…
— В больницу его надо!.. Скорее!.. — сказала Лизетта.
Дядь Леша, словно вспомнив об остальных, вдруг поднял голову и гаркнул так, что зазвенело в ушах:
— А ну все отошли!.. Говорю: отошли, на хрен, отсюда!..
И прозвучало в его голосе нечто такое, что все сразу отпрянули шагов на пять.
Никогда Лизетта не слышала, чтобы дядь Леша так гаркал.
Они с Зиновием Васильевичем еще некоторое время копошились вокруг Чинка, что-то делали, неразборчиво переговариваясь, а потом дядь Леша сказал:
— Пока остаемся здесь… С ночевкой… Всем — ужинать и спать…
— И насколько это? — спросила Тетка.
— А насколько потребуется…
— Вот влипли, — уныло сказал Сынок.
Дядь Леша посмотрел на него снизу вверх:
— Отставить разговорчики! Исполнять!..
Лизетта никак не думала, что сумеет заснуть. Ее трясло, сердце стучало в груди, словно пытаясь проломиться наружу. Какой тут, к черту, может быть сон!.. Но лишь стоило ей улечься, прижавшись к Павлику для тепла, как она тут же с головой нырнула в омут темного забытья, где под сумрачным, неразборчивым небом взирал на нее выпученными по-рыбьи фарами сонм мертвых машин.
Хорошо еще, что это был только сон.
Она осторожно выскользнула из-под одеяла, сделала несколько легких шагов, стараясь, чтобы уж под ее ногами ничего не хрустнуло, и примостилась на короткой скамеечке, вытертой до белесости древесных волокон. Тут все было как-то очень хорошо оборудовано: кострище огорожено навалом камней, вокруг положены бревна, чтобы можно было сидеть. Вот даже небольшую скамеечку сколотили. Похоже, местные устраивали здесь пикники.
Мужчины посмотрели на нее, но ничего не сказали.
Тогда она рискнула спросить:
— Чинок?.. Да?..
— Он мне когда-то жизнь спас, — тихо сказал дядь Леша. — Рассказывать не буду, история, в общем, не для детей, но если бы не Чинок, я бы тут с вами сейчас не сидел. Давайте за него, что ли…
Он свернул укупорку на бутылке водки, налил в три стаканчика — себе и Зиновию Васильевичу наполовину, Лизетте, глянув на нее, чуть-чуть, на самое дно:
— Не чокаясь… Ну… Пусть отдыхает Чинок…
Водка противно защипала язык. Лизетта сморщилась и задышала, пытаясь прогнать резкий вкус. Всплыла откуда-то странная фраза: и как ее комсомольцы пьют? Где-то она ее от кого-то слышала.
Зиновий Васильевич усмехнулся:
— Не нравится? Ну и не привыкай. Неизвестно еще, будет ли водка там.
— Ну почему же, — рассудительно ответил дядь Леша. — Как же без нее, без нашенской, без родной. Вот увидишь, извернутся и там. Сначала, например, бражку поставят свекольную, затем — настоящий урожай соберут — из зерна будут гнать.Уж это-то у нас не задержится…
— Думаешь, арконцы не запретят?
— Ну запретят, так и что? Мало ли что нам запрещает российская власть.
В Лизетте вдруг прорезалась смелость:
— А почему его в больницу было не отвезти?
Дядь Леша от неожиданности покряхтел, побарабанил себя ладонями по коленям:
— Нельзя ему было в больницу… Ножевое ранение, врачи обязаны полицию известить. А с полицией ему связываться… — он покрутил головой. — Как тебе объяснить?.. Не с руки… Такой, в общем, это был человек…
— И нас заодно прихватили бы, — добавил Зиновий Васильевич. — Пока следователь приехал бы, пока выяснили бы обстоятельства дела… Может быть, и задержали бы этих парней по горячим следам. Тогда — опознание, значит. Подпиши протокол… Опять же — свидетельские показания… Сутки уж непременно пришлось бы там проторчать, ну а потом — развернули бы нас назад и — привет. Слышала президентский указ: «временно ограничить передвижение граждан»… Опять переверстали нас в крепостных…
— Ну ты уж не преувеличивай, — шевельнулся дядь Леша.
— А что? Разве не так?
Лизетта сказала:
— Зато Чинок, может быть, был бы жив!
Она не понимала, как это у нее сорвалось.
Голос звонко прозвучал в ночной тишине.
Дядь Леша похлопал ее по руке.
— Ты — тише, тише, разбудишь людей… Эх, деточка, домашний ребенок… Мир, знаешь ли, не такой, как вас учат в школе или там в семье, мать с отцом. По другим правилам люди живут. Особенно сейчас, когда пришли эти… арконцы… Слышала, как называют тех, кто уезжает на Терру? Крысы, которые, значит, бегут с нашего корабля… Так вот, мы — крысы теперь, на нас охотятся все, кому только не лень.
— Но есть же полиция, вы говорите… Должен соблюдаться закон…
Дядь Леша опять покряхтел:
— Какой в России закон? У нас все решает начальство. Приучили народ, видишь ли, за тысячу лет… А если начальство вдруг исчезает, например, как сейчас… Слышала о «народных мэрах»? Ну — вот… Ты думаешь, эти ребята — чего? Сразу же начинают искать — кто теперь будет новый начальник. И начальником становится тот, у кого тяжелее кулак. Или нож в руке, или пистолет…
Зиновий Васильевич неторопливо поднялся.
— Ну ладно, это уже о судьбах мира, — с иронией сказал он. — Кто виноват, что делать, зачем Герасим утопил Муму?.. С этим до утра просидишь. Ладно, я тогда пошел спать…
— Давай, — сказал дядь Леша. — Я тоже скоро пойду.
Он пошарил на земле возле себя, подбросил пару толстых обрубков в костер. Огненное нутро вздрогнуло, взлетела к небу горсточка искр. И пока Лизетта смотрела, как они пляшут в воздухе, вдруг снизошло на нее понимание, что это действительно так. Она и в самом деле вышла за пределы того крохотного мирка, который знала, в котором семнадцать лет прожила, вступила совсем в другой мир, в социальные джунгли, как выразился бы отец, где правят совсем другие, опасные, неизвестные ей законы. Весь ее опыт, все ее небольшие навыки здесь ни к чему. Все ее благие намерения будут лопаться тут словно мыльные пузыри. И у нее даже нет времени, чтобы, как кошка, которую перевезли в новый дом, обойти этот мир, осторожно исследовать, обнюхать его, отыскать место, где можно укрыться. Кстати, вполне возможно, что такого места здесь просто нет. Видимо по ассоциации, внезапно всплыла картинка: двор — в оконных расплывчатых бликах, отчего он кажется светлее, чем есть, малыш, карабкающийся на качели, мать, которая помогает ему, замерший на полушаге серый дворовый кот… Она вдруг перестала понимать, как оказалась здесь — в этой маршрутке, на этой озаренной костром поляне, в этом кошмаре, где даже среди яркого дня все равно стоит ночь. Подхватила какая-то волна, понесла. Ощущение было: это единственное правильное решение. Впрочем, еще не поздно. Еще ничего окончательно не решено.
— Я вот что хотел у тебя узнать, — сказал дядь Леша. — Твой отец… извини, что спрашиваю об этом… Он, если что, мог бы нам как-то помочь? Подтолкнуть там где-то, распорядиться, чтобы пропустили вне очереди? Сама видишь, какая тут идет заваруха. А ведь дальше, скорее всего, будет лишь хуже. Народ начинает постепенно сходить с ума… Твой отец… он у тебя кто там вообще?
— Он эксперт, — немного подумав, сказала Лизетта. — Отвечает за контакты арконцев с людьми на данной конкретной Станции. А вот насчет «помочь», я не знаю… Честное слово, дядь Леша, честное слово! Он мало что рассказывал о своей работе. Им ведь это запрещено…
Дядь Леша кивнул.
— Ну да — государственная тайна, конечно. У нас ведь все, куда пальцем ни ткнешь, государственная тайна, молчок и, что удивительно, именно от своих… Что они там, наверху, насобачили — тайна. Почему насобачили так, а не этак — тайна тем более… Про указы нынешние президента я уж не говорю… Бах-тарабах, обухом по голове… Чтобы никто ничего толком не понимал. Так нас, баранов, легче будет вести в разделочные цеха…
— Какие цеха?
— Это я — так, не обращай внимания. А созвониться с ним как-нибудь, поинтересоваться не пробовала? Намекнуть ему, что ты тоже здесь?
— Напрямую не получится, — опять подумав, сказала Лизетта. — Все эксперты обязаны были сдать сотовые телефоны. Во всяком случае так он мне объяснял. Работает только местная локальная сеть. Можно послать в их центр связи запрос, тогда отец через какое-то время перезвонит. Но разговаривать тоже будет из центра. Все прослушивается. Это он специально предупредил.
— Понятно, — протянул дядь Леша. — Сидят, значит, под непроницаемым колпаком. Ничего, как-нибудь разберемся. Обстановка подскажет… Ладно, тогда пошли спать.
Он поднялся и побрел к одеялу, на котором, укрывшись какой-то попоной, раскинулась Тетка. Голые руки ее светились в ночи приманкой для комаров. Вот Тетка шлепнула себя по плечу, которое аж задрожало, и, не просыпаясь, перекатилась на другой бок.
Лизетта тоже поднялась со скамейки. Взгляд ее упал на то место, где всего часа три назад находился Чинок: бурые пятна на одеяле, куртка, брошенная поодаль и вся скомканная так, словно и она только что умерла. Странное ощущение: вот возник откуда-то такой человек — Чинок, ехал с ними, почти всю дорогу молчал, затем спас их всех, сам погиб, и она ничего не знает о нем.
И никто, наверное, ничего не знает.
Только дядь Леша, но он, скорее всего, будет молчать.
Был человек — и нет.
Лизетта точно споткнулась. Ее как бы примяло безвольной тяжестью — одновременно и вбок, и вниз. Она вдруг опустилась на колени перед большим старым пнем, несколько мгновений смотрела на потемневшие от дождей, мутные древесные кольца, а потом изо всех сил ударила по ним кулаками, и еще раз ударила, и еще, и еще...
Ей хотелось кричать.
Рукам было больно, но она этого не замечала…
ЧАСТЬ 4. ПОСЛАНИЕ АРЕСИБО
Человек не может жить в полном одиночестве. Он не может существовать, не слыша других человеческих голосов, не отвечая на них, не видя других человеческих лиц. Тюремные медики еще лет сто назад заметили, что в одиночной камере, в глухой изоляции, в непроницаемой тишине, у заключенного начинаются галлюцинации: сгущаются по углам тени, приобретающие вид потусторонних существ, раздаются звуки, вроде осмысленные, но ничем не напоминающие разумную речь. Иногда доносятся откуда-то крики, иногда — тягучие стоны, иногда — чей-то вой. Через некоторое время заключенный и сам начинает выть, будто дикий зверь, ломает пальцы, раздирает кожу, наносит себе увечья, лишь бы убедиться, что еще что-то чувствует, что он еще жив.
В аналогичной ситуации оказалось все человечество после своего триумфального выхода в космос.
4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник Земли. Диаметром он был всего около шестидесяти сантиметров, но бодрые сигналы «бип-бип» советского космического аппарата слушал весь мир.
14 сентября 1959 года советская космическая станция «Луна-2» впервые в мире достигла Луны, доставив туда вымпел с изображением герба СССР.
7 октября 1959 года советская космическая станция «Луна-3» впервые сфотографировала обратную сторону Луны, которую до сих пор глаз человека не видел.
12 апреля 1961 года Землю облетел космический корабль «Восток», пилотом которого был гражданин СССР Юрий Гагарин. Из космоса он сообщил: «Вижу облака над Землей… Красота!..»
18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов впервые в истории совершил выход в открытый космос.
1 марта 1966 года советская станция «Венера-3» достигла поверхности Венеры, доставив туда вымпел СССР. Это был первый в мире перелёт космического аппарата с Земли на другую планету.
24 декабря 1968 года американские космонавты впервые в истории облетели Луну, описав вокруг нее десять витков.
20 июля 1969 года американский космический корабль «Аполлон-11» совершил посадку на Луну, а 21 июля, космонавт Нил Армстронг ступил на ее поверхность, сказав: «Маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества». По всему миру велась прямая телевизионная трансляция этого события.
В последующие годы американские космонавты высаживались на Луне еще пять раз, превратив, как это обычно с техническими достижениями и бывает, выдающийся подвиг в рутинную операцию.
Казалось, что дальнейшая экспансия человечества в космос станет неудержимой. Считалось, что уже в ближайшее время человек освоит всю Солнечную систему, возникнет постоянное поселение на Луне, базы на астероидах, международная исследовательская станция повиснет над Юпитером. А затем люди на фотонных или ядерных звездолетах двинутся в глубины Вселенной. Пышным цветом расцвела в те годы фантастика, повествующая о полетах к иным мирам, где буквально ждут не дождутся встречи с землянами «братья по разуму». Манила Венера, предполагалось, что она моложе Земли и потому на ней еще царит мезозой: тропические океаны, хвощи, гигантские ящеры. Будоражил сознание Марс: еще в семидесятых годах XIX столетия Джованни Скиапарелли заявил о существовании там гигантской сети каналов; была высказана гипотеза, что их создала древняя и, возможно, уже угасшая марсианская цивилизация, оставившая нам в наследство мудрость иного мира. Распахивались невиданные горизонты. Открывались дали, ранее недоступные воображению. «Человек земной», впервые почувствовавший свою цивилизационную силу, был готов превратиться в «человека космического».
И вдруг все закончилось.
После 1972 года (последняя высадка американских астронавтов на Луну) корабли с экипажем уже не покидали близкой земной орбиты. Выяснилось, что одно дело — на пределе возможностей — поставить рекорд и совсем другое — планомерное и систематическое освоение космоса. Оно требует таких сил и средств, которых нет ни у одной из великих держав.
Главное, было непонятно — зачем?
Луна могла бы дать гелий-3, изотоп, необходимый для создания термоядерной энергетики. Однако сам управляемый термояд был еще под большим вопросом, к тому же выяснилось, что для получения всего одной тонны гелия-3 потребовалось бы переработать не менее 100 миллионов тонн реголита (лунного грунта). А это значит — постоянное поселение на Луне и возведение там гигантских заводов.
Разочаровала Венера: как быстро выяснилось, никакого красочного мезозоя на ней даже в принципе быть не могло, никаких ящеров, гигантских стрекоз, хвощей, температура у поверхности четыреста — пятьсот градусов Цельсия (выше точки плавления олова, цинка, свинца), облака, исторгающие серную кислоту, тропосфера (нижняя часть атмосферы) из полусжиженного углекислого газа, да к тому же представляющая собой гигантский, никогда не прекращающийся ураган, движущийся со скоростью сто двадцать — сто сорок метров в секунду.
Разочаровал также и Марс: загадочные каналы, якобы построенные марсианами, при ближайшем рассмотрении превратились в оптическую иллюзию; в реальности же — крайне разреженная атмосфера, давление у поверхности в сто шестьдесят раз меньше земного, температуры в средних широтах до минус пятидесяти градусов, кислорода практически нет, бурая пустыня с вулканами и тектоническими разломами, по которой прокатываются мощные пыльные бури. Соответственно, никаких древних цивилизаций, никаких «братьев по разуму», вообще ничего; жизнь на Марсе если и есть, то, вероятно, лишь в виде бактерий, скрывающихся под почвой.
А о настоящих глубинах Вселенной бессмысленно было даже мечтать. Расстояния между звездами и галактиками превосходили любые человеческие возможности. Свет, преодолевающий триста тысяч километров в секунду, достигал их в самом благоприятном случае лишь через сотни и даже тысячи лет. Что уж говорить о звездолетах, движущихся со значительно меньшими скоростями. Всякие же нуль-переходы, космические червоточины, проколы мантии, кротовые норы, как и прочие над/под пространственные туннели для мгновенного перемещения от одной точки к другой, оставались пока в сфере фантастики. Было непонятно, существуют ли они вообще.
Более всего удручало Великое молчание космоса.
В 1974 году из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико было отправлено в созвездие Геркулеса первое научно составленное послание к инопланетным цивилизациям. Сообщение длилось сто шестьдесят девять секунд и содержало в себе схему с координатами Солнечной системы, изображения человеческих существ (homo sapiens) и несколько основных химических формул. Через некоторое время в рамках проекта «Космический звонок» («Cosmic Call») аналогичные послания были отправлены к ближайшим звездам солнечного типа.
Земля впервые воззвала к тем, кто, может быть, тоже с надеждой вслушивался в голос небес.
Конечно, было понятно, что «Послание Аресибо» будет лететь до созвездия Геркулеса целых двадцать пять тысяч лет. И еще столько же времени потребуется на обратный путь. Ответ мы сможем получить лишь через пятьдесят тысяч лет. При том условии, разумеется, что в созвездии Геркулеса вообще имеется разумная жизнь. Но ведь должна же она где-то существовать! По самым скромным подсчетам, можно было предполагать, что только в нашей Галактике, которая, кстати, относительно невелика, планет, по параметрам сходных с Землей, около десяти миллиардов — больше, чем в нашем мире людей! «Зона Златовласки» (ареалы, где возможно зарождение жизни) сверкающей россыпью окутывает собой весь Млечный Путь. Сиять разумом в ней могли бы тысячи ярких искр. К тому же многие цивилизации, появившиеся значительно раньше земной, должны были обогнать Землю в своем развитии, выйти в космос, освоить неисчерпаемую энергию звезд. Тогда где же они, почему они до сих пор не протянули нам руку через холодную пустоту?
Напрасно вглядывалась в звездное небо мощная оптика телескопов. Напрасно непрерывно совершенствуемая аппаратура регистрировала каждый шорох, донесшийся до нас из глубин Вселенной. Напрасно компьютерные программы прочесывали терабайты записей, пытаясь выловить из какофонии рождающихся и гибнущих звезд хоть что-нибудь похожее на разумный сигнал.
Вопрошание тьмы не порождало ответа.
Космос молчал.
Редкие астрономические сенсации вспыхивали и немедленно угасали.
«Послание Аресибо» ушло в никуда.
Мечтания безнадежно развеялись. Пространство, казавшееся необозримым, внезапно схлопнулось до размеров тесных земных пределов. Человек почувствовал себя одиноким во мраке Вселенной. Вместо радости живого общения его уделом стала душная, психоделическая тишина. Естественно, что она сразу же начала заполняться призраками: зелеными человечками, астральными сущностями, загадочными хрустальными черепами, мумиями инопланетян, обнаруживаемыми в самых странных местах. В науке воцарилась модельная парадигма: неважно, истинна модель или нет, главное, чтобы ее можно было презентовать. В искусстве утвердилось отчаяние: лучшие книги и фильмы выражали никчемность человеческого бытия. В фантастике безоговорочно возобладала фэнтези: унылое размахивание мечами, прерываемое всплесками такого же унылого колдовства. Компенсацией экспансии в космос стала экспансия в интернет. Человечество начало погружаться в иллюзии виртуальных миров. Вымышленное стало сильнее реального. Пиксельные фантазии растворяли в себе скучную, однообразную жизнь. Не сумев покинуть младенческую колыбель, коллективное сознание вновь обратилось к сказкам и мифам, ища утешения в них. Энергия поиска из внешнего пространства хлынула внутрь, воплощаясь, как детские страхи, в отвратительных чудовищ и монстров: исламский терроризм, американский империализм, российская угроза, имперские амбиции Китая… Вспыхнули бесчисленные малые войны, забурлили, порождая смятение, потоки беженцев, зоны смерти и деградации, как чернильные облака, выпускаемые фантасмагорическим спрутом, начали расползаться по всей планете.
Все опасались прошлого, которое держало человечество мертвой рукой.
Все отстранялись от настоящего, которое растрескивалось на глазах.
Все жаждали будущего, и одновременно никто не хотел, чтобы оно наступило…
В Омане мы проводим целых пять дней. Нас размещают в Центральном госпитале Маската (столица страны), в отдельном отсеке, при входе в который дежурит пост из солдат Международных частей. Десантники, вытащившие нас, уже через несколько часов исчезают. Как объясняет мне российский представитель, заместивший погибшего Лавенкова, их перевели на временную российскую базу, крейсер «Керчь», стоящий сейчас на рейде в Оманском заливе.
Со мной и Сарой дело обстоит немного сложнее. Тот же представитель, приветливо-равнодушный мужчина, лет сорока пяти, благополучный, ухоженный, благоухающий одеколоном, извещает меня, что в настоящее время о нашем статусе ведутся переговоры.
— Мы настаиваем на лечении вас в России, — поясняет он. — Трудность в том, что у наших западных партнеров есть определенные возражения.
Мне это понятно. Никто не хочет терять контроль над таким ценным источником информации, каковым я, по мнению многих специалистов, являюсь. Мне еще повезло, что в Омане нет доктора Менгеле. Моя рана на левой руке (все-таки зацепило) ко времени прибытия в госпиталь уже совсем затянулась. Остался лишь багровый рубец, бледнеющий с каждым днем. Доктор Менгеле, несомненно, обратил бы на это внимание: его такая необычайно быстрая регенерация насторожила бы. Однако допущенных к нам оманских врачей это совершенно не интересует. Они вообще нам лишних вопросов не задают. Видимо, им это запрещено.
И повезло мне еще и в том, что в этот раз не приходится проходить никаких изматывающих собеседований. Ни о какой Международной комиссии более речи нет, нам с Сарой просто выдают стандартные ноутбуки и просят изложить события — так, как мы их видели собственными глазами. К тому же в нашем отсеке есть спутниковое телевидение, и весь первый день мы, переключая каналы, впитываем в себя потоки лихорадочных новостей.
Оказывается, Фронт «Аль-Хазгар» пробил оборону международных частей ООН, потому что на его сторону перешло саудовское подразделение.
— Проклятая толерантность, — шипит Сара, расположившаяся у экрана рядом со мной. — Ведь уже после первой атаки еноту было понятно, что их следует заменить. Нет, оставили все как есть…
Сейчас, судя по сообщениям прессы, «Аль-Хазгар» контролирует всю территорию Центра и прилегающие районы. Международные части оттуда полностью эвакуированы. Базы данных по переговорам с арконцами удалось вывезти (да, по-моему, «Хазгар» и не стремился их захватить), но есть потери и среди войск ООН, и среди обслуживающего персонала. Вопрос о контроперации на повестке дня пока не стоит. Виллем как представитель арконской цивилизации заявил, что данная Станция с начала боев полностью законсервирована. Активной деятельности на ней осуществляться не будет. Сама Станция надежно защищена. Нет смысла ради освобождения клочка пустыни жертвовать жизнью людей.
Появились и подробности предыдущей атаки. Два британских журналиста, ссылаясь на неназванные источники в среде экспертов, утверждали, что, оказывается, Юсеф (профессор Халид) вовсе не бежал с территории Центра, как ранее предполагалось, а скрывался там целых три дня, имея в своем распоряжении строго законспирированную ячейку. Именно он и разработал весь план: приурочил атаку к песчаной буре, после которой производилась профилактическая, обязательная перезагрузка систем, сменил охранные коды и потому вертолеты «хазгаровцев» были опознаны как обычные, транспортные, превратил в крошево местную связь, запустив каким-то образом в сеть целую серию вирусов. Кроме того, журналисты, вольно или невольно повторяя гипотезу мадам ван Брюгманс, высказали подозрение, что Юсеф полностью подавил сознание группы военных, в основном, разумеется, саудовских, рядовых, превратив их в зомби — свойство, которое он обрел благодаря контактам с арконцами. Журналисты задавали резонный вопрос — а не обладают ли такими же способностями и другие эксперты? (Я осторожно покосился на Сару, но она сидела, как каменная, даже не глянула на меня.)
А вдобавок в сети появилась запись выступления Юсефа перед началом атаки. Юсеф, в свою очередь, утверждал, что цель арконцев — культурное порабощение человечества: превращение Земли в Аркон-два, только более слабый, отсталый, во всем покорно следующий Аркону-один… Исторически знакомая тактика… То же самое, напоминал Юсеф, Запад в последние годы пытался сделать с Исламским миром, превратив его в суррогат Европы или США… Им это не удалось!.. И никому не удастся сломить наш дух!.. Мы не сдадимся! Мы будем сражаться! Мы не станем как нищие, как рабы жить на коленях!.. Мы не хотим быть арконоидами, мы хотим остаться людьми!.. С нами Аллах, и он ведет нас дорогой надежды, мужества и борьбы! Мы никогда не отступим!.. Не покоримся! Мы не отдадим им ни пяди нашей земли!.. Мы разожжем огонь, в котором до пепла сгорят все слуги Иблиса!.. Они провалятся в ад льда и холода, а мы, шахиды Земли, вознесемся в сияющий рай!.. Пусть не будет у вас сомнений!.. Пусть не будет страха в ваших сердцах!.. Я напоминаю вам, братья, слова выдающегося революционера: если человеку не за что умереть, то ему тогда и незачем жить!..
От этих слов и, главное, от фальцетного их надрыва, у меня пробегает холодок по спине. Никогда не думал, что Юсеф может так говорить. Понятно, почему его соратники, не моргнув глазом, идут на смерть. И понятно, почему Гесиод — а это аж седьмой век до нашей эры — предупреждал, что нет ничего опасней талантливого оратора: таковой может убедить людей в чем угодно.
— Он — фанатик, — говорит Сара сквозь зубы.
— Да, фанатик, — соглашаюсь я, — но, заметь, у него есть серьезное преимущество перед нами: он знает, что делать. Он привносит в жизнь смысл, он обозначает целевой горизонт, в то время как мы лишь топчемся на одном месте, в растерянности озираясь по сторонам.
— Ты одобряешь фанатизм?
— Нет, я отвергаю бессмысленность.
Не знаю, Юсеф ли так на меня повлиял или внезапный, после чересполосицы предыдущих событий, ступор в Омане, но только я за оставшиеся три дня создаю довольно объемную аналитическую записку. В самом начале ее я ссылаюсь на то, что Великое молчание космоса — это не абстракция, как многие полагают, не популистские домыслы и не отвлеченный научный концепт. Это предельно актуальный, конкретный и очень тревожный для нас сигнал. Знаменитый астрофизик И. С. Шкловский еще в 1960-х годах предупреждал: наше одиночество во Вселенной, по-видимому, означает, что разум, достигнув определенной фазы развития, с неизбежностью гибнет. Согласно Шкловскому, разум вообще не представляет собой кульминацию жизни, это наивный антропоцентризм, а является чем-то вроде сверхспециализированного и гипертрофированного приспособления, одной из мутаций, вроде клыков саблезубого тигра, сначала полезных в борьбе за существование, но затем — при изменении внешних условий — заводящих вид в эволюционный тупик.
Сильный научный базис эта гипотеза обрела уже в наши дни, когда, с одной стороны, была создана теория неравновесных систем Ильи Пригожина, показавшего, что каждый последующий статус развития является менее устойчивым, чем предыдущий, то есть реальность стремится к состоянию абсолютной неравновесности, а с другой стороны (что непосредственно вытекает из первого), был осознан феномен ускорения исторического процесса: если отложить по оси времени крупнейшие техносоциальные инновации, принципиально изменившие мир, то легко заметить, что расстояния между ними сокращаются в логарифмической закономерности. Говоря проще, периоды стабильного бытия стремятся к нулю. И сейчас, в наше время, они уже почти достигли его. То есть мы неуклонно вползаем в технологическую сингулярность, когда в каждую единицу времени будет происходить, по крайней мере, одно революционное преобразование. Или, как считает один из современных исследователей, переживаемый ныне кризис нашей цивилизации означает, что завершен начальный, «эмбриональный» цикл развития земной биосферы, длившийся около четырех миллиардов лет и представляющий собою фрагмент более обширного цикла, включающего образование самой Вселенной, галактик, звезд, планет и зарождение жизни.
Цивилизацию, которая образуется после прохождения данного репера, можно назвать постсингулярной цивилизацией.
Если, конечно, такая цивилизация возникнет вообще.
А для того чтобы она возникла, говорит тот же автор, должны быть выработаны соответствующие социокультурные операторы.
Во-первых, такая цивилизация должна создать мощные механизмы сдерживания внутренней агрессивности, в противном случае она уничтожит сама себя в результате неразрешимых конфликтов, что с большинством техногенных цивилизаций, видимо, и произошло. Во-вторых, такая цивилизация должна в значительной мере изжить и корпоративный, и этнический, и государственный эгоизм, так как планетарные кризисные процессы можно преобразовать в позитив лишь скоординированными усилиями всего человечества. И в-третьих, что также немаловажно, сохраняющей реакцией подобной цивилизации, должен быть рост глобального экологического сознания, объединяющего вид хомо сапиенс со всем Космосом: человек — не царь природы, произвольно трансформирующий ее форму и суть, но лишь часть Вселенной — мыслящая, чувствующая, действующая, но все-таки именно часть, отнюдь не могущая навязывать целому свою власть.
Из этого и следует исходить.
Далее я в своей записке указываю, что гуманизация общечеловеческого сознания (тот самый оператор культуры, о котором я только что говорил) — это необходимый и универсальный фактор развития. Конечно, прошлый, двадцатый век знал множество случаев организованного насилия: колониальные режимы европейских держав, гитлеровский режим в Германии, сталинский режим в СССР, режим Мао Цзэдуна в Китае, режим Пол Пота в Камбодже, режим Иди Амина в Уганде и т. д. и т. п. И где сейчас все эти режимы? Они продемонстрировали свою полную нежизнеспособность и либо исчезли совсем, либо были вынуждены приспособиться к запросам нового времени. Фактически здесь мы наблюдаем действие естественного отбора, который постепенно избавляется от агрессивных социумов. То есть гуманизация бытия — естественный механизм эволюционного выживания. Данный вектор также свидетельствует, что, вопреки обыденным представлениям, человечество способно учиться на своих ошибках, и это дает нам некоторые основания для оптимизма.
В качестве примера такой учебы я привожу ситуацию с оружием массового поражения. После ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стало ясно, что появление ОМП подвело человечество к грани самоуничтожения. Вся планета может превратиться в радиоактивный могильник. Хиросима утвердилась в сознании мира как символ атомного кошмара, которого ни в коем случае нельзя допустить. В результате Третья мировая война, получившая название холодной войны, так и не привела к открытому ракетно-ядерному столкновению сверхдержав, а протекала в виде частных (локальных) конфликтов на чужих территориях и с применением обычных вооружений. Сфера же наращивания, испытания и распространения атомного оружия была ограничена международными договорами.
С другой стороны, существуют и контрпримеры. Скажем, либеральная (западная) модель рыночной экономики, несомненно, явилась драйвером ускоренного технологического развития западных стран. Она выдвинула Европу и США в лидеры мировых держав. Но результатом данной модели стало известное «общество потребления» (термин, который ввел в практику Жан Бодрийяр), общество заведомо ханжеское, анти-альтруистическое, поскольку все население земного шара не может сравняться по образу жизни с Западом из-за ограниченности ресурсов. Ведь для того чтобы каждый гражданин третьего мира мог жить на уровне среднего европейца, необходимы ресурсы трех таких планет, как Земля, а чтобы жить на уровне среднего американца — целых пяти планет. То есть «общество потребления», по сути, есть разновидность государственного (национального) эгоизма. Оно — та страшная язва, которая разъедает нашу цивилизацию изнутри. Вместе с тем другой модели социального сосуществования у нас пока нет, и никто даже не пытается ее разработать.
Собственно, здесь я другими словами изложил то, что мне недавно говорил Виллем. Наш мир, в том виде, в котором он сейчас существует, постепенно, но неотвратимо сползает в пропасть. Бездна уже раскрылась. Дно ее скрывает ядовитый туман. Мы не выживем, если самым решительным образом не преобразуем всю нашу жизнь. Если не сделаем приоритетом развития гуманизм, если не поставим социальную справедливость выше экономической эффективности.
Только кому это нужно? — уныло размышлял я, глядя в окно на белоснежные, фантастические дома Маската. Здания его были аккуратно вписаны в горный ландшафт, и сочетание диких каменных склонов с ультрасовременными конструкциями из биопластика и стекла порождало необыкновенный контраст. Гуманизм — это ведь нечто отвлеченное, философское, нематериальное. Это то, что невозможно быстро облечь в экономически весомую плоть. Политики подобные рассуждения обычно терпеливо выслушивают и через секунду как мусор выбрасывают из головы. Для них это только слова. Вот если бы я предложил метод скрытого сканирования сознания, метод простого и действенного манипулирования людьми. Вот тут мне сразу же выделили бы и деньги, и приборы, и штаты, и должность дали бы, и организовали бы целый институт… Я вспомнил эпизод из истории немецкого ракетостроения. Основоположником его был Герман Оберт, разработавший и первую двухступенчатую ракету, и первый проект ракеты с жидкостным двигателем. Оберт по духу своему был романтиком и мечтал о скорых полетах человека на Луну и на Марс. Но ракетную программу Третьего рейха возглавил в результате не он, а его ученик Вернер фон Браун, который ни о каких лунах и марсах не рассуждал, зато представил военным конкретную цель: создать баллистическую ракету, способную ударить по Лондону.
Вот в чем тут дело. Политики, особенно в наше время, не способны прозреть перспективы. И, на мой взгляд, связано это с тем, что личность человека формируется во времена его детства и юности, именно тогда в нем образуются основы характера и утверждается базис главных мировоззренческих идеологем. Раньше это особого значения не имело. Реальность вплоть до ХХ века трансформировалась очень медленно: человек рождался, взрослел, старился и умирал практически в одной и той же эпохе. Сейчас ситуация принципиально иная. Сейчас, когда ход истории резко ускорился (что я, кстати, в своей записке и подчеркнул), почти любой политик (государственный деятель) оказывается как бы гостем из прошлого. Рождается он в одной эпохе и в основном формируется в ней, но пока, пройдя долгий карьерный путь, он поднимается до административных высот, до того статуса, где определяются стратегические действия государства, эпоха ощутимо меняется и уже не соответствует его устойчивым представлениям. И образуется когнитивный разрыв: большинство политиков пытается разрешить новые проблемы старыми методами. Никакими силами данный разрыв не преодолеть. Учиться ничему новому политики не желают. Зачем им это? Пускай все остается как есть.
От унылых мыслей меня отвлекает Сара. Она заглядывает ко мне в номер вечером пятого дня, выставляет на стол пузатую бутылку вина, бухает рядом с ней чешуйчатый ананас, и несколько торжественно объявляет, что настал час расплаты.
Между нами как-то сам собой сложился такой легкий непритязательный тон, когда непонятно, говорится это в шутку или всерьез.
— Всегда готов. А за что платить? — интересуюсь я.
— Не знаешь?.. Я как-никак спасла тебе жизнь!
— А могла бы ведь и убить…
— Могла бы, — соглашается Сара.
— Не выполнила приказ?
— Таких приказов не отдают, а О них лишь слегка намекают при постановке задачи. . А я вот этого намека не поняла. Что взять с туповатой афроамериканки, которая с трудом окончила провинциальный университет?.. Так где твоя благодарность?
— Спасибо! — проникновенно говорю я.
Сара усмехается и вдруг ловким движением опрокидывает меня на кровать.
— Спасибом не отделаешься. Задолжал — плати!
Она все же прекрасно говорит по-русски.
— Но почему именно сегодня? — беспомощно барахтаясь, спрашиваю я.
— А потому что… — Сара горячим языком проводит мне по щеке.
— Так все-таки почему?
— Да потому, что завтра ты улетаешь в Москву...
В Москве я провожу тоже ровно пять дней. Правда, не в самом городе, где сейчас бушуют протестующие мигранты, и, слава богу не в больнице, не в изоляторе, не в тайной лаборатории ФСБ. Меня размещают на даче, в каком-то, видимо, закрытом поселке, названия которого я так и не выяснил, въезд туда с шоссе перегораживает военный блокпост.
Дача сравнительно небольшая, но двухэтажная и, наверное, благодаря евроотделке, имеет сугубо казенный вид: случайные олеографии в коридорах, солидная, но стандартная мебель в стандартных комнатах. Я живу на втором этаже, а на первом располагаются двое охранников — они, с одной стороны, присматривают за мной, а с другой, с помощью мониторов обозревают участок и примыкающие к нему территории. Сам участок довольно обширный, порос елями, соснами и окружен двухметровой, сплошной кирпичной стеной. Ворота здесь тоже сплошные, разумеется, толстые, металлические, так что от внешнего мира мы отделены надежно и прочно. Из окна своей комнаты я — поверх ограждения — вижу те же мохнатые сосны, а вдалеке — еще одну дачу, по облику точную копию нашей.
Уединение полное, и после скученности и суматохи нашего Центра оно мне нравится. Я с удовольствием брожу по тропинкам, усыпанным прошлогодними иглами, и с наслаждением — после жары и песка — вдыхаю воздух, пахнущий янтарной смолой. За пределы участка, как пояснил один из охранников, мне выходить «не рекомендуется», что в данном случае является лишь эвфемизмом выражения «запрещено», но у меня в комнате есть большой экран, интернет, я два-три раза в день наблюдаю за событиями в Москве: горящие автомашины, осколки выбитых дверей и витрин, бесконечные колонны людей, вздымающих транспаранты и выкрикивающих дикие лозунги сквозь лес поднятых кулаков, струи водометов, ватные облака слезоточивого газа, цепи омоновцев, прикрывающихся щитами от летящих в них банок, бутылок, камней… Я слушаю заявления мэра столицы «о безумии этнических радикалов, будоражащих своей демагогией десятки тысяч людей»… о том, что «не правительство России, не президент и не мэр, а лишь сами арконцы определяют порядок выдачи виз на Терру, российские граждане не имеют здесь никаких преимуществ перед мигрантами»… о том, что «бесчинства в ближайшее время будут жестко пресечены, а все преступные элементы будут привлечены к уголовной ответственности»… Я слушаю все это и думаю, что мы опять получаем по лбу теми же самыми граблями. Если политики сталкиваются с угрозой (событием или процессом), которая по масштабу превышает уровень их понимания, то они, принимая решение, занижают до своего уровня сам этот масштаб. Говоря проще, никто не начинает Первую мировую войну, начинают лишь маленькую победоносную войну Австро-Венгерской империи против Сербии. А потом все разводят руками: с чего это вдруг вспыхнул всемирный пожар? И дело тут, конечно, не только в политиках. Дело в том, что мы, пребывая в нынешней ситуации неопределенности, все сильнее и глубже погружаемся в коллективное бессознательное, в инстинкты возбужденной толпы, которая руководствуется не разумом, а страстями, и позитивировать их может лишь еще большая страсть, которой ни у одного из современных политиков нет.
А вообще моя жизнь в эти пять дней протекает довольно скучно. Ежедневно, точно в девять утра на даче появляются двое крайне воспитанных молодых людей, сразу же представившихся сотрудниками службы внешней разведки, мы усаживаемся в гостиной первого этажа и под кофе (хотя молодые люди, демонстрируя, видимо, служебную скромность, предпочитают чай) начинаются бесконечные, утомительные расспросы: что конкретно я видел, пребывая под Куполом, о чем мы беседовали там с Виллемом, как я ощущаю влияние арконского психогенного поля и каковы его внешние признаки, если, конечно, они есть вообще… Разговор наш протекает под видеозапись, одни и те же вопросы повторяются с удручающей монотонностью множество раз. Это похоже на мои «беседы» с Международной комиссией, разница только в том, что здесь я не могу защитить себя никакими бюрократическими препонами. Молодые люди ведут себя с предельной корректностью, но неуклонно выдерживают задаваемый ими сюжет. На мои возражения, что я все это уже рассказывал, добавить нечего, уже не ворочается язык, терпеливо ответствуют, что именно при такой руминации (навязчивом проговаривании одних и тех же вопросов) обычно всплывают мелкие, но существенные детали.
— Ну, Илья Васильевич, предоставьте судить об этом нам…
Легкое разнообразие вносит лишь третий день, когда вместе с молодыми людьми на даче появляется человек странной внешности: будто собранный после смерти из спекшихся, пересохших костей, костюм на нем болтается, словно на вешалке, глаза на мумифицированном лице кажутся подсвеченными изнутри. Чем-то он напоминает мне доктора Менгеле. Человек этот садится несколько в стороне, в беседу не вмешивается, вроде не шевелится даже, ни слова не говорит, но в его присутствии молодые люди заметно нервничают, напрягаются, становясь деревяннее в жестах и голосах.
Между прочим, как раз в этот день я — после некоторых колебаний — запечатываю в конверт свою аналитическую записку, помечаю, что «срочно», ставлю восклицательный знак и прошу передать ее по инстанции, желательно сразу тому, кто курирует данную тему. Я вовсе не имею в виду костистого человека, но чутье мне подсказывает, что это именно он. Просьба моя удивления не вызывает, напротив — молодые люди со значением переглядываются, считая, видимо, что это результат их давления, их успех, и более солидный, вероятно старший по званию, благожелательно заверяет меня, что, конечно, не сомневайтесь, немедленно передадим.
Забегая вперед, скажу, что никаких последствий этот мой шаг не имел. Записка канула, как соринка в застойную ряску пруда — ни всплеска, ни ряби по воде, ничего. Но как выразилась одна моя приятельница, пишущая стихи: наше дело прокукарекать, а там — хоть не рассветай.
В общем, я свой долг выполнил: намеком, но предупредил, а дальше — уж как пойдет.
И все же какую-то роль записка, вероятно, сыграла. Во всяком случае, в конце пятого дня старший из молодых людей, поблагодарил меня за «искреннее и добросовестное сотрудничество» и сообщил, что решено направить меня научным руководителем на одну из российских миграционных Станций. Вылет — завтра, в семь тридцать утра. Машина за вами придет в шесть ноль-ноль.
— Я на один день хочу съездить домой, в Петербург, — твердо говорю я.
Оба молодых человека как по команде вздергивают брови. Лица их выражали недоумение: как это так? Решение принято на правительственном уровне, оказано ему, то есть мне, доверие, расположение, высокая честь, а он, видите ли, условия ставит: домой захотел.
Я их удивления как бы не замечаю.
Мой тон непреклонен:
— Пожалуйста, согласуйте этот вопрос…
В Петербурге, однако, мне нисколько не лучше. Он встречает меня фосфорическим сиянием улиц. Краски в солнечный полдень светятся так, словно в них добавлены какие-то таинственные люминофоры. Город из-за этого кажется нереальным. Он — словно декорация к пьесе, которая никогда не будет поставлена: анонс неосуществленных надежд. Я догадываюсь, конечно, что переношу свои личные ощущения на весь мир. Но что делать, я стал другим. В «Сапсане» этого не чувствовалось. В «Сапсане», стиснутый скупой эргономикой кресел, я сразу же провалился в какое-то мутное забытье: проносились назад ели, болотца, просеки энерголиний, выморочные деревни, разделенные как галактики пространством небытия. Все это доходило до меня будто слабое эхо, картинки прошлого, бледно просвечивающие в настоящем. А в Петербурге, едва ступив на платформу, я ощущаю некий неприятный внешний напор — так вода при погружении в глубину давит на барабанные перепонки. Причем это не повседневная городская звукопись, которую я после двух месяцев, проведенных в пустыне, впитывал бы как живительный сок, нет, здесь нечто иное: ядовитая эмоциональная морось, окутывающая меня со всех сторон. Теперь я понимаю, что чувствует Виллем, находясь среди нас. И так же понимаю, что ему это дается значительно тяжелее, чем мне. Я воспринимаю лишь смутные невротические наплывы, они как мелкая зыбь покачивают, но не опрокидывают меня, а для Виллема это настоящий чувственный ураган из тревоги, страха, ненависти, отчаяния, сомнений — того, что и составляет по большей части земную жизнь.
Мне, если честно, тоже не сладко. Меня буквально ошеломляет отчетливая неприязнь, которую источает Анжела. Внешне это у нее нисколько не проявляется. Анжела выглядит как всегда: подтянутая, энергичная женщина, знающая, как жить, что, разумеется, свойственно почти каждой женщине, но у Анжелы — это какой-то особый природный дар.
Когда-то это меня привлекало.
Она сразу же заявляет, что ни один человек из их департамента не подал заявку на визу.
— Понимаешь? Никто вообще!..
В голосе ее звучит торжество.
Я же воспринимаю данное сообщение просто как факт. Анжела для меня — глас народа. Ее мнение всегда укладывается точно в середину любых опросов. На мой взгляд, дорогостоящие социологические исследования можно было бы не проводить, просто спросить Анжелу и вписать соответствующие цифры в графу.
Ничего нового в ее высказывании нет. Ведь очевидно, что в действительности на Терру будут готовы уйти не более чем семь — восемь процентов людей. Но это те семь — восемь процентов, которые обладают пассионарностью, повышенной энергетикой, претворяющей быт в подлинное бытие. Для Терры это одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо, поскольку элитный человеческий капитал обеспечит ей ускоренное развитие. А плохо, потому что такая деятельностная среда предполагает повышенную конфликтность и не очень понятно, как терране, пусть даже под присмотром арконцев, сумеют это противоречие преодолеть. Ну а для Земли изъятие пассионариев будет, в свою очередь, означать довольно долгий застой, который тоже придется преодолевать.
Вот примерно так я ей отвечаю. Правда, умалчиваю о том, что застой, скорее всего, будет сопровождаться понижением социальной температуры. А это, в свою очередь, сможет отодвинуть глобальную катастрофу или даже вообще вычеркнуть ее из повестки дня. Может быть, арконцы рассчитывают как раз на такой вариант.
Анжела усмехается с сознанием собственного превосходства.
— Это для вас застой, а для нас — спокойная, нормальная жизнь, — говорит она. — Хоть бы вы вообще все ушли. Все, кому все время что-то не так. Будоражите, теребите, всегда недовольны, все для вас — дураки! Не даете жить ни себе, ни другим!.. — И добавляет в запале: — Учти, если ты захочешь взять с собой Елизавету, я тебе ее не отдам. Суд будет на моей стороне!..
Я же нейтральным, академическим тоном, который Анжелу всегда бесил, объясняю, что ни на какую Терру вовсе не собираюсь. С чего ты это взяла? Что мне там делать? Я не могу ни выращивать хлеб, ни ухаживать за коровами, ни строить дома, ни разведывать залежи угля, нефти, руды, ни возводить заводы, ни плавить металл… Все это мне попросту не интересно. Я еще мог бы преподавать там в университете, но настоящие университеты, как я понимаю, появятся на Терре очень не скоро. Где-нибудь так лет через сто. Во всяком случае не при моей жизни… И то же самое для Лизетты. Кем она там в принципе может стать? Воспитательницей в детском саду? Учительницей младших классов начальной школы?..
— По-моему, это не для нее.
Анжела распахивает глаза:
— Значит, ты не собираешься эмигрировать?
— И мысли такой не было…
— Как же так?..
Для Анжелы это сильный удар. Чувствуется, что он даже повергает ее в легкое ошеломление. Анжела уже свыклась с тем, что меня не будет, но отблеск моего статуса — эксперта по внеземному разуму, героя, спасшего жизнь представителю инопланетной цивилизации, будет лежать и на ней. О ней будут помнить где надо. На нее будут иначе смотреть. У нее к годовщинам и к связанным с Контактом событиями будут брать интервью. А теперь получается — что? Поскольку мы уже давно живем врозь (но пока официально не разведены), то сиять я буду один, а она окажется в стороне? Анжела вообще не может простить мне того, что стертый пятак, серый академический хомячок, от которого она в свое время пренебрежительно отмахнулась (подумаешь, профессор в каком-то задрипанном институте) вдруг мановением чуда взлетел чуть ли не до самых кремлевских звезд. Уже сейчас (как она полагает) у меня образовались серьезные и влиятельные связи в верхах. А что будет, когда арконцы уйдут? В моем нежелании эмигрировать она видит одно: здесь, на Земле, в России, мне предлагают гораздо больше, чем там, на Терре.
Каждая жилка у нее мелко дрожит, каждая клеточка вибрирует соответственно вновь открывшимся обстоятельствам. Я примерно догадываюсь, что дальше последует, и прежде чем на лице Анжелы появляется призывно-ослепительная улыбка, прежде чем голос ее приобретает заманчиво-эротический, мурлыкающий окрас, говорю, что лучше подожду Лизетту внизу.
— Хочется на улицу. Три месяца просидел практически взаперти.
И не успевает Анжела слова сказать, не успевает она как бы случайно дотронуться до меня, как я выскальзываю из квартиры, аккуратно, без стука притворяя входную дверь. Лишь щелкает язычок замка, отрезая прежнюю жизнь.
Разумеется, это иллюзия. Прежнюю жизнь так просто отрезать нельзя. Она еще долго, как хроническая болезнь, будет тлеть где-то внутри.
И совсем плохо складывается наш разговор с Лизеттой. После первых же слов на меня горячим ливнем обрушивается поток неконтролируемых эмоций. За час, который мы вместе проводим, я узнаю о ней больше, чем за все предшествующие шестнадцать лет. Оказывается Лизетта прочла кучу моих статей, даже самые муторные, которых стесняюсь я сам, по многу раз слушала, просматривала и знает чуть ли не наизусть все мои выступления по радио и телевидению, помнит множество моих реплик, брошенных в свое время небрежно, вскользь, просто так, и некоторые из них потом долго и тщательно обдумывала. Меня потрясает атмосфера горячего обожания, которую я неожиданно ощущаю, атмосфера пристального внимания, преклонения, тайной, неразделенной любви. Лизетта взирает на меня так, будто я возвышаюсь над ней на недосягаемом пьедестале: вровень со мной парят лишь яркие, солнечные облака, и только изредка удостаиваю ее снисходительными замечаниями — их смысл она зачастую не способна понять. Бог, отвернувшийся от человека, которого он сам же и сотворил. Попутно — фоном — всплывают расплывчатые эпизоды, про некоего интересного мальчика (его лицо было не разобрать), про другого мальчика, пытавшегося, вот дурак, пощупать ей грудь, про каких-то зловредных подруг, воображающих о себе бог весть что, и еще множество чрезвычайно интимных подробностей, о которых я, честное слово, предпочел бы не знать.
Я не представляю, что с этим делать. Я против воли читаю Лизетту, как раскрытую книгу. Точнее — содержание книги само впитывается в меня, и этот спонтанный экстрасенсорный поток ничем не остановить. Я способен лишь, напрягаясь, слегка приглушить его, и потому все время, пока мы идем по Загородному проспекту, а затем по набережной Фонтанки, непривычно пустынной в этот воскресный солнечный день, я непрерывно, как заведенный, извергаю из себя целые водопады слов. Я говорю о том, что арконцы вовсе не собираются нас завоевывать, это спокойная, гуманистическая цивилизация, вообще — в космических завоеваниях смысла нет, и о том, что глобальный кризис — это когда множество людей во множестве стран — и в самых бедных, и в самых благополучных — вдруг начинает ощущать, что дальше так жить нельзя, и выражает это свое ощущение в спонтанных протестах; однако, как надо жить, не знает никто; арконцы здесь ни при чем, они послужили лишь спусковым крючком. Я говорю также о том, что бегство от реальности, эскапизм, который мы наблюдаем сейчас, это лишь сладкий морок, иллюзия освобождения, в этом смысле эмиграция на Терру нам ничего не даст, нам следовало бы измениться самим, позитивировать нашу цивилизационную суть, и о том еще говорю, что жизнь только кажется громадной, необозримой, что у нее не существует границ, а в действительности вдруг — раз, происходит какой-то скачок, и неожиданно выясняется, что от нее не осталось уже почти ничего.
Помогает все это плохо. Более или менее я прихожу в себя лишь в «Сапсане», на обратном пути из Петербурга в Москву, когда за окном вновь начинают плыть горизонты галактических российских пространств. Только тогда я немного дисциплинирую смысловую сумятицу и четко, как и полагается исследователю, отмечаю, что спонтанное считывание сознания, «ментальный прокол», происходит лишь с близкими мне людьми — с Лизеттой, Анжелой, Дафной. Даже от Лавенкова, которого я знал более двадцати лет, доносилось лишь очень слабое, почти неощутимое эхо, в котором почти ничего было не разобрать. Тут требовалось целенаправленное сканирование. А это, в свою очередь, означает, что если экстрасенсорный дар у меня не исчезнет (например, когда арконцы уйдут), то всю оставшуюся жизнь я буду обречен на сознательное одиночество. Не будет у меня ни близкой дружбы ни с кем, ни семьи, ни любви. Ведь невозможно жить с человеком, о котором тебе известно буквально все.
Вот какой вывод я делаю.
Не слишком приятный, поскольку, даже уже слегка успокоившись, я при воспоминании о разговоре с Лизеттой ощущаю под веками мучительную влагу стыда. Я словно увидел сквозь замочную скважину то, что мне совершенно не предназначалось, и радовало меня сейчас только одно — что еще нет у нас аппаратуры для записи и прослушивания таких экстрасенсорных коммуникаций. Конечно, ее когда-нибудь изобретут, обязательно изобретут, можно не сомневаться, и тогда вывернут нас наизнанку, вычерпают со дна души всю накопившуюся там липкую грязь, ничего нельзя будет скрыть, ни о чем умолчать, слава богу, что пока еще у нас этого нет…
В тот день, когда пришла весть о гибели Гленна Осковица, у нас шел дождь. Собственно, дождем назвать это было нельзя: серая морось проступала прямо из воздуха и стекала мелкими каплями по стеклам машины.
Направляясь к Белому дому, я, как обычно, прослушивал новости и, помимо упорного снижения курса доллара, что уже вторую неделю оставалось в СМИ темой номер один, помимо краткой сводки о положении на театре военных действий в Аравии, где за ночь ничего существенного не произошло, узнал, что джихадисты из «Фронта Кагонда Ману», что в переводе с языка игеросси означало «Сражающиеся с демонами», напали на поселок Чикомбе (северо-запад страны) и насильственно увезли оттуда более двухсот учениц местной государственной школы. Требования похитителей официально были пока неизвестны, но один из лидеров «Кагонда Ману» уже заявил, что девочек таким образом спасают от порожденного дьяволом западного воспитания; девушки должны выходить замуж, заботиться о семье и рожать детей, а не сидеть за партами и слушать порочные измышления христианских учителей.
Сначала я не связал это сообщение с Гленном, хотя знал, что несколько дней назад он вылетел по каким-то делам в Абуджу. Я лишь мельком ему посочувствовал: работать придется в очень непростой обстановке. Местная администрация наверняка сейчас стоит на ушах. Скажу честно: никакого дурного предчувствия у меня не было. Гражданская война в Нигерии длилась уже несколько лет, никого, кроме трех нефтяных корпораций, это особо не волновало (собственно, они и вели эту войну руками наемников), и если данное происшествие попало в топ новостей, то, видимо, из-за экзотичности самого события: двести похищенных девочек должны были тронуть сердца радиослушателей.
Помнится, в те минуты я гораздо больше был озабочен редким потоком машин, движущихся в одном со мной направлении. Явление для утреннего Вашингтона не слишком обычное: никаких пробок, никакой тесноты, никаких ожесточенно жестикулирующих полицейских. Такое чувство, что половина города сегодня на работу не вышла. Ну, не половина, ладно, преувеличиваю, пускай треть, четверть, пусть даже пятая часть, все равно, феномен социального эскапизма продолжает расти. Это привлекало мое внимание, поскольку неделю назад я делал по данной теме сообщение президенту: всего второй случай, когда он принимал меня в узком кругу. Надо сказать, что сведения, которые я для доклада собрал, поразили и меня самого. Согласно последнему социологическому мониторингу, в состоянии «бегства от жизни» пребывал сейчас почти каждый десятый американец. Колоссальная цифра для нашей страны, где напряженный труд (согласно Веберу, следствие протестантской этики) являлся одной из самых высоких и неоспоримых ценностей. Экономические потери от эскапизма оценивались уже в десятки миллиардов долларов, ничего удивительного, что сам доллар медленно, но неуклонно двигался вниз. Любая валюта держится прежде всего на доверии, а какое доверие может быть к той стране, где значительная часть населения просто не хочет работать. Некоторым утешением нам могло служить лишь одно: в Европе аналогичные цифры оказались еще тревожнее, здесь к эскапистам (в Европе их определяли как дауншифтеров) социологи относили от двенадцати до пятнадцати процентов трудоспособных граждан, и тенденция к их повышению была выражена отчетливее, чем у нас. Данных ни по Китаю, ни по другим азиатским странам разыскать мне не удалось, но косвенные параметры свидетельствовали, что там это явление имеет значительно меньший масштаб.
Объяснение же я предложил следующее. Впервые в истории Соединенных Штатов, да, пожалуй, и в истории человечества вообще, нам была представлена иная, значительно более перспективная модель цивилизационного бытия. К тому же не химера в виде коммунизма или царствия божьего, это мы уже пробовали, этим нас больше было не соблазнить, и не нынешний имперский либерализм, тоже явно зашедший в тупик, а реальное устройство мира, основанного на лучших, чем у нас, принципах жизни. Не исключено, что такой мир будет создан на Терре. Гарантия этому — гуманитарная опека арконцев. С другой стороны, культивируемое нами сверхпотребление и как результат появление касты сверхбогатых людей, которую телевидение сделало зримой, обесценило обыденный труд: напрягайся не напрягайся — миллиардером не станешь. Американская вера в то, что каждый чистильщик обуви может заработать свой миллион, развеивается сейчас как дым. Более того, геополитическая нестабильность, которую интуитивно — как дрожь земли — чувствует практически любой человек, обесценивает и саму жизнь. Какой смысл работать, если все это через мгновение может превратиться в радиоактивную пыль. Отсюда — тотальное недоверие к современным политикам: они просто подталкивают наш мир к пропасти, и отсюда — такое же тотальное стремление ускользнуть от них: спрятаться, уйти в другую, более приемлемую реальность. Точных цифр у нас, разумеется, нет, подвел итог я, но примерные расчеты показывают, что сейчас продемонстрировали желание переселиться на Терру, то есть уже послали запрос, более пятидесяти миллионов американцев. Дальше их количество будет только увеличиваться.
— Но почему американцы, а не мусульмане? — неожиданно спросил Гамб. — Почему с Земли бегут те, кто живет в раю, а не те, кто пребывает в аду?
Гленн, присутствовавший при разговоре, как-то странно мигнул, но меня, к сожалению, уже слегка понесло.
— Исламский мир еще не утратил веру в будущее. Исламские радикалы, которые ныне представляют собой его наиболее активную часть, действительно верят, что можно построить рай на земле, царство счастья и справедливости, горний мир, который заповедовал людям Аллах. Там не будет никаких трудностей. Там не будет ни злобы, ни зависти, ни вражды, ни неравенства, ни нищеты. На практике это, конечно, не осуществимо, но это — ослепительная идея, и они готовы ее воплотить ценой героического самопожертвования. Их жизнь имеет яркий, бесспорный и, главное, — божественный смысл. Никакая цена при этом не кажется непомерной. А какой смысл присутствует в жизни современного американца? Купить машину престижной марки? Приобрести дом, в два раза больший, чем требуется для его семьи? Вот в чем тут дело. Исламским радикалам не нужен терранский рай. Рай они намерены создать на Земле. Вот что ведет их на смертный бой. Вот ради чего они встают из окопов. А мы свой смысл, свое экзистенциальное предназначение давно и безнадежно утратили…
Президенту мой доклад не понравился. Правда, внешне он ничем этого не показал: пожал мне руку, наградил электоральной улыбкой, сказал, что обязательно обдумает мои слова. Сознаюсь, что некоторое время я ходил гордый, как петух в курятнике, любовался собой, снисходительно посматривал по сторонам. Ну а как же? Сам президент меня похвалил. Быть может, этот мой аналитический материал окажет влияние на положение дел в стране. Я чувствовал свою причастность к большой политике. Я был одним из тех, кто вершит судьбами и делами людей. Этот мой шарик напыщенного самомнения через несколько дней безжалостно проткнул Гленн Осковиц, объяснив, что у президента я вел себя как последний дурак.
— Доклад был приличный, к нему никаких претензий, но вот твой тон и особенно комментарии произвели крайне неблагоприятное впечатление… Ты меня не перебивай, ты послушай!.. Ведь, в сущности, кому и что ты сказал? Рональд Гамб — это селфмэйдмен, человек, который создал себя сам, преодолел крутой путь от мелкого бизнесмена до миллиардера и президента страны. И, исходя из опыта собственной жизни, он совершенно искренне, подчеркиваю, искренне убежден, что мы действительно построили здесь «град на холме»: общество, которое по справедливости каждому предоставляет свой шанс и так же по справедливости вознаграждает каждого за его труд. То есть благодать божья почиет не только на Великой Америке, но и на нем самом, Рональде Гамбе. А ты вдруг начал разглагольствовать, что все это не стоит ломаного гроша, что все это — симулякр, нарциссический самообман, что его феноменальный успех — лишь глянцевая обертка, внутри которой звонкая пустота. — И после некоторого молчания он добавил: — Боюсь, что президент тебе этого не простит.
Однако, глядя в дождевую, туманную пелену, я вдруг понял, что Гленн тогда был не прав. Дело было совсем не в моем докладе, не в тоне его, не в комментариях и вообще не во мне. Просто сам Вашингтон, чьи здания призраками отплывали сейчас назад, с приходом арконцев вдруг стал другим. За считаные месяцы он из центра мира превратился в глухую деревню на дальнем краю Вселенной, в провинциальный поселок, придавленный дремой захолустного бытия. А президент Рональд Гамб из вседержителя, чьим словам только что внимали миллиарды людей, в придурковатого старосту этой деревни, который в ужасе и смятении взирает на белых пришельцев, неожиданно появившихся ниоткуда. У них странная одежда и странная речь. Они держат в руках железные посохи, извергающие смертельный огонь. Он чувствует себя ничтожным перед их могуществом и понимает, что жизнь деревни теперь перевернется с ног на голову. И это предчувствие его не обманывает. Тут же вспыхивают безобразные драки между семьями из соседних хижин, никто не может их прекратить, мужчины больше не уходят с утра на охоту, а женщины больше не собирают съедобные орешки и корешки, вместо этого и те, и другие жуют дурманящий кунг, глаза их от счастья полны радостно-бессмысленной влаги, а перламутровые ракушки, еще вчера составлявшие достоинство и богатство, сейчас брошены в пыль, хрустят под ногами — они превратились в ничто по сравнению с восхитительными стеклянными бусами, которые принесли боги, спустившиеся с небес. И староста как человек умный и хитрый (иначе бы он старостой и не стал) понимает, что это — верная смерть, что деревня и племя умрут, поскольку все их существование утратило смысл, и что восстановить прежнюю жизнь удастся только тогда, когда отвратительные белокожие пришельцы уйдут и больше не вернутся сюда.
Вот такая у меня промелькнула мысль. Мысль, как выяснилось позже, важная и многое объясняющая в текущих событиях, но тогда я просто не успел ее толком распаковать, потому что мне позвонил Питер Маккаус, заместитель государственного секретаря, и велел немедленно по прибытии на работу подняться к нему. А в кабинете, куда меня вне всякой очереди провели, он сухо, каким-то картонным голосом сообщил, что сегодня ночью… семь… нет, уже восемь часов назад погиб Гленн Осковиц. Подробности следующие: в Абудже опять вспыхнули беспорядки, отряд одной из противоборствующих сторон захватил отель, где Гленн проживал, в перестрелке с полицией, видимо шальной пулей, он был убит.
— Туда уже вылетела оперативная группа, — сказал Маккаус, — все тщательно проверят, изучат, тело, разумеется, доставят сюда, но, наверное, это все же трагическая случайность, нелепое стечение обстоятельств, от которого не застрахован никто… Мы тут подумали, что будет лучше, если семье об этом сообщите именно вы. Вы с Гленном были друзьями… Но — это чуть позже. А сейчас с вами хотят побеседовать…
И он сам, что было довольно странно, сопроводил меня в комнату для переговоров, где двое мужчин, представившиеся как сотрудники ЦРУ, объяснили, что у них есть ко мне пара вопросов.
— Беседа будет записываться, — предупредили они, — но это будет чисто формальная, рабочая запись, не имеющая юридического значения. Все ваши ответы останутся под грифом «для служебного пользования».
И после этого начался тихий ад, продолжавшийся ни много ни мало целых четыре часа. Агентов ЦРУ интересовало буквально все: и когда именно мы познакомились с Гленном, и при каких обстоятельствах это произошло; и как далее развивалось наше знакомство, и кто еще был включен в круг наших друзей; и что я знаю об отношениях Гленна с женой, и как складывались его отношения с сослуживцами; и не было ли у него интимных связей на стороне, и не замечал ли я в нем склонности к гомосексуализму; и что я могу сказать про характер Гленна, и как бы я определил его человеческие пристрастия; и не злоупотреблял ли он алкоголем или «энергетическими таблетками», и не является ли его приверженность к курению табака, прикрытием для других, более серьезных привязанностей, к марихуане, например, или к тяжелым наркотикам? Их интересовало и что он ел, и что пил, и как одевался, и какой употреблял освежающий одеколон, и как смотрел на женщин или опять-таки на мужчин, и как относился к детям или к различным политическим партиям. Особое внимание они уделили нашим последним контактам: не замечал ли я чего-нибудь странного в его поведении, не помню ли я каких-нибудь его необычных высказываний, не стал ли Гленн более нервным, не менял ли внезапно своего рабочего расписания, не назначал ли он каких-нибудь неожиданных встреч?..
В общем, они прощупали каждый эпизод у меня в памяти, каждый нейрон в мозгу, каждое синаптическое соединение. Пару раз я безобразно срывался и просто кричал: «Ну какое отношение сексуальные пристрастия Гленна имеют к его гибели?» Или: «Ну не помню я, что он тогда мне сказал!.. Не помню!.. Человеку вообще свойственно многое забывать!» Оба агента воспринимали такие мои срывы спокойно: ждали, сколько требуется, пока я остыну, а потом монотонными, скучными голосами повторяли вопрос. На исходе второго часа я понял, что для них все это рутина, все подобные срывы, истерики, всплески эмоций они уже десятки раз наблюдали. Этим их не проймешь. И потому, взяв себя в руки, изменил тактику: на каждый новый вопрос, начал отвечать таким же скучным и монотонным голосом, словно исполняя надоедливый ритуал. Это существенно экономило время, и все равно через четыре часа, по дороге на северо-запад, где в относительно тихом пригороде жил Гленн, я с ужасом чувствовал, что у меня совершенно нет сил для разговора с Дайаной. Вообще — как сообщить жене, что ее муж убит?
К счастью, если только можно употребить здесь это слово, сообщать мне ничего не пришлось. Выяснилось, что пока со мной проводили «беседу», в дом Гленна тоже явились четверо сотрудников ЦРУ, вынули из компьютера жесткий диск, изъяли все флешки, все записи из ящиков письменного стола, обыскали его кабинет, предъявив бумагу, где Гленн давал согласие на подобные действия в случае своей смерти, двое из них около часа расспрашивали Дайану примерно по тем же пунктам, что и меня, пока она не заявила в конце концов, что отказывается им отвечать.
— Просто послала их к черту, и все, — сказала Дайана. — Могут подавать на меня в суд.
— Ну, можешь не беспокоиться, в суд они не пойдут… А что, Гленн перед отъездом тебе действительно ничего особенного не говорил?
— Что он мог мне сказать? Ты же ваши правила знаешь не хуже него. Поехал в командировку, вернусь через несколько дней. Даже то, что он был в Абудже, я узнала от этих… которые здесь рылись…
Держалась Дайана великолепно: ни слезинки, ни беспомощного квохтания, ни стенаний о том, как она теперь будет жить…
— Что с детьми?
— Еще ничего не знают. Ушли в школу за полчаса до того, как появились эти, из ЦРУ.
— Если я могу тебе чем-нибудь помочь…
— Душно здесь как-то… Давай пройдем на террасу…
С задней стороны дома располагался крохотный сад. Серая морось окутывала кусты кремовых роз. Дайана прислонилась ко мне. Я осторожно обнял ее за плечи.
— Он сильно нервничал перед отъездом, — тычась мне в ухо, еле слышно прошептала она. — Написал письмо, просил, если с ним что-то случится, передать тебе.
— Где оно?
Дайана чуть толкнула меня бедром. Я осторожно вытащил из кармана ее платья узкий конверт и, слегка развернув Дайану к себе, спрятал его в пиджак. Если даже за нами и наблюдали, то вряд ли сумели что-то заметить.
— Он сильно нервничал перед отъездом, — прошептала Дайана. — Он меня напугал. Он еще никогда не был таким. Он как будто предчувствовал, что не вернется из этой проклятой Абуджи.
— Просил что-нибудь передать на словах?
— Нет, ничего… Сказал только, что делает это ради детей…
Еще пару минут мы стояли не двигаясь.
Столица мира, укутанная дождем, существовала отдельно от нас.
Вся Вселенная существовала отдельно от нас.
А потом Дайана вздохнула:
— Ну ладно…
И мы пошли в дом…
А теперь я должен сказать о том, о чем до сих пор умалчивал. О том, чего — при всем их упорстве, — не смогли вытрясти из меня даже агенты ЦРУ.
Я встречался с Гленном Осковицом за день до его отлета в Абуджу. Мы с ним сидели в том же неприметном кафе, и те же утки, наслаждаясь, видимо, сытостью и тишиной, лениво скользили по стеклянному озеру.
— Конкретных деталей я просто не знаю, — говорил тогда Гленн. — Теоретически меня должны были бы в них посвятить, поскольку я в данном случае представляю правительство США. Но это же, черт бы их взял, спецслужбы, они даже президенту не расскажут всего, что задумали. Называется это операция «Бонобо». Бонобо — карликовые шимпанзе с весьма специфическим сексуальным репертуаром. Наверное, потому и выбрали данный термин. Юмор у них такой. Идея операции, как я понял, принадлежит русским, китайцы, в свою очередь, имеют связи с неким движением «Кагонда Ману», судя по тому, что о нем рассказывают, чуть ли не людоеды. Ну а мы всю эту механику финансируем через некий эфемерный банк на Каймановых островах. С одной стороны, вроде бы правильно: если что, доказать нашу причастность будет очень непросто, но, с другой стороны, мы теряем возможность контроля за действиями и должны будем во всем полагаться… э… э… э… на наших партнеров…
— Так в чем там суть? — спросил я. — Или, если уж такая секретность, можешь меня не посвящать.
Я вовсе не жаждал стать хранителем дурно пахнущих тайн.
Гленн мельком глянул на уток, а потом опять повернулся ко мне.
— Суть заключается в том, чтобы создать такую коллизию, при которой арконцы вынуждены будут уйти. Причем ответственность за инцидент ни в коем случае не должна быть возложена ни на одну из великих держав, это надолго погубило бы ее репутацию. В дерьмо должны влезть полные отморозки, выродки, на которых потом можно будет обрушить гнев мировой общественности… В порошок их стереть… Все, больше я пока ничего сказать не могу…
Я, разумеется, не настаивал. Разговор вообще навел меня на очень неприятные мысли. Заваривалась какая-то явно тухлая каша, маячило в перспективе извержение грязи, от которого, как я чувствовал, следовало держаться подальше. У меня не было никаких иллюзий насчет наших политиков: им нужна была только власть, и ради нее они были готовы пойти на самые чудовищные поступки.
О том же самом писал в своей записке и Гленн. Он сообщал, что только что, перед отлетом в Нигерию, получил направляющий инструктаж у заместителя директора ЦРУ. Формулировки в нем использовались предельно расплывчатые, но чисто интуитивно он, кажется, начинает догадываться, что именно задумано осуществить. И если это действительно так, если весь этот ужас предполагается сотворить нашими собственными руками, то он, Гленн Осковиц, гражданин США, в этом участвовать не желает. Более того, по возвращении из Абуджи, где, скорей всего, удастся многое прояснить, он попытается объяснить президенту, к каким губительным последствиям могут эти действия привести. Если правда всплывет, а правда имеет обыкновение рано или поздно всплывать, то как мы будем выглядеть в глазах всего мира? О какой демократии мы сможем тогда говорить? О какой свободе, о каких правах человека? В заключение Гленн писал, что никакой помощи от меня он не ждет. Более того, советует держаться от всей этой истории в стороне. Но кто может предвидеть, как сложатся обстоятельства, например, лет через пять? Пусть об операции «Бонобо», помимо ее организаторов, знает хотя бы еще один человек.
Записку я, естественно, уничтожил. Гленн не случайно написал ее от руки, на бумаге. Он понимал: если с ним что-то случится, компьютер его будет тут же изъят, а при нынешних технологиях айти-подразделение ЦРУ сможет восстановить практически любой стертый текст.
В общем, записку я сжег, пепел растер и смыл в раковину. И когда темная чешуя сажи хлынула в слив, у меня возникло странное ощущение, что по-настоящему Гленн умер только сейчас.
Дальнейшее хорошо известно. Через несколько дней экстремисты «Кагонда Ману» взяли в заложники более двух сотен школьниц (по разным данным от двухсот восемнадцати до двухсот двадцати четырех), и пригрозили их всех убить, если «галактические кафиры» немедленно не уйдут с Земли. В доказательство серьезности своих намерений они в тот же день расстреляли десять случайно выбранных старшеклассниц — сцена расстрела была выложена в интернет — и обещали расстреливать по десять девочек каждый день, «пока народы Земли не пробудятся от дьявольского наваждения и не изгонят прочь омерзительных посланников Сатаны».
Последствия этого были кошмарными. Волна гнева и возмущения, как и предсказывал Гленн Осковиц, мгновенно поднялась до небес. Раскаленные комментарии, тут же появившиеся в сетях, требовали объявить «кагондовцев» вне закона, разбомбить их к чертям, предъявить встречный категорический ультиматум, двинуть войска, высадить мощный спецназ, взять террористов в блокаду, создать для них особый «Трибунал Всех Народов Земли», пустить «сонный газ», выкупить несчастных девочек за любые деньги, предоставить которые должен Международный валютный фонд… Вновь Папа Римский призвал всех верующих молиться об их спасении. Вновь Патриарх Московский и всея Руси обратил внимание россиян на отсутствие духовности в современной западной цивилизации. Несколько звезд экрана предложили в заложники вместо школьниц себя. У нас, в администрации Белого дома, особым распоряжением президента был создан кризисный штаб, начавший отрабатывать различные варианты действий. Правда, военные, включенные в его состав, тут же объяснили (и это просочилось в печать), что ни войсковая операция, ни спецназ в данном случае эффективны не будут: девочек уже рассредоточили мелкими группами по глухим поселениям, местоположение этих групп пока неизвестно, там — непроходимые джунгли, болота, массированное наступление армии приведет лишь к жертвам среди гражданского населения. До предельной температуры ситуацию накалили материалы одного из западных корреспондентов, который каким-то образом побывал в лагере террористов и выложил в сеть целых пять роликов, где девочки-заложницы дрожащими голосами умоляли спасти их из ада. Я усматривал в этом заранее продуманный и подготовленный медийный ход.
Впрочем, продолжалось все это недолго. Уже через четыре часа после ультиматума «Кагондо Ману» последовал официальный ответ арконцев, где говорилось, что, не желая стать причиной гибели ни в чем неповинных людей, они покидают Землю и Солнечную систему. Виллем, зачитавший данный ответ, лишь просил дать им еще трое суток, чтобы грамотно осуществить эвакуацию. Согласие Фронта «Кагондо Ману» отложить казни на этот срок было тут же получено. И действительно по истечении двадцати девяти часов, приняв последние группы переселенцев, все пятьдесят арконских Станций, прикрытых дымкой защитного поля, начали расплываться, будто сахар в воде, а еще примерно через двенадцать часов на их месте высились лишь барханчики мутно-белых кристаллов, которые, как показал позднейший анализ, представляли собой химически чистый кремний. Далее последовало напряженное ожидание. Ни одна из сторон не совершала никаких заметных движений. Но ровно через шестьдесят пять часов, если мерить от нулевой точки отсчета, корабль арконцев без какого-либо предупреждения покинул орбиту Земли и двинулся в космос. Всякая связь с ним немедленно прервалась. Еще около месяца звездолет можно было наблюдать в телескопы, но где-то, немного не доходя до марсианской орбиты, он вдруг во мгновение ока исчез, и хотя точка исчезновения была зафиксирована и потом многократно исследовалась, в том числе специальными зондами, никаких признаков «кротовой норы» в ней обнаружить не удалось. По своим физическим характеристикам она ничем не отличалась от окружающего пространства.
Почему-то все ждали, что арконцы сделают некое прощальное заявление, по крайней мере, дадут надежду, что в будущем контакты с Землей все же будут возобновлены, но ничего подобного не произошло — арконцы ушли в молчании, не обронив больше ни слова, даже не помахав нам из вежливости рукой, они просто растворились в безвестности, их — и уже, видимо, навсегда — поглотила ледяная вселенская пустота…
Несколько слов о судьбе заложниц. Практически все девочки, захваченные террористами, в течение следующих трех месяцев были освобождены. Семь школьниц погибли при силовых операциях, судьба еще двенадцати или пятнадцати осталась неясной, их, судя по всему, продали в соседние страны.
Через два месяца я уволился из президентской администрации и вернулся в Колумбийский университет, где преподаю до сих пор. Никакой сенсации мой уход не вызвал: не та должность, в новостных лентах он был отмечен лишь парой нейтральных строк.
Об операции «Бонобо» в прессу не просочилось ни слова. Редкий случай, когда действия подобных масштабов, да еще проведенные спецслужбами сразу трех стран, удалось укутать такой завесой секретности. Конечно, через определенное время что-то все же всплывет: какие-нибудь слухи, какие-нибудь намеки, какой-нибудь конспирологический бред, как известно, полной секретности не бывает. Но я бы на это не очень рассчитывал. Мне кажется, что в данном случае правда погребена так глубоко, что на поверхность пробьется разве что ее искаженное эхо, слабенькие фантомы, которые тут же рассеются в сполохах фейковых новостей.
Сам я ничего предпринимать не собираюсь. И дело тут даже не в том, что у меня нет никаких доказательств. В конце концов, если пресса возьмется за это по-настоящему, то доказательства она может и раскопать. Примером тому — известный «Уотергейт». Тут важен первый толчок. Но я вообще не уверен, что нужно производить раскопки. В конце концов у каждого человека существуют в жизни минуты, при воспоминании о которых глаза жжет едкий стыд. То же самое и со всем человечеством. И хоть считается, что стыд — это психологически деятельный сигнал, который побуждает человека к стремлению улучшить себя, но, будоража демонов подсознания, мы рискуем получить острый приступ шизофрении.
Есть многое, о чем лучше не знать.
И тем не менее помнить об этом следует. Такой вот философский и психологический парадокс.
Так или иначе, но операция «Бонобо» завершилась успехом. Арконцы покинули Землю, и неизвестно, придут ли они когда-нибудь к нам еще раз. Властители мира, теневые и явные, могут теперь спокойно вздохнуть. Ситуация в мире вроде бы постепенно нормализуется. И если я пишу сейчас эти строки, то лишь в надежде, что они будут иметь значение в каком-нибудь отдаленном, неясном будущем.
Все-таки ничто не должно исчезать бесследно.
Ничто не должно распадаться до пыли энтропийного небытия.
Сохранено должно быть каждое слово.
Усвоен должен быть каждый горький урок.
Иначе небеса над нами так и будут пусты, и во мраке, царящем меж звезд, мы никогда не услышим голос, окликающий нас по имени.
Конвой прибывает утром, за несколько минут до восьми. Для нас это полная неожиданность, поскольку в рабочем графике отправлений он не указан. Я в это время нахожусь под Куполом, в помещении Станции, где мы с Виллемом ведем беспорядочную дискуссию о том, как можно было бы все же спасти мир Земли. Длится она уже почти шесть часов, примерно с двух ночи, когда я сюда нагрянул, мы оба вымотаны, но, как ни странно, я с ног пока не валюсь. После интенсивной ревитализации в саркофаге сил у меня больше, чем я способен истратить при самой напряженной работе. Так что я пока еще относительно бодр. Гораздо труднее приходится Виллему. На него, как он объясняет, давит атмосфера земных страданий, непрерывный и мощный фон негативных эмоций. Они его хронически отравляют, обессиливают, не помогает никакая экранировка. А усугубляется это еще и острым сенсорным голодом, который тоже чувствуется непрерывно. Экипаж арконского корабля — сто человек, со всеми ними Виллем поддерживает постоянную ментальную связь, однако это ничтожно мало по сравнению с громадным чувственно-мыслительным полем всей арконской цивилизации.
— Нас как будто посадили на хлеб и воду, — говорит он. — На черствый хлеб и на три глотка воды в день. Пока не смертельно, но постепенно развивается своего рода алиментарная дистрофия. Купировать ее мы не можем.
Виллем не жалуется, он просто извещает меня об этом. Выглядит он и в самом деле неважно: морщины на коже, сероватые мешки под глазами, щеки обвисли, губы, наоборот, стянуты в слюдяной пленчатый блеск, на узких четырехпалых ладонях проступают костяшки суставов. Он даже дышит с очевидным усилием: медленный вдох и после секундной задержки такой же медленный выдох.
Мне его, честное слово, жаль. Тем не менее, по инерции продолжая дискуссию, я замечаю, что до сих пор мы, пусть плохо, но все же как-то существовали — балансировали, конечно, на грани обвала, но не переступили еще эту грань. Именно прибытие звездолета арконцев нарушило данный баланс. Ну а приглашение переселяться на Терру вообще послужило детонатором пертурбаций, искрой, от которой вспыхнуло пламя: земной мир начал необратимо превращаться в кошмар.
Возможно, я резковат. Я даже слышу, что в тоне моем проскальзывают истерические обертоны. Но я ничего не могу с собой сделать, около тех же шести — или, может, чуть больше — часов назад в эфире прозвучало официальное сообщение: арконцы принимают ультиматум экстремистов «Кагонда Ману», просят остановить казни, берут на себя обязательство свернуть свою миссию на Земле в ближайшие трое суток. На мой взгляд, это позорная капитуляция: при всей их технике, при всех их психогенных возможностях арконцы, если бы за это взялись, вполне могли бы и обнаружить убежища террористов, и ликвидировать их, и освободить заложников, и сделать это практически без потерь. Принципом невмешательства в земные дела можно было бы временно пренебречь: никто бы их за это не осудил. А так получается черт-те что: явились нежданно-негаданно, разворошили человеческий муравейник, и бросили все как есть — с последствиями справляйтесь сами.
Виллем со мной частично согласен. По аналитической прикидке арконцев, вероятность глобального апокалипсиса в процессе Контакта возросла на восемь — десять процентов.
— Мы тут явно ошиблись, — говорит он. — Мы рассчитывали совсем на другой результат. Предполагалось, что в итоге Контакта земляне почувствуют общечеловеческое единство, и катализатором этого процесса послужит сравнение вашего общества с нашим, то есть принципиально иным. Мы рассчитывали, что возрастут солидарность и гостевая толерантность землян. Мы надеялись, что эволюционная перспектива позволит вам по-новому оценить ваш собственный мир. Но этого почему-то не произошло. Случилось скорей обратное: распад мира Земли на враждующие между собой локальности или, как у вас говорят, «война всех против всех». Совершенно непредвиденный нами эффект. По-видимому, какие-то компоненты цивилизационной психодинамики мы не учли.
Он делает мучительный вдох.
— Ультиматум, который нам предъявили, это просто последняя капля, но она переполнила чашу сомнений. Добавлю, сомнений давних и очень тяжелых, которые подверглись тщательному анализу… В общем, мы пришли к выводу, что нам больше не следует оставаться здесь.
И далее, наверное, чтобы успокоить меня, Виллем высказывается в том духе, что все не так уж и безнадежно. Вполне вероятно, что в ближайшее время проявит себя феномен «отсроченных изменений». Сейчас, когда мы, земляне, стоим с арконцами буквально лицом к лицу, у нас преобладают эмоции, затмевающие любую трезвую мысль. «Они — чужие» — вот главное содержание реакции человечества на Контакт. Однако как только арконский корабль уйдет, как только будет устранена «явная и прямая угроза», будоражащая сознание, экстраординарный всплеск этнической и социальной активности, несомненно, спадет. Исчезнет внешний побудитель его, зато начнется осознание общеземной идентичности, а это, возможно, в свою очередь, приведет к осознанию надвигающейся катастрофы.
— Возможно, у вас все и получится, — говорит Виллем. — Тем более что первые эмпаты среди землян уже появились. И количество их, несмотря на все трудности, будет постепенно расти… — Он смотрит на меня фиолетовыми выпуклыми глазами, в которых поперечными бликами отражается свет. Я ничего не отвечаю ему. Он и так знает обо мне практически все. — Повторю еще раз: мы спасаем не отдельных людей, не народы, не государства и даже не уникальную земную цивилизацию. Мы спасаем человека как вид, хомо сапиенс, разум, отличный от нашего, который непременно должен быть сохранен. Вы, конечно, можете нас обвинять, что мы принесли Земле множество бед, что мы вторглись на вашу планету, непрошеные и незваные, что мы переворошили всю вашу жизнь, не спрашивая, хотите вы этого или нет. Обвиняйте, пожалуйста, но поймите и нас. У человека, который тонет в реке, захлебывается, бьется в беспамятстве, не спрашивают, хочет ли он, чтобы его спасли. Его просто спасают, и все.
Он опускает серые пленочки век и некоторое время сидит, как будто впав в забытье. Затем с некоторой натугой приподнимает их, одновременно втягивая в себя воздух, пахнущий осенней листвой. И я думаю, что, по сути, он прав. В жестоком кризисе мы очутились еще до прихода арконцев. Я вспоминаю события недавних лет: безумное восстание предместий в Париже… ошеломляющий бунт в Лондоне: толпы носятся по улицам с криками: «Справедливости!.. Справедливости!»… восстание анархистов в Греции… восстание «желтых жилетов», расползшееся из Франции по всей Центральной Европе… Арабская весна… русская весна, закончившаяся присоединением Крыма… междоусобная бойня, охватившая чуть ли не весь Большой Ближний Восток… параноидальный конфликт между Западом и Россией…
В том-то и дело, что мы уже давно знаем, как надо жить: договариваться, а не конфликтовать, уважать других, а не демонстрировать свое техническое превосходство, не навязывать силой ни свою веру, ни идеологию, ни культуру, не убивать, не грабить, не красть, не лицемерить, не лгать, не стремиться к преобладанию и господству… Мы давно сформулировали золотое правило этики, являющееся сердцевиной почти всех мировых религий: относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Это еще Конфуций сказал. Повторяют и проповедуют уже более двух тысяч лет. И все равно — убивают, насилуют, крадут, грабят, обманывают. Почему? Ответ тоже давно известен: таков человек. Вот он таков, и ничего с ним не сделаешь. Можно, конечно, этим оправдываться, можно лицемерно скорбеть о жертвах, которых требует наша природная суть, можно стремиться к минимизации этих жертв, но ведь никуда не деться от того безусловного факта, что страдания человечеству приносит сам человек… Нет, мы, конечно, понемногу меняемся. Еще недавно убийство считалось неоспоримой доблестью: кто больше убил людей, тот и герой. Теперь убийство безоговорочно осуждается: допустимо лишь на войне, при самозащите, по приговору суда (если в стране существует смертная казнь). Так же еще недавно доблестью считалась война. Вот Гоголь пишет о казаках Запорожской Сечи, «которые имели благородное убеждение мыслить, что все равно, где бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному человеку быть без битвы». А теперь любая война так же безоговорочно осуждается — это социальная патология, которой следует избегать. Конечно, все равно половина мира воюет, все равно обстреливают, сжигают, уничтожают, бомбят, но ведь это уже не доблесть, а, судя даже по высказываниям политиков, тяжелая, запущенная болезнь, которую надо лечить. Нет, все-таки меняется, меняется мир, меняется к лучшему, меняется сам человек, но, боже мой, как медленно происходит эта гуманитарная трансформация! И тут я опять-таки полностью согласен с арконцами: не технологии нам нужны, технологий у нас у самих более чем хватает, нам нужен другой хомо сапиенс, другой человек, и если он не появится, если мы в ближайшее время не сумеем его вырастить, воспитать, то у нас, скорее всего, не будет никакой перспективы, а это, в свою очередь, означает, что нас, человечества, не будет вообще.
И вот только я собираюсь высказать все это Виллему, только-только мои смутные соображения начинают облекаться в слова, как раздается прерывистый зуммер вызова, и полковник Круглов, голосом, от которого на лице стягивается вся кожа, извещает меня, что прибыл конвой.
Ничего не поделаешь.
— Заходите после отправки, — говорит Виллем. — Я буду вас ждать. Немного времени у нас еще есть, мы успеем поговорить.
Я киваю ему:
— Конечно, приду, — торопясь к выходу, не прощаюсь, не оборачиваюсь.
И точно так же, как с Дафной, примерно месяц назад, даже не догадываюсь о том, что мы с Виллемом более не увидимся никогда…
Все происходит в последний раз.
Только я еще не знаю об этом.
Сара встречает меня, как обычно, у выхода. Она в униформе, которая, на мой взгляд, ей очень идет. Через плечо деловито перекинут ремень автомата.
— Давай-давай! Ждем только тебя.
И тут же с другой стороны присоединяется к ней лейтенант Ходаков:
— Автобусы — у ворот.
Уже светает. Зона ожидания перед Порталом хорошо просматривается. Она представляет собой утрамбованную земляную площадку диаметром примерно метров в сто пятьдесят. В центре ее, будто храм, возвышается Купол, очерченный яркой оранжевой полосой, а с трех сторон, прикрывая его, располагаются казармы подразделений охраны. Три усиленных взвода, около ста человек. По периметру площадки — бетонное ограждение: плиты метра два в высоту, стянутые между собою толстыми стальными скобами. Поверх них — спирали колючей проволоки, и такая же вздутая никелированными шипами спираль уложена с внешней стороны ограждения. На первый взгляд, защита надежная, но тот же полковник Круглов, комендант нашего лагеря, обмолвился как-то, что все это чушь.
— По-хорошему было бы надо соорудить двойную заградительную полосу. Выкопать ров, поставить еще один проволочный ряд… А тут — что… детский сад в расчете на слабоумных… Набросать сверху лапника, веток, придавить камнями, проволоку наверху просто перекусить, пассатижи или кусачки найти
нетрудно, сдвинуть ее к черту палками, сучьями и — перелезай. Мы же не будем по ним стрелять... Если весь Ад хлынет сюда, нас сомнут…
«Ад» — это наша рабочая терминология. Зону ожидания и отбора мигрантов мы называем «Чистилищем». Купол, соответственно, «Рай»: туда сочится жиденький ручеек избранных, то есть получивших визу на Терру, а снаружи, за ограждением действительно — ад: десятки тысяч людей, жаждущих счастья. Кривые горбы палаток, брезент, кое-как растянутый на шестах, такие же кривые, наспех сколоченные сортиры, площадки для полевых кухонь, клопиные гнезда приткнутых друг к другу машин, где тоже, скрючившись в три погибели, но живут. И — грязь, грязь, грязь, чавкающая под ногами, и дым, дым, дым от костров, на которых готовят еду, и — вонь, вонь, вонь, густым облаком вздымающаяся над стойбищем: если ветер поворачивает в нашу сторону, то хоть противогаз надевай, и гомон, нескончаемый гомон от взвинченных, раздраженных, отчаянных, полных злобы и ненависти голосов. Так — на два километра, практически до окраин Бельска, который тоже забит мигрантами по самое не могу. Неделю назад это стойбище пытались в очередной раз рассеять, приполз десяток фургонов, из них высыпался ОМОН в пугающей, монструозной экипировке, сомкнулись цепью щиты, заорал громкоговоритель, приказывающий разойтись, но куда там — все тут же было смято и поглощено серым водоворотом толпы. Пара фургонов до сих пор лежит на боку, теперь в них тоже живут…
В общем, я эти опасения разделяю. Если «Ад» вздуется, как кипящее молоко, и хлынет сюда, то не спасется никто.
Правда, сейчас у нас другие заботы. Полковник что-то хрипит в рацию — голосом, содранным за последние дни до раскаленного, звукового нутра. Поворачивает ко мне лицо, налитое кровью:
— Опять новость!.. Ввели, оказывается, для конвоев режим радиомолчания!.. Пока, значит, вплотную не подойдут… И что? Все равно два автобуса отсекли, застряли на подходе к мосту… А мне что прикажете делать? — Он полон ярости, он готов размолотить все вокруг себя в мусорную щепу. — Запроси Виллема: примут они внеочередной конвой?
Вот и для меня дело нашлось. Я связываюсь с Куполом по сотовому телефону. Проще было бы, разумеется, через экстрасенсорный канал, но наличие такого канала — мой персональный секрет. Я вовсе не собираюсь его выдавать. Виллем уже в курсе и отвечает, что этот конвой он принять готов. Сорвалась одна из азиатских отправок, есть полный импульс, канал переброски будет свободен еще полчаса.
— Уложитесь в полчаса?
— Уложимся, мать его так! — хрипит полковник Круглов. И снова в рацию: — Веди, Пендюков, веди!.. Прошу, умоляю, поторопись!..
Из казарм выбегают и сосредотачиваются солдаты. Первый и второй взводы, согласно диспозиции, по бокам от ворот, третий, прикрытый щитами, — прямо напротив них, это на случай прорыва.
Командует ими почему-то Костенко.
— А где Лымарь? — спрашиваю я.
Полковник по-волчьи вздергивает губу:
— Ушел Лымарь… Еще ночью ушел… И двух караульных — трах-тибидох! — с собой прихватил… Расстрелять его мало, трах-тибидох!..
Вот уж от кого я, честно признаюсь, не ожидал. Лымарь, лейтенант, из сверхсрочников, двадцать лет в армии, семейный, двое сыновей, дочь, все — тоже служат, спокойный, неторопливый, кажется, надежно прирос корнями к земле, и — вот тебе раз!
Действительно, трах-тибидох!
На кого ж тогда положиться можно?
На кого? На кого?
Разве что на самого коменданта Круглова. Да и то, видимо, до определенной степени. Прошлый комендант, например, Котляренков, женат, двое детей, ушел на Терру ровно через три дня после своего назначения. Странно, что Портал его пропустил. Военнослужащих старших офицерских званий арконцы, как правило, не приветствуют. Так что полковнику Круглову проскочить туда не удастся. К тому же, как мне иронически сообщил Ходаков, ему, то есть коменданту Круглову, обещано присвоить звание генерала сразу после окончания эвакуации. Морковку такую повесили. Хотя, конечно, это с какой стороны посмотреть.
Напряжение между тем нарастает.
— Что-то не видно твоих автобусов, — нейтральным тоном говорит Сара у меня за спиной.
— Сейчас подойдут, — таким же нейтральным тоном отвечает ей Ходаков.
— А сказал — у ворот, — замечает Сара.
— В целях дезориентации политического противника, — усмехается Ходаков.
Это у них обычная пикировка. Сара официально находится здесь в качестве охранника-наблюдателя от ООН. Лейтенант Ходаков исполняет аналогичные обязанности со своей стороны. Одновременно Сара — офицер ЦРУ, чего она не скрывает, а Ходаков, хоть и носит обычную армейскую форму, но тоже не очень-то и скрывает, что в действительности он из ГРУ. В общем, заботятся обо мне изо всех сил. Еще бы, единственный человек на Земле, имеющий прямые контакты с арконцами. Интересно, кто из них в конце концов пристрелит меня, чтобы не отдать ценную пешку «политическому противнику»? Кстати, вчера ночью я поинтересовался у Сары: приходит ли она ко мне по желанию или по долгу службы? Что это у нее — чувство или конкретный приказ? И Сара, пожав плечами, ответила, что одно другому не противоречит. Охотно верю. Ее могли прикомандировать ко мне именно потому, что у нас сложились такие неформальные отношения. Другое дело — сложились ли они сами собой или Сара намеренно спровоцировала эту выгодную для служебного продвижения близость?
В конце концов не все ли равно.
Я вижу, что проблесковые маячки на автобусах вплотную приблизились к ограждению. Вокруг них по обыкновению нарастает истошный вой голосов.
Он просто ужасен.
Так могут выть в тоске голодные демоны.
Давит на перепонки ушей, вгрызается в мозг.
— Готовы? — кричит в рацию полковник Круглов. И машет караульному у ворот. — Открывай!..
Стальные створки медленно расползаются. Протискивается в просвет угловатая, как у ящера, морда бронетранспортера. Еще пара минут, и оба автобуса оказываются в Чистилище. За ними, отбиваясь от многорукой и многоногой толпы, уминая ее, как тесто, отступают бойцы ОМОНа. Створки ворот смыкаются. Массивные их листы подрагивают от ударов кулаков, палок, камней. Вой снаружи становится невыносимым. Сквозь него едва различается доклад капитана, командующего конвоем: «Перед самым мостом… Сволочи!.. Протаранили грузовиком… Принял решение отсечь хвостовые машины, иначе тормознули бы всех… Половина подразделения… Надо бы выручать»… И ответное взрыкивание полковника Круглова: «Кого я туда пошлю? Где взять людей?»…
Сами автобусы выглядят так, словно их выволокли с поля боя. Передние стекла выбиты, боковые под стать им — ощерились сколами неровных зубов. По всему корпусу разбросаны вмятины, а у переднего, справа — еще и шелушащиеся волдыри ожога, видимо от бутылки с горючей смесью. Соответственно выглядят и мигранты: перепуганные, тревожно оглядывающиеся по сторонам, полуобморочные, прижимающие к себе детей. Может быть, это и к лучшему. В таком состоянии они безропотно исполняют все распоряжения, отдаваемые полковником: «Оставить вещи! (Некоторые с чемоданчиками или сумками, а ведь много раз всем втолковывали: вещи с собой не брать.) Выстроиться в цепочку!.. Проходить по команде, когда будет разрешено!»…
Сержант отодвигает секцию, перегораживающую дорогу в Портал.
— По команде!.. По моему знаку… По одному!.. По одному!.. — гаркает он.
Полковник Круглов поворачивается ко мне:
— А через час у нас по графику — грузовой вертолет. Еще восемьдесят человек. Как полагаете, со стороны арконцев задержки не будет?
— Если по графику — вряд ли, — говорю я. — Импульс для каждой нуль-переброски накапливается независимо от других. Тут важно, чтобы был свободный канал…
— Ну, будем надеяться, — бурчит полковник. И вдруг резко дергается, одновременно хватаясь за кобуру. — Стой, Митин!.. Стой!.. Куда?.. Стой, приказываю! Буду стрелять!
Я вижу, что сержант, который отодвигал секцию, бросив автомат, как игрушку, огромными скачками несется к Порталу. Бежать ему всего метров двадцать, крик полковника лишь подстегивает его — он что есть силы отталкивается от земли и прыгает головой вперед, точно в воду. Отчаянный, невозможный прыжок длиной в полсекунды из смерти в жизнь. Мне почему-то вспоминается Андрон Лавенков, скребущий пальцами по песку. Однако Портал, обозначенный ярко-синей овальной рамкой, как раз в эту секунду внезапно переключается, меняет свой цвет, становится интенсивно-багровым, словно по обводам его хлынула кровь. Это означает, что данного мигранта арконцы не принимают. Тело ударяется в твердь защитного поля, его отбрасывает назад, сержант падает на спину и, видимо, потеряв сознание, судорожно, как умирающее животное, подергивает конечностями.
— Убрать!.. На гауптвахту его!.. — ревет полковник. — За старшего — Волинчук! Принимай команду!.. Волинчук, трах-тибидох! Слышал приказ?!
Двое бойцов подхватывают сержанта и довольно бережно, аккуратно тащат его к казармам. Сержант приходит в себя, мотает головой, кое-как перебирает ногами, пытаясь нащупать ими корку земли.
— Дурак, вот дурак!.. — бормочет полковник Круглов. Нажимает на кнопку рации и негромко, но так, что слышно по всей Зоне ожидания, говорит: — Еще раз напоминаю. Самовольное оставление службы квалифицируется как дезертирство. В условиях чрезвычайного положения наказывается вплоть до расстрела. Всем всё понятно?
— Неужели действительно расстреляют? — шепотом спрашиваю я.
Полковник Круглов отпускает кнопку вещания:
— Да кому он тут, на хрен, сдался… Расстреливать его!.. Как же! Из армии выпрут, и все… Но если мы сейчас выкажем слабость, будет полный пипец. Ты новости смотришь по телевизору или как?
Мне нечего ему возразить. Новости я, конечно, смотрю и при всей хтонической жути, которую, на первый взгляд, представляет собою наш лагерь, понимаю, что положение здесь даже несколько лучше, чем во множестве других мест отправки. Не было пока у нас смертоубийственных бунтов, как в Греции и Албании, нашу зону ожидания не громили и не сжигали дотла, как в Пакистане, Ливии и Туркмении, не обстреливала нас артиллерия, как в Сомали, не взрывались, как под Тебризом, шахиды, сея вокруг себя ужас и смерть. Мы, конечно, не можем пропускать по тысяче человек в сутки, чего от нас требуют правительство и президент (собственно, это требование арконцев), но на уровне семисот — восьмисот мигрантов держимся, в общем, стабильно. Правда, стабильность эта весьма неустойчивая. Я, разумеется, даже не пытаюсь сканировать лагерь, я еще настолько с ума не сошел, но ведь, вопреки всем моим слабеньким ментальным барьерам, просачивается, просачивается в сознание чернота, которая там, за ограждением, набухает. Еще немного, и она полыхнет огненной лавой. Я это чувствую. Те сто солдат, которыми располагает полковник Круглов, не смогут ее задержать, тем более что они сами ни в чем не уверены. Я так же чувствую, чувствую их растерянность, их колебания, их панику, как у кошки, попавшей в загоревшийся дом. Качнуть их может в любую сторону. Можно лишь надеяться, что — не качнет. Что не повторится у нас «красноярский кошмар», когда толпа из аналогичного лагеря, задавив несколько человек, расшатала и опрокинула таки бетонное ограждение, прорвалась к самому Куполу, а бойцы Росгвардии, прижатые к защитному полю, некуда отступать, открыли огонь. Оправдываются теперь, что получили такой приказ. Командование Росгвардии это, естественно, отрицает. Но ведь понятно, что подобный приказ, конечно негласно, все же был отдан. Правительство наше бьется в панике: «народные мэры» появились уже в двадцати девяти городах. В двадцати из них введено чрезвычайное положение, и со дня на день ждут, что оно будет объявлено по всей стране. Колеблется почва, растрескивается фундамент привычного бытия, целые сегменты его проваливаются в огнедышащие разломы. Власти всех стран молятся сейчас об одном: скорей бы, скорей бы закончился этот визит «братьев по разуму». Не надо нам ни золота, ни бриллиантов, ни гелия-3, ни эмпатии, ни других инопланетных чудес, ни гениальных мыслей, ни технологий, преобразующих мир, не надо ни звезд, ни межпространственных коридоров, ни космоса, ничего, пусть все, кто желает, быстренько переберутся на Терру и пусть арконцы наконец исчезнут из нашей жизни как тягостный сон. Пусть они наконец уйдут, пусть развеются, пусть пропадут, чтобы мы могли заделывать бреши, образовавшиеся от их посещения.
Молитва эта слышна в расплывчатых политических заявлениях, в пространных статьях аналитиков, несущих всякую чушь, в спотыкающемся бормотании лощеных пресс-секретарей, тщетно пытающихся объяснить, что же в действительности сказал тот или иной президент. Везде в подтексте звучит: ну ради бога, ну пусть они скорее уйдут!..
Своего рода «Петиция Арколя», только вывернутая наизнанку. И не от народов Земли, а от насмерть перепуганных властных элит.
Я придерживаюсь совершенно иного мнения: заделать фатальные бреши нашей цивилизации не удастся. Арконцы, конечно, исчезнут, но мир все равно теперь станет другим. Причем он не обязательно что-то приобретет, скорей потеряет — утратит витальность, загадочную энтелехию, как это называл Аристотель, внутреннюю энергию, преобразующую способность жить в собственно жизнь. Мне вообще кажется, что я присутствую при последних минутах драмы под названием «Судьба человечества», занавес вот-вот упадет, разочарованные зрители разойдутся, погаснет свет, и актеры, оставшиеся на сцене, с которой выхода нет, будут в полной темноте, в одиночестве играть для самих себя.
Очередь между тем продвигается. Сержант Волинчук, громадных габаритов мужик, каждые тридцать секунд дает очередную отмашку. Ближайший мигрант тут же идет к Порталу — неуверенно, медленно, весь дрожа, словно на картонных ногах. Обводка Портала тут же вспыхивает зеленым, что означает: все в порядке, данному человеку проход разрешен. А на другой стороне защитного поля, сияя позолоченным корпусом, встречает будущего терранца дипломатичный робот Си-Три. Всплескивает металлическими руками: «Здравствуйте, здравствуйте! Проходите! Рады вас видеть!.. Сегодня прекрасный денек! — Кукольные, киношные интонации, предназначенные, видимо, для того, чтобы успокоить людей. — Мое имя — Си-Три, — сообщает он. — Я ваш проводник. Я знаю триста пятьдесят девять земных языков… Рады вас видеть… Пожалуйста, проходите — туда»… — Мигрант, как правило, судорожно оглядывается. До него внезапно доходит, что он в последний раз видит привычный земной пейзаж. Но задумываться ему не дают. Растворяется, как пластинка соли в воде, овальная дверь Купола, и избранника поглощает царящая за ней странная, непроницаемая для человеческих глаз темнота.
— Следующий пошел!.. — сразу же командует сержант Волинчук.
Для нас это просто рутина. Уже более двух недель мы занимаемся этой однообразной логистической процедурой. Никаких неожиданностей мы не ждем. Небольшая заминка происходит лишь с женщиной, которая ведет с собой дочь лет пяти. Девочка держит довольно крупного плюшевого медведя и никак не хочет его отдавать.
— Вещей с собой брать нельзя, — напоминает сержант.
— Это не вещь, это — Миша… — говорит девочка.
Она еле шепчет, но я почему-то прекрасно слышу ее.
Экстрасенсорный канал?
Она тоже — эмпат?
— Все равно! Миша останется здесь!
Женщина, раздражаясь, тянет медведя за лапу:
— Хватит, Анюта… Я тебе говорю: отпусти!..
Девочка крепче, моргая-моргая, прижимает игрушку к груди.
— Вы — задерживаете! — повышает голос сержант.
Полковник Круглов тоже делает шаг вперед:
— Быстрей проходите!.. Не останавливаться!.. Быстрее!.. Быстрее!..
Он нервничает. До прибытия вертолета со следующей партией переселенцев остается всего сорок минут. Не хватает только чтобы у Портала образовался затор. Конечно, вертолет может и опоздать. А то и вообще не прибыть, такое тоже случалось. Однако рассчитывать на это нельзя. Трудность здесь, как еще в самом начале эвакуации объяснил мне Виллем, заключается в том, что все пятьдесят земных Станций замкнуты на единственный корабельный трансмиттер, который и обеспечивает проход по межпространственному туннелю. То есть импульсы переброски следуют каждые двадцать минут, после чего надо ждать, чтобы погас остаточный след. График очень плотный, впритирку, сбой в одном месте сразу же отзывается на остальных. Опасней всего чрезмерное скопление мигрантов на какой-либо Станции: люди нервничают, может произойти разрушительный эмоциональный взрыв.
У меня пищит сотовый телефон. Это Анжела. Как это она умудрилась прорваться сквозь наш коммутатор, блокирующий всю внешнюю связь? Хотя чему удивляться, это ж Анжела, и я, раздраженный до крайности (не до нее мне сейчас), уже собираюсь сбросить звонок, но вовремя соображаю, что даже Анжела не будет дергать меня из-за каких-нибудь пустяков.
И это действительно так.
Меня как обухом по голове бьет первая же ее фраза о том, что пропала Лизетта.
— Что значит «пропала»?!
А это значит, что ее нет уже третий день. Поехала как бы на дачу с Павликом, на выходные — и все. Сотовый у нее отключен, на эсэмэски — их Анжела послала уже сорок штук — как глухая, не отвечает. У самого Павлика сотовый тоже находится вне сети. И вот сорок минут назад пришло от нее сообщение: отправилась, дескать, к тебе, чтобы посмотреть на арконцев.
— Ты ей вроде бы обещал… Ты ей обещал?.. Пишет, видите ли, чтобы я за нее не волновалась. Она, видите ли, с Павликом, с его родителями. А я же телевизор смотрю — что там у вас за кошмар…
Анжела в дикой истерике. Из нее хлещет непрерывный словесный поток. Без всякого перехода и логики она сообщает мне, что, оказывается, к Земле приближается гигантский каменный астероид… Час назад эту новость передал тридцать пятый канал… Столкновение неизбежно… Погибнут все… Арконцы именно потому и проводят эвакуацию… От нас, как всегда, все скрывают…
Мне наконец удается вклиниться в ее речь, и я с чистой совестью отвечаю, что насчет астероида — это полная чушь. Чушь, рассчитано на дураков, очередная фигня… Выключи, наконец, телевизор, выбрось из головы… А насчет Лизетты не беспокойся, я сейчас все улажу…
— Найду я ее! Найду!..
Я сбрасываю Анжелу и вызываю наш центр связи. Как ни странно, меня сразу же, почти без препирательств, соединяют с телефоном Лизетты. Ну — Анжела, ну — навела там шороха! Лизетта почему-то не откликается: звонки выстраиваются пунктиром, соскальзывающим куда-то за край земли.
Я теперь тоже нервничаю.
Ну где же ты, где?.. Елизавета!.. Ну возьми трубку, черт бы тебя побрал!
— А-а-а!.. — раздается истошный крик.
Я оборачиваюсь: обводка Портала горит багровым огнем. Женщина, которая с девочкой, всем телом колотится о непроницаемую мембрану.
Доносится издевательски вежливый голос:
— Здравствуйте! Мы рады вас видеть!.. Я — робот Си-Три… Извините, пожалуйста, у вас нет визы, мы не можем вас пропустить…
Двое солдат подхватывают женщину под руки и волокут в сторону, чтобы освободить проход.
Она кричит:
— Подлецы!.. Мерзавцы!.. Возьмите нас!.. Помогите, люди!.. Нас всех здесь убьют!..
Вместо голоса у нее — дикий кошачий визг.
— Уберите эту идиотку к чертям!.. — рычит полковник Круглов.
Картинка вдруг начинает разваливаться на фрагменты. Раздается громкий, тупой удар, словно с размаху влепили громадным молотом по земле. Затем — еще один и еще. Часть бетонного ограждения — слева, метрах в пятидесяти от ворот — вспучивается, разламывается на куски, напором извне опрокидываются еще две-три смежные секции, и людская громокипящая лава стремительно извергается к нам, внутрь. Я вижу, как пытаются перестроиться бойцы ОМОНа напротив ворот, но не успевают — человеческая волна отбрасывает и поглощает их; вижу, как беззвучно выкрикивает команды полковник Круглов, выхватывает пистолет, стреляет в воздух, тут же падает, смятый той же волной. Все как бы бесится и подпрыгивает: Сара и лейтенант Ходаков бесцеремонно оттесняют меня назад, стреляют они не поверх голов, а в землю, под ноги, короткими аккуратными очередями, именно эти острые земляные фонтанчики сдерживают перед нами накат толпы. И все равно через мгновение их обоих куда-то сносит, волна ударяет сбоку, они исчезают, но к тому времени я уже оказываюсь за сферой защитного поля — я ведь единственный человек на Земле, которому, чтобы его пересечь, не нужен специальный Портал. Изнутри поле почти прозрачно, я вижу, как в конвульсивном безумии бьются о него человеческие тела, как колотят в него палки и кулаки, как расплющиваются притиснутые к нему, искореженные ненавистью физиономии. Я вижу, как деловито проталкивается вперед парень в пятнистом комбинезоне, вскидывает автомат и выпускает по мне длинную очередь. Я даже не пытаюсь отшатнуться от нее или упасть: пули мелкими плазменными хризантемами вспыхивают на защитном поле и тут же гаснут. Я воспринимаю их лишь краем сознания, потому что одновременно, не знаю как, вижу сквозь них нечто совершенно иное: пятерых раскоряченных, точно орангутаны, людей, их светящиеся красным глаза, их ощеренные клыкастые рты, брызжущие слюной, — они надвигаются, они жутко возбуждены в предвкушении жертвы, а еще один человек, распластанный, лежит на земле: голова его вывернута, пальцы скребут твердый дерн, он умирает, из-под него выползает темная лужица крови… Я чувствую, что это где-то неподалеку, где-то вон там, примерно в том направлении. Это, как стрелку компаса, притягивает меня. А еще я чувствую ошеломляющий страх, от которого слабеет и оседает все тело. Он залепляет мне нос, уши, глаза. Он затопляет мозг, он костлявыми пальцами сдавливает мне сердце. Надо спасаться, надо опрометью бежать от него, но бежать некуда — вокруг те же самые, дергающиеся от возбуждения орангутаны. Сейчас они будут рвать меня на куски…
И даже не это главное.
Главное — понимание, которое возникает у меня в следующую секунду.
Понимание, пронзающее меня с головы до ног: весь этот ужас я вижу глазами Лизетты…
Положение ухудшалось уже не с каждым днем, а фактически с каждым часом. Даже контакт с арконцами (с иным разумом!), даже глобальная экономическая депрессия отходили куда-то на периферию. На первый план, затмевая все остальное, выдвигались совершенно иные проблемы. Начала деформироваться вся система международных балансов, с громадным трудом смонтированная за последние десятилетия. Она, надо сказать, и раньше еле-еле держалась, что продемонстрировали, например, российские действия по присоединению Крыма. Здесь западные страны попали в собственную ловушку: поспешно и громогласно осудив данную акцию, они не могли отступить, не потеряв при этом политического лица. Им оставалось лишь будировать миф о «российской угрозе», чем в основном занимались крикливые прибалтийские лимитрофы. Сюжет развивался в жанре трагикомедии: сначала нарисовали портрет хищного монстра, готового всех сожрать, а потом сами же до лошадиного пота испугались его. Последовали санкции с обеих сторон, последовали резкие политические заявления. В результате отношения Европы с Россией зашли в тупик, что, замечу, не помешало европейским концернам покупать российские нефть и газ.
Теперь все это казалось детскими играми.
Текущая реальность словно взбесилась и начала пожирать самое себя.
Сербия внезапно ввела войска в Косовскую Митровицу, откуда сербов медленно, но планомерно выдавливали косовские боевики, а через пару дней присоединила к себе также и Республику Сербску (Босния и Герцеговина), где сербское население составляло подавляющее большинство. Не успел собраться по этому поводу Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, не успел Европейский парламент обрушить на Сербию град демагогических резолюций, как вспыхнуло восстание албанцев в северной и западной Македонии: «Армия национального освобождения», формировавшаяся исподволь уже несколько лет, с ходу захватила ряд поселков и городов и объявила о воссоединении края с Великой Албанией. Почти сразу же начались беспорядки в Хорватии, причины которых толком не понял никто, но переросшие в столкновения с боснийскими мусульманами. В самом же Сараево бесновались непрерывные демонстрации, требующие передать всю власть в этой сложносочиненной федеративной конфедерации ее исторически подлинным гражданам — боснякам. Верховный представитель ООН по Боснии и Герцеговине, пытаясь стабилизировать обстановку, отправил в отставку весь Президентский триумвират (коллективного главу государства) и назначил внеочередные выборы в Парламентскую ассамблею. Вечером того же дня его машина была обстреляна неизвестными лицами, убит был шофер. Правительство Македонии начало срочную мобилизацию. То же сделала и Албания, предупредившая, что она «не оставит в беде своих братьев, подвергающихся жестокому геноциду». В общем, Балканы опять задымились, подтверждая свою репутацию «порохового погреба» Европы.
Европе, впрочем, было не до Балкан. Начал растрескиваться весь европейский мир, казавшийся незыблемым после образования ЕС, Совета Европы, Европарламента и ПАСЕ. В конце сентября произошло то, чего ранее никто не мог представить себе даже в бреду: испанский военный флот внезапно подошел к берегам Гибралтара, на берег высадился усиленный армейскими подразделениями спецназ, и пока командование английского гарнизона консультировалось с метрополией, может ли оно открывать огонь по своим союзникам в НАТО, прибрежные укрепления были захвачены, испанские части торжественно пошли по улицам города. В эти же часы Испания блокировала Гибралтар с суши, на посадочные полосы аэродрома был высажен парашютный десант, и испанское правительство заявило о восстановлении суверенитета над своей исторической территорией, оккупированной Великобританией.
Англия ответила незамедлительно. Премьер-министр сэр Эдвард Виллинброк, почти единогласно поддержанный обеими палатами парламента, обвинил Испанию в «грубейшем и неслыханном попрании международных законов», «в прямой, неспровоцированной агрессии против его страны» и ультимативно предупредил, что если в течение трех суток испанские войска не будут выведены из Гибралтара, то Соединенное королевство использует все свои силы и средства для отпора захватчикам. Флот Великобритании начал сосредоточиваться в Гибралтарском проливе. Небо над ним начали барражировать истребители английских ВВС. Одновременно Англия направила жалобу в соответствующие инстанции НАТО, которое, судя по туманному заявлению генерального секретаря о «начале политических консультаций», пребывало в глубоком трансе. Испания, в свою очередь, заявила, что тоже будет отстаивать свое право на владение испанской землей всеми имеющимися у нее возможностями.
Содрогнулся «цивилизованный Запад». Казалось, возвращаются времена кровопролитных англо-испанских войн XVI — XVIII столетий. Совет Европы после бурных дискуссий осудил Испанию «за действия, противоречащие международному праву» и потребовал от нее немедленного и безоговорочного вывода войск (сама Испания участия в сессии Совета не принимала). Вместе с тем большинство членов Совета предложило Великобритании «воздержаться от поспешных ответных действий, чтобы не превратить разногласия в горячий конфликт», после чего английский министр иностранных дел демонстративно покинул зал заседаний. Образовался политический ступор. Правда, ликующая Испания тут же получила ответный удар. Уже через трое суток после начала «Гибралтарского инцидента», когда обе противостоящие стороны еще лишь обменивались угрожающими заявлениями, марокканская гвардия таким же внезапным броском захватила Сеуту и Мелилью, колониальные владения Испании на северном побережье Африки, и правительство Марокко точно так же торжественно заявило о восстановлении суверенитета над своими историческими территориями. На другой день в очередной раз провозгласила свою независимость Каталония и начала формировать собственные вооруженные силы для защиты границ, а в Стране Басков вышедшая из подполья партия «Батасуна» заявила о создании временного правительства «независимого Баскского государства», боевики ЭТА (запрещенной террористической организации) начали патрулировать улицы Бильбао.
Не лучше обстояли дела и у Великобритании. Воспользовавшись тем, что все внимание Соединенного королевства было сосредоточено на Гибралтаре, Аргентина вновь захватила спорные Фолклендские (они же Мальвинские) острова. Операция, похоже, давно готовилась, поскольку продолжалась всего двенадцать часов, несмотря на яростное сопротивление обеих расположенных на Фолклендах английских военных баз. К тому же болезненная конвульсия скрутила в эти дни самое сердце Англии: лидер мусульманской фракции в Палате общин Али Ахмад, «сумасшедший Али», как его прозвали парламентарии, объявил о создании «Дисперсной автономной Исламской республики», граждане которой отныне будут жить не по английским законам, а по установлениям шариата, «дарованным Аллахом всем народам Земли». Тут же начались акции демонстративного неповиновения мусульман, которые требовали исламских школ, исламских судов, запрета на продажу свинины и алкоголя, а в районах плотного мусульманского поселения, в так называемых «закрытых зонах», на улицы вместо полиции вышли вооруженные шариатские патрули. Что с этим делать, никто не знал. Европа опять попалась в ловушку собственной маргинальной декларативности: десятки высококвалифицированных юристов с успехом доказывали в английских судах, что право мусульман жить по законам шариата напрямую следует из принципа «свободы совести», утвержденного как «Биллем о правах» собственно Великобритании, так и «Всеобщей декларацией о правах человека» Организации Объединенных Наций.
Положение еще больше обострилось после того, как организация «Викиликс», которая уже давно стала ядовитой занозой для политических элит Запада, опубликовала секретный «План двух Европ», якобы разработанный правительственными экспертами Франции, Германии и Соединенных Штатов. Согласно данному плану нынешний Европейский Союз предполагалось разделить на две части: на сильное экономическое «ядро» и слабую, недостаточно цивилизованную «периферию». «Ядро» будут образовывать старые страны Европы: Бельгия, Германия, Франция, Италия, Голландия, Люксембург и лишь только они будут пользоваться всеми преимуществами общего рынка, а на «периферию» отойдут Балканские страны и страны Восточной Европы, права которых в новом ЕС будут «временно ограничены». Таким образом Европейский Союз сбросит груз, отягощающий его экономику, и встанет на путь динамичного, устойчивого, ускоренного развития.
Грандиозный шум, вызванный этой публикацией, был понятен: «страны периферии» почувствовали себя оплеванными. Они ощутили себя бедными и никчемными родственниками в богатой семье, которым из жалости выделили худшие места в доме. А как же «Согласие в многообразии» — девиз политического единства ЕС? А как же волшебный круг звезд на флаге ЕС, символизирующий Круглый стол рыцарей короля Артура, который, в свою очередь, подразумевает равенство всех сторон? И хотя правительства Франции и Германии яростно отрицали существование подобного плана, называли его медийным фейком, провокацией российских спецслужб, цель которой расколоть Европейский Союз, это слишком походило на правду, проступившую сквозь флер лицемерного дипломатического языка.
Все очевиднее становилась ошибка конструкторов Объединенной Европы, которые поставили телегу впереди лошади: создав единое экономическое пространство — единую валюту, единый рынок, единые тарифы на все, — они даже не попытались создать национальности «европеец». Им, видимо, это в голову не пришло. Или, возможно, они полагали, что данная социокультурная общность возникнет сама собой. Результаты такого «экономического шовинизма» оказались плачевными. Социологические опросы («Евробарометр»), регулярно проводимые в странах ЕС, неуклонно свидетельствовали, что национальная идентичность в Европе по-прежнему доминирует над европейской. Тут интересно, что европейцами в значительно большей степени считали себя албанцы, румыны, литовцы, а также почему-то нынешние украинцы, нежели традиционные европейские нации — англичане, немцы, французы. Это, кстати, непосредственным образом сказывалось и на экономике. Зачем европейцы должны помогать европейцам, понятно: мы — единый народ. А вот зачем немцы должны помогать грекам, которые просто «проели» бюджет страны, — это тяжелый вопрос.
«И вообще, — анализируя состояние Евросоюза, делал выводы польский культуролог Мартин Закревски, — единственными «настоящими европейцами» являются сейчас лишь брюссельские чиновники, получившие наибольшую выгоду от этого объединения. В определенном смысле нынешняя Европа повторяет судьбу Австро-Венгерской империи конца XIX столетия, где при всем внешнем державном блеске не существовало национальности «австриец». Никто даже не пытался ее сформировать. Упор также делался на конфедерацию наций. И потому при первом же серьезном кризисе, вызванным Первой мировой войной, величественная империя легко, «как глиняный горшок», развалилась на части».
Другую ошибку Европы, по мнению автора, породил до конца не изжитый ею «имперский синдром». Как только распался СССР, Европейский Союз поспешно, не думая о последствиях, заглотил более десятка бывших социалистических восточно-европейских стран, осуществив тем самым рискованное «имперское расширение». При этом ЕС не только перегрузил себя их слабыми экономиками, согласовать которые с европейскими экономическими структурами было достаточно тяжело, но и разбавил мировоззренческую палитру Европы провинциальным национализмом стран Прибалтики (Латвии, Эстонии и Литвы) и опять-таки не изжитым еще до конца «имперским синдромом» Польши.
И наконец трагической ошибкой Европы, писал Мартин Закревски, является механизм консенсуса, путем которого в ЕС принимаются все ответственные решения. Согласовывать по любому вопросу мнения двадцати восьми государств — это, надо сказать, труд, достойный Сизифа. Тем более что в критических случаях механизм консенсуса не работает — он слишком медлителен и выдает решения с большим опозданием. Это наглядно продемонстрировал финансовый кризис 2008 года: вместо быстрых и жестких решений, которые могли бы смягчить экономический спад, в Европейском Союзе начались долгие и муторные дебаты. Решения, разумеется, принимались, но, во-первых, паллиативные: свою лепту в них старался внести каждый из двадцати восьми членов ЕС, а, во-вторых, утверждались эти решения лишь тогда, когда существенного влияния они уже оказать не могли. В общем, полный абсурд: жильцы дома, где внезапно вспыхнул пожар, вместо того чтобы вызвать пожарных, собираются на совещание и, следуя всем демократическим процедурам, обсуждают, что следует предпринять: может быть, залить пылающие балки из чайника, или, может быть, заколотив двери, изолировать горящий этаж, или, быть может, не делать вообще ничего: оно погорит, погорит и как-нибудь погаснет само?
«Кстати, — напоминал Мартин Закревски, — история уже знает подобный пример. Это парламент Польского королевства XVIII столетия. Достаточно было любому шляхтичу крикнуть на заседании «Не дозволяю!», и решение, даже самое нужное, оказывалось заблокированным. Результат: к концу XVIII века Польша как государство перестала существовать. Похоже, что к аналогичному результату движется и нынешняя Европа».
Между тем Европа, несмотря на все инциденты, чувствовала себя еще сравнительно благополучно. Самый опасный огонь рождался все же не здесь. Главным его очагом стал Большой Ближний Восток, где пламя, стремительно разгораясь, охватывало один регион за другим. Нескончаемые судороги сотрясали бывшее Саудовское королевство. «Исламской народной армии» (переименованная «Аль-Хазгар») удалось потеснить шиитских повстанцев в провинции Аш-Шаркия (основной нефтеносный округ страны) и взять под контроль его административный центр Эд-Даммам. В ответ шииты зажгли нефтяные скважины на побережье, и жирная копоть, превращая день в ночь, повисла над Персидским заливом. Началось бегство граждан из Катара, Бахрейна и ОАЭ, где хлынули «черные ливни» и чисто физически стало невозможно дышать. «Благословенная Аравия» погрузилась во мрак. Одновременно произошел государственный переворот в Египте: к власти опять пришла партия «Братьев-мусульман», только недавно отстраненная от нее светскими генералами. Израиль заявил, что он «внимательно наблюдает за ситуацией в этой стране», и ввел войска на Синайский полуостров, где резко активизировался «Вилаят Синай», за спиной которого стояло «Исламское государство» (ИГИЛ). Снова вспыхнула гражданская война в Алжире, где развалился режим Джебара Ясмина, продержавшийся у власти более восемнадцати лет. В Ливии «народный маршал» Максат внезапно взял Триполи и объявил себя президентом страны. Военные перевороты произошли также в Таджикистане и Туркменистане: обе среднеазиатские республики оказались захлестнутыми волнами хаоса. В который раз объявил о своей независимости Белуджистан и сумел остановить на своих границах правительственные войска. То есть собственно Пакистан перестал существовать как единое государство.
Политическое землетрясение докатилось и до России, которую «долгоиграющий» президент страны, находясь, видимо, в эйфории от стремительного роста цен на нефть, объявил «островом стабильности и благополучия». Точно взорванный этой неудачной метафорой, внезапно забурлил Красноярск. Многотысячная толпа заняла здание местной администрации, все чиновники были оттуда изгнаны, и тут же, на площади, избран был «народный губернатор и мэр», который под громовые аплодисменты провозгласил, что теперь все средства, заработанные краем и городом, будут оставаться исключительно здесь и пойдут на улучшение жизни сельских жителей и горожан. «А Москве — шиш!» — сложив из пальцев соответствующую фигуру, крикнул он… Мания региональной субсидиарности охватила страну. Через три дня «народные мэры» были избраны уже в двадцати восьми городах, а к концу недели число их достигло семидесяти шести. Впору было отмечать красными флажками на карте «триумфальное шествие народной власти». Полиция после первых двух-трех столкновений предпочитала сохранять политический нейтралитет (как сказал один из рядовых полицейских в интервью телевидению: «Нам же тут дальше жить»), а части Росгвардии были стянуты в столицы национальных республик и в крупнейшие мегаполисы, которые российская власть надеялась удержать. Судя по всему, в России начинал зарождаться очередной революционный шторм.
Подземные толчки следовали один за другим. Трескалась земная кора, извергалась раскаленная магма. Дым и пепел пожаров затмевали тусклое небо. Все, что копилось десятилетиями и веками, теперь выплескивалось наружу. Никто не мог понять, как потушить этот жадный огонь. Аналитики и советники глав государств пребывали в растерянности. Управленческие элиты тонули в потоках невразумительных слов. Резолюции и решения, поспешно принимаемые ООН, мгновенно сгорали, не оставляя после себя никаких следов. В этой обстановке нарастающего геополитического кошмара мало кто обратил внимание на обмен предупредительными выстрелами американского и китайского крейсеров в Восточно-Китайском море недалеко от спорного архипелага Сенкаку (Дяоюйдао), закончившегося, впрочем, ничем (крейсера разошлись), и уж точно незамеченными проскочили в лентах новостей сообщения о столкновениях украинской армии (подвластной Киеву) с ополченцами «независимого государства Галичина» (подвластной Львову), лишь украинский министр иностранных дел (стрижка дворовым бобриком, нелепый мятый костюм), которому на очередной сессии Генассамблеи не предоставили микрофон, встал у здания ООН в Нью-Йорке, держа над головой плакат, призывающий «все мировое сообщество осудить агрессию России против свободной и демократической Украины»…
Оказывается, ад выглядит так: овеществляется страшный сон. Насколько хватает глаз, раскинуто вокруг железное кладбище автомобилей. Их тысячи, может быть, десятки тысяч: легковушки, грузовики, пикапчики, микроавтобусы, внедорожники. Упирается бампером в рытвину «волга» еще советского образца, пара, видимо, армейских фургонов, прижавшись друг к другу, вздымают полукруглые ребра, с которых содран брезент. Валяются искореженные велосипеды. Проглядывает неподалеку даже желтое тулово «катерпиллера», придавленное металлическим суставом ковша. И между всем этим захоронением страстной тщеты, между останками суетливых надежд — путаница веревок, растоптанные, смешанные с землей джинсы, майки, рубашки, вскрытые консервные банки, пластиковые бутылки из-под воды — на них оскальзывается нога, — кучи дерьма, ворохи грязных тряпок, от которых исходит запах, выворачивающий внутренности и душу… Уже брезжит рассвет, все видно вполне отчетливо. И единственное отличие от жутковатых ночных фантазмов — нет оглушительной людской пустоты. Напротив, вокруг — тоже тысячи, может быть, десятки тысяч людей, мечущихся в беспамятстве, натыкающихся друг на друга. Они несутся сразу во все стороны, оступаются, падают, сшибают с ног тех, кто слабее, топчут лежащих, дико кричат. Крик вообще такой, что кажется, будто воздуха нет, вдыхаешь вместо него этот крик, и он заполняет тебя, как вода в глубине, хлынувшая в рот, в ноздри, в уши…
Конечно, Лизетта и раньше знала, что творится возле арконских Станций: в сети было полно роликов и фотографий на данную тему, но ей все же казалось, что здесь будет как-то иначе, спокойней, что ли, организованней, упорядоченнее. Не зря же данной Станцией руководит (руководит ли?) отец. И вдруг — конец света, видела она как-то такую олеографию: люди с выпученными глазами, раскинув руки, бегут к пропасти по белым костям. Главное — ничего не понять. Из всего заполошного крика вырисовывается лишь одно: арконцы уходят! Этот рейс из Купола на корабль, видимо, будет последний! Тут даже дядь Леша несколько растерялся. Еще час назад всех разбудил, сообщил новость, пыхнувшую маревом в интернете, сказал, что если они хотят отсюда выбраться, то идти надо прямо сейчас: «Только не потеряться!.. Группой, группой… Слышите… Держимся вместе»… Но как тут вместе удержишься? Первая же нахлынувшая волна разметала их в разные стороны. Лизетта едва успела заметить, как мелькнула, точно рыба в реке, протянутая рука Павлика — они так и не успели сцепиться, — как заколотилась в истерика оттесняемая куда-то Тетка, как не своим голосом закричала Ираида Игнатьевна: «Павлуша!.. сынок!..», как безуспешно пытается пробиться к ней Зиновий Васильевич, и как самого дядь Лешу затягивает и относит людским потоком все дальше и дальше…
Она уже не видит знакомых лиц. Сдавливают ее так, что выжимается из легких последний воздух. Его катастрофически не хватает. Только бы не упасть, тогда — верная смерть!.. Ее закручивает винтом, наступают на ноги, больно… Ужасно выворачивается рука, попавшая между двух бьющихся тел… Лизетта с трудом, со всхлипом выдергивает ее… Она кричит вместе со всеми, пытается защитить лицо, ударяется обо что-то спиной, ее выбрасывает к трейлеру, накренившемуся как будто он вот-вот рухнет на бок. Слева от него — узкая щель… Обдирая бедра и локти, Лизетта протискивается туда… За трейлером обнаруживается спасительное пустое пространство. Сюда не так просто попасть: оно огорожено приткнутыми вплотную машинами. Крохотный такой закуточек, сонный глаз бури. Внутри Лизетта видит безобразно сплющенную коляску. Колеса ее наполовину увязли в земле, а между ними, прислонившись к гармошке из кожи и проржавевших, обмахренных частей, сидит девочка лет пяти в грязноватом розовом платье с полуоторванным воротничком.
Девочка говорит неестественно тонким голосом:
— Я все жду здесь и жду… Мама велела ждать… А никого нет и нет…
Чувствуется, что из-под натертых век сейчас хлынут слезы.
Лизетта останавливается, чтоб отдышаться.
Воздух вырывается из груди перегоревшими остатками смерти.
— Подожди… Ты здесь откуда?
— Из Костромы, — сообщает девочка. — Мама сказала, что мы полетим на планету, где у нас будет свой дом… Она скоро придет?..
— Скоро, скоро, — успокаивает ее Лизетта. Вытаскивает сотовый телефон, тычет судорожными пальцами в один номер, в другой… Ни Павлик, ни дядь Леша не отзываются. Чуть прерывистые, слабенькие гудки проваливаются неизвестно куда. То же самое — Зиновий Васильевич… Не до нее им сейчас. Их, видимо, еще тащит и крутит клокочущее людское варево.
— Ты маме звонишь? — интересуется девочка.
Лизетта пытается изобразить улыбку на своем стиснутом испугом лице.
— Что-то барахлит телефон…
Но, как ни странно, ей становится легче. Под взглядом девочки она словно взрослеет сразу на несколько лет. Чужая тревога несколько отрезвляет ее. Все не так уж и плохо. Главное, что осталась жива, а ведь могла бы лежать сейчас, втоптанная в липкую грязь.
Теперь надо выбираться отсюда.
Она присаживается на корточки.
— Давай знакомиться. Тебя как звать?
— А фамилия?
— Маша Быстрова. Рабочий проспект дом пять, квартира семнадцать.
— А меня Лизой зовут, — говорит Лизетта. И продолжает серьезным, деловым тоном: — Вот что, Маша Быстрова, я вижу, ты молодец: все знаешь, все помнишь, ничего не боишься. Значит, сейчас сделаем так. Мы с тобой пойдем искать твою маму. Ты двигаться можешь?
— Да… Но у меня ножка болит…
Выше съехавшего носка багровеет царапина, едва схватившаяся свежая кровь.
— Ничего, это пройдет… Только не трогай ее…
Заклеить бы пластырем. Но где его взять? Лизетта с сомнением оглядывается на трейлер. По идее, там должна быть аптечка, но оттуда, из открытого настежь окна — она ясно чувствует — тянет приторным, сладковатым запахом, от которого ее сразу же начинает мутить. Она запрещает себе даже думать, что это за запах.
Встряхивает головой.
— Машенька, посиди здесь чуть-чуть, подожди меня…
— Ты куда?
— Да никуда. Я не ухожу, я — тут. Просто надо бы посмотреть вокруг.
— Чтобы понять, в какую сторону нам идти. Машенька, не волнуйся, я — быстро…
Стараясь не думать о запахе, доносящемся изнутри, она вскарабкивается на упор, соединяющий трейлер с машиной, потом — на порожек дверей, зачем-то обитый войлоком, цепляется за ребро крыши, с трудом подтягивается. Левый локоть пронзает неожиданной болью. Лизетта вскрикивает, но все же кое-как выползает наверх, осторожно приподнимается на четвереньки, на корточки, наконец выпрямляется. Она еще раньше обратила внимание, что безумный, панический вой, надрывающий уши, постепенно стихает, слабнет, спадает, превращается в гомон, волнами перекатывающийся в отдалении, а теперь, с крыши трейлера, заслоняясь ладонью от корочки солнца, высунувшейся из-за леса, видит, что толпа с кладбища автомобилей почти вся утянулась по направлению к Куполу. Это достаточно далеко отсюда, тем очевидней становится разница: здесь — скопище мертвых машин с одинокими, потерянными фигурами между ними, там — темный, будто сход селевого потока, колышущийся человеческий студень. Она видит безнадежно увязший в нем желтый автобус и завихрения, сжимающие его, как кольца удава. Все выглядит игрушечным, несерьезным из-за расстояния, однако понятно: и думать нечего, чтобы пробиться с Машенькой сквозь это столпотворение. Для них серый купол Станции недостижим. Ну и бог с ним, значит, лететь на Терру ей не судьба, осваивать новые земли будут другие.
Она даже испытывает некоторое облегчение. Больше не надо мучиться неуверенностью, все решилось само собой. Только бы знать еще, как там Павлик? Только бы он был жив, только бы уцелел. Бог с ней, с Террой! Ведь он же не улетит без нее?.. Ладно, не об этом сейчас надо думать. Лизетту будоражит странная, почти детская радость. Ей хочется немедленно позвонить Анжеле и изо всех сил закричать: «Мамочка, не беспокойся!.. Я остаюсь!.. Не волнуйся, пожалуйста, я здесь, я живая, я возвращаюсь домой!»… Правда, радоваться пока еще рано. Сперва им следует выбраться из этого дурно пахнущего гадючника. Лизетта прикидывает, что тут можно было бы предпринять. Понятно, что через Бельск им с Машей идти нельзя, они попадут в ту же самую ополоумевшую от страха толпу, но вот если двинуться через реденький еловый лесок, вон туда, направо от трейлера, недалеко, всего метров пятьсот, то можно выйти на проселочную дорогу, там вроде бы — никого, уже неплохо, а любая дорога в конце концов куда-нибудь приведет.
Значит, так и решим.
Она бережно съезжает по стенке трейлера. Локоть еще побаливает, но, кажется, ничего серьезного. В конце концов не на четвереньках же она поползет.
Машенька тут же требовательно спрашивает ее:
— Увидела маму?
— Мама твоя довольно далеко отсюда, — говорит Лизетта. — Придется долго идти. Ты готова? Как там твоя нога?
— Ножка больше не болит, — гордо отвечает Машенька. И берет ее за руку. — Ну!.. Пошли!..
Если честно, Лизетте не очень хочется покидать это безопасное место. Лучше бы тут отсидеться, чуток переждать, но неизвестно ведь, сколько придется пережидать. Быть может, несколько дней. А вода (уже хочется пить), а еда, а девочка эта? Вообще, что будет, когда разочарованная толпа хлынет назад?
Она строго глядит сверху вниз:
— Машенька, давай договоримся с тобой. Ты будешь меня слушаться, вести себя хорошо. Не капризничать, не хныкать, не уставать. Главное — не отходи от меня ни на шаг. Иначе мы заблудимся и маму твою не найдем. Ты поняла?
— Я очень послушная, — отвечает Маша. — Только давай уже будем идти…
Они боязливо протискиваются наружу. За какие-то считаные минуты совсем рассветает, воздух становится чуть белесым, прозрачным, как сильно разведенное молоко. Лизетта прикидывает, что им вроде направо, да-да, вон туда, где растоптанная до грязи тропинка выводит на окраину этой затхлой помойки. Они с Машей аккуратно перебираются по камням и ворохам иссохших ветвей. На них оглядываются: оказывается, что далеко не всех смыла паническая волна, довольно много людей переминается возле своих машин, не понимая, по-видимому, то ли бежать им, то ли оставаться на месте. Слава богу, страшилища в черном плаще, черной шляпе, черных очках, чего Лизетта втайне боялась, средь них не видно, но уже через пару минут раздаются сзади торопливые, чавкающие шаги, их настигают несколько человек:
— Стой, девка!.. Стой, мать твою перемать!.. Стоять, кому говорят!..
Чуть не сшибая с ног, их перегоняют двое парней, проскакивают немного вперед, загораживают дорогу, и тут же протискиваются откуда-то еще двое, нет — трое, вместе с ними — Сынок: заплывший до щели глаз, разбитые, вспухшие губы, струйка крови сочится на подбородок.
Еще один парень звонко хлопает его по спине, пропихивая поближе:
— Эта, что ли?
— Эта, — подтверждает Сынок и обжигает Лизетту взглядом горячей ненависти. После чего всхлипывает. — Ребята, вы обещали меня отпустить…
— Обещали, обещали, не сепети, — говорит парень, который сзади. — Мы свои обещания выполняем. — Внезапно почти без замаха, но очень сильно бьет Сынка по затылку. У того дергается голова, он делает по инерции шаг вперед и вдруг обрушивается, как вязанка дров — лежит, слабенько, конвульсивно подергиваясь.
Лизетта вскрикивает.
Облако темного ужаса окутывает ее точно в недавнем сне.
— А… а… а… — выдавливает из себя Машенька. — Лиза… я их боюсь…
— Спокуха, спокуха… — говорит парень сзади, видимо главный. У него плоская и широкая, как лопата, физиономия, из которой выпирает наростом бугорчатый нос. Глаза — в желтоватой, нечистой обводке век. — Ты, мать, главное, делай, что мы тебе говорим, останешься целой… Ну — поняла?.. Тогда не тронем тебя.
Один из парней ржет:
— На хрен ты нам сдалась!..
— Заткнись, Чума, — говорит главный парень. — Не разевай пасть.
У Лизетты немеют колени. Она чувствует, что ноги ее сейчас согнутся, как макаронины, она сядет, не разбираясь, прямо в черную грязь. Откуда эти парни взялись? Те же самые, что ли, которые убили Чинка? Нет, она видит уже, что не те же самые. Сколько ж, оказывается, всяких уродов повылезало из темных щелей.
Мир теперь будет состоять только из них?
— Ну ты что, мать твою так, не поняла?
Машенька вдруг начинает плакать. И даже не плакать, а тоненько, как котенок, повизгивать, тряся обеими ладонями перед собой.
Главный морщится.
— Заткни ее, — распоряжается он.
Тот, кого назвали Чумой, хватает Машеньку за руку и дергает вбок.
Машенька падает.
Плач переходит в отчаянный рев.
— Что вы делаете? — беспомощно восклицает Лизетта.
И вдруг, сама не ожидая от себя такого, впивается ногтями в лицо Чуме. Чувствует, как раздирается под ними теплая мякоть щек. Чума ошарашенно взрыкивает. Тут же кто-то хватает Лизетту сзади и выворачивает ей руку, пригибая чуть ли не до земли.
Боль такая, что Лизетта тоже кричит.
— Полегче, полегче, — говорит главный. — Она нам пригодится еще…
— А че, хорошо стоит… Давай сначала ее…
— Зема, хорош базлать!..
Сзади рассудительно говорят:
— Слышь, Смурной, а у нас точно выгорит? Что-то я сомневаюсь.
— Зема, не бзди!.. Если они из-за обезьян черномазых задний ход дали, то из-за белой девки вообще будут ссать кипятком. Тем более — дочка ихнего подпевалы… Как начнем ее на кусочки рубить — враз в люкс поселят и всю дорогу пиво нам будут таскать.
— Прихватим ее с собой. Папахен-то ее тоже летит. Доедем, может быть, и вернем… А уж на Терре, братва, будем сами себе короли!
Хватка сзади ослабла. Лизетта немного выпрямилась. И тут же ощутила на коже, у рта, холодный гладкий металл. Главный как-то очень умело прижал ей нож к верхней губе. Плоское лицо было почти вплотную.
— Не дергайся, — с ласковой угрозой предупредил он. — Запоминай: ты сейчас с нами пойдешь, к Станции, и будешь делать, что тебе говорят. А выпендриваться начнешь — отрежу нос. Вот так, смотри — чик, и нет…
Лезвие чуть двинулось вверх.
У Лизетты перед глазами все расплывалось. Весь мир был в слезах и потому виделся, как сквозь дрожащий туман. Она боялась пошевелиться. Лишь самым краешком зрения неясно отметила, что из прохода, из-за горбатого внедорожника, откуда эти парни взялись, выскользнула какая-то колеблющаяся фигура.
Вроде бы даже знакомая.
Сообразить она не успела.
Человек в проходе вытянул руки вперед и распяленными, судорожно согнутыми ладонями что-то толкнул.
Толкнул редкий белесый воздух.
Толкнул пустоту.
И тем не менее из пустоты этой плеснуло ей прямо в лицо темной волной, тело вдруг ослабело; искорками, мелким покалыванием промчался по нервам электрический ток, ноги все же согнулись, как разваренные макаронины, и Лизетта, мгновенно перестав видеть, слышать, дышать, провалилась куда-то — в неощутимую, бездонную черноту…
Книге Йозефа Ганки, профессора Пражского университета, «Подлинная Атлантида» исключительно не повезло. Появись такое исследование лет десять — пятнадцать назад, оно стало бы сенсацией мирового масштаба. Еще бы: таинственная рукопись, вынырнувшая из глубины веков, загадочный язык, на котором она написана, не имеющий аналогов среди языков Земли, ее явная перекличка с не менее таинственным «манускриптом Войнича», привлекшем к себе внимание еще сто лет назад, и наконец главное — это первое, пожалуй, действительно достоверное, в научном смысле данного слова, свидетельство о существовании мифической цивилизации.
Сама история находки рукописи, приписываемой Холиусу Скриптору, история ее спасения, расшифровки и представления в научной среде могла бы стать сюжетом голливудского боевика. Профессор Ганка обнаружил данную рукопись в хранилище Национального Йеменского музея, в Сане, и поначалу особого внимания на нее не обратил. Областью его интересов была история зейдитов («умеренного» течения шиизма, которое в VIII веке нашей эры основал Зейд ибн Али). О существовании «манускрипта Войнича» он тогда не подозревал. Обстановка в Йемене в это время была катастрофическая. Только что в результате бурных народных волнений, вылившихся в настоящую революцию, был свергнут президент Салех, правивший страной более тридцати лет, к власти в Сане пришли хуситы (кстати, исповедовавшие зейдизм). Образовался некий Революционный совет, но наряду с ним — несколько политических группировок, каждая со своими вооруженными силами. Тут же последовало вторжение в Йемен коалиции десяти суннитских арабских стран, рассматривавших победу шиитов, поддерживаемых Ираном, как прямую угрозу себе. Начались бомбежки столицы, стало быстро увеличиваться число сторонников так называемого «Исламского государства» (ИГИЛ). И хотя статус профессора Ганки (исследователь зейдизма) обеспечивал ему относительную безопасность (возле музея был даже выставлен пост из трех хуситских бойцов), но и сами хуситы, и их противники не раз заявляли, что уничтожат все культурные памятники, противоречащие исламу, в том числе — все «еретические книги», «черную желчь неверных», скопившуюся в библиотеках. Они следовали тем же правилам, что и халиф Умар ибн аль-Хаттаб, который, приказав сжечь Александрийскую библиотеку, изрек: «Если в этих книгах говорится то же, что и в Коране, они излишни; а если другое — они вредны». Было понятно, что рукопись на неведомом языке, да еще содержащая картинки обнаженных женщин, одна из первых сгинет в огне. Вместе с заведующим хранилища было решено, что надежней всего будет вывезти наиболее ценные экспонаты из Йемена, временно скрыв их в какой-нибудь спокойной европейской стране. Так рукопись Холиуса Скриптора оказалась в Праге. А каким образом профессору Ганке удалось протащить «контрабанду» через четыре таможни — надо спрашивать у него.
Далее же в игру вступил случай, блажь капризной судьбы, заставляющая историю течь совершенно иным путем. Рукопись могла пролежать в хранилище Пражского университета, никем не востребованная, до конца времен, тем более что в официальную инвентарную опись она по понятным причинам внесена не была, но тут совершенно случайно — случайно, подчеркнем еще раз — на глаза профессору Ганке попалось изображение «манускрипта Войнича», всплывшее в потоке научных вестей, и всё — сверкнула молния, грянул гром, разверзлись хмурые небеса, просиял свет истины, узреть который удается лишь немногим счастливцам.
Здесь следует сказать несколько слов об этой тоже весьма загадочной книге, которая будоражила умы специалистов уже целый век. Михаил Леонардович Войнич, подданный Российской империи, польский революционер, библиофил, антиквар, кстати, муж Этель Войнич (Этель Лилиан Буль), написавшей знаменитый роман «Овод», приобрел рукопись, позже получившую название по его имени, в 1912 году, когда Общество Иисуса (орден иезуитов) начало тайную распродажу редкостей из своих архивов. «Манускрипт Войнича» представлял собой двести сорок страниц тонко выделанного пергамента, содержащих текст на неведомом языке и красочные изображения странных, никому неизвестных растений. Многочисленные попытки расшифровать этот текст, предпринятые в том числе и группой криптоаналитиков Агентства национальной безопасности США (NSA), оказались бесплодными. Удалось лишь установить, что текст написан не на искусственном, а на естественном языке и, скорее всего, не на европейском, а на одном из восточных. В качестве основы предлагались самые экзотические варианты: тибетский, бирманский, кхмерский, лаосский, маньчжурский, ацтекские языки. Ни один из них успеха дешифровщикам не принес.
Неясным оставалось и происхождение манускрипта. Метод радиоуглеродного анализа показал, что пергамент его был изготовлен в первой половине XV века — заря Кватроченто, эпоха европейского Возрождения. Однако это не означало, что манускрипт не мог быть списком (копией) более раннего произведения или что текст его, напротив, не был написан значительно позже: чернила на основе железистых соединений галловой кислоты использовались в течение всего Средневековья и далее — вплоть до конца XIX столетия. По некоторым данным, книга одно время принадлежала императору Священной Римской империи Рудольфу II, который заплатил за нее (кому?) целых шестьсот дукатов (около двух килограммов золота). Но это и все, что удалось установить.
Недоумение вызывали также иллюстрации книги, прежде всего фантастические растения, неизвестные ни тогдашней, ни современной ботанике. Исходя из структуры текста и изображений, можно было предполагать, что «манускрипт Войнича» представляет собою либо фармакопею (лечебник), либо более общий справочник по биологии, медицине и астрономии (к каковой были отнесены несколько загадочных схем): набор весьма характерный для эпохи зарождения первых наук. Невольно приходили в голову мысли о мистификации. В качестве авторов такой «шутки» назывались и Роджер Бэкон (богослов, естествоиспытатель, XIII век), и Джон Ди (личный астролог королевы Елизаветы I, математик, алхимик, XVI век), и Эдвард Келли (сотрудник Джона Ди, тоже алхимик, медиум), и Якоб Горжчицкий (личный врач императора Рудольфа II), и Иоганн Маркус Марци (ректор Пражского университета, это уже XVII век), и даже сам Михаил Войнич. Правда, оставалось неясным, зачем им это понадобилось. Какими мотивами они могли руководствоваться? Главным же аргументом против мистификации служило то, что, согласно компьютерному анализу, текст «манускрипта Войнича» написан был, как мы говорили выше, естественным языком, а создать полноценный язык с его неисчерпаемым словарем, сложными грамматическими правилами, внутренним согласованием, исключениями — работа непосильная для отдельного человека.
В общем, «манускрипт Войнича» оставался загадкой, до тех пока на него не упал взгляд профессора Ганки. По словам профессора, он навсегда запомнил этот удивительный миг, когда, из чистого любопытства пройдя по случайной ссылке, он узрел в скане таинственного «манускрипта» тот же самый язык, что и в вывезенной им рукописи Холиуса Скриптора. Профессор вспоминал, что несколько секунд он, не веря своим глазам, смотрел на экран, а потом издал такой крик, что в кабинет прибежала перепуганная жена.
Дальнейшее было вопросом техники. Холиус Скриптор (реальный христианский монах IV века н. э.) делал список (копию) с более ранней рукописи, чего не скрывал, и скопировал, к счастью, не только сам текст, но и обширные примечания к нему на древнегреческом языке, где неизвестный автор (предыдущий копиист, судя по всему из Афин), вероятно, знавший оригинальный язык документа, пояснял значение отдельных терминов и выражений. Это была своего рода билингва, а значит дешифровка ее сводилась к трудоемким, но уже отработанным в криптолингвистике операциям. К тому же в рукописи сохранилось предисловие самого Холиуса Скриптора, и это сильно облегчило задачу. Перевод обоих текстов был сделан в кратчайшие сроки, и можно себе представить изумление и даже испуг профессора Ганки, а также ассистентов, помогавших ему, когда в нем (в переводе) почти сразу всплыло именование — Атлантида.
Волнение профессора можно было понять. Рассуждения об Атлантиде в наши дни прочно утвердились среди спекулятивных доктрин, наряду с рассуждениями о древних «магических цивилизациях», палеоконтакте (звездных пришельцах, посещавших Землю в незапамятные времена) или расе «гиперборейцев», якобы положившей начало современному человечеству. Публиковать такие данные было равносильно научному самоубийству. Любого, кто рискнул бы сделать подобный шаг, тут же обвинили бы в стремлении к дешевой сенсации, и его репутация серьезного исследователя погибла бы навсегда. Сомнения мучили профессора Ганку довольно долго, и все же статья, написанная нарочито сухим, предельно кратким, бесцветным академическим языком, была отослана в солидный научный журнал и, что любопытно, после долгой дискуссии с редколлегией и рецензентами все-таки напечатана.
И вот тут мы вернемся к тому, с чего начали наши заметки. Если бы эта статья была опубликована лет десять — пятнадцать назад, она, несомненно, стала бы оглушительной, просто глобальной сенсацией. Можно представить, какая бы буря эмоций разразилась вокруг нее, какие вскипели бы страсти, какой невообразимый шум подняла бы желтая пресса. Но в те дни, когда — без преувеличений — дымился весь мир, когда сотрясали планету события гораздо больших масштабов, когда вплотную приблизился к нам смертный рубеж, высвечивающий небытие, когда казалось, что все человечество, утратив разум, ринулось в воронку самоуничтожения, на публикацию в специализированном научном журнале мало кто обратил внимание. Мелькнуло несколько сообщений в новостных лентах, и все. Сенсация, конечно, все равно была, были обвинения в торопливости, легковесности, даже в фальсификации данных, были письма в редакцию, были требования провести «независимую экспертизу», профессор Ганка что-то на них отвечал, но все это не вышло за пределы узких научных кругов.
Мир этой сенсации не заметил.
Мир в эти дни обсуждал скандальные претензии кинозвезд, которые не получили визы на Терру.
Между тем, как нам кажется, открытие профессора Ганки заслуживает самого серьезного отношения. Более того, особое значение оно имеет именно для нашего времени. И дело тут, конечно, не только в подтверждении древнего мифа. Дело в том, что, оказывается, на Земле уже существовала уникальнаявысокоразвитая цивилизация, которая бесследно сгинула в пучине веков.
Почему атланты опередили в техническом развитии другие народы Земли — это отдельный вопрос. Чисто гипотетическиМможно предположить, что здесь сошлось, как в фокусе, исключительно редкое совпадение нескольких благоприятных факторов: изолированная территория (остров), препятствующая набегам соседей, мягкий климат, плодородные почвы, насыщенные в результате деятельности вулкана минералами и микроэлементами — высокие урожаи и демографическая пролиферация, рост населения, что, в свою очередь, позволило атлантам гораздо раньше других сформировать творческую элиту, обеспеченный «праздный» класс, могущий посвятить себя науке, философии и искусствам. Более того, судя по тексту рукописи, атлантам еще за десять тысячелетий до нашей эры удалось пробить так называемый «индустриальный барьер», то есть освоить начала машинной цивилизации, чего не сумела сделать цивилизация Древнего Рима, хотя вплотную подошла к этому рубежу. Ведь древним римлянам были известны и высокие технологические температуры, и плавка металлов, и конструирование механизмов, которому римляне научились у покоренных греков, был даже построен прообраз парового двигателя — эолипил Герона, первая паровая турбина, переводящая тепловую энергию в кинетическую. И все же индустриальный барьер почему-то не был преодолен. Риму не хватило какого-то крохотного умственного усилия, какой-то творческой искры, чтобы сделать этот последний, решающий шаг. В итоге от него сохранились лишь полуразрушенный Колизей, колоннады величественных строений, несколько акведуков, мощенные камнем дороги, которыми, кстати, пользуются до сих пор. Но сама римская цивилизация растворилась в пространстве небытия. Мы о ней помним, но ее больше нет.
От цивилизации атлантов осталось еще меньше. Конечно, не исключено, что теперь, когда существование Атлантиды, кажется, подтверждено, начнутся целенаправленные поиски ее исторического наследия. Только вот где их вести? Никаких географических сведений рукопись Холиуса Скриптора не содержит. Судя по всему, она представляет собой лишь фрагмент более обширного описания, значительная часть которого до нас не дошла. Однако и того, что есть, вполне достаточно, чтобы пересмотреть наши знания о древней истории человечества и даже об эволюции «человека разумного» вообще, поскольку атланты, биологически вне всяких сомнений относящиеся к роду хомо, тем не менее представляют собой другой вид (скорее подвид) человека: их древний генный материал, возможно, включен в наш геном.
Разработка этих проблем — дело будущего. А для нас, для современного человечества, гораздо важнее другой вопрос. Почему Атлантида при всем ее очевидном могуществе, при всей ее высокой культуре и технологической развитости бесследно исчезла с лица Земли? Что послужило причиной гибели великой цивилизации? Какой темный рок обрушился на процветающее государство атлантов?
И вот тут рукопись Холиуса Скриптора дает, если и не ясный ответ, то достаточно правдоподобный намек. Геологически Атлантида представляла собой вулканический остров. Этим слабым, но постоянным «магменным подогревом», видимо, объясняется и благоприятный климат ее в конце последней эпохи оледенения, и насыщенность почвы нужными микроэлементами. Это была такая «Земля Санникова» среди льдов, что и обеспечило Атлантиде более ранний старт, чем остальным человеческим популяциям. Разница составляла, как можно предполагать, около двадцати тысяч лет, что даже при всей медленности начальной технологической эволюции достаточно ощутимо. А далее разрыв стал возрастать, как он уже в наше Новое время возрастал между Западом и странами Третьего мира. Более того, наличие «слабо дышащего» вулкана позволило атлантам использовать его как источник геотермальной энергии. Судя по отдельным эпизодам, содержащимся в рукописи Скриптора, Атлантида создала обширную систему подземных шахт, куда закачивалась холодная морская вода (возможно даже, что ледовая крошка) и откуда она поднималась наверх уже при температуре кипения. Работали как бы гигантские опреснители, удовлетворяющие спрос людей и сельскохозяйственного производства в пресной воде. Эта система шахт непрерывно расширялась и углублялась: потребности в чистой воде в связи с развитием и увеличением численности населения быстро росли. Возможно, в какой-то несчастливый момент было пробито скальное дно, отделявшее шахты от раскаленной вулканической магмы, потоки воды при разнице уровней хлынули вниз — колоссальный взрыв и последовавшее за ним извержение разбуженного вулкана уничтожили жизнь на острове буквально в несколько дней. А далее, видимо, последовал еще один катастрофический взрыв: раскололись недра и сам остров рухнул в пылающие глубины Земли. Спаслись, вероятно, очень немногие. И все же как-то спаслись, свидетельством чего является данная рукопись. Разумеется, возродить погибшую цивилизацию горстке атлантов было уже не под силу. Все, на что они оказались способны, — это записать свой скорбный рассказ, который чудом дошел до нашего времени.
А теперь обратим внимание на одно важное обстоятельство. Цивилизация Атлантиды погибла, потому что ее ученые и инженеры не сумели предвидеть последствия своих действий. Причем атлантам это, в общем, простительно. Даже при всей своей высокой культуре, несомненно превосходящей уровень тогдашних диких племен, они все-таки не обладали современными знаниями о строении земной коры и деятельности вулканов. Гибель Атлантиды при тех условиях была в известной мере предопределена. Между тем в таком же точно состоянии пребывает и нынешняя земная цивилизация. Принимаются решения, последствия которых невозможно предугадать, совершаются поспешные действия, могущие пробить наше собственное «скальное дно». Главы ведущих держав словно соревнуются между собой в приступах политического безумия. Чем это кончится, не знает никто, но, словно тучи на горизонте, нарастает предчувствие, что исполняются сроки, истекают последние дни, предел нашего существования близок: мы вот-вот переступим черту, возврата из-за которой не будет.
И потому нам стоило бы прислушаться к этому тихому голосу, стоило бы обратить внимание на рукопись Холиуса Скриптора, на это своего рода «Послание Аресибо», отправленное когда-то и кем-то из прошлого в будущее. Оно адресовано именно нам, оно летит сквозь века и тысячелетия как свет давно погасшей звезды, оно предупреждает, оно взывает к нашему разуму, и было бы фатальной ошибкой не воспринять его грозный и трагический смысл.
Через скопища машин, сгрудившихся вокруг лагеря, мы продираемся, наверное, минут сорок пять. Приткнуты они хаотично, между многими протянуты веревки, закреплены палки, доски, шесты, на которых висит сохнущая одежда. Здесь явно живут, но большинство обитателей этого лагерного сегмента сейчас, видимо, схлынуло к Куполу. Лишь кое-где заметно слабое копошение, и в двух-трех местах кучерявятся дымки первых костров. На нас никто не обращает внимания. Это нам на руку. Я уже задыхаюсь. Машенька только кажется легкой, на самом деле весит она порядочно. Павлик, который тащится вслед за мной, время от времени предлагает: «Давайте я помогу»… Но куда ему, он тем более не потянет. Пусть лучше поддерживает Лизетту, она до сих пор немного пошатывается. К тому же Павлик сильно избит: рассечена и вспухла губа, багровеет длинный кровоподтек под глазом, и еще мне кажется, что у него слегка поврежден сустав на правой руке, он как-то странно и неловко ей движет. И все же состояние его внушает надежду. Павлик очнулся буквально через пару секунд после моего жутковатого ментального выброса. Правда, Павлик находился на самой периферии темной волны, а Лизетту и тех, от кого она отчаянно отбивалась, накрыло всей ее тяжестью. Они рухнули как подкошенные. Но если Павлик очнулся, значит и Лизетта через какое-то время точно придет в себя. И я надеюсь, очень надеюсь, что придет в себя Машенька. Дышит она вроде нормально и даже — бессознательно, скорей всего — обхватывает меня руками за шею. Есть, есть надежда, Машенька обязательно выкарабкается, не может быть, чтобы все завершилось таким инфернальным ужасом…
Наконец кладбище автомобилей заканчивается. Мы выбираемся на поляну, отделенную от проселка рядом невысоких, но плотных и раскидистых елей. Я осторожно опускаю Машеньку в пружинистый мох, кладу ей пальцы на лоб, хотя этого можно было бы и не делать, прикрываю глаза и пытаюсь сосредоточиться. Экстрасенсорный контакт рождается с удивительной легкостью, и я через мгновение осознаю, что, слава богу, Машенька в полном порядке, ничего страшного, она просто спит, и ее сон, кстати целебный, мелеет сейчас как ручей, пересыхающий от жары. Уже проступает сквозь воду светлеющее дно яви.
— Все нормально, она скоро очнется, — говорю я в ответ на тревожный взгляд Павлика. Он сразу же помогает Лизетте тоже усесться на мох и приваливает ее к толстой, корявой березе, уже тлеющей желтизной. Лизетта пока еще дышит тяжеловато. Тем не менее я добавляю, тщательно подбирая слова: — Знаете что, ребята, я вас очень прошу: никогда никому не рассказывайте о том, что вы видели. Ну — как я отключил этих парней. Вряд ли вас будут об этом расспрашивать, но все-таки если будут, то постарайтесь придерживаться такой версии: вы мало что можете вспомнить. Была драка, на вас напали, вы отбивались, была сумятица, потом все они вдруг побежали к Куполу… Примерно вот так…
— Я понял, — серьезно кивает Павлик.
И я по глазам его вижу, что он действительно понял.
— Да-да, я поняла…
Ну — будем надеяться.
— А теперь нам надо выбираться отсюда.
Сказать это намного легче, чем сделать. Ближайшие к нам машины стоят на ободах, шины у них спущены и продавлены, радиаторы уткнулись в тот же белесый мох. А если среди них и найдется одна, годная к передвижению, то как ее завести и, главное, — протащить через разномастный металлолом. Идти же пешком Лизетта явно не может. Да и мне тоже Машеньку не донести.
— Может быть, носилки сделаем? — предлагает Павлик. — Вы не думайте… Я вполне — ничего… Потащу…
Я поднимаю ладонь:
Становится слышен рык приближающегося мотора.
— Ложись!..
Мы дружно растягиваемся во мху. На проселок за елями выползает джип с затененными стеклами, останавливается, из него выбираются трое парней в пятнистых военных комбинезонах. И еще один, за рулем, свесив ноги наружу, остается внутри.
Ему говорят:
— Ты тут поглядывай!
— Бачура!.. Будь спок!
Насколько я понимаю, это «чистильщики», попросту мародеры: обдирают брошенные машины, забирают, что поценней, иногда вытаскивают, угоняют их целиком, ну и попутно грабят всех тех, у кого есть, что отнять. Здесь они, чувствуется, не в первый раз, потому что бодро углубляются в проходы между автомобилями. Веревки с одеждой, мешающие им идти, они лихо рубят ножами. Парень, оставшийся сторожить, между тем вылезает из джипа, неторопливо закуривает и потягивается с наслаждением, как после долгого сна.
Он стоит к нам спиной.
Павлик вопросительно поглядывает на меня.
— Минуты три подождем…
А затем чуть прикрываю глаза и пытаюсь вызвать то состояние, которое вспыхнуло у меня час назад. Мне это опять-таки удается легко. Незримо вытягивается вверх и вперед темный язык, широкий, чуть пенистый, как волна цунами, заворачивающаяся над берегом. Она несколько ниже и тоньше, чем в прошлый раз, но все-таки быстро достигает верхушек деревьев. Я хорошо ощущаю ее ментальную тяжесть, и в тот миг, когда волна зависает над парнем, обрушиваю всю ее плотную массу вниз.
Парень мягко, будто тряпичный, сминается, падает на колени и утыкается лицом в мох.
Я подхватываю Машеньку на руки и, прикрывая лицо от иголок, тащу ее через ельник, к джипу. Павлик, в свою очередь, помогает подняться Лизетте. Машенька очень не вовремя вдруг приходит в сознание, приоткрывает глаза и невнятно что-то бормочет. Я — также невнятно — успокаиваю ее: «Сейчас… сейчас…» Ключ от машины, как и ожидалось, торчит в замке. Я разворачиваюсь рывками, по ходу дела осваивая управление (водить джип мне раньше не доводилось), и направляю его по проселку.
Джип переваливается на промоинах.
Машенька широко распахивает глаза:
— Мама!.. Я к маме хочу!..
Лизетта перетаскивает ее к себе на колени:
— Мы к твоей маме едем, Машенька, едем… Раньше мы с тобой ножками шли, ты помнишь? А теперь едем, так будет быстрее.
— Это ты, Лиза?
— Я, Машенька, я… Как ты себя чувствуешь?
— Ну… вроде бы… хорошо.
— Голова не кружится, не тошнит?
— Вроде бы — ничего…
— Тогда просто сиди. Или лучше поспи. Закрой глаза. Откроешь — а мы уже и приехали…
Я делаю засечку в памяти, что по приезде Машеньку все-таки следует показать врачам. Проверить на сотрясение мозга, на внутреннюю гематому. Так бывает: ударился человек головой, вроде не сильно, но лопнул мелкий сосудик, стала накапливаться кровь под черепом, он этого сначала не чувствует, а потом, как бы ни с того ни с сего, вдруг — бац, и падает… В общем, обязательно надо провериться. Кстати, кто бы еще проверил меня самого? Я только сейчас начинаю осознавать, что именно со мною произошло, и у меня по всему телу пробегает тревожная, неприятная дрожь. Даже джип начинает слегка вилять. Я вспоминаю, как увидел парней, рвущих на Лизетте одежду, как она кричала — криком, переходящим в беспомощный плач, как ей выламывали руки назад и как при этом во мне, из неведомых доселе глубин, возникла и прорвалась наружу темная, невидимая волна, как она выросла чуть ли не до небес и как бесшумной махиной обвалилась на землю, сшибая с ног всех, попавших под ее обморочную тень.
Что это для меня означает? Неужели доктор Менгеле был все-таки прав: я уже не человек, а некое непонятное и опасное существо, хомо новус, которое идет на смену обычным людям? И сколько нас на Земле, таких, которые могут не просто сканировать, «читать» чужое сознание, но и полностью отключать его, получая над окружающими абсолютную власть? Лорд — вне всяких сомнений, Чак — возможно, во всяком случае вероятность этого весьма велика. Значит, вместе со мной только трое. На первый взгляд, ерунда, капля в море, которой из-за ее ничтожности можно пока пренебречь. Однако ведь был, я помню, кто-то еще, кто-то, поставивший на семинаре сверкающий зеркальный барьер, чуть не ослепивший меня. Получается, что нас как минимум четверо. И потому естественно всплывает фундаментальный вопрос: эта инициация происходит только в среде экспертов, в среде тех, кто пережил известный «инцидент первого дня», или зарождение хомо новус — обширный процесс, он уже идет во всей человеческой популяции?
Ладно, об этом — потом.
— Посмотрите, там, за задним сиденьем, должна быть аптечка.
Павлик приподнимает коробку с напечатанным на ней красным крестом:
— Вот она!
— Лиза, займись-ка его лицом. Вытри кровь, найди пластырь, заклей…
— Да ладно, — бурчит Павлик. — Я сам…
— Аккуратно надо… А то будешь пугать людей, привлекать внимание. Нам это ни к чему.
— Ну-ка повернись! — строгим голосом приказывает ему Лизетта.
Павлик поднимает лицо, и она начинает осторожно его обтирать. Я наблюдаю за ними через верхнее зеркальце. Вижу, как Павлик трепещет, а Лизетта, напротив, вошла во вкус требовательной медсестры и командует:
— Выше голову! Чуть левее!.. Левей-левей, говорю, мне не видно!..
Затем они находят там же бутылку с водой.
Мы все жадно пьем.
Лизетта вздыхает:
— Еще бы поесть.
— Чего нет, того нет…
Я включаю приемник. Женский голос с металлическими, возбужденными интонациями сообщает, что террористы из организации «Кагонда Ману» согласились отложить срок своего ультиматума на семьдесят два часа. Вместе с тем угрозы их остаются в силе: если арконцы, «порождения дьявола», к тому времени не уйдут, будут казнены следующие десять школьниц… Террорист, взявший сегодня утром в заложники группу туристов на вершине Эйфелевой башни в Париже, также согласился ждать еще семьдесят два часа. По предварительным данным, это белый мужчина, этнический француз, недавно перешедший в ислам. Заложникам, после переговоров с полицией, удалось передать лекарства, воду, еду… Сведения об аналогичных захватах заложников в Мюнхене, Антверпене и Шанхае пока официально не подтверждены…
Лизетта, застывшая с бутылкой воды в руках, говорит тихим голосом:
— Боже мой…
Джип подскакивает на ухабе.
Она вскрикивает.
Вода плещется ей на колени…
На мосту перед Бельском мы слегка застреваем. Мы уже вывернули на основную, заасфальтированную часть дороги, и нас сразу же притормаживает бредущий по ней встречный поток людей. Чем ближе к Бельску, тем он становится гуще. Мы едва-едва ползем по обочине, переваливаясь с кочки на кочку, снизив скорость до минимума, чтобы никого не задеть. Странно выглядят эти люди. Они бредут как бы все вместе и одновременно — поодиночке, разобщенные, замкнутые в себе, не замечающие других. Мутным облаком висит над толпой лишь шарканье ног. Не слышно разговоров, не ощущается в них ни радости, ни прощальной тоски. Молчат даже дети, цепляющиеся за родителей. Все глаза устремлены только вперед — куда-то за горизонт — туда, где вздымается куполом Звездный Ковчег, готовый унести бедный народ в далекий галактический рай. Внутренне они уже простились с Землей. И я в который раз думаю, что же за мир мы построили, если миллионы людей готовы на все, лишь бы вырваться из него.
— Как они будут там жить? — с ужасом спрашивает Лизетта.
Вот именно.
Как они будут там жить?
А как будем жить мы, остающиеся на Земле?
— А как будем жить мы? — спрашивает Лизетта.
От неожиданности я чуть не выпускаю руль из рук. Джип сносит влево, две женщины, бредущие нам навстречу, едва успевают посторониться. Что происходит? Это простое совпадение или как? Или я, просканировав сознание Лизы, тем самым невольно подключил ее к таинственному «психогенному полю» и теперь она чувствует, «читает» меня так же, как я ее? Или, быть может, пока еще не «читает», но ситуативно улавливает мои ощущения, которые и облекает в слова? Так что же? Это и есть механизм экстрасенсорной инициации? Но я ведь и Сару тоже осторожно сканировал. Выходит, что я и ее, не подозревая о том, подключил? И, кстати, что с ней сейчас? И, кстати, как там лейтенант Ходаков? В последний раз я видел обоих прижатыми к тверди защитного поля, когда на них накатывалась толпа. Как там вообще обстоят дела? Наша Станция, наверное, уже заблокирована. Напрасно все эти люди с таким упорством стремятся туда.
Я думаю, что мне, конечно, следовало бы связаться с Центром, по крайней мере, сообщить им, что я жив, здоров, где сейчас нахожусь. Собственно, это моя прямая обязанность. Но я тут же соображаю, что как только я выйду на связь, мне немедленно прикажут вернуться на Станцию или даже сдернут в Москву. Если арконцы в самом деле уходят, то на счету будет каждый эксперт. А вдруг возникнет какое-нибудь осложнение? А вдруг арконцы решат сделать нам какой-нибудь прощальный подарок? Но мне сейчас не до межцивилизационных перипетий. Мне сейчас надо вытащить отсюда Машеньку, Лизетту и Павлика. Нельзя терять ни минуты. Ведь ясно же, что как только Станции схлопнутся, как только будет отключен транспортный канал на арконский корабль, весь этот истерический людской поток хлынет назад. А что может сотворить толпа, утратившая надежду, мне даже трудно вообразить.
Нет-нет, Центр пока подождет.
Мы выруливаем на мост перед Бельском. Перила на правой его стороне выломаны, там стоит ограждение. Похоже, произошла авария, и действительно сверху, с середины моста, становится видно, что на другом берегу реки два трактора, выплевывающие натужные выхлопы, тащат из глубины лежащую на боку тушу автобуса. Из разбитых окон его стекает вода. Так вот какова судьба отставшей части конвоя. Выжил ли там хоть кто-нибудь, успел ли выбраться изнутри, или десятки фамилий будут приписаны к мартирологу, длина которого увеличивается с каждым днем? Каждая фамилия — смерть. Каждая фамилия — смерть. И это тоже свидетельствует о том, каков наш мир…
Мне вдруг, впервые пожалуй, захотелось уйти на Терру. Пускай там будет отупляющий, идиотический (согласно Марксу), изматывающий сельскохозяйственный труд, с утра до вечера, с вечера до утра, пускай там будет соха, отвалы земли, запах навоза, мычание дойных коров, пускай там будет скучное, как разваренные макароны, унылое, монотонное повторение пройденного пути, зато там не будет зеленоватых трупных теней, приторных испарений смерти, все явственнее, все сильнее пропитывающих земную жизнь.
И Лизетта, кажется, тоже что-то подобное ощущает. Она ловит в зеркальце наверху мой взгляд и спрашивает:
— Ты остался из-за меня?
Так ей все и скажи.
— Из-за тебя, разумеется, но, конечно, не только из-за тебя. Из-за себя самого — тоже. И из-за него, — я слегка киваю на Павлика. — И из-за Машеньки. И в каком-то смысле даже из-за Анжелы. Вообще — из-за всего, что у нас есть…
— Не понимаю, — задумчиво произносит Лизетта.
— Поговорим об этом потом…
Она в значительной мере права. Из-за нее, конечно, из-за нее прежде всего. Из-за нее, и это чистая правда. Никогда раньше такого не ощущал, но теперь мне совершенно ясно, что я остался именно из-за Лизетты. Я не знаю, что дальше будет с нами со всеми. Я не знаю, что дальше будет с Землей. Выживем ли мы, чиркнув по краю бездны, как в истории человечества происходило уже не раз, или гребень вздымающейся катастрофы накроет нас с головой. Этого не знает никто. Я — в том числе. Твердо я знаю только одно: даже если нам суждено утонуть, мы утонем с ней вместе, не расцепляя рук, я до последней секунды буду поддерживать ее на поверхности, сам уже захлебнусь, но последний глоток воздуха отдам ей…
Лизетта вновь ловит в зеркальце мой взгляд.
— Или нет… Кажется, я понимаю, — медленно говорит она…
Улицы Бологого пустынны. Начало шестого утра — большинство людей еще спит. Мы оставляем джип в переулочке неподалеку от станции и проходим в само здание, схожее по конфигурации с праздничной, вытянутой, овальной коробкой конфет. Здесь нам везет. По расписанию скоро должен прибыть «Сапсан», следующий на Петербург. Стоянка в Бологом у него всего две минуты, сто двадцать секунд, но больше нам и не надо. Билеты в кассе, к счастью, тоже имеются. Я беру бизнес-класс, чтобы нам сидеть за одним столиком, и в кафе, в уютной нише, неподалеку, видя блеск в глазах Машеньки, Павлика и Лизетты, покупаю салаты, поджарку, чай, кофе, пирожные — сметается это все за пару минут, причем молодежь, как я понимаю, не прочь была бы и повторить, а затем в полусонной одури мы располагаемся на платформе. Залитая вдоль косым солнцем, она совершенно безжизненна. Мы здесь одни, и мне кажется, что во всем мире мы тоже сейчас одни: на тысячи километров вокруг простирается теплая, такая же еще сонная, убаюкивающая тишина.
Впечатление это не рассеивает даже непрекращающийся поток новостей. Сеть заполнена роликами, демонстрирующими процесс самоликвидации Станций: исчезает дымка защитного поля, выцветает оранжевая черта, обозначающая границы его, манной кашей оползают очертания Куполов, и наконец светлые лужицы «молока» без следа впитываются в почву. Картинки эти перебиваются комментариями экспертов, взахлеб пытающихся объяснить нам то, чего они сами не понимают. Подводятся предварительные итоги. Согласно первым оценкам количество переселившихся на Терру землян составляет около трех миллионов человек. Эксперты считают, что этого вполне достаточно для запуска устойчивого развития. Упоминается ряд деталей: оказывается, сопротивление стран Юга привело к тому, что баланс мигрантов смещен в сторону белых европейцев и американцев, также — в сторону китайцев, индийцев, а среди них — в сторону городского и образованного населения. Обсуждаются последствия этого для Земли. Политики разных стран в один голос призывают граждан к спокойствию и клянутся буквально в ближайшие дни наладить везде нормальную жизнь…
Сообщения перебивают друг друга. Их целые тьмы, но мелькают они как тени, пребывающие где-то в астрале. К нам это отношения не имеет. Машенька дремлет, доверчиво привалившись ко мне. Лизетта отходит в сторону, прижимает к уху сотовый телефон, до меня долетают обрывки скомканных фраз: «Все в порядке, мамочка… Не беспокойся, у нас все, все в порядке… Мамочка!.. Мы уже едем домой»…
— Как вы думаете, они вернутся когда-нибудь? — спрашивает Павлик.
Он, конечно, имеет в виду арконцев.
Я пожимаю плечами.
Сказать мне нечего. Ответ известен лишь звездам, которые сейчас не видны.
В свою очередь спрашиваю:
— А твои родители — как?
— Добрались до Бельска. Там сейчас организуется эвакопункт…
— Откуда ты знаешь?
Теперь пожимает плечами Павлик:
— Знаю, и все…
Вот в том-то и дело, что «знаю, и все». Кажется, я действительно инициировал и Лизетту, и Павлика, активировал ту загадочную структуру сознания, которая ответственна за экстрасенсорное восприятие. Кстати, арконцы, по словам Виллема, в свое время так и не сумели установить, каким образом у них зародилась эта мутация. Она просто всплыла, словно совершенно естественный элемент эволюции, словно телеологический горизонт, утвердилась как то, чему предначертано быть. Теперь наша очередь разгадывать эту тайну. Если, конечно, ее можно вообще разгадать. Пока ясно только одно: речь тут идет о принципиальном преобразовании человека. Чтобы выжить, мы должны стать другими, тогда и только тогда возникнет надежда, что будущее у нас есть.. Я думаю, что это будет ох как не просто! Я почти воочию вижу все препятствия и завалы, которые ждут нас на этом пути. Виллем ведь не случайно упоминал об этапе гонений на самых первых эмпатов, которые у них поначалу считались опасными монстрами и вытеснялись на социальную периферию. На Земле же, как я понимаю, все будет гораздо хуже. Мы не арконцы, единственное, что мы умеем по-настоящему, — это ненавидеть «чужих». Чужой? Значит, убирайся отсюда! Чужой? Значит, среди нас тебе места нет! В этом смысле и Лизетте, и Павлику, если они действительно пробудились, предстоит очень нелегкая жизнь. Тем более что своей «высокой болезнью» они станут заражать и других.
— Все будет хорошо, — говорит Лизетта.
Я, задумавшись, не заметил, как она подсела ко мне.
— Все будет хорошо, Илья Васильевич, — говорит Павлик с другой стороны.
Мне очень хочется верить им.
До прихода «Сапсана» остается десять минут.
Платформа, как и раньше, совершенно пустынна.
И это символически напоминает о том, что нас ждет.
О том, что нам предстоит.
Мы действительно одни на Земле.
И мы начинаем этот мир заново.


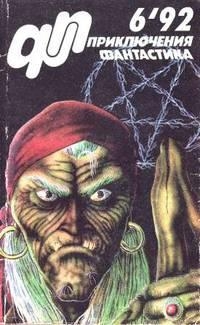
Комментарии к книге «Темные небеса», Андрей Михайлович Столяров
Всего 0 комментариев