Для чтения книги купите её на ЛитРес
Реклама. ООО ЛИТРЕС, ИНН 7719571260, erid: 2VfnxyNkZrY
Красный и чёрный
Рассказ из моряцкой жизни
Чего только не случается с нашими бедовыми морячками, особенно во время стоянок родных судов в чужих, заграничных портах. Как-то на стоянке в норвежском Тромсё случилось и на нашем рыбачке-траулере неординарное происшествие:
В дверь капитанской каюты дробно постучали и появившийся вахтенный матрос с красной повязкой на рукаве взволнованно объявил:
– Товарищ капитан, там того, Эпельбаума, кажись, насмерть убили!
Весть о зверски убиенном рыжем балагуре Эпельбауме разнеслась по судну мгновенно, и весь экипаж высыпал на причал. Оттуда по всей округе разносились какие-то нечленораздельные вопли. Капитан Владлен без церемоний растолкал своих подчинённых и прошёл вперёд толпы. Перед ним стоял обычный таксомотор, рядом с которым, тяжело дыша, возвышалось довольно крупное лицо негритянской национальности, похоже водитель. Ростом и комплекцией этот афронорвежец обладал внушительными. По крайней мере, был на голову выше и шире в плечах нашего мастера, а Владлен Дураченко, надо заметить, был мужчиной крупным. Физиономию водилы искажал безудержный гнев, мясистые губы тряслись, а богатырская грудь бурно вздымалась. Левым пудовым кулачищем этот Касиус Лей[1] потрясал в воздухе. В правой же длани он сжимал ручку маленького, но увесистого автомобильного углекислотного огнетушителя. Серебристый раструб его распылителя был обильно перепачкан чем-то очень напоминающим кровь. Зловещую картину усугубляли совершенно разбойничьи черты чёрного, как зимбабвийская ночь, дикого таксиста. Красавец имел блестящий и гладкий, как гигантское эбонитовое яйцо череп, налитые кровью носорожьи глаза, плоский с широкими, раздувающимися от ярости ноздрями нос и пухлые валики шоколадно-розовых губ. Крупные, белые как царские жемчуга зубы, навевали отчего-то неполиткорректные мысли о неизжитых еще кое-где на африканских просторах случаях спонтанного каннибализма. Увидев Владлена, вольный сын освобождённой Африки внезапно проявил недюжинную смекалку. Он ткнул в солидный капитанский живот своим толстым пальцем и, продолжая раздувать гневные ноздри, почти без вопросительной интонации, заявил:
– Ю ар кэптэйн!
Получив, от растерявшегося мастера Дураченко утвердительный кивок, таксист ухватил нашего кэпа за предплечье и буквально подтащил его к распахнутой задней дверце своей машины.
– Лук, кэптэйн, лук! – приговаривал он при этом. Зри, мол! Я поспешил следом. Картина открылась ужасная. На заднем сиденье раскинулось безжизненное тело матроса Эпельбаума. Лицо и грудь убитого были обильно залиты кровью. При этом из кабины ощутимо несло гарью, а задняя спинка переднего сиденья, коврики и кроме того брюки и рубашка покойного были изуродованы копотью и чёрными подпалинами. Мы с капитаном с ужасом уставились на этот криминальный натюрморт. Толпа за нашими спинами, оклемавшись от первого шока, принялась шёпотом комментировать это дикое зрелище.
– Убил, носорог африканский! Огнетушителем Генку забил, сволочь гадская! – выдвинул кто-то смелую гипотезу.
– А поджигал то зачем? К нам-то на корабль он зачем труп припёр? – резонно возразили ему.
– Да вы гляньте на него, братва! На мумбу-юмбу этого гляньте! Он же псих! Белая горячка у этого чёрного, не иначе!
– Стопудово псих! От ностальгии по Лимпопо рехнулся! – прозвучал из толпы окончательный диагноз.
– А ну, вяжи его ребята, зулуса этого! – рявкнул по-командирски решительно Владлен.
Дело шло явным и роковым образом к русско-африканской битве при Тромсё, но тут из кабины такси раздался полный душевной боли стон:
– C-у-уки! Все бабы с-у-уки!
Толпа, готовая к линчеобразному мероприятию, резко развернулась от успевшего оторопеть чернокожего таксиста и узрела жуткое. Картина эта могла послужить мрачной иллюстрацией к гоголевской повести "Страшная месть". Из задней распахнутой дверцы машины на карачках, горестно подвывая, выползал окровавленный и подгоревший труп матроса Эпельбаума. Толпа вначале испуганно отшатнувшись от выходца с того света, через мгновение с облегчением выдохнула:
– Жив бродяга!
Гена всё ещё пребывая в позиции четвероногого друга человека, поднял на своего отца-командира страдальческие очи. Капитан наклонился к истерзанному подчинённому и указательным пальцем провёл по его окровавленной щеке. Затем он растёр красную субстанцию между пальцев, поднёс щепотку к своему капитанскому носу и потянул воздух.
– Химия какая-то. Краска что ли? – произнёс он с недоумением.
Водитель, чудом избежавший чрезмерно близкого контакта с недружелюбно настроенными русскими, оживился, услышав знакомое слово.
– Ес! Ес оф коз! Джаст кимикэл пэйнт![2] – затараторил он по-английски, обращаясь к Владлену.
В течение нескольких минут таксист на международном инглише излагал подробности происшедшего. Рыжего русского он подобрал в городе, когда тот был уже в изрядном подпитии. Моряк был чем-то весьма расстроен и, расположившись на заднем сиденье такси, принялся тихо плакать и довольно громко ругаться. Водитель вовсе не был удивлён таким поведением пассажира, поскольку давно работал в портовом городе и морячки из разных стран, как ни странно, частенько вели себя похожим образом. Недалеко от судоверфи пассажир потребовал сделать остановку у таксофона. Водитель стал нервничать, но русский сунул ему в руку несколько смятых купюр, чем и успокоил его на время. Пассажир минут несколько набирал какой-то длинный номер на таксофоне и, в конце концов, дозвонился. Разговор видимо вышел неприятный, потому что русский принялся избивать ни в чём не повинную муниципальную собственность его же собственной телефонной трубкой. Однако норвежский таксофон оказался не лыком шит и дал обидчику сдачи. Встроенное в корпус антивандальное устройство, в ответ на агрессию окатило весь фасад хулигана струёй алой несмываемой краски. Русский, увидев свою кроваво-красную физиономию в боковом зеркале автомобиля, расстроился окончательно. Он достал из нейлонового пакета початую бутылку норвежской водки Аккевит и разом, из горлышка, обильно проливая на свою пурпурную грудь её добрую часть, принял дозу. Не обращая внимания на протесты водителя, он вновь забрался в машину, посулив щедрый расчёт по приезде на место. Чернокожий таксист, скрепя сердце согласился, но лишь после того, как краска на русском подсохла и не грозила перепачкать обивку сидений. Но, как известно, ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. Лимит безобразий у рыжего моряка ещё не был исчерпан. Поганец, находясь в стадии предшествующей полной отключке, закурил в машине. Остатки водки из неплотно закрытой бутылки выплеснулись в салон, а выпавшая из расслабившейся руки сигарета, всё это дело воспламенила. Таксист вовремя почуял, что запахло жареным, и принял соответствующие меры. Чёрный герой потушил, как сам салон, так и лирически тлеющего бессознательного и кроваво-красного Эпельбаума. Вот в благодарность за этот подвиг бедного таксиста чуть было не прибили наши горячие рыбачки. Пришлось задабривать потерпевшую сторону. Капитан пригласил водителя к себе в каюту. Из камбуза был вытребован кок, которого чаще именовали шефом. Шеф накрыл стол и сделал это, по его словам, красиво.
Чернокожий таксист появился на палубе в сопровождении Владлена через пару часов. Лица обоих мужчин выражали взаимное удовлетворение, а также полную и окончательную межрасовую гармонию.
– Ну, бывай, май фрэнд! Будешь у нас в Мурманске, как говориться: "Велкам плиз ту ауа шип!"[3] – приговаривал наш мастер, дружески похлопывая провожаемого гостя по могучей спине.
Гость прижимал к груди коробку с новеньким электрическим самоваром, расписанным под хохлому. Это был роскошный русский сувенир из личных капитанских запасов. Все одариваемые таким хохломским самоварчиком иностранцы, как правило, приходили в настоящий восторг. Наш водила, тоже растрогался. Он бережно поставил подарок на палубу и, захватив в свои лапищи обе капитанские ладони, принялся трясти их. В процессе дружеской тряски рук, новый приятель Владлена страстно поведал, что очень любит СССР, весьма уважает коммунизм и в полном восторге от президента Брежнева. В этом интересном месте таксист попытался воспроизвести знаменитый брежневский поцелуй взасос, но Владлен ловко ускользнул от этого квазиэротического мероприятия. Так что гигантские шоколадно-розовые губы, расчувствовавшегося гостя ограничились целомудренным контактом с капитанским плечом. Как, посмеиваясь, рассказал позже Владлен, наш новый блэк фрэнд носил классическое норвежское имя, Один. С ударением на букву О. Как известно это имя верховного божества, коему поклонялись древние викинги. После славной смерти в бою, с мечом в руках души воинов отправлялись в Вальгаллу, где их ждали весёлые кровавые поединки с последующим воскрешением и отрастанием отрубленных конечностей, а также бесконечный пир и утехи с нордически-сексапильными блондинками. Тамадой и посажённым отцом по совместительству был сам, Один, а вот похмелья и усталости не было вовсе. Вот бы удивились варяги, встреть их славный Один в таком оригинальном обличье, как у этого нашего таксёра.
Рыжий виновник всего этого торжества оклемался к вечеру. Генка вышел или скорее выполз из матросского кубрика на главную палубу траулера со сметенным выражением физиономии. Физиономия эта имела державный цвет государственного флага СССР. Благодарная публика, состоящая почти из всего экипажа, давненько на этой самой палубе ожидала его появления, резонно рассчитывая на вторую часть бесплатного Марлезонского балета. В другое время артистичный Эпельбаум, скорее всего, обрадовался бы такому количеству зрителей, однако сегодня был явно не его день. Узрев почтеннейшую публику, Генка не нашёл ничего лучшего, как начать задавать глупые риторические вопросы собравшимся:
– Ну, чо, мля?! Поржать припёрлись?! Клоуна Гешку встречаете?! – Народ, глядя на багряную, злобную физиономию вопрошающего принялся веселиться. Генка от растерянности и какой-то детской обиды выпростал наружу длинный, почти белый на фоне алой от краски физиономии, язык. "А хохот пуще". Вот тогда, в этот несчастливый день, Эпельбаум и достиг дна пропасти своего нравственного падения. Раздосадованный любимец публики снял штаны и, повернувшись спиной к веселящимся товарищам, наклонившись, показал им свой голый и нежно белый зад. Несчастный не ведал, что проклятая антивандальная краска каким-то предательским образом просочилась и через нижнее бельё. Сиденья в том злополучном такси были, к несчастью, обиты тканью с рельефным рисунком. На двух белых половинках генкиных ягодиц алел яркий узор из цветочков и купидонов. Народ ломанулся вперёд, чтобы подробнее разглядеть этот монументальный шедевр боди-арта[4]. Эпельбаум, шестым чувством почуяв роковое приближение возбуждённой толпы к своему беззащитному, обнажённому естеству, рванулся вперёд. Однако он не был чемпионом по бегу со спущенными штанами, а потому банально и к всеобщему удовольствию растянулся на палубе.
На следующее утро к нашему борту подкатил знакомый таксомотор. Чёрный Один вышел из машины и протянул вахтенному матросу у трапа какую-то небольшую склянку. Выяснилось, что он привёз растворитель для спец. краски, наказавшей Генку. В принципе такой растворитель можно было получить только в полицейском участке и только после составления протокола об акте вандализма. Краска со временем, конечно, сходит сама, но время это весьма продолжительное, от трёх недель до полутора месяцев. Однако давно замечено, что всякие нелегальные штуки от весёлой травки до весёлой девицы в портовом городе можно получить при посредничестве всезнающих таксистов. Наш Один был человек бывалый и при желании, как он объяснил, мог достать и не такое. Рыжий немедленно воспользовался растворителем и через четверть часа сиял, как новенький юбилейный рубль. Довольный и расчувствовавшийся Эпельбаум снял с руки и торжественно вручил своему новому другу почти новые командирские часы с красной звездой и светящимся циферблатом и стрелками. Таксист с удовольствием принял подарок, после чего чмокнул стекло часов. Он доверительно поведал окружившим его морякам, что красная звезда символ анархизма, а он, Один, урождённый Монго Бабу, настоящий нигерийский анархист, получивший в молодости политическое убежище в Норвегии. И вообще он убеждён, что Че Гевара, Мао Дзедун, Троцкий и Леонид Брежнев величайшие революционеры нашего века. Советский народ, в лице нескольких рыбаков с промыслового траулера, внимательно и наморщив лбы, выслушал эти спонтанные откровения беглого нигерийского анархиста. Как оказалось, их более занимал другой, не совсем политический вопрос. Когда левый радикал Монго Бабу укатил в голубые норвежские дали на своём подержанном мерседесе, коллеги не без ехидства осведомились у повеселевшего рыжего:
– А что Геша? Носовую часть то ты отдраил, а про корму, небось, запамятовал? – На это матрос Эпельбаум ответил крайне загадочно:
– "Омниа меа мекум порто"[5].
– Ну, всё путём! – Решили Генкины коллеги-приятели. – Раз рыжий начал выёживаться, значит вполне оклемался.
Боцман в Гренландии
С бортом 2113 «Жуковск» свела меня как видно судьба. Но это я понял позже. А тогда 18-летний курсант 4-го судоводительского курса Мурманской мореходки был я направлен на плавательную практику для начала матросом без класса. Это через год после сдачи госэкзаменов и получения диплома судоводителя ждала меня невеликая должность штурмана-стажера. А пока – салага, или просто юнга.
Малый рыболовный траулер номер 2113 «Жуковск» имел дурную славу. Редко обходился он без ЧП. Бывало в шторм кого за борт волной направит, и "пишите письма…" Бывало кому грузовым гаком в висок ни за что. А потом следствия, проверки… Как-то в ночную вахту поднимали мы «авоську» на борт. Я должен был бегом переносить от кормы к баку "бешеный конец" – траловый трос. «Бешеным» конец назывался потому, что при волнении он мог «сыграть», сорваться с полупудового гака, грузового крюка. И, как пелось в старинном романсе:
– Милый, ты не вспомнишь нашей встречи…
Конец этот переносили быстрым аллюром, да и весь подъем трала проходил в том же темпе. Смутно помню упругий, плотный контакт своего молодого тела с чем-то массивным и влажным. Помню гордый, одинокий полет в ночи. Помню смачный, чувствительный шлепок о жесткую, как асфальт и жгучую как кипяток, ледяную воду моря Баренца. Больше не помню ничего, только секундное удивление от происходящего:
– Приехали, что ли?!
Быстро подняли трал, а там сюрпрайз. Моя персона вывалилась из авоськи вперемешку с центнером живой рыбы, медленно и вальяжно. Персона была плотно покрыта чешуей и царственно отливала перламутром, словно явился новорождённый наследник самого Посейдона.
Медперсонал на малых судах не предусмотрен, но в моем случае помощь была близка. Наш боцман – Бронислав Устинович Друзь. Моряк от бога, боцман от черта. В сорок шесть лет, умудрился он успешно сдать экзамены в медицинском училище и получить диплом фельдшера.
Морской эскулап уколол меня камфарой, угостил дозой нашатыря и, от души, темпераментно растер спиртом. Причём приличная его часть была насильно и перорально введена внутрь моего организма. Мне стало приятно, и сказал я, что это хорошо! Почти в полном составе натолкавшийся в салон экипаж, во влажной робе и в сухом штатском, дружно и облегченно выдохнул. После чего большинство решило поддержать вновь рождённого и также приняло перорально, причём неоднократно.
– Ты, Вальдамир теперь крещеный! – провозгласил боцман – Крещен ты литым морским железом и соленой купелью, а потому быть тебе, подлецу, мореманом!
На штурманском мостике траулера включилась система общесудовой громкой связи, и в динамиках зазвучал одышливый голос капитана Владлена:
– Внимание, экипаж! Только что получено штормовое предупреждение. Боцману и палубной команде приготовить судно к штормованию, крепится по-штормовому.
Боцман моментально собрался и, пожелав мне не скучать, вышел на палубу. Я заснул и проспал пару часов не меньше. Проснулся я от того, что вернулся в каюту Устиныч. Он заварил для нас крепкий индийский чай, и прихлёбывая его, заметил:
– А ведь ураган этот, считай от самой Гренландии идёт. Бывал я там в конце шестидесятых, а эскимосы родня считай, – как-то странно усмехнулся Друзь.
Было дело, бывал я в Готхобе, Нууке по-инуитски. Это у них, у эскимосов-инуитов столица такая на Юго-Западе Гренландии.
Тогда только весна началась – лед в море почти сошел, а тот, что остался рыбачкам-бортовичкам типа нашего для промысла не помеха. Получили мы по радио распоряжение с берега от руководства: следовать в ближайший порт Готхоб для постановки в сухой док и планового ремонта судна.
Более всего этот городок походил на города Дикого Запада из американских вестернов. Однако, смотрим в низине новостройка – длинный, на сваях, дом из стекла и бетона, прям дворец посреди хижин.
Идём мы по улице меж домиков деревянных. Смотрим – сидит на крыльце бабка, длинной трубкой дымит. На голове платок пёстрый, китайский с драконами и сверх того советская полковничья папаха из серой мерлушки. Пригляделись, а на папахе той, сзади ценник картонный с надписью ВоенТорг. Ну, говорю, ребята, не первые мы тут, не первые. Да уж, какие там первые. Выруливает из-за поворота и прёт на нас, подпрыгивая на ухабах, кто бы ты думал. Нет, не иномарка какая-нибудь, а новенький наш Москвич 412. За рулём раскосый парень лет 25-ти. Машина несётся километров под 100 и это не германский автобан какой-нибудь, нормальная ухабистая дорога. Гляжу, мать моя, на дороге, прямо посредине дитё местное в пыли копошится, годов двух не боле. Ну, думаю – пропадёт карапуз, сшибёт его лихач этот. Ну и как-то само собой получилось. Скакнул я как кенгуру австралийский метров на пять вперёд, ребёнка схватил и вместе с ним сальто-мортале изобразил. Вместе в сторонку и укатились. Дитё перепугалось, орёт. Народ из домов выскочил. Мамка непутёвая малого своего у меня выхватила, и бежать, да и наши все подоспели, суетятся. А этот автогонщик нуукский на Москвиче, он не затормозил, нет. Понимал, видать, что его на такой скорости занесёт и по инерции перевернёт вверх колёсами. Он и впрямь водилой классным оказался. Управляемый занос мастерски исполнил и машину плавно кормой вперёд поставил. Я, правда, сгоряча мастерства его не оценил. Взял, да и обложил парня по-боцмански при всём гренландском народе. Парень этот понял, что ругаюсь я и в душу и в мать, да и тюлень бы понял. Стал он умиротворяющие жесты делать – успокойся, мол, и говорит что-то. Сначала на английском, потом на-датском. Поостыл я малость, как-никак родная душа – полиглот эрудированный, не дикарь какой. Спрашиваю его на удачу:
– Шпрехен зи дойч? – А он мне в ответ:
– Я! Я! Натюрлих! Майн наме ист Миник! – Тут я от умиления совсем успокоился. Похлопали мы друг друга по плечам и начал я общаться с жителем столицы гренландской города Нуук.
Утром вызывает меня капитан наш Ромуальд Никанорович и так торжественно, пошкрябывая бородёнку, заявляет:
– Для вас, Бронислав Устинович, есть задание государственной важности. Вы направляетесь на пятеро суток укреплять дружбу между советским народом и населением Гренландии.
Выхожу я с мостика, спускаюсь по трапу, а у трапа Миник стоит. На капот своего зелёного москвича рукой опёрся и улыбается.
А с командировкой этой охотничьей он так устроил. Оказывается, Гренландия уже тогда была чем-то вроде автономной провинции в королевстве Дания. И было у них кое-какое самоуправление, и даже своё правительство местное. Ну а Миник, дружок мой новоиспечённый, не последний оказался человек среди этого начальства туземного.
Вот мы уже и в пути на охоту. Выехали за город, подъехали к какому-то ангару длинному. Миник ворота открыл, а там вездеход на гусеничном ходу. Сели мы в вездеход, поехали. Местность тяжелая, тундра, да скалы, трава редко, чаще мох. Растрясло с непривычки, я же не танкист какой, не дай боже. Долго ехали, всё на север и всё время в гору и снежных полей всё больше и больше. Вдруг ещё резкий подъём и выскакивает наш вездеход на ледяное, белое плато, покрытое волнами застывшего снега. Всё сверкает, как-будто алмазы рассыпаны, даже глаза заслезились. Этого не передашь, это надо видеть. Что сказать – Великое ледяное царство.
Тут включает Миник рацию коротковолновую и вызывает кого-то.
Вышел я из вездехода. Тишина полная и в этой тишине появляются на вершине ближайшего снежно-ледяного бархана какие-то косматые тени. Затем доносится возглас на высокой ноте, почти визг:
Унаие!!! Юк! Юк! Юк!
Тени превращаются в запряжённую веером собачью упряжку и летят вниз по снежному насту. Следом взлетают над вершиной бархана длинные нарты, красиво так приземляются, и вся эта гренландская экзотика, натурально, прёт на меня со скоростью выше собачьего визга. Признаться, струхнул я малость от неожиданности. И что? Потом на моей могилке напишут:
– Здесь покоится боцман Друзь, героически погибший под ездовыми собачками.
Ну, братец этот на нартах в двух метрах от меня притормаживает своих гренландских хаски, а нарты по инерции вылетают вперёд и, разворачиваясь кормой, останавливаются прямо возле носков моих унт. Нанок его звали. Медведь, значит. Парень и вправду крупный для эскимоса, гренландца, то есть, широкий такой, коренастый и одет уже совсем по-местному. В собачьих унтах, в штанах из тюленьей шкуры и в парке из волчьего меха с капюшоном. Инуит этот, Нанок, на иностранных языках не говорил, разве что по-датски. Я же к тому времени уже десятка три слов на их языке освоил, пока мы в пути были с Миником. Я на лайку показываю и говорю: киммек, собака значит, а Нанок этот смеётся-заливается, ну как дите малое. Ну как же, носатый да усатый великан-чужак на человеческом языке говорить пытается. Ну, это, как если бы тюлень у старика-эскимоса трубку покурить попросил. А я люблю, когда дети смеются, искренне так, светло, ну как Нанок этот. Тогда я и выдал простенькую конструкцию из трех слов:
– Киммек ааккияк[6] инук – Что-то вроде: Собака друг человека.
Нанок тут прямо в полное восхищение пришёл.
– Киммек ааккияк инук. Красиво, однако.
Тогда, прежде чем отправиться в дорогу на собачьей упряжке, предложили мне братья-инуки перекусить. Разложил этот толстенький Нанок закуски и рукой мне жест делает: "Угощайся, мол". Я бы рад угостится, да снедь больно непривычная – рыба вяленая на ветру и солнце – юкола, хотя и без пива, но пожевать можно. Но откровенно протухшие куски мяса с зелёной плесенью, что твой сыр Камамбер и куски посвежее, но совершенно сырые – это было слишком. Да и дух от этой скатерти-самобранки шёл такой, что хоть гренландских святых выноси. Неловко мне гостеприимных хозяев обижать. Покосился я на Миника, а у того, хоть и не улыбается, а в чёрных, раскосых глазах черти прыгают. Ну, думаю, На «слабо» берут. Задело это меня шибко. Нет, говорю про себя:
– Врёшь! Не возьмёшь!
Беру я твёрдой рукой большой кусок сырого мяса с душком, солю его крепко, чтоб значит, шансы на выживание иметь и только до рта донёс, как Миник мою руку останавливает и слегка улыбаясь, говорит:
– Не надо Рони, наша еда не для европейских желудков, чтобы это есть надо родиться в Гренландии и родиться инуком. Не зря нас эскимосами, то есть пожирателями сырого мяса дразнят. Вот, держи пока – и протягивает банку датской ветчины.
Когда мы, наконец, спустились в небольшую светлую от плотного льдистого наста долину, сплошь усеянную несколькими десятками полушарий, белоснежных домиков-иглу, я, скажу тебе, почти обрадовался. Это ведь всё дело привычки и когда пришлось ехать на собачках во второй раз, то было уже легче.
Когда мы спешились, Нанок пошёл распрягать и кормить собак, а мы с Миником направились к ближайшему иглу. Вход в этот ледяной домик меня, скажу я тебе, порядком озадачил, потому как более напоминал большую нору или в лучшем случае лаз, но никак не вход в нормальное жилище. Особенно он был неудобен для людей не эскимосской комплекции, типа меня. Однако, чего я хотел? Экзотика и комфорт понятия мало совместимые.
Признаться, ожидал я, что воздух внутри будет, мягко говоря, тяжеловат, особенно с учётом местных гастрономических особенностей. Однако ничего страшного, воздух был вполне в норме. В общем, внутри было светло, а так же и тепло – посреди жилища, устланного в три слоя толстыми шкурами, слегка коптя, горел ровным пламенем небольшой костерок – тюлений жир в плоском корытце. Но самое главное и меня это приятно удивило в хижине-иглу, было сухо, хотя я признаюсь, опасался сырости от тающего снега. Замечательно ещё было то, что в этом экзотическом помещении стоял чарующий запах варящейся ухи. В большом казане на треноге над костерком жаровни, заправленной тюленьим жиром, булькало и парилось аппетитное варево. Вдруг, до меня донеслось старческое кряхтенье, покашливание и, не в обиду старичкам, скрипение. На свет божий, откинув в сторону не совсем чистое одеяло из песцовых шкур, вылез дедушка с лицом сморщенным, как завяленная на северном солнце и ветру рыба. Не обращая на нас ни малейшего внимания, он, посапывая и бормоча, ловко сдвинул треногу с рыбным варевом в сторону от огня.
– Это Большой Джуулут – ангакок Калаалит Анори[7]. Так называется наш род – Люди Ветра – почтительно косясь глазами в сторону старика, прошептал мне на ухо Миник. Я про себя отметил, что живого веса в Большом Джуулуте, дай бог килограмм тридцать пять. Миник между тем продолжал нашёптывать:
– Это он много месяцев назад сказал, что весной в Нуук попутным ветром занесёт посланного нашему роду сильного человека. Ростом и удачей больше, чем у двух охотников-инуков[8], с усами, как чёрные стрелы и руками большими и сильными, как лапы нанока.
Где-то в половине четвёртого утра миниатюрный Большой Джуулут разбудил меня и протягивает кружку с чаем.
Только собрался я отхлебнуть, как старый мне на ноже добрый кусок нерпичьего жира протягивает и целится мне этим куском прямо в кружку. Я конечно против – не по животу угощение. Хорошо Миник выручил – сказал он что-то Большому Джуулуту, так тот в ответ только недовольно седыми бровками пошевелил. Миник же, взамен тюленьего жира мне в кружку добрый кусок датского коровьего масла булькнул. И на том спасибо – вот, мол, тебе царский завтрак охотник: бодрость, сытость и лёгкость в животе. Что может быть лучше для того, чтобы рука была твердой, а поступь лёгкой?
Взгромоздив килем вверх сравнительно лёгкую инуитскую лодку себе на плечи, мы отнесли её поближе к воде. Миник сноровисто порхал веслом по воде. Первое время я чувствовал себя в этой лёгкой конструкции, бесшумно скользящей по тяжёлой льдистой воде, неуверенно. Однако, к моменту прибытия к месту промысла освоился совершенно.
Подплыли мы к большому галечному пляжу, а на нём лежбище небольшое. Нерпы числом несколько десятков, лахтаки и в стороне несколько здоровенных клыкастых моржей со своими гаремами. Близко подходить не стали, чтобы панику на зверей не навести. Наконец, в метрах десяти от нас показались щурящиеся от солнца, усатые, фыркающие головы двух нерп рыжеватой и блондинистой окраски. Мой старший егерь снял рукавицу и, жестикулируя одними пальцами, указал мне мою цель – рыжую нерпу. Целюсь я в голову этой рыжей нерпе, а у меня весь охотничий азарт, как ветром сдуло. Миник видит, что я мешкаю, рукой взмахнул, и гарпун его только свистнул. Точно вошёл нерпе-блондиночке в левый бок. Вот такая несуразная у меня вышла первая гренландская охота.
Через пару часов вернулись мы в знакомую бухту. Каяк и груз вытащили на берег. Миник поднялся наверх по скалам, чтобы позвать брата Нанока для разделки нерпичьих тушь. Я присел на ближайший валун, греясь в не слишком щедрых лучах полярного солнышка. Три добытые нами нерпы лежали неподалёку на подсыхающей гальке. Я как-будто ощутил легчайший электрический разряд, прошедший по позвоночнику. Повинуясь одним инстинктам, я резко прыгнул вперёд от валуна, на котором сидел, и приземлился на влажную, острую гальку метрах в пяти от прежнего места. Я вскочил и развернулся лицом к опасности. Надо мной вздыбился огромный, не менее трёх метров в холке, грязно-серый монстр. Это жуткое создание таращилось на меня чёрным, лаковым, как у драконов на китайских миниатюрах, глазом. Именно глазом, в единственном числе, поскольку на месте второго зияла круглая, бордовая впадина. Натуральный полярный бич или, как говорят нынче, бомж.
Действие происходило замедленно, словно кошмарном сне. Плохо помню как это произошло, но два ствола вертикалки оказались в ревущей пасти и… я нажал на оба курка. На моё счастье в одном из стволов оставался патрон с крупной картечью. Раздался приглушенный хлопок выстрела и огромная туша, подминая меня словно танк, стала заваливаться вперёд.
– Как волосатая, вонючая, полутонная туша на меня свалилась, это я ещё помню – продолжил боцман – Однако упал я неудачно – затылком о валун приложился.
Забылся я, как надолго точно не знаю, но когда в себя пришёл, чую, что полегчало мне. Миник рядом сидит у костра и, глядя на огонь, как будто тихо-тихо поёт и покачивается при этом. Тут меня, как обожгло – Нанока-то, брата Миникова, почему рядом нет? Подождал я, пока он песню свою закончит, и тихо так спрашиваю:
– Миник, а Нанок где?
Инуит посмотрел куда-то в пространство поверх моей головы и голосом непохожим на свой обычный, глухо так говорит:
– Большой Джуулут всегда всё наперёд знает. Он назвал тебя, Рони, охотником на злых духов и я только сейчас понял, что он имел в виду. Этот одноглазый большой Белый, которого ты убил, был проклятием и злым духом нашего племени последние двадцать лет. Два десятилетия назад молодой и горячий инук из нашего рода по имени Иннек, что значит огонь, не внял предупреждению ангакока не выходить на охоту до прихода новой луны. Вездеход с запасом продуктов, который шёл к становищу, провалился в глубокую расщелину и водитель едва спасся, выпрыгнув из падающей вниз машины. У вездехода от удара взорвались баки с топливом, и он сгорел вместе с грузом. Племя голодало. Оставалось всего три дня до окончания запрета на промысел зверя, но у Иннека недавно родилась дочь, её назвали Ивало-Маленькая волна. У жены Иннека пропало молоко от недоедания. Вездеход вёз и датское сухое молоко для младенцев, но не довёз. И тогда Иннек нарушил запрет и уехал на промысел нерпы, никого, не предупредив. Иннек добыл трёх нерп и повёз их к становищу на собачьей упряжке, но дорогу ему преградил молодой медведь – большой Белый, голодный и злой. Он хотел отнять добычу, а человека только прогнать. Этот Белый не был людоедом, просто был очень голоден и зол. Иннек тоже был голоден и зол. Он не отведал ни куска добычи – в иглу ждала слабеющая молодая жена с плачущим без молока младенцем. Двое охотников сошлись в смертельной схватке за куски нерпичьего мяса. Оба изголодались и ослабели и не один не смог убить другого. В самом начале схватки медведь выбил из рук охотника винтовку и разбил её вдребезги о скалу. Тогда Иннек схватил попавшийся под руку гарпун, которым добыл нерпу, и вонзил его сопернику в глаз. Молодой большой Белый взревел от боли и кинулся в скалы. Он хотел избавиться от гарпуна и в одиночестве оплакать потерю.
Окривевший и оскорблённый зверь в тот же год выследил Иннека во время охоты, напал из засады и убил его. Напрасно старейшины просили предков во внешнем мире унять злодея. Они лишь получили ответ, что теперь в одноглазом медведе живёт злой дух мщения и, он будет преследовать охотников Калаалит Анори, пока жив. Сегодня мой род принёс последнюю жертву. Злой дух, живший в кривом белом медведе, убил медведя из моего рода – Нанока. Ты, Рони – охотник из другого великого племени покончил не просто со старым злобным зверем, а с нашим двадцатилетним проклятием.
Тело Нанока мы завернули в парусину и уложили в нарты. Разделанные и упакованные в кожаные мешки туши нерп находились тут же, под телом. Ничего не поделаешь – у жизни и смерти пути сплетены. Неожиданно от скал впереди нас отделилась какая-то тень и медленно стала перемещаться в нашу сторону. Это был ангакок, шаман рода Калаалит Анори Большой Джуулут. Ангакок поднял руку, и мы остановились. Шаман заговорил и я с трепетом осознал, что понимаю смысл его речей, не внимая словам. Старик говорил странным способом – не размыкая губ:
– Я прошу тебя, Миник, не возвращай тело твоего погибшего брата в становище живых. Ты, верно, забыл, что у нас инуитов мёртвых хоронят на месте их гибели или увозят умерших в скалы, где много камней и можно похоронить покойного в недосягаемости для голодного зверья. Жена Нанока, Ивало, уже извещена мной о смерти мужа и оплакивает его. Все родичи будут скорбеть о нём до вашего прибытия, а после никто не произнесёт его имени и не выкажет свою печаль об ушедшем. Ничто не должно смущать его душу, ещё не освоившуюся в новом мире. Позволь мне самому похоронить погибшего.
Наконец добрались до места. Гляжу, а нас встречают.
Стоит толпа – человек тридцать, не меньше. Инуиты на белом, твёрдом снежном насте, на фоне белых ледяных иглу. Стоят и молчат. Как статуи. Не по себе мне стало от такой встречи. Миник, спасибо выручил – развеял это белое безмолвие. Прокричал он что-то по-инуитски родне своей – людям Калаалит Анори и, слава Создателю, задвигались статуи.
Тут все разом как-то примолкли, толпа расступилась и идёт к нам с Миником навстречу молодая инуитка, лет двадцать, не больше. Было в ней какое-то величие. В походке, в осанке. Лицо, что твоя Снежная королева, только смуглая. Скулы крупные и чёрные глаза с легкой азиатской раскосинкой. Миник меня локтем ткнул, я к нему наклонился, а он и говорит мне на ухо шёпотом:
– Это Ивало – вдова Нанока и дочь того самого Иннека, который навлёк на Калаалит Анори "Проклятие одноглазого большого Белого". Она хочет поблагодарить тебя за то, что ты наказал убийцу её отца и мужа.
Я оробел от неожиданности и думаю про себя:
– Однако исключительно хороша эта вдова Медведя и дочь Огня. Подошла она вплотную и смотрит на меня. Пахнет от неё морем солёным и черникой-ягодой. Я как обмер весь и будто счёт времени потерял.
То ли минуты, то ли час так прошёл не помню, но как бы, очнулся я и словно на базаре оказался. Все делом заняты – мясо делят и комментируют происходящее в три десятка глоток. Миник на правах добытчика процессом руководит. Большой Джуулут в сторонке на нартах сидит и трубку курит задумчиво.
Миник закончил свои дела и без особых предисловий заявил: Упряжка готова, Рони. Ивало ждёт. Я отвезу вас в окрестности Уунартока, а дальше вы пойдёте пешком. Противится, особо, я не стал, поскольку путешествие с красавицей Ивало влекло меня как самое желанное приключение. То, что она всего три дня, как вдова, я постарался забыть, но мне это не слишком удавалось. Наконец мы добрались до места, где Миник распрощался с нами. Мы с Ивало спустились в небольшую долину между сопок, покрытую мягким ковром зелёного и серого мха, сплошь усыпанного прошлогодней, перезимовавшей под снегом, крупной, хотя и чуть увядшей, брусникой. Солнце пригревало изрядно, давал себя знать микроклимат самой южной точки Гренландии – Уунартока. Мне стало жарко в моём эскимосском одеянии. Ивало, по всей видимости, тоже почувствовала необходимость избавиться от лишней одежды. Я едва успел раздеться до пояса, в то время, как она без малейшего стеснения, уже совершенно обнажённая, сидела на корточках у своего рюкзака, выуживая оттуда одежду более подходящую для местного климата. Почувствовав на себе мой взгляд, она подняла голову и улыбнулась потаённо, одними уголками рта. Инуитка выпрямилась во весь рост, как бы предлагая мне лучше рассмотреть себя. То, что я увидел, скажу прямо, мне столь же понравилось, сколько и потрясло.
Молодая женщина вполне могла гордиться своей поджарой, стройной фигурой прирождённой охотницы. Её коротко стриженные тёмные волосы в солнечных бликах явственно отливали медью. У неё был прямой нос, пухлые губы и искрящиеся смехом под тонкими стрелами, сросшихся на переносице бровей, чёрные, как полярная ночь глаза. Однако, самое неожиданное для меня открытие состояло в другом. У молодой женщины было смуглое, с бронзовым оттенком тело. Её небольшие упругие груди с чёрно-коричневыми сосками, плоский живот с тёмной ямкой пупка, в меру широкие бёдра и даже недлинные, но сильные и ладные ноги, в общем, вся красавица Ивало сплошь была покрыта узорной, замысловатой татуировкой.
Я не услышал, когда Ивало успела приблизиться ко мне вплотную, скорее почувствовал уже знакомый аромат – смесь запахов солёного моря и тундровой ягоды. Я увидел её глаза, которые вблизи оказались не чёрными, а чёрно-карими с золотистыми прожилками, как у магического агата редкой расцветки. Она положила смуглые руки мне на плечи и слегка коснулась моего кончика носа своим. Ивало принялась медленно и как-то вкрадчиво исследовать мой почти бержераковский нос своим симпатичным, небольшим носиком. Сколько продолжалась эта необычная ласка не могу сказать точно, но то, что это было, пожалуй, самое яркое и необычное эротическое впечатление в моей жизни, я ручаюсь.
В какой-то момент Ивало покинула мой очарованный орган обоняния и с непринуждённой грацией, едва касаясь босыми ступнями мшистых кочек, побежала прочь от меня. Неизвестный инуитский татуировщик и тут проявил своё искусство. Прямая спина инуитки с рельефно развитыми мышцами была украшена нисходящим стреловидным орнаментом, а аккуратной формы сильные ягодицы украшали небольшие изображения замкнутых спиралей. При движении эти рисунки, словно живые, свернувшиеся кольцом тёмно-синие змеи, то сжимались в сплошной тёмный круг, то разжимались, вновь превращаясь в спираль. Ивало на миг остановилась и оглянулась в мою сторону. Я радостно принял её приглашение, и уже не ведая никаких сомнений и мук уязвлённого самолюбия, без промедления последовал за прелестной охотницей. Преодолев ближайший, покрытый мягким оленьим ягелем холм, я увидел с его вершины небольшое сравнительно гладкое и ровное каменное плато, совершенно лишённое растительности. Здесь, между огромных валунов, парили и шипели множеством лопающихся воздушных пузырьков несколько малых и больших бассейнов, наполненных водой из подземных геотермальных источников.
Женщина стала осторожно опускаться в ближайший бассейн в форме бабочки с крыльями разных размеров. Оступившись, она завизжала, как самая обычная девчонка и погрузилась с головой в пенную, шипящую пузырьками газов воду. Я поспешил ей на помощь и, не удержавшись, сам совершил памятный нырок в почти горячую воду. Ивало вынырнула первой, и, цепко схватив за плечи, принялась топить меня в этом сотворённом самой природой джакузи. Разумеется, несмотря на всю силу и сноровку Ивало, я был гораздо мощнее и мне ничего не стоило, вывернувшись, легко выбраться наверх. Однако мною самим овладело игривое настроение, и я решил подразнить подругу, изобразив жертву коварного утопления.
Пару раз дёрнувшись в мнимых конвульсиях, я расслабился и стал погружаться на дно каменного колодца, попутно пересчитывая задом все встречающиеся уступы. Ивало, испугавшись, нырнула следом и принялась изо всех сил тянуть меня наверх, но не тут-то было. Утопленник не желал всплывать, и лишь вдоволь насладившись тщетными попытками бедной перепуганной женщины, внезапно и скоропостижно воскрес, схватил свою жертву в охапку и с шумом вынырнул на поверхность. С чисто женской последовательностью инуитка пришла в ярость от моей выходки. Можно подумать, что это не она первой затеяла игру "Утопи дружка". Девушка принялась вырываться из моих крепких объятий, пребольно колотя твёрдыми кулачками в грудь. Выражение её милого лица стало свирепым и она, словно небольшой, но опасный хищник, оскалила свои крепкие белые зубы. Мне подумалось, что именно их мне следует опасаться куда больше кулачных побоев, и я счёл за благо отпустить свою законную добычу.
Ивало, всё-ещё пышущая гневом, отплыла в противоположную сторону, выбралась из воды и принялась зачем-то выковыривать синеватую глину, слежавшуюся между камней, скатывая её в шарики. Невозможность словесного общения угнетала и мешала мне больше всего. В конце концов умение "говорить красиво" в искусстве обольщения женщины есть главное оружие настоящего мужчины. Пусть даже мужчина стоит голый посреди Гренландии и из одежды у него одни усы.
В общем, куда ни кинь…, а делать что-то надо, типа мирится. К счастью Ивало сама прекратила мои танталовы муки. Молодая охотница, видимо, привыкла брать на себя инициативу во всём. Она обосновалась на мне, как сборщик кокосовых орехов на пальме, обхватив руками шею, а ногами бёдра. Едва она попыталась начать свои фокусы с эскимосскими поцелуями, как я прервал её с твёрдым намерением научить целоваться по-человечески. По-моему, у меня получилось неплохо…
Боцман закончил цветной пеньковый коврик – корабельный мат и усмехнувшись заявил с грустью:
– Ну вот, и матик сплёл и тебе целую баржу россказней наплёл. Вспомнил дед, как в женихах хаживал.
– Чем дело-то кончилось, Устиныч? Что потом? – спросил я нетерпеливо.
– Потом мы на рейдовом катере отправились домой к Ивало и на этот раз не в иглу – продолжил боцман – Ты удивишься, в нормальный деревянный домик, ярко-лазоревого, небесно-голубого цвета. Этот домик Ивало с Наноком получили в подарок на свадьбу от местных властей.
Я вернулся на свой траулер. В Нууке на ремонте мы простояли ещё четыре месяца и после каждого рабочего дня я возвращался в лазоревый домик к своей Ивало. Говорили мы по-русски, да и я по-инуитски понимал уже хорошо. Ивало моя способной к языкам оказалась. Прикипел я к ней, девчонке гренландской. С собой позвать я её конечно не мог. Как она проживёт без родных, без охоты, земли своей студёной. Ясно – зачахнет. Она сама меня остаться просила. Говорит – оставайся. Будешь здесь рыбачить, со мной жить, а я, мол, тебе деток нарожаю. Счастье будет. А я что мог ответить? Говорю – не могу остаться. У меня на Родине это, считай, измена, а я предатель получаюсь. Она только головой покачала. Странная, говорит, у тебя, Рони-аккияк, Родина, словно ревнивая жена. Су-удьба! – вздохнул Устиныч. Что-то я расклеился, малый. Старый я стал, сентиментальный. Иной раз закрою глаза и вижу, как стоит на причале Нуука и ждёт меня моя Ивало. Она знает, что я жив и знает, что я не забыл её, ведь как-никак она немножко колдунья.
Боцман и страсть роковая
Любовно-портовый рассказ
На траулере было мало народа. Основной экипаж находился в отгулах, используя выходные дни, накопленные за время рейса. На борту находились только вахтенные, механик с мотористом, матрос, да ещё штурмана занимались рутинной береговой работой. На подмену заболевшему Владлену был прислан вечно береговой капитан Андрон Макаров. Был он всегда при параде, в капитанском кителе с золотыми шевронами, в фуражке с вышитым на заказ крабом и тщательно отутюженных брюках. Андрон был известен тем, что, не смотря на адмиральскую фамилию, категорически предпочитал капитанить в пределах родного порта. Мотивировал он свой выбор весьма оригинально, заявляя, что по выходе в море подвержен приступам жестокой ностальгии. Тоска по Родине в виду не имелась. Андрон Макаров в море тосковал по ежевечерней возможности уютно принять на грудь, причём исключительно в тёплой компании своей многоуважаемой тёщи. Тёща Андрона была женщиной богатырского роста и сложения, весьма выдающейся во всех приятных мужскому глазу местах. Носила она звучное имя Ариадна Леопольдовна и обладала исключительным даром. Уникальным, можно сказать, умением понимать тонкую душевную организацию любимого зятя.
Как-то начальство, после очередного отказа Макарова выйти в море, попыталось сделать в отношении сухопутного капитана, оргвыводы. Проще говоря, уволить его по так называемому "собственному желанию". Однако увольняемый оказался вовсе не беззащитен и применил своё секретное сверхоружие, тёщу Ариадну. Та ворвалась в отдел кадров флота могучим ураганом, на манер легендарной воительницы валькирии. Ураган этот сметал на своём пути встречных морячков, предметы казённой меблировки и прочую мелочь в виде сексапильных, но субтильных секретарш. Начальник ОК позорно бежал от нежданного бедствия вниз по лестнице и попытался укрыться, вместо своего кабинета, в мужской уборной. Однако и там, он был, настигнут, и с позором извлечён из взломанной мощным ударом кабинки. Очевидцы свидетельствовали, что слышали за дверью мужской уборной глухие стенания загнанного в ловушку несчастного клерка и даже, если не врут, звуки ударов и мольбы о пощаде. После этого рокового рандеву главный кадровик резко переменил своё мнение о Макарове, как о неперспективном специалисте и благоразумно решил оставить всё как есть, по-старому.
Глумливый матрос Эпельбаум, ехидно хихикая, уверял, что видел в тот день и час выбиравшегося из туалета начальника отдела кадров. Вид, мол, у него был такой, будто он официальным образом попытался проинспектировать женское отделение душевой персонала рыбного порта. Причём, совершил он это самоубийственное действо во время помывки бригады чистильщиц корабельных трюмов, конфликтовать с которыми опасались даже крутые докеры-мужики.
В Норвегии остался в совершенно официальной командировке наш боцман Бронислав Друзь. Поскольку личностью он был весьма популярной и даже легендарной, то слухи про эту командировку в родном Мурманске пошли самые экзотические. Одни говорили, что, дескать, Друзь заслан спецагентом в логово НАТО. Другие болтали, мол, боцман нашёл клад в пределах порта и бежал с богатством, переодевшись женщиной. В частности, тот же самый Макаров, нисколько не смущаясь тем фактом, что я был непосредственным свидетелем судьбы Устиныча, "совершенно конфиденциально" выдал мне следующую версию:
Дескать, дело было так. Наш усатый сердцеед боцман Друзь мирно прогуливался в пределах норвежского порта Тромсё. У одного из причалов его внимание привлекла роскошная трёхпалубная океанская яхта. Хозяйкой яхты, как выяснилось позднее, являлась вдова некого арабского шейха, нефтяного миллиардера. Как свидетельствовали всё те же таинственные очевидцы, это была женщина роковой восточной прелести. Красоту её выдавали лишь огромные антрацитовые глаза, таинственно сверкавшие над тонкой чадрой натурального шёлка. Великолепная вдова уже давно томилась в неприкаянном одиночестве, перманентно тоскуя без мужского внимания. Эта шамаханская царица узрела на причале великолепного роста мужчину с роскошными усами и мгновенно влюбилась в него без всякой мусульманской памяти. На причал был немедленно послан знойный красавец, капитан яхты по должности и евнух по совместительству по слухам. На хорошем английском, с лёгким арабским акцентом и восточным витиеватым радушием, смуглолицый капитан пригласил боцмана на борт трёхпалубной красавицы. Как настоящий моряк Устиныч не мог отказать себе в удовольствии увидеть поближе это чудо кораблестроения. В процессе осмотра нашего боцмана коварно подманили к хозяйской каюте, куда и втолкнули не менее коварным образом. Что происходило далее, внутри этой самой каюты, пожалуй, можно оставить на совести вечно голодных фантазёров-морячков.
Тем не менее, утром боцман вернулся на родной борт живым и вполне здоровым, если не считать припухших от знойных поцелуев губ и лёгких теней приятной усталости под глазами. Кроме того заметны стали зримые перемены в поведении седовласой жертвы Купидона. Романтическая рассеянность, несвойственная Друзю молчаливость, вселенская печаль и поволока в глазах. В общем, все классические признаки любовной болезни. В течение всей стоянки, по окончании рабочего дня, боцман поспешал в объятия черноокой красавицы. Капитан Владлен, прознав о преступной связи своего подчинённого, рассвирепел на манер отца Ромео, графа Монтекки. Злодей распорядился запереть влюблённого моряка в каюте, под домашний арест, причём до самого отхода траулера на Родину. Той же ночью терзаемый роковой страстью арестант бежал с родного борта, бесшумно демонтировав запертую дверь. Благо квалификация позволяла. Страстотерпец, согреваемый горячим, словно кипяток из самовара чувством, вплавь преодолев студёные воды норвежского фьорда, добрался до борта желанной яхты. Здесь он без промедления был поднят на борт темнокожими матросами и за неимением запрещённого Кораном спирта, растёрт восточными специями, для желаемого эффекта содержавшими жгучий мавританский перец. В ту же ночь яхта покойного шейха покинула порт Тромсё, унося в жаркие страны влюблённого боцмана и его звёздноглазую пассию.
Я не без изумления выслушал эту любовную новеллу, достойную пера самого Проспера Мериме. Мне почему-то показалось, что несколько приземлённый, в прямом и переносном смысле капитан Андрон Макаров, вряд ли сумел бы с такой долей экзотической романтики описать историю роковой страсти беглого боцмана. Тут чувствовалось присутствие дамы, причём дамы незаурядной, с явными литературными наклонностями. Задолго до появления мыльных любовных сериалов сочинившей столь классический сюжет страстной и скоропостижной, как смерть любви.
Ариадна, кто же ещё?! – догадался я и с грустью подумал, о том, сколько же России нереализованных, скрытых под серым ворохом рутины талантов.
На очередной ходовой вахте я заметил на горизонте силуэт судна. В бинокль удалось рассмотреть, что это наш брат рыбак – траулер идущий курсом на север. На корме с трудом различалось что-то пёстрое и цветное. Видимо флаг, но какой страны? Капитан достал из ящичка на переборке свои личные "цейсовские стёкла" и навёл "резкость на цель".
– Болгарин – уверенно заявил он – это их триколор – бело-зелёно-красный. Там у них ещё герб со львом в верхнем правом углу, но царь зверей у болгар мелкий, без телескопа не разглядишь.
– Вызвать его, Виктор Палыч? – спросил я.
Кэп как-то неопределенно кивнул. "Даёт добро" – решил я и вышел в эфир. Вызывал проходящий траулер я, естественно, по-английски. Однако болгарин не отзывался.
Шептицкий отнял у меня телефонную трубку УКВ-станции и принялся вызывать соседа по-русски:
– Болгарский траулер, идущий курсом норд. Вас вызывает советский траулер «Онега». Следую курсом норд-ост, дистанция сорок пять кабельтов. Как меня слышно? Приём!
Ответ последовал незамедлительно:
– Говорит капитан бльгарски траулер «Огняна» Йордан Христов. Слышу тебя хорошо, «Онега». Как дела? Приём!
Виктор Палыч широко улыбнулся и весело ответил: – Тесен океан! Юрка! Христов! Ты что ли?! Это Шептицкий с тобой говорит, капитан "Онеги".
– Витя?! Шептила?! Твоята майка![9] Ты капитан уже?! Сколько лет… Надо обмывать это дело! Такава стреща![10] Как жизнь, как то сам? – радостным пулемётом зачастил капитан "Огняны"
– Да нормально всё, Юр, не жалуюсь – отвечал наш кэп – встретиться можно. Ты не сильно торопишься? А то, глянь – погода хорошая, штилевая. Можно пришвартоваться, в дрейф лечь и посидеть у меня или у тебя часов пяток. Вспомним как мы с тобой молодыми обезьянами по вантам барка Крузенштерн скакали! Ты как на это смотришь?
– Я так не против – согласился на предложение Шептицкого капитан Христов – Время терпит. Мы на район промысла меняем. Идём на патагонский горка – калмар брать. Мои парни сейчас трал новый вооружать. Ты сам как на твой рыбалка? Со щитом?
– Был со щитом, да весь вышел – не без горечи вздохнул Виктор Палыч – Клыкач на ярус пёр, как пролетариат в пивную. Да тут банда касаток подошла. Уголовники, мать их! Чикагские гангстеры! Ограбили вчистую, в одних носках оставили! Тушку у клыкача откусят аккуратненько, а голову на крючке оставят. Издеватели, мля… Ты представляешь, Юр, что творят? Волки, мать их, зубастые…
– Знакома тема! – посочувствовал Йордан – Если тези крадци[11] к тебе привязались, то уже не отстанут. Не дадут тебе здесь больше рыбалить. Уходить тебе отсюда надо. У тебя трал на борту есть?
– Да есть конечно! – Отвечал Шептицкий – Как не быть. Мои палубники, за сутки другие, хоть донный, хоть пелагический трал вооружат. А ты это к чему?
– Да к тому, Витя, что пошли со мной вместе на патагонский горка калмар брать. Там сейчас самый лов, калмары свадьбы играют, их там, като турци в Турции, тъминината тъмно![12] – Предложил болгарин.
– Заманчиво говоришь – задумчиво заявил наш мастер – Только мы ведь люди подневольные. Мне надо будет со своим начальством в Мурманске на связь выйти и этот вопрос провентилировать. Согласие от него получить и новое рейсовое задание.
– Ну, да, съветската бюрокрация, запознат бизнес![13] – Согласился Йордан – если решишь вопрос, то я тебе помогу по-штурмански. Я на той калмарной горке не первый год рыбалю. Считай, не одну собаку кушал. Там места знать надо. Где трал приподнять, где приспустить. Если что, обращайся!
На том и порешили. Вскоре мы подошли к болгарскому траулеру, пришвартовались друг к другу бортами и, застопорив машины, легли в дрейф. Наш кэп отправился в гости к своему другу Юре-Йордану и вернулся только утром, заметно уставший, но довольный. Вопрос с новым местом промысла решился сравнительно быстро. Уже через двое суток наша «Онега» с новым рейсовым заданием отправилась к патагонской возвышенности или «горке», как называл её капитан "Огняны".
Наше новое место промысла, судя карте, представляло собой узкое, длинной одиннадцать и шириной в полмили, возвышение океанского дна. Глубины здесь варьировались от двухсот до семидесяти метров. Эта полоса, почти что отмели, с обеих сторон внезапно обрывалась в километровые бездны южной Атлантики. Этими крутыми обрывами сходство Патагонской возвышенности с горкой, пожалуй, и ограничивалось. Над саблевидным подводным островом, в его камнях, скалах и глубоких расщелинах роились многомилионные, тысячетонные стаи кальмаров. С наступлением сумерек нам открылись новые, неожиданные красоты этого места. Здесь, словно оживало давно забытое детское чувство – "ожидание волшебства", навеянное новогодне-рождественской, ёлочно-гирляндной магией.
Прежде всего, ещё раз пришлось убедиться, насколько красивы, бывают самые, на первый взгляд, странные создания, находящиеся в родной стихии. Приближаясь к поверхности воды, на свет исходящий от судна, крупные, полуметровые особи демонстрировали свои стреловидные, переливающиеся всеми цветами радуги, совершенные тела, а затем, покрасовавшись краткий миг, внезапно, словно призраки, исчезали. Однако стоило поднять голову и оглядеть горизонт, как тут же начинало казаться, что люди тоже желают праздника. Десятки «светоловов» – японских и южно-корейских промысловиков с вертикальным ярусом, озаряли окрестности отсветами направленных за борт прожекторов. На их палубах громоздились большие вращающиеся барабаны с многометровой снастью – толстой леской с сотнями мерцающих, как разноцветные светлячки в темноте, джиггеров[14]. Можно понять светолюбивых кальмаров, загипнотизированных столь "чарующей наживкой". Одни барабаны поднимали из воды таинственно-мерцающую снасть с добытым кальмаром, другие опускали её. Всё это непрерывно двигалось, кружилось и наполняло сумеречное пространство этой маленькой части океана переливающимся, волшебным облаком-сиянием. Просто Дисней-Лэнд на воде. Или нет, я бы назвал этот светящийся уголок Атлантики – Луна-парк "Патагония".
Капитан Шептицкий поставил свой первый трал на новом месте и совершил с ним несколько "кругов почёта" по "патагонской горке". «Цветник» – новый, японский рыбопоисковый эхолот неизменно показывал скопления розово-голубых облаков, похожих на подводные НЛО, кальмаровых стай, роящихся возле самого грунта. Если на карте была обозначена подводная скала или резкое возвышение дна, кэп лично траловой лебёдкой приподнимал снасти, в местах же более глубоких приспускал их. И опять нашему мастеру не изменила удача. Первый подъём трала и в нём целых десять тонн отборного патагонского кальмара. На радостях опустили за борт ещё один трал, но не прошло и полчаса, как капитан почуял неладное. Эхолот неожиданно нарисовал необозначенную на карте, словно внезапно выросшую на океанском дне скалу. Виктор Палыч начал на полной скорости поднимать трал, но поздно – «Онега» почувствовала лёгкий толчок. Значит, не успели. Подняли трал на борт – так и есть. Вся снасть порвана в клочья. Теперь сутки или больше придётся её чинить.
– Не хочу больше рисковать! – решительно заявил Шептицкий и принялся по УКВ-связи вызывать своего болгарского друга – капитана траулера "Огняна".
Йордан Христов ответил незамедлительно и после коротких объяснений предложил:
– Вот что, Витя. Ты давай забрасывай на мое борт свой третий помощник. Я ему дам срисовать на копирка все известны мне, опасные на траление места, и тогда всё у тебя будет ладно и шоколадно. То я гарантирую.
Без лишних разговоров Виктор Палыч приказал мне "морально приготовиться к дружескому визиту". Боцман и второй механик проверили готовность катера к небольшому переходу, и мы втроём отправились к «братушкам». На борт «Огняны» я поднимался по штормтрапу со штурманским портфелем за спиной. Отчего-то вспомнились наши с экипажем «Ореховска» незабвенные приключения на острове Медвежьем и сооружённая на его скалах боцманом Друзём дорога из штормтрапов.
На мостике болгарского траулера меня встретил сам Йордан Христов. Капитан, высокий, черноглазый брюнет с седеющими висками протянул мне крупную и сильную кисть. Мы пожали друг другу руки, я представился и с ходу попытался "взять быка за рога".
– Товарищ капитан, можно мне приступить к работе с картами – спросил я.
– Ты, братушка Паганель, давай не торопись. Приехал в гости к болгарам, так давай поступай по-болгарски. Първият обяд[15], за жизнь беседа, потом бизнес – ответил Христов.
Я, признаться, оторопел. Давно уже меня не называли Паганелем, да ещё братом. Впрочем, мастер Шептицкий подобным образом к моей персоне пару-тройку раз обращался.
Христов пригласил меня в свою каюту, усадил за стол и поднял трубку телефона внутренней связи. Сказав несколько слов по-болгарски, он уселся напротив и уставился на меня смеющимися, цыганскими глазами. Мне опять стало не по себе. Я, даже, почувствовал некоторое раздражение.
"Ну, и чего это он на меня уставился? Я у него никак, вроде обезьянки забавной в гостях?" – мелькнула досадная мысль.
В дверь капитанской каюты постучали. Вошла стройная молодая женщина лет тридцати в белом переднике и с большим подносом в руках.
– Здравыйтэ – поздоровалась она.
Болгарка была замечательно хороша. Просто настоящая балканская красавица. Пышные, чёрные волосы до пояса, брови-стрелы в разлёт, прямой нос, пухлые губы и огромные, карие очи. Эти очи, как сказал писатель Сергей Довлатов, защищали "баррикады пушистых ресниц". Я почувствовал, что мне следует подобрать нижнюю челюсть. Эта моя вполне естественная реакция на женскую красоту тоже не укрылась от болгарского капитана. Христов едва заметно подмигнул мне, и я, почему-то, почувствовал себя свободнее.
– Добыр аппетит! – пожелала нам красавица.
Нэйдежда! – обратился Йордан к женщине и продолжил по-русски – Пообедаешь с нами, скрасишь наш пушач[16]? Красавица бросила на меня короткий, любопытный взгляд и, кивнув несколько раз головой, ответила что-то по-болгарски. Если бы она не начала свой ответ с троекратного «нэ-нэ-нэ» можно было подумать, что она согласилась на предложение капитана. Тут то мне вспомнилась широко известная болгарская странность – кивать в знак отрицания чего-то и отрицательно вертеть головой в знак согласия. Между тем Нэйдежда расставила для нас с капитаном тарелки и принялась разливать в них какое-то ароматное, горячее блюдо отдалённо, хотя бы по цвету, напоминающее борщ.
– Это чорба – специально для меня пояснила она по-русски – очень вкусно, кушайте пожалуйста.
– На чорбу Нэйдежда у нас мастерица – подтвердил капитан – Я за её чорбу и сосватал на «Огняну». Ребята нашу кормилицу по-домашнему зовут – Нэйдена. Между прочим, пришлось прежнему её мастеру "булка цена" – выкуп за невесту давать. Только, чтобы он её ко мне отпустил. Сто пятьдесят баранов за нашу красоту отдал – заявил Христов и громогласно рассмеялся собственной шутке.
Кок Нэйдёна бросила на своего начальника откровенно сердитый, даже гневный взгляд, но комментировать его мужицкий юмор не стала. Чорба оказалась густой, пряно-острой и действительно чертовски вкусной. Но отведал я этот балканский борщ, чуть позже того, как мы остались с капитаном наедине, и гостеприимный хозяин угостил меня белесой, как разведённое молоко, анисовой болгарской водкой-мастикой.
– Здравето посетитель![17] – был первый тост от хозяина.
– За рыбацкую удачу красавицы "Огняны"! – Сымпровизировал я ответно, обыгрывая женское имя в названии траулера.
– Красива тост – похвалил меня болгарский капитан.
Между тем судно начинало заметно покачиваться на волне от свежеющего ветра. Погода явно портилась. Капитану позвонил с мостика вахтенный штурман и мои наблюдения подтвердились.
– Ужасен вятр[18] в нашем крае! – Сообщил Христов – не ждали его здесь, да он пришёл. Придётся тебе, братушка Паганель у болгар отсидеться, пока море не успокоиться. Катер в такова време[19] никто за борт спускать не будет. За карту донную не беспокойся. Мои штурманцы всё, что надо нарисуют. Ты только в рубку штурманску поднимись и все свои бумаги отдай моему второму помощнику.
В штурманской рубке меня встретил смуглый второй помощник лет сорока пяти. У него был гордый орлиный профиль и седые усы в форме подковы.
– Ибрагим – представился он и крепко пожал мою руку.
"Да ты дядя, никак турок?" – не без удивления подумал я и тут же обратил внимание на православный крест искусной ювелирной работы, поблескивающий червонным золотом среди курчавых с проседью зарослей ибрагимовой груди.
Вскоре меня проводили на заслуженный отдых. Яркие впечатления прошедшего дня посетили меня во сне. Разумеется, не обошлось без видений с участием красавицы Нэйдены. Она танцевала передо мной с голым животом, босиком и в чадре. Действо происходило в каком-то явно гаремном антураже. Нэйдена в ритме танца ловко помахивала над головой жутковатым, кривым турецким ятаганом. Затем на заднем плане почему-то промелькнула широкая, волосатая турецко-православная грудь Ибрагима с сияющим наперсным крестом.
"Всё смешалось в этом пёстром мире…" – умозаключил я со свойственной мне мудростью и, невзирая на усиливающуюся качку, перевернулся на другой бок, с тем, чтобы и дальше почивать на свежем постельном белье в отдельной уютной каюте гостеприимной рыбачки "Огняны".
С утра «Огняну» ещё сильнее подбрасывало на штормовой волне, а я, упершись спиной о переборку штурманской рубки, разбирал бумаги в своём штурманском портфеле.
Палубой ниже хлопнула тяжёлая дверь радиорубки, и на мостик стремительно, по тигриному ловко и быстро вознёсся капитан «Огняны». Христов был явно чем-то озабочен. Он поздоровался и стал вполголоса беседовать со своим старшим помощником, молодым, чернявым парнем в форсистой морской фуражке. Фуражка была та ещё – выпендрёжно примятая с боков, с высокой тульей и вышитым золотом «крабом». На «крабе» том вальяжно расположились, в тесноте да не в обиде, две танцующие упитанные лупоглазые рыбины, а над ними трезубец царя морей Посейдона скрещённый с могучим разлапистым якорем.
По мере продолжения беседы лица болгар всё больше мрачнели. Наконец, закончив непонятное мне совещание, Йордан повернулся ко мне.
– Проблеми у нас – без предисловий заявил Христов – Галтьери[20] диктатор аргентинский совсем с покатушек уехал. В Бенито Муссолини решил поиграть. Войну с англичанами из-за Фолклендов затеял[21], а пока Тэтчер[22] до него не добралась, с мирными рыбаками воюет. Траулер наш болгарский «Бояна» на связь успел с нами выйти. Они за триста миль от берега, далеко от двухсотмильной зоны[23] кальмара ловили. Так внезапно, без всяких объяснений, на них аргентинский эсминец наскочил. Обстрелял наших из пулемётов и боевыми снарядами из орудий. Сейчас высаживает десант. Обнаглели свине, знают, что Бльгария е малка страна[24] и армаду против них не пошлёт, а на «Бояне», меж тем, есть раненные. Вот так то, братушка, Паганель! – мрачно вздохнул капитан "Огняны".
Тем временем в большой группе рыбацких судов ловивших рядом с нами кальмара началось какое-то беспокойное движение. «Светоловы» спешно сматывали свои ярусные удочки, а бортовые и кормовые траулеры поднимали на борт снасти и один за другим начинали покидать район промысла. На УКВ-волнах неслась торопливо-озабоченная разноголосица на японском, корейском, русском, английском и прочих языках. Смысл был один – аргентинская хунта[25] взялась за иностранных рыбаков. Военные решили очередным странным образом побороться с многолетним экономическим кризисом и заявили, что собираются пресечь разграбление рыбных запасов страны. Сейчас они обстреливают и арестовывают "грабителей аргентинской двухсотмильной экономической зоны". Причем хунту совершенно не волнует, что этой самой зоны, к примеру, вокруг Фолклендов не существует, поскольку острова спорные. Да и, судя по координатам, которые успевали передать захваченные промысловики, аргентинские военные корабли нападали на них за десятки миль на отдалении от этой самой эконом. зоны.
Во всей этой суматохе все как-то забыли о моей скромной персоне. Я молча торчал на мостике и ждал, когда же обо мне всё-таки вспомнят. Как ни крути в гостях хорошо, но дома лучше… особенно при таких тревожных обстоятельствах. Наконец на моей родной «Онеге» вспомнили о своём младшем штурмане.
– "Огняна" – «Онеге», "Огняна" – «Онеге»! Приём! – Вышел в эфир по УКВ-связи капитан Шептицкий.
– Слушаю тебе, «Онега»! Добыр дэнь, Витя. Как стэ?[26] Приём! – ответил Христов.
– Да нормально, Юра и тебе добрый день – поздоровался Виктор Палыч – наслышан уже про ваши проблемы с аргентинскими вояками. Ты мне скажи, брат славянин, вы трёшника, штурманца нашего на родной борт возвращать собираетесь? Или вы его похитили и женили уже на красотке Нэйдежде? Приём!
– Ой, не шутите так, другар[27] советский капитан – заулыбался в телефонную трубку УКВ-радиостанции капитан «Огняны» и, хотя кроме нас двоих на мостике никого не было, почему-то оглянулся вокруг – у Нэйдежды, а мы её по-свойски Нэйденой кличем, на борту жених имеется. Мой второй помощник. Его Ибрагимом зовут, а това означаво патриарх, отец многих. Когда у человека такое солидно имя, то с ним, сам понимаешь, шутки по поводу его невесты плохи. Твой третий помощник жив, здоров, и всё ещё холост. Говори в какую точку подойти, чтобы ты его забрать смог? Приём!
– Добро, Юра – ответил Шептицкий – Я тут указание от начальства получил – держаться подальше от аргентинской двухсотмильной. Надо подождать пока вся эта катавасия с арестами промысловиков не утихнет. Ты, как я понимаю, после истории с вашим траулером «Бояна» тоже этот район покидаешь? Приём!
– Ты верно понял, Витя – согласился с предположением советского капитана Христов – Уходим подальше от этих вояк психованных.
В этот момент, оторвавшись от чёрной резиновой насадки радиолокатора, в разговор вклинился старший помощник капитана «Огняны». Он только что заступил на вахту и, как положено, знакомился с окружающей судно обстановкой. Старпом начал что-то быстро и взволнованно объяснять капитану, разумеется по-болгарски. Я тем не менее понял общий смысл его речи. С юго-запада к нам приближалась некая крупная цель и, судя по скорости хода около двадцати пяти узлов[28], это мог быть только военный корабль. Вояка, как обозвал его старпом Христова. Болгарский же траулер, как, впрочем, и наша «Онега», едва мог выжать 12, в лучшем случае 13 узлов. Траулер, уходя от явной погони, пошёл полным ходом. Капитан «Огняны» изменил курс судна на тридцать градусов вправо, но зловещая зелёная точка на экране локатора продолжала стремительно расти и приближаться. Вот уже на горизонте показались серо-стальные очертания военного корабля.
Эсминец – коротко бросил Христов, не отрываясь от бинокля и приказал играть общесудовую тревогу. Череда из семи коротких, взвинчивающих нервы звонков с одним длинным в конце, заполнили всё пространство судна. Ожила УКВ-станция, настроенная международный канал. С сильным испанским акцентом заговорил по-английски командир аргентинского эсминца. Он категорично утверждал, что болгары находятся в экономической зоне Аргентины. Вояка потребовал от Христова застопорить машины и лечь в дрейф. Никакие возражения по поводу того, что «Огняна» находится в международных водах и до ближайшего берега – Фолклендов, кстати ещё не вполне себе аргентинского, целых двести семьдесят миль, во внимание не принимались. И наконец, видимо, в качестве неопровержимого аргумента в пользу своей правоты аргентинец открыл артиллерийский огонь по безоружному рыбаку. Военные маринерос[29] на эсминце, то ли проявляли пока гуманизм, то ли, к счастью, не являлись асами морского боя. Пуляли они по известному молочному адресу. Снаряды ложились то с перелётом, то с недолётом. Не знаю, как другие, но я с самого начала обстрела почувствовал, что сегодня не вполне готов к роли мишени и внятно ощутил предательскую слабость в коленках и желание немедленно расстаться со съеденным не так давно завтраком.
Эсминец, тем временем, подошёл совсем близко. Мои болгары решили не искушать судьбу и застопорили машины, готовясь принять на борт незваных гостей. Однако, командир аргентинского эсминца повёл себя с какой-то бессмысленной, подлой жестокостью. По беззащитному, неподвижному траулеру открыли огонь из крупнокалиберного пулемёта. На этот раз, при стрельбе практически в упор, промазать было невозможно. Плотный огонь методично вёлся по надстройкам и корпусу судна, где находились каюты экипажа. Мы втроём, капитан Христов, его старпом и я, лежали в ряд, тесно прижавшись к палубе на штурманском мостике «Огняны». Недалёким отбойным молотком работал бравый аргентинский пулемёт, а на нас сыпались толстые осколки стекла из высаженных пулями иллюминаторов, куски пластиковой обшивки и древесные щепки.
По железным ступеням трапов «Огняны» застучали чужие тяжёлые башмаки. Зазвучали резкие, звонкие команды по-испански. Мы едва успели встать и отряхнуться, как на мостик ворвались здоровенные парни в чёрной униформе и беретах, вооружённые короткоствольными автоматами. Один из десантников, видимо командир, выпучив и без того выпуклые глаза, двигая взад-вперёд тяжёлой челюстью сходу принялся орать на нас, буквально брызжа слюной. Орал он вроде бы как по-английски, но с таким туземным акцентом, что понять его было мудрено. Христов попытался было объясниться с ним, но его похожий на гориллу собеседник не стал его слушать и носком кованного ботинка, с металлической накладкой на носке нанёс ему страшный удар под правую коленную чашечку. Болгарский капитан охнул и рухнул на левое колено. Горилле показалось этого мало, и он врезал ребром толстой ладони в дырчатой перчатке без пальцев по капитанской шее. Йордан, потеряв сознание, распластался на палубе ещё минуту назад своего, капитанского мостика. Я же поймал себя на мерзком ощущении полной беззащитности перед этими новоявленными корсарами, и ещё мне показалось, что я, словно бы, участвую в съёмках жестокого, реалистичного фильма про войну. В короткий момент установившейся тишины смертельно бледный старпом вдруг сделал шаг навстречу к вооружённому до зубов громиле и с ненавистью бросил в его звероподобную физиономию:
– Фашистите![30] Фашистите проклятые!
Я, признаться и так пребывал в совсем негероическом ступоре от всего происходящего, но после такого, на мой взгляд, тяжёлого оскорбления, нанесённого и без того свирепому аргентинскому вояке, с ужасом ожидал от него всего, что угодно. Однако, к моему изумлению военный не счёл всемирно известное итальянское слово грубым. Громиле, как я понял, обвинение в фашизме даже польстило. Он обнажил в хищной улыбке ряд превосходных белоснежных зубов и, снисходительно похлопав оторопевшего старпома по плечу, охотно и, даже с гордостью, с ним согласился:
– Си, синьор маринеро! Носотрос лос фасистас![31]
Затем нам приказали поднять на ноги едва пришедшего в себя капитана Христова и, захватив его с собой, отправляться в столовую команды. Йордан почти не мог наступать на повреждённую ногу. Каждый его шаг, судя по бледному лицу и закушенной нижней губе, сопровождался резкой болью. Капитан опирался на наши плечи, порой просто повисая на них, но мы с его старпомом, кое-как спустившись по двум трапам, всё же сумели добраться до столовой. Здесь было полно народу, судя по всему весь экипаж «Огняны». Четверо были ранены и кое-как перебинтованы подручными средствами. Раненые старались вести себя тихо. Кто-то придушенно стонал и раскачивался на стуле от боли, а кто-то пребывал в забытье, уронив голову на обеденный стол. Хуже всех выглядел второй помощник Ибрагим. Он лежал на нескольких, сложенных вместе, испачканных кровью праздничных белых скатертях, которые, похоже, догадались вытащить из рундука в столовой и приспособить вместо матраса. Ибрагим был без сознания, лицо его приобрело серо-зелёный, почти покойницкий оттенок. Правой ноги, ниже колена у него не было. Культю в верхней части жёстко перетянули несколькими, связанными вместе морскими узлами кухонными полотенцами. Сидящая на палубе, рядом со своим искалеченным женихом бледная, как смерть Нэйдена, не плакала, а только вытирала Ибрагиму испарину и пыталась поить его водой из маленького стограммового стакана. Через минут двадцать в дверях салона появился аргентинский морской офицер в чёрном, с золотыми галунами кителе и роскошной, расшитой серебром фуражке с высокой тульей. Офицер был молод, черняв и смазлив. Он принялся молча рассматривать болгар, сгрудившихся в столовой. Я, похоже, первым увидел его и не знаю почему, но почувствовал, что обязан что-нибудь предпринять. Мне пришлось сделать над собой изрядное усилие, чтобы открыть рот.
– Господин офицер – обратился я по-английски к юному офицеру – Здесь есть раненые. Один очень тяжело. Он потерял ногу и может в любой момент умереть.
Расшитый галунами аргентинский павлин уставился на меня с выражением крайнего недоумения на смуглой, кукольной физиономии. Можно было подумать, что он узрел внезапно заговорившего по-человечьи, чёрного таракана-кукарачу. С минуту, брезгливо оттопырив чувственную нижнюю губу, он изумлённо взирал на меня, затем, изящной рукой, затянутой в белоснежную лайковую перчатку, аккуратно снял со своего левого плеча невидимый волосок и… с достоинством удалился. Наступила ночь. В салон ввалился тот самый, гориллоподобный морпех, избивший на мостике Христова и увёл с собой машинную команду. Через полчаса траулер ожил, заработали его дизеля, и мы двинулись в неизвестность. Судно плавно покачивалось на ходу. Ибрагим начал громко стонать и, мешая болгарскую и турецкую речь, бредить. Нэйдена как могла пыталась его успокоить. Она гладила раненого по седой, кудрявой голове и что-то шептала ему. Задремавший было в капитанском кресле часовой с автоматом очнулся и вскочив на ноги во всю глотку истошно заорал:
– Силенсио!!![32]
Солдат так громко потребовал тишины, что Ибрагим пришёл в себя и приподнявшись на локте, обвёл столовую мутным, непонимающим взглядом. На шум прибыли двое сослуживцев сонного часового. Парни явно были навеселе, похоже они добрались до запасов спиртного в капитанской каюте. Один из солдат вперился в Нэйдену и восхищённо поцокав языком, уселся рядом с ней на палубу. Короткоствольный автомат он положил возле себя. Глупо хихикая, аргентинец начал что-то говорить по-испански, в то время как его правая рука поползла по ноге женщины, забираясь к ней под юбку. Нэйдена отпрянула и с размаху залепила наглецу звонкую пощёчину. Солдат злобно, по-гусиному зашипел, и вскочил на ноги. Подскочил на подмогу его товарищ и они, схватив Нэйдену за руки, вместе рывком подняли женщину на ноги и потащили на выход из столовой. Она принялась кричать и отбиваться и тогда один из мерзавцев нанёс ей короткий удар в солнечное сплетение, а другой резко рванул ворот блузки, разрывая её до самого пояса. Обнажились маленькие, словно испуганные птенцы, смуглые груди. Вдруг во внезапно наступившей тишине раздался металлический лязг затвора и тихий полный ярости голос произнёс:
– Дурдурмак, домузлар!!![33]
Ибрагим, приподнявшись на локте, держал в правой, подрагивающей руке забытый похотливым солдатом автомат. Его полубезумные глаза, налитые кровью, казалось светились тёмной, волчьей злобой. Он медленно перевёл ствол оружия от вмиг протрезвевших вояк, державших его невесту, на стоящего чуть поодаль часового. От раненого турка веяло материальной, сиюминутной угрозой. Часовой, побелевший с лица, послушно закивал и без лишних комментариев положил своё оружие на палубу, даже отодвинул его ногой подальше от себя, видимо, чтобы не искушаться. Ибрагим вновь перевёл ствол автомата на оцепеневших, незадачливых насильников. Можно было не сомневаться, что он готов стрелять и, даже, убить Нэйдежду вместе с солдатами, лишь бы не отдать свою женщину на поругание. Один из морпехов, стоящий ближе к двери, пришёл в себя раньше других. Он резко толкнул Нэйдену в сторону Ибрагима. Женщина, не удержавшись на ногах, упала прямо на обмотанную окровавленными тряпками культю своего жениха. Раненый дико закричал от болевого шока и, выпустив вверх короткую очередь из автомата, потерял сознание. От пережитого унижения солдаты пришли в неописуемую ярость. Особенно расходился пристававший к невесте Ибрагима. Он бегал по столовой, брызгая слюной и выкрикивая фальцетом испанские ругательства. Пинками он поднимал на ноги пленный экипаж траулера, угрожая болгарам своим вновь счастливо обретённым оружием. Всех погнали на выход из столовой. Находящегося без чувств Ибрагима мы несли с собой, взявшись за четыре угла окровавленной скатерти. Нас толпой повели на кормовую палубу и выстроили в два ряда у кормового слипа. Все та же троица аргентинских морпехов с решительным видом встали перед нами и взяли оружие наизготовку. Я почувствовал какое-то цепенящее безразличие, и опять вернулось ощущение нереальности, киношности всего происходящего. В этот момент скованная ужасом толпа мирных безоружных людей раздвинулась и вперёд вышел капитан Христов. Он стал говорить по-испански, медленно и чётко выговаривая, похоже, недавно заученные фразы. Мне, не большому знатоку испанского, в этот ставший оглушительно реальным момент всё было понятно без перевода.
– Я капитан болгарского судна «Огняна» Йордан Христов – говорил он, выпрямившись во весь рост, стараясь глядеть прямо в глаза аргентинцам – За пятнадцать минут до ареста судна я передал радиообращение "ко всем, кто меня слышит" на открытых частотах. Я сообщил, что destructor[34] аргентинских ВМФ "Caballero"[35] производит незаконное, с применением оружия, задержание моего траулера в международных водах. В случае исчезновения судна и экипажа вся ответственность ляжет на правительство Аргентины, командование её ВМФ и непосредственно на офицерский состав и команду эсминца " Caballero".
После этой решительной речи болгарского капитана я физически ощутил, как спадает висящее в воздухе напряжение. Правда один из солдат, тот самый, который затеял всю эту свару, видимо продолжал чувствовать себя во всех смыслах неудовлетворённым. Он шагнул вперед и, злобно прошипев "каброн"[36] в лицо Христову, ткнул его стволом автомата в живот.
– Кесар![37] – Донеслась команда с палубы, расположенной выше. По трапу к нам неторопливо спускался давешний красавчик-офицер.
Стоянка в Поморске
Михаил Неелов, третий штурман траулера «Пикша» сменился с вахты. Шли вторые сутки стоянки в маленьком беломорском порту Поморске, но самого города Михаил всё ещё не увидел. Вот и пришло время исправить эту ошибку. Таксист, не спросив пассажира, в каком именно месте городка ему надо оказаться, привёз Михаила в центр. Умный таксист доставил его даже не в центр, а в настоящий эпицентр местной цивилизации. Таковым по праву считался ресторан «Поморье». Вот и дорогие коллеги, морячки с «Пикши», весёлые и беззаботные покуривают на бетонном крыльце у распахнутых дверей.
Из ресторанного зала доносился голос Юрия Антонова:
"По зелёной глади моря, по просторам океана…"
– Живая музыка! Девки тоже живые! – подмигнул Мишке чуть поддатый старпом Гриша.
– "Живая музыка? Изрядно пущено!" – стараясь настроиться на весёлый лад, подумал Мишка.
– Вот это правильно, Мишаня! – подошёл к Неелову Вася Кот. Его толстая добродушная физиономия расплывалась в широкой хмельной улыбке.
Старшему электромеханику и просто хорошему человеку Василию Семёновичу Коту, так удружили родители. Да-а! Чтобы имея фамилию Кот, назвать сына Василием! Мама и папа у Васи были весёлыми людьми.
Красота моя! – дружески обнимая Мишкины плечи, пробасил Вася. – Это ты молодец, что к народу подтянулся.
– Это, правда! – серьёзно глядя на Михаила, поддержал Василия старпом Гриша. – Пошли к поморкам, они нас заждались, тоскуют конкретно!
Конкретно тоскующих поморок Мишка в «Поморье» не обнаружил, как не обнаружил и самого ресторанного зала. Да и откуда ему было взяться в городской столовой, которая, как в сказке, превращалась в весёлую харчевню только после восемнадцати ноль-ноль.
Впрочем, для нещедрого сентября девяносто первого года местечко было вполне уютное. И кто сказал, что обеденный зал столовой много хуже ресторанного? Главное, чтобы его заполняли хорошие люди, да на дюралевых с пластиковым верхом столиках были чистые скатерти. Есть холодная водка, а под неё и хлебно-куриные шницели хороши, были бы горячи.
– Смекай, Мишаня, – сощурил и без того маленькие глазки Вася Кот. – В Беломорске баба – зверь – голодная, как весенняя медведица. На мужика кидается, что твоя щука на блесну!
Васькины зоологические метафоры Мишке были неприятны. Сравнение беломорских женщин с отощавшим, неароматным зверем или зубастым речным хищником его коробили.
– Куда ж им, бедолагам, землячкам то моим, деваться! – вмешался, из-за соседнего столика, в их разговор Бельков, капитан «Пикши» и уроженец Поморска. – У нас в городке, мужиков мало. Где здесь работать? На рыбокомбинате? Так какая там зарплата? Дельные, да энергичные поморские мужики, все давно по большим городам разъехались, кто в Петрозаводск, а кто и в Архангельск с Мурманском. Знаете, какая статистика в нашем городском поселении? Пять из семи тысяч жителей, женщины, причём, от пятнадцати до сорока пяти. А мужиков с гулькин хрен, да и у тех «хреновые» гульки. Что с алкаша взять, не по женской он части.
В качестве иллюстрации к капитанской лекции мимо их столика продефилировала приятная блондинистая дама бальзаковского возраста. Она бросила томный взор в пустоту, куда-то над головами мужской компании, качнула пышным бюстом, и не удержавшись на «ломающихся» каблуках, плавно обрушилась на старпома Гришу.
– Медам! – по-гусарски лихо подхватил блондинку Григорий.
– Как неловко! – смущённо зарделась та, и не вставая со старпомовских колен, как ни в чём не бывало, продолжила: А могу я вас, молодой человек, пригласить на белый танец?
– Белый танец! Белый танец! – повторяя заветный пароль, зашелестели по всему залу женские голоса. Одна за другой, совсем молодые и зрелые, вставали они из-за столовских столиков. Фальшивый задор на лицах и тоскливая, не верящая самой себе, надежда в глазах.
На огромной бобине магнитофона «Маяк» русака Антонова вполне уместно сменил грузин Кикабидзе.
– Па аэродрому, па аэродрому! – проникающим в душу баритоном затянул знойный красавец Вахтанг.
Мишка уже принял свои сто пятьдесят, но вместо ожидаемого «куража» ему опять стало грустно, снова заныла его «правильная» Нееловская душа:
"Где-то тоскует моя беременная молодая жена, а я здесь, среди пьяных коллег-моряков и чужих, чего-то ищущих, фальшиво-весёлых женщин. Дурной сон! Вся эта жизнь – дурной сон!"
– Дорогой юноша, что же это вы, такой хорошенький, а грустите? – прозвучал совсем рядом женский голос.
На Неелова, улыбаясь перламутровыми губами, смотрел, двойник актрисы Талызиной.
– Ам! – бодро отреагировал Михаил на это мистическое явление.
– Вы заняты, юноша? – не унималась закадычная подруга Барбары Брыльской. При этом она то и дело поправляла, съезжающие с носа, огромные круглые очки в изумрудной пластиковой оправе.
– Я-а, тут едим! – промямлил Мишка.
– Не обижай женщину! – разжевывая кусок селёдки, гнусаво промурлыкал Вася Кот. – Иди, потанцуй, потом отобьём!
– Иди, иди, Михаил! Чай не в мужья зовут! – с нетрезвой ухмылкой распорядился Бельков.
Из соображений субординации Неелову пришлось подчиниться.
"Талызина", положив руки на плечи Мишки, медленно вращала его в свободном от столиков пространстве.
– Вот и всё, что было! Вот и всё, что было! – проникновенно подпевая Вахтангу, женщина вплотную приблизилась к Михаилу. Он ощутил головокружительную смесь аромата французских духов «Шанель» с салатом из сельди с луком от "Помора".
– Я, наверное, предпочёл бы сейчас настоящую Валентину Илларионовну, – потерянно размышлял Михаил. – Говорят, она чертовски обаятельна и остроумна.
– Ладно врать, то! – издевательски прогнусавил голос в Мишкиной голове, голос его "Чёрного двойника", Мистера Хайда, прячущегося где-то внутри, вечного Провокатора. – Красотку Брыльску ты предпочёл бы! А чо? Нормальный выбор! Возвращайся на свой траулер, в облезлую каюту, да и женись там под одеялом на этой прекрасной полячке. Не впервой ведь! Или у тебя правая рука отсохла?
Ну, это уж дудки! Когда здесь, желая ласки, ходят тоскливыми косяками столько неудовлетворённых живых женщин? – нетрезво разозлился Мишка на чрезмерную откровенность своего "Чёрного человека". – Сам лезь под одеяло к своему польскому призраку!
Михаил решительно прижал к себе и без того льнущую к нему партнёршу. Та ответила ему таким, полным нежной благодарности взглядом, что Мишке стало не по себе.
– Я уже знаю, что ты Миша, а меня, Ядя, зовут, – прошептала ему на ушко новая знакомая. – Ядвига имя польское, старинное королевское, между прочим.
– "И чего я всё усложняю? – удивился сам себе Михаил. – Она женщина, которая меня хочет, а я голодный моряк. Какого лешего мне ещё надо?!"
– А у нашего-то тихони, уже всё "на мази́"! – не без восхищения отметил поддатый Вася возвращение Михаила. Соседи по ближайшим столикам даже поприветствовали его беззвучными шутовскими аплодисментами.
– Мишань, а у твоей свежевыловленной беломорской зазнобы, кажись, за столиком ещё и подружка имеется, – громко зашептал Вася на ухо Михаилу. – Ты молодой, красивый! Иди там вопрос провентилируй, а там, "могёт быть", и скооперируемся.
– А с чего это я к ним попрусь? Я тебе кто, дуэнья? Ты не хуже меня «красаве́ц», вот иди сам и вентилируй! – слегка возмутился Мишка.
– И то, правда! – легко согласился Василий. Он поднялся из-за стола, поправил воображаемую бабочку на клетчатой ковбойке и направился к столику, где сидела Ядвига. Уже через мгновение он кружил в «медляке» новую знакомую, молодую и симпатичную подругу Яди.
– Приятная девушка, – почти с завистью отметил про себя Мишка. Жаль, что она не похожа на «обаяшку» Лию Ахеджакову. Был бы полный комплект, да и мне не так обидно!
– Всё путём, Мишаня! – радостно заявил, вернувшийся за столик Вася. – Мы с тобой приглашены. У Ядвиги хата свободная, она аж пищит, так тебя хочет, да и «мой» Людок не против.
– Так «твою» Людмилой зовут? – чему-то удивился Мишка. Не люблю это имя, лучше бы она была Лией.
– Ну, ты даёшь! – восхитился Кот. – Натуральный, мля, циник, почти, как я! С одной подружкой обжимаешься, а на другую тут же "глаз кладёшь".
– Да никто мне не нужен! – неожиданно осерчал Неелов. – Делайте, что хотите, а я обратно в порт, на судно поеду!
– Я извиняюсь! – возмущённо взвился Василий!
Он, почему-то на цыпочках, приблизился к Мишке и, дыша луком и водкой, принялся горячо и громко шептать ему на ухо:
– Ты убийца! Ты разлучник, Мишаня! Без ножа режешь, ангел мой! Ядвига без тебя нас с Людком на хату к себе не пустит! Так что, на сегодня ты наш, крас-савчик!
Тут же, как по команде, возле их столика возникли очкастая Ядя и миловидная Люда. Ядвига с многозначительной улыбкой взглянула на Мишку и прошествовала к выходу.
Мишка неприкаянно брёл за женщинами. Замыкал сию живописную группу лоснящийся от предвкушения сладкого Вася Кот.
Дома у Ядвиги компания употребила ещё бутылку сухого и попарно уединилась в двух разных комнатах. Мишка по отношению к Ядвиге энтузиазмом не пылал. Тем не менее, её обнажённое тело и его мужской голод своё дело сделали. Неелов проснулся через час, то ли от храпа любовницы, то ли от ощущения своей никчёмности. Он натянул трусы и вышел в коридор. На кухне, тоже в одних трусах, восседал Вася. Кот где-то раздобыл ещё одну бутылку сухого, и теперь потихоньку, в гордом одиночестве, оную лакал.
– Будешь? – указывая на бутылку, осведомился он у появившегося в дверном проёме Неелова.
Мишка сморщил в гримасе отвращения физиономию и отрицательно помотал головой.
– Вот ты мне скажи, брат Михельсон, чем ты этих баб привлекаешь? – изрядно, на старые дрожжи захмелевший, осведомился Василий. – Вот у меня и рост и внешность! А ты? Ну, что в тебе мужского? А, купидончик ты наш? Материнский инстинкт ты у баб пробуждаешь, вот что! Они ж, мамочки, титьку тебе дать желают.
Василий вплотную подошел к опешившему Мишке, и дыша ему в лицо перегаром, сообщил:
Я пока Людку приходовать не начал, она всё про тебя расспрашивала! Женат, мол, не женат. Обидно, мля! Сучки они все, Михуил, сучки и есть! А давай их, мля, накажем! Меняться бум? Ты к Людке, я к Ядьке! А, то ишь, обоим Мишутку подавай! А Васеньку-котика кто любить будет?
– Ты бы зубы то почистил! – в надежде хоть как-то охладить разошедшегося друга, осторожно посоветовал Михаил. – Я вот себе почистил и сразу легче стало!
Что, зубы?! Значит, согласен! – с великолепной логичностью умозаключил Кот.
Неожиданно здоровяк обхватил Мишку и потащил к комнате, где спала Люда. Толчком голой волосатой ноги он распахнул дверь и втолкнул Михаила внутрь.
Неелов попытался было ретироваться, но предусмотрительный извращенец Вася чем-то подпёр дверь изнутри.
– Это чо такое? – осведомился из полутьмы сонный женский голос.
Люда, опухшая от сна, со спутанными светлыми волосами, сидела, завернувшись в одеяло, на краю постели. Круглыми, изумлённо-негодующими глазами она таращилась на полуголого Мишку.
– Люд, ты не пугайся, я не нарочно, я тут посижу! – кивнув на стоящий у обеденного стола стул, промямлил Михаил.
Ёжась от утренней прохлады, он примостился у стола, положил на него голову и задремал.
Мишку разбудило прикосновение.
– Да ты замёрз совсем! Вон, кожа вся в пупырях, как у гусёнка! – Неелов оторвал от стола голову и увидел, стоящую перед ним обнажённую Люду. – Пошли уже, согрею! – мило улыбнулась Людмила и потянула Мишку за руку. Неелов не без удовольствия подчинился.
"Ну, не оказывать же тебе упорное сопротивление?!" – с приятной шутейностью одобрил происходящее Чёрный.
Ранним утром, наспех одевшись, Михаил незаметно выскользнул из сонного, оказавшегося даже слишком гостеприимным, дома. Он прошёл полгорода, но такси на пустынных улицах так и не встретил. На углу, возле здания почты, стояла, слабо освящённая изнутри, телефонная будка. "Междугородные линии", гласили толстые чёрные буквы на вывеске.
– Блин, а я ведь супруге так и не позвонил! У меня жена беременная, а я тут с "народом, собравшимся для разврата", разгулу буйному предаюсь!
Чувствуя себя последним мерзавцем, Михаил обречённо побрёл к междугородному телефону.
Сказка о Сказочнике
Санта-Вайу, славное название придумал какой-то конкистадор, приютившему мою персону местечку. Звучит, словно вопль буйного алкаша, получившего по затылку пустой бутылкой. Весь городок, две, образующие равносторонний крест, улицы. В центре католический храм, вокруг старинные каменные, времён испанского владычества, пустующие дома. Вся настоящая жизнь в порту, да в переполненных детьми и стариками бедняцких лачугах на окраине. Центр города давно выглядел заброшенным. Оживал он, как ни странно это звучит, в канун Дня мёртвых в самом начале ноября. Санта-Вайу наполняли толпы хмельных ряженых. Безумный цветной ураган по имени Карнавал бушевал на его улочках. Зомби и скелеты танцевали под грохот барабанов. Городок утопал в смехе, весёлом женском визге, оранжевых ноготках и отдающих ацетоном желтых астрах. По утрам на улицах вповалку лежали тела беспробудно спящих людей. Вместо лиц, выбеленные мукой, страшно-весёлые черепа. Сине-багровые, «инсультные» физиономии "живых мертвецов". Тёплый морской бриз катал по земле высокие и блестящие, лиловые и чёрные цилиндры. Солнце играло в зеркальных осколках, вшитых в пёструю ткань костюмов, да пустые картонные упаковки от выпитого вина валялись по всей округе.
Попал я в эту экзотику не по своей воле. Капитан предпоследнего судна, на котором довелось трудиться, оказался исключительным негодяем. На заходе в Гамбург моряки, как обычно, сошли на берег. А на обратном пути встретился мне у проходной наш кок, малаец Ахмет. Я-то, умник, успел записать его в исламисты, а на поверку именно он моим единственным другом оказался.
Прижал меня малаец в тёмном углу, и шепчет горячо на своём корявом английском:
– Не возвращайся на борт, Майкл. Полицай тебя за решётку брать хочет. У кэпа героин нашли! Много! Кэп полицай сказал, что ты, Майкл – русский мафия. Семью запугал, порошок возить заставил. Сам слышал. Врёт! Ой, врёт, пёс неверный! Невинный человек зря губит.
Я Ахмету сразу поверил, он парень прямой, бесхитростный, по-идиотски шутить не станет. Дело-труба! Кто таков, матрос Мишка? Кому нужен? Российскому консулу? Даже не смешно! Жены, детей нет. Денег на адвоката нет. Вся родня, друзья-детдомовцы. Закатают лет на пятнадцать, никто и не вспомнит о мнимом мафиози, русском гастарбайтере.
Повезло мне тогда! Вижу, у дальнего причала знакомый танкер стоит. Я на нём пару лет назад в Венесуэлу ходил. Поднялся на борт. Капитан танкера, испанец Хуан, сразу меня признал, обрадовался. В экипаж сходу принял, и в ту же ночь мы в Южную Америку отчалили. В конце перехода, утром, на рейде Каракаса Хуан вызвал меня к себе в каюту.
– "Ну, – думаю. – Вот они неприятные известия!"
Так и вышло.
Капитан, красный от злости, сидит за столом.
– Что же, ты русский, друзей подставляешь? – не поднимая глаз, с трудом сдерживая гнев, шипит испанец. – От Интерпола сбежал, и со своей наркотой на мой борт явился?
Отвечаю, как могу спокойно:
– Это меня подставили, синьор капитан! Вы же опытный, в людях разбираетесь. Ну, какой, к морским чертям наркоборон из нищего матроса Мигеля?
– Да, действительно, – смягчается Хуан. – На мафиози ты не тянешь.
В тот же вечер, получив расчёт у доброго Хуана, покинул я Каракас на рыбацкой шхуне. Отправился подальше, в самую карибскую глушь. А что? Парни из Интерпола элита, пожить любят. Джеймс Бонды по захолустьям не работают. Что им там ловить? Ни тебе женщин роскошных, ни гостиниц пятизвёздочных, ни ресторанов мишленовских.
В Санта-Вайу перекрестили меня в Миге Куэнтиста. А что? Подходящая кличка для беглого уголовника, Мишка Сказочник. Тощий, сухой, чёрный от лучей тропического солнца, двадцативосьмилетний бродяга. Неприкаянный беглец из безумно далёкой и непредставимой, как снег в Аду, России.
В юности гадала мне цыганка по левой руке.
– У тебя редкий знак, красавец! Созвездие Южный крест над самой линией жизни. Большой талант! Удача! Поклонники! Денег твоих не возьму. Зато лишь, что держала тебя за руку, будет и мне счастье.
Врала чавела!
Английский мне с детства, как родной. Начитался книг о морских приключениях, забредил далёкими океанами, вот и выучил. А испанский, вообще, легче английского оказался. В Санта-Вайу, первым делом сошёлся я с местной портовой братией. Вечерком подошёл, вежливо поздоровался, получил разрешение присесть у костра, за знакомство выпить – закусить предложил учтиво, вот дружба и завязалась. Креолы, да испанцы, только с виду лихие. В большинстве своём народ они дружелюбный, даже сердечный. Гнилых людей за версту чуют. Если же ты нормальный неудачник, то и живи себе спокойно. Долю посильную в «общак» вноси, да в чужие дела носа не суй. А кто ты? Откуда и каким ветром занесён? Об этом никто не спросит. Не в чести любопытство в каторжных краях!
На новом месте получилось освоиться быстро. Книжки для развлечения общества пересказывать начал. По-русски у меня это всегда славно выходило. Правда, тут по-испански пришлось. Но ничего, справился. Однажды книжные истории про пиратов неграм-докерам излагать начал, так через час-другой "береговое братство" со всего порта к нашему костерку подтянулось. Народ мои байки о морях, корсарах и набитых золотом испанских каравеллах с разинутыми ртами слушал. Тем более что происходили славные абордажи-грабежи каких-то четыре-пять веков назад в этих самых местах. А уж, когда великих французов, Дюма, Мопассана со Стендалем пересказывать стал, тут и дамы местные из лачуг своих подтянулись. Закутаются в шали-платки до самых глаз, и слушают замерев. По моей воле слезу в нужных местах пускают. Так и повелось, портовые стали постоянно меня приглашать книжки пересказывать. Вместо гонорара, уважение, а также ром и закуска. Хорошо ещё, что до алкоголя я небольшой охотник, а то спился бы от щедрот креольских к чертям испанским.
Поселился я у Санчеса, местного рыбака и моего самого благодарного слушателя. Жил старик вдвоём со своей прехорошенькой внучкой, девятилетней мулаточкой по имени Эва. Денег за комнату он с меня не брал, даже слышать не хотел. Больше того, кормил, как родного.
"Ты, Миге настоящий куэнтиста, – говорил Санчес, – редкий, талантливый человек. Истории сочиняешь, вся округа радуется. Нам простакам таких сказочников беречь надо".
Откуда я свои истории брал, никто не догадывался. Совестно было признаться. Старику я помогал, как мог. Сети чинил, дом на пару с Эвой прибирал. Иной раз на промысел марлина в рыбацкой лодке Санчеса выходил. Прямо как в "Старике и море". Только я третьим в этой компании. Считай на правах Хэмингуэя.
Мне в ту ночь нездоровилось, бросало то в жар, то в холод. Но хуже всего, что мучили дикие кошмары. Будто бы я не я, а сумасшедший маньяк-убийца. Похитил целую толпу чужих жён с детьми и ночью на лодке Санчеса в море вывез. Отплыл подальше от берега и по одной женщине или ребёнку в воду толкаю, морских людоедов балую. Вокруг тьма непроглядная. За бортом, в неверном свете кормового фонаря то и дело жуткая акулья пасть над чёрной водой распахивается. Мелькают, в шесть рядов, перемазанные кровавой слизью частоколы кривых белесых клыков. И чувствую я при этом, что сидят в моём теле сразу два человека. Один полон сострадания, терзают его дикие рыдания, страшные крики детей и женщин, а другой, нелюдь, этим же наслаждается.
Очнулся утром, голова гудит храмовым колоколом, да и горло прихватило. Старик меня к столу зовёт:
– Миге, завтрак готов!
А я с трудом отвечаю:
– Мучас грасиас, абуэло[38]! Поешьте с Эвой без меня. Что-то нет аппетита.
Санчес таким ответом не удовлетворился. Пощупал лоб, заглянул в воспалённые глаза и сокрушённо вздыхает:
– А ведь у тебя Антилка, мучачо! Лет сорок этой заразы в наших краях не встречалось. Сколько народу злая хворь к Барону Субботе[39] отправила, не счесть. Да только в шестидесятом монашки из Красного креста прививки всем подряд колоть начали, вот Антилка через год и пропала. Теперь эта зараза тебя за дёшево не отпустит. С нею не забалуешь, серьёзная синьора.
Кто бы мог подумать, что у этого, провонявшего рыбой и ромом деда сердце из чистого золота. Под грязной рогожей грубости, стыдясь как слабости, прятал он свою нежность. Неделю валялся без чувств. Старик выхаживал меня, словно родного внука. Пичкал порошками и пилюлями из местной аптеки. Насильно кормил мерзкой лечебной похлёбкой, отваром из молодого осьминога и красных коралловых водорослей. Да только всё зря. Сорокаградусный Ад лихорадки сжигал меня заживо.
– Не отступает проклятая хворь! Без преподобной Мамбо не обойтись! – устав бороться, озабочено заявил Санчес.
Я не на шутку перепугался и спрашиваю:
– Преподобная? Что, уже исповедоваться пора?
Не бойся, – усмехнулся Санчес. – Мамбо родом с Гаити. Ей хоть и тридцати нет, а уже самая уважаемая женщина в городе, настоятельница католического прихода. Когда надо, люди вспоминают, что Мамбо ещё и посвящённая Вуду. Если молитвы бессильны, помогает Барон Сегеди, всеблагой повелитель мёртвых, а также его мудрая супруга, матушка Бриджит. Мамбо обряды Вуду с детства знает, она многим помогла, и детям, и взрослым. Что тут плохого? Говорят, сам Папа Римский это одобряет. Между прочим, Мамбо тоже твои сказки любит. Я её часто, закутанную в платок, у костра в толпе других женщин примечаю.
Мамбо явилась в стариковскую хижину в девственно белом, лёгком летнем бурнусе до пят. На голове роскошный тюрбан из алого с золотом шёлка. Никогда и нигде не видел я такой великолепной чернокожей красавицы. Стройная, высокая. Огромные карие глаза, точёные строгие черты лица, приметы отпрыска неведомого царственного рода.
Ну, так что же? Мне, в тогдашнем состоянии, было не до красавиц. По крайней мере, так думалось. Гаитянка подошла к моему изголовью и присела на заботливо подставленный Санчесом стул.
– Ты уверен, что хочешь жить, Мигель Куэнтиста? – задала она странный вопрос.
Я не нашёл сил для ответа, только изобразил улыбку, похожую на жалостную гримасу нищего.
– Вижу, что носишь на груди серебряный ортодоксальный крест, – продолжала Мамбо. – Какой ты нации, Мигель? Серб? Румын? Русский? Откуда родом?
– Из России, синьора Мамбо, – прошептал я пересохшими от жара губами.
Каким-то волшебным образом, словно из воздуха, в руках у гаитянки появилась серебристая плоская фляжка.
– Выпей! Это лечебная настойка. На какое-то время она поможет, – произнесла женщина. – Это хорошо, что ты христианин. Я тоже, но католичка. Его Святейшество относится к ортодоксам, как к родным братьям. Впрочем, он приветствует и посвящённых Вуду. Почему нет, если их силы служат добру.
Пока Мамбо произносила эти слова, я успел отпить пару глотков из её фляжки. Жидкий огонь, смесь спирта и кайенского перца, обжёг гортань и пищевод. Адское пойло устроило в моём животе дикую свистопляску. Позабыв о бессилии, я подскочил и уселся на матрасе с выпученными глазами.
– Ну вот, тебе уже лучше, – заметила гаитянка.
На красиво очерченных губах появилась и исчезла детская озорная усмешка.
Боль от ожога пропала, через минуту начал спадать жар. Если не крайняя слабость, то я счёл бы себя исцелённым.
– Пока отдохни, потом займёмся твоим лечением, – уверенным тоном заявила Мамбо. – Кстати, никакой Антильской лихорадки я не нахожу. Тебя терзают мертвецы, «подданные» Барона Субботы.
От этих слов в пропитанной влажной духотой каморке повеяло ледяным арктическим холодом.
– Это всё чушь! Не верю! – проблеял я перепуганным ягнёнком.
– Конечно веришь! – спокойно отреагировала женщина. – Прости, что напугала, но больной должен знать истоки своего недуга! Вижу, что сам не понимаешь, почему «неживые» так тебя ненавидят.
Гаитянка поднялась, и кивнув на прощание Санчесу, с достоинством удалилась. Последнее, что я увидел перед сном, крохотная ящерица на обшарпанном потолке. Малышка шевелила раздвоенным, как жало змеи хвостом и таинственно сверкала в полумраке невиданной чешуёй жемчужно-белого окраса.
Очнулся я в незнакомом месте. В просторной и совершенно белой комнате. Похоже, переправили сюда сонного. Окон здесь не наблюдалось, но всё было залито светом. Мягкое сияние исходило от множества разновеликих, зажжённых в стеклянных лампадах свечей. Стены, потолок, даже матрас на котором я лежал, были укрыты тканью холодной снежной белизны. И только просторный бурнус, в который меня облачили, выглядел обычным, больничным, застирано – зеленоватым.
"Ну, хотя бы здесь без белого пафоса!" – облегчено вздохнул я. – "Но когда же начнутся процедуры?"
Словно отвечая на мой вопрос, с лёгким лиственным шелестом отворилась незамеченная мной дверь. Помещение начали заполнять по-праздничному одетые женщины, испанки, креолки, негритянки. Следом вошли мужчины. Впереди, богатырского сложения мулат. Здоровяк нёс на плече огромное, в человеческий рост, распятие. Он с трудом опустил эту святую штуку в круглое основание по центру комнаты. На кресте светлого дерева, страдал, истекая святой рубиновой кровью, чернокожий Спаситель.
Слово взяла вышедшая к распятию гаитянка. Мамбо открыла небольшую, в бело-золотом переплёте, Библию Вульгата[40] и нараспев принялась читать латинские псалмы. Сидящая полукругом цветная толпа, волнообразно раскачивалась и вторила ей многоголосым эхом. Под действием этого гипнотического гула мои веки начали необоримо смыкаться.
– Не стесняйся, можешь подремать, амиго! На правах больного, Куэнтиста! За тобой же мертвяки гоняются! – проник в моё сознание родной, хрипловатый шёпот.
В нос ударила знакомая смесь ядрёного табака и ромового перегара.
– Санчес, абуэло! – тихонько обрадовался я появлению друга.
Старик как-то умудрился незаметно подобраться через толпу и теперь, скрестив ноги, сидел рядом. Судя по свежему амбре, он уже принял свою вечернюю порцию рома. Между тем Мамбо покончила с псалмами и начала проникновенно читать народу проповедь. Вещала преподобная красавица на церковном, слишком сложном испанском. Я вновь собрался подремать, но меня взбодрило громоподобное:
"Меа кульпа, меа максима кульпа!"[41]
Люди потянулись к выходу, комната постепенно пустела. Слабость и жар вновь начали одолевать меня. Разочарование было сильнее болезни. Совсем не такое «лечение» ожидалось от Мамбо. При первой встрече эта женщина казалась таинственной, могущественной волшебницей. В погрузившейся в полумрак комнате один старый Санчес мирно посапывал у стены. Осталось лишь вытянуться на матрасе и последовать его примеру.
От созерцания кошмаров меня избавил мощный, наполненный горечью травяной дух и шлёпанье босых ног. С трудом оторвал я от подушки тяжёлую голову. Длинные тени плясали по пустым стенам, возле них горело несколько небольших свечей. Парили в воздухе развивающиеся тёмные волосы. Искрились юной свежестью чёрные и смуглые, пухленькие и стройные нагие девичьи тела, мелькали розовые ступни и ладошки негритянок. Девушки с яростной молодой радостью, наполняя воздух предгрозовым озоном, легко носились по комнате. У каждой в руках было по большому снопу пышной травы. Они равномерно разбрасывали её по деревянному полу. Юная, лет семнадцати, чернокожая девица перехватила мой пристальный взгляд и прыснула детским смехом. Девчонка поспешила прикрыть травяным снопом, торчащие вперёд и вверх острые груди, а заодно лобок в редких смоляных кудряшках. Моё ослабленное тело, отозвалось на это видение странным, болезненным спазмом. Где-то в самом потаённом низу полыхнуло сладкой, жгучей болью.
Из дальнего угла комнаты послышался знакомый, с присвистом храп.
"Хорошо, что старина Санчес не проснулся. Неловко показывать деду голых девчонок из моего бредового сна!" – с полнейшей алогичностью умозаключил я.
Снадобье Мамбо оказалось чудесным. Оно с успехом заменило кошмары, на эротические сны. Вот и славно! Что может быть естественнее для изголодавшегося по женской ласке моряка, пусть даже и сухопутного…
В самом желанным и ярком, последнем за эту ночь видении, ко мне пришла Мамбо. Молча приблизилась она к моему скорбному одру и сбросила свой просторный бурнус. Нагое чёрное совершенство. Но нет, на левой ступне мизинец сросся с соседним пальцем. Особинка! Я страстно захотел поцеловать этот мизинец. Мамбо легла рядом. Ещё особинка! Под левой маленькой грудью крохотное розовое клеймо, ящерка с раздвоенным хвостиком. Целую розовую ящерку. Любимая!
Видения окончились так же внезапно, как и начались. Я один! Где моя Мамбо? Комната безлюдна и одинока. Лишь вдоль стен стоят неразобранные, в полметра высотой, пышные снопы, да смолисто-горький дух исходит от усыпанного травой пола.
Меня незаметно, словно зазевавшегося путника, затянуло в новое, бездонное беспамятное забытьё, в покрытое серой ряской забвения болото.
"Там, там, та-та-там!" – Кажется, не прошло и минуты, как в моей голове опять начала пульсировать эта нудная, тошнотворная боль.
Заботливые, горячие руки приподняли меня. Вспыхнув во рту, побежал по пищеводу знакомый остро-кусачий огонёк.
– Приходи в себя, Сказочник! Нет времени на мечты, Куэнтиста! – услышал я голос Мамбо. – Санчес! – позвала она старика. – Вставай, если хочешь спасти друга! Помоги ему подняться, он должен участвовать в деле.
"Там-там, там-там-там!" – наполняли комнату ритмичные синкопы. Боль и туман в голове почти рассеялись, но это гулкое «там-там» только усилилось. Я огляделся и нашёл источник этого дьявольского грохота. В дальнем углу комнаты восседал на полу всё тот же здоровяк мулат. Меломан самозабвенно упражнялся на длинном, угольно чёрном тамтаме. Ох и мерзкое дело сотворил он со своим лицом.
"Калавер"[42] – огромные глазницы и глумливый зубастый оскал!
Жилистый Санчес легко поднял меня на ноги. А снадобье Мамбо снова вернуло меня к жизни. Я стоял на ногах почти твёрдо, лишь мерзкая дрожь в коленях не давала забыть о недуге. Комната, бывшая ещё утром благочестивым католическим приходом, изменилась до неузнаваемости. На стенах огромные куски материи лиловых и чёрных тонов. Деревянный пол усыпан, свежей, отдающей горечью травой. Зажжённые в лампадах свечи на своих местах, но вместо распятия с чёрным Иисусом возвышается в центре комнаты грубо сколоченный деревянный крест.
Там-то, там-то, там-то-там! – Мулат всё яростнее охаживает огромными ладонями смоляную, до предела натянутую кожу барабана.
Белоликий призрак в чёрной чалме и лиловом бурнусе вырастает прямо передо мной. От неожиданности колени подкашиваются. Спасибо старине Санчесу, он вовремя подхватывает мою слабосильную тушку.
– Последний раз спрашиваю, Сказочник! – злобно шипит привидение. – Назови причину? Почему тебя преследуют мёртвые?
Кто это? Мамбо? Смотрю на выбеленные ступни, проверяю. Так и есть, на левой ноге мизинец сросся с соседним пальцем. Ни за что не узнал бы в этом белесом монстре преподобную чернокожую красотку.
– Я уже говорил, что не знаю – отвечаю, с трудом взяв себя в руки.
– Как хочешь! – шипит Мамбо. – Туго тебе придётся! Ох, туго!
Подобно гигантской лиловой птице, взмахивает она широкими полами бурнуса и большая часть свечей, укрытых стеклом лампад, гаснет.
Там-то, там-то, там-то, там! – В дальнем углу, на пару со своим чёрным барабаном, сходит с ума выбеленный насмерть мулат.
Бледное создание сбрасывает с себя бурнус и остаётся нагим, лишь чёрная чалма на голове, да пролившаяся у стройных ног тёмная материя. Узкое змеиное тело, высокая шея, маленькие груди, всё, словно высечено из белоснежного мрамора.
"Хорошая работа. Настоящая греческая статуя. Хотя, оригинал мне больше по вкусу!" – машинально отмечает моё спятившее сознание.
Эта женщина решила доконать меня окончательно. Она резко дёргает головой, и её высокая смоляная чалма летит в синий сумрак. То, что совсем недавно было тёмным ливнем её волос, вырывается на свободу. Уложенная на голове тугими кольцами, обесцвеченная до прозрачности коса, скользит по спине и замирает, достигнув пола раздвоенными, словно змеиное жало, концами. Неожиданно, во мраке, позади этого сияющего белизной монстра, вырастают знакомые девичьи фигурки. Всё те же мулатки и негритянки, незабвенные персонажи моего полночного эротического бреда.
Девчонки теперь выглядят скромнее, на них травяные юбки. Они тоже отбелены, хотя и не так основательно, как Мамбо. Просто трудолюбивые подёнщицы с прохудившейся мукомольни.
Раскачиваясь, подёргиваясь во всё ускоряющемся темпе, танцуют они вокруг креста. Откровенные движения бёдер, пляска упругих грудей, сладострастные, похожие на крики чаек, стоны. Внезапно застыв на месте, девушки поднимают тонкие руки и принимаются по-змеиному извиваться. Из приоткрытых ртов исходит пронзительное зловещее шипение. Эти шелестящие резкие звуки умудряются пробиваться сквозь гулкие синкопы барабана. В душном, травяном, цветочном полумраке висят они подобно невидимой паутине.
Беломраморная статуя Мамбо недвижна. Но приходит срок, и все остальные тоже замирают в этой дьявольской комнате. Застывают танцующие девушки, остаётся сидеть с поднятыми руками барабанщик-мулат. Я не исключение, моё тело, словно облитое жидким азотом, превращается в ледяную фигуру.
Гаитянка пошевелилась. Резкий поворот белого лица. Вправо, влево. Пугающий щелчок. Туловище остаётся неподвижным, но голова на длинной шее уже смотрит назад, в направлении одинокого креста. Ко мне ведьма обращена затылком. Обесцвеченная толстая коса извивается и подрагивает, словно змеиное жало дёргаются её раздвоенные концы.
Новый щелчок. Мраморное лицо на положенном месте. На меня, неподвижного, в упор таращатся огромные, наполненные чёрной кровью глаза.
"Да, уж! С позвоночником шутки плохи!"
Белая Мамбо резко приседает и, выставив пред собой руки, падает на пол. Мгновение и она распласталась на животе, сладострастно извивается на толстом слое, усыпающей пол горькой травы. Гаитянка сбрасывает кожу, она лихорадочно трётся, прижимается к обнажившимся доскам. На выскобленной до желтизны, занозистой древесине остаются окровавленные лохмотья.
"Чудесно! Как же хороша новорождённая, отливающая белым перламутром, чешуя!"
"Ящерица! Волшебная жемчужная ящерица!"
Мамбо стремительно перемещается по дощатому полу. Её длинные руки, стройные ноги, каким-то удивительным образом втянулись в тело. Теперь это короткие и разлапистые члены рептилии. Белесый раздвоенный хвост волочится по разбросанной на полу траве. Это умный хвост, он существует своей отдельной жизнью. Задумчиво извивается, местами нервно подрагивает. Раздвоенные кончики, с крохотными шариками на конце, поднимаются. Хвост исследует пространство телескопическими глазами улитки.
"Поиск! Активный поиск!"
Сверкающая снежным перламутром ящерка Мамбо мечется от одного человека к другому. Девушки рептилии неинтересны. Она стремительно приближается к замершему в своём углу мулату. Орудуя передними лапками, забирается к нему на колени и поднимает голову, всё ещё человеческую, без шеи. Длинным, розовым языком ящерка с головой Мамбо облизывает его уродливое, загримированное под череп лицо.
"Какая досада! Не тот! Не тот!"
Рептилия с гримасой разочарования спускается на пол. Выгибается на животе полумесяцем, на одном конце голова, на другом раздвоенное глазастое жало. Ящерица снова исследует пространство.
"Есть! Кажется, нашла!"
Оборотень, радостно перебирая лапками, скользит в мою сторону. Я обездвижен, но всё хорошо вижу и слышу, да и сердцебиение своё чувствую, оно как раз происходит где-то в районе пяток.
Но Мамбо следует мимо. Боковым зрением наблюдаю, как стремительно, цепляясь острыми коготками за одежду, она забирается на стоящего рядом со мной старика Санчеса. Ящерка самозабвенно лижет его лицо, большой пористый нос, грязноватые, в недельной щетине щёки.
"Бедный, бедный абуэло!"
Неожиданно рыбак стряхивает оцепенение, глумливо скалится и сиплым незнакомым голосом произносит:
– Нашла меня, пёсья дочь? Ты всегда была умной сукой, чёртова католичка. Перекинься сейчас же в нормальную, как я люблю, голую бабу! Не хватало ещё с ящерицами, да жабами лясы точить!
Не успевает Санчес закончить свой изысканный спич, как на месте рептилии материализуется из мрака, обнимающая его женщина. Она, как прежде, прекрасна в своём человечьем обличье, царственной чёрной наготе. Мамбо смущенно отстраняется от старика, отдаляется на несколько шагов, и становиться на одно колено. Приклоняя голову, женщина смиренно произносит:
– Приветствую тебя, Барон Самеди, повелитель мёртвых, супруг добрейшей матушки…
– Це, це, це! – неучтиво прерывает её Барон.
"Санчес весьма изменился! М-да!"
Вместо своего друга, вижу высохшую мумию, скелетообразного кадавра. У мертвеца обтянутый кожей череп с чёрными провалами глазниц. Чудовище снимает с гладкой, отливающей жёлтой костью макушки невесть откуда взявшийся, высокий чёрный цилиндр. Опасливо сквозь редкие, очень крупные зубы цедит:
Не называй имени, не буди старуху. На кой нам здесь моя жена? Не те обстоятельства, детка!
Самеди плотоядно оглядывает изящную фигуру Мамбо и гнусно ухмыляется:
– А не уединиться ли нам в безвременье? Что скажешь, сладкая шлюшка?
– Я в твоей власти господин Суббота! – пряча глаза, одними губами шепчет гаитянка.
– Ещё бы! – ухмыляется мерзкий старец, и, шагнув к женщине, с силой прижимает её к себе.
– Соблаговоли, повелитель, выполнить мою смиренную просьбу! – не поднимая на чудовище глаз, произносит женщина.
– Знаю, знаю! – сварливо ворчит Барон. – Ты хочешь просить за своего чужестранца. Мне ли не знать! Раз за разом влезать в грубую шкуру Санчеса, в этого провонявшего ромом и рыбой пьяницу. Тяжкая работа!
– Мамбо поднимает на Самеди сверкающие глаза и почти кричит ему в лицо:
– Но ведь ясно, как день, повелитель! Это ошибка! Мертвые преследуют не того! Куэнтиста, не злодей, не убийца! Я это чувствую! Помоги ему, повелитель мёртвых. В твоей власти, мой господин, заставить мертвецов забыть о Сказочнике. Пусть они оставят его в покое, чтобы он жил дальше и рассказывал людям свои светлые истории. Мигель не ищет ни славы, ни шальных денег. Это скромный незаметный человек и у него добрая сострадательная душа.
– Довольно, женщина! – раздражённо прерывает её Барон Сегеди. – Ты говоришь, что твой Мигель скромный и незаметный? Хороши же достоинства для мужчины! Он что у тебя, мышь полевая? Тоже нашла мне незаметного скромника! Да этот тип тщеславен, как тысяча чертей!
Впрочем, – смягчается Барон. – Ты и мёртвого уговоришь, красотка – Сегеди гнусно хихикает и хлопает своей костяной рукой Мамбо ниже спины.
Прекрасное лицо гаитянки из чёрного становится серым.
Монстр поворачивает свою адскую физиономию ко мне.
– Этот? – словно презрительно сплюнув, спрашивает он. – Что за история? Сразу и не упомню. Таких миллионы, – откровенно врёт, издевается Сегеди. – Подойди, покажи левую ладонь.
Я, на трясущихся от болезненной слабости ногах, повинуюсь.
– А! Южный крест выше линии жизни! Теперь вспомнил! Чего же ты хотел, малый? Скольких мертвецов ограбил, а? Французов, англичан, испанцев, до японцев добрался! Ещё немного и своих, русских не пожалеешь! Воруешь истории, сказки, оставшиеся без присмотра, умыкаешь. Чужую посмертную славу пользуешь и хочешь, чтобы мертвецы твою душу не тревожили? Це-це-це! Так не бывает! За всё надо платить!
Я выполню твою просьбу, – обращаясь уже к Мамбо, продолжает Барон. – Сказочник будет жить. Но всему есть цена. Я возьму тебя в безвременье. Ты станешь одной из моих вечных любовниц. Согласна?
– Да! – решительно отвечает гаитянка.
Барон Суббота бросает на меня полный самого глубокого презрения взгляд и с гадкой улыбочкой произносит:
– Всё молчишь, красавчик? У тебя же любимую похищают! Хотя бы плюнул в меня, что ли! Ну, молчи, молчи! На что только не идут влюблённые бабы ради последних, дешевле их мизинца слизняков.
Вдвоём с Мамбо они исчезают, словно растворяются в воздухе.
"О, моя голова! Моя бедная голова!"
К реальности меня возвращает голос Санчеса:
– Миге! Очнись, Миге!
Поднимаю голову от пропитанной потом подушки. Впервые за последние недели чувствую голод, настоящий зверский аппетит. Малышка Эва приносит мне полную миску варёной рыбы. Я мгновенно уминаю её, не пощадив и краюхи хлеба. А после, запиваю всё это холодным и кислым виноградным вином.
"Счастье жить!"
Санчес, глядя на меня, не может нарадоваться.
– Как же ты нас напугал! Сутки без сознания. Не говоришь, не слышишь, не видишь, не отвечаешь. Только стонешь и плачешь, – смахивая слезу, жалуется он.
– А где Мамбо? – спрашиваю я старика. Эта женщина вытащила меня с того света. Хочу поблагодарить свою спасительницу. К тому же нужно расспросить её о многих важных вещах.
– Мамбо? – изумлённо таращится на меня Санчес. – Откуда тебе известно имя моей давно умершей жены? И за что ты собрался благодарить покойницу?
Я страшно теряюсь.
"Значит, всё было бредом, больным горячечным ведением! И Сказочник всё выдумал и сам же во всё поверил. Нет, и не было у него ни любви, ни любимой! Не на этом, не на том свете!"
Мой блуждающий взгляд упирается во внучку Санчеса, падает на босые ножки малышки Эвы. Особинка! Мизинчик на левой ступне сросся с соседним пальцем.
Хватаю девочку за руку. Ребёнок испуган, большие карие глаза на милом, цвета кофе с молоком личике, полны слёз. На левой ладошке, над линией жизни крохотные, но чёткие и глубокие четыре точки.
"Южный крест! Мой южный крест!"
Тайный знак одного незаметного человека.
Пурпур и кобальт
Возвращение в "Планету Океан", или футуристическое фэнтези по мотивам Кусто и Лема
Изломанный глубиной солнечный диск стоял в самом зените. Я вдохнул свежую порцию прохладной морской воды, обогнул разросшуюся колонию изумрудных кораллов и продолжил поиск добычи на уступах подводных скал.
– Спокойно, друзья мои, не пугайтесь! Перед вами не "Лобстер сапиенс", новоиспечённый общительный вид из семейства ракообразных. Я обычный человек, занятый необычным делом.
Меня зовут Вильгельм Вард, а проще Вилли. Я норвежец по рождению, интроверт по натуре и ловец "арктического жемчуга" по профессии. Что, никогда не слышали про таких ловцов? Да неужели! В наше время в Норвежском море таковых уже не один десяток. Причём каждый работает в одиночку. Иногда в одном, но чаще, по очереди, в нескольких фьордах. В данный момент надо мной толща холодной солёной воды. По глубиномеру, как раз двадцать семь метров. Более точных координат, уж извините, не предоставлю!
Совсем забыл, друзья! Простите, что разговариваю с вами лишь мысленно. Всё-таки для дайвера с загубником в зубах по другому было бы затруднительно.
Но даже и мысленно, я треплю языком без меры. Есть такой грех! Всё дело в альтернативном аквалангам приборе "Искусственные жабры". Эти «жабры» были изобретены израильтянином Аланом Боднером ещё в прошлом веке. Однако применения не нашли, тогда не существовало достаточно мощных и компактных элементов питания. Зато сейчас есть! Это легкие и энергоёмкие гелиевые батарейки. Представьте, друзья, на Луне, в районе Моря спокойствия, уже третий год работает кратерный комплекс "Альфа-гелий-3". Как же тяжко приходилось дайверам в недавнем прошлом! Таскать на спине эти громоздкие баллоны с дыхательной смесью! Бедолаги! Правда есть у «Жабр» одна побочная проблемка. Погружаясь с аппаратом Боднера некоторые испытывают "синдром ныряльщика", патологическую непреодолимую тягу к общению. Ваш покорный слуга, к несчастью, как раз из числа таких молчаливых трепачей. Потому и приходится выдумывать себе несуществующих «друзей-слушателей», только бы не болтать бессмыслицу в пустоту. Иначе пришлось бы чувствовать себя пьяным попугаем Жако из морской таверны, которому весёлые матросы запихали в клюв добрый кусок смоченной в панамском роме булки.
Ну, что бы вы ещё хотели знать про меня? Например, каково часами пребывать в воде с температурой плюс пять градусов по Цельсию? Да без проблем! На мне "сухой костюм" с иридиевыми нитями. Питают "горячие нити" всё те же" гелиевые батарейки". Между прочим, у нас теперь единая для всего мира денежная единица – гео-кредит. За два миллиона «гео», которые стоят мои дайверские «доспехи», вполне можно купить домик где-нибудь в пригороде Осло, Хельсинки или Нового Стокгольма.
А старого доброго миллионного Стокгольма больше нет. Тайно доставленный в контейнере сухогруза ядерный заряд, мощностью в одну мегатонну, сработал в рождественскую полночь 2059-го, и города моей юности, вместе с моими родителями, не стало. В наше время дозиметры есть у всех поголовно. После Стокгольма множество мест в Северной и Центральной Европе «фонили», как четыре Чернобыля. Ежемесячная убыль населения от лучевой болезни исчислялась сотнями тысяч.
Что-то меня лихорадит, друзья, бросает от веселья к грусти. Давайте поговорим о прекрасном. У меня на шее, на шелковом шнурке, висит кожаный кисет. В нём восемь жемчужин, моя добыча за этот сезон. Знаете, как выглядит настоящий арктический жемчуг? Его зёрна, чаще всего золотистые, но самые крупные и ценные, это «королевские» или пурпурно-кобальтовые. Каждая из жемчужин неповторима. Виртуозные вариации стальных, синих, бордовых и фиолетовых цветов и оттенков, это настоящая "Симфония перламутра".
"Арктик перлз" появились в наших «полночных» морях лет шесть назад. Самый обычный североатлантический моллюск "Циприна Исландская" вдруг сбрендил и начал оригинальничать, рожать жемчуг. Первую жемчужину обнаружили случайно. Чистильщик садков на лососёвой ферме случайно наступил на раковину. У парня было хорошее зрение, и он заметил в осколках ракушки золотистый шарик. Правда культивация "Арктик перлз" не удалась, а массовая добыча дикого жемчуга оказалась нерентабельной. Но дело не пропало, и тем ценнее были те зёрна, что удавалось добыть. Вдоль побережья Норвегии работают десятки фрилансеров вроде меня. У каждого "ловца северных перлов" есть свои секреты и мистического рода ритуалы.
Сейчас я исследую подводную часть фьорда. Подбираюсь к подножию скал, раздвигаю руками в тонких перчатках заросли длинных, плавно колышущихся, бурых стеблей. Нигде не видно и не слышно ни одной "матушки Циприны". Что значит не слышно? А то и значит, жемчужницы «разговаривают», трещат между собой в диапазонах инфра и ультразвука. Тем не менее, я прекрасно их слышу. У меня на голове наушники, а в них встроен «Слухач», или как его обозвала южно-африканская фирма-производитель, "Ухо Посейдона". Смешно и неблагозвучно. Так и представляешь себе ушную раковину морского царя, огромную, зелёную, поросшую вместо волос густыми бурыми водорослями. По-моему, «Слухач» лучше!
Похоже, сегодня пустой день. Опять возвращаюсь к скалам. Плыву вдоль череды заросших зеленым «газоном» уступов. А вот и первая за сегодняшний день «молчаливая» гирлянда! Шесть, прилепившихся друг к другу светло-коричневых раковин. Это семейство изображает полумесяц рогами вверх. При участии изумрудной поросли на подводной скале произрос… флаг Арабской Лиги. Теперь надо аккуратно и не торопясь, вскрывать раковины по одной. Найденная жемчужина вынимается очень аккуратно. Не дай Бог навредить моллюску Циприны. После изъятия младенцев, «матушки» должны продолжать беременеть и рожать новых. Извлекая жемчужину, я успокаиваю её, словно ребёнка, мысленно произношу ласковые слова, обволакиваю убаюкивающей нежностью. Такие вот «ути-пути»! А куда деваться? Моряки, народ суеверный, а уж такие морские черти, как я, настоящие параноики.
Устроившись рядом с крайней в гирлянде раковиной, нежно вскрываю её японским жемчужным ножом. Он тоже часть ритуала. Старинное червлёное серебро, таинственные золотистые иероглифы. И вот, в самый ответственный момент, кто-то… садится мне на голову. От неожиданности чуть было не сваливаюсь с уступа. Медленно поднимаю руку и подношу её к обтянутой резиной макушке. Похоже у меня на голове расположилось паукообразное инопланетное существо. Хватаю «пришельца» за длинную членистую ногу, тащу его вниз. Ба, камчатский краб! В нём, от силы, килограмма полтора, это «крабёнок», подросток. Русские ихтиологи в пятидесятых годах прошлого века «депортировали» его предков в наши края с Тихоокеанского побережья.
Чудо с полминуты таращится на меня телескопическими чёрными, как угольки, глазками. Внимательно изучив странное существо, оно включает заднюю передачу и ретируется на край уступа. Бросив на меня прощальный взор, «крабёнок» медленно, «спиной» вперёд скользит вниз и плавно погружается в пучину. В багаже своего крабового интеллекта он уносит мой непостижимо странный образ.
Я не беден, друзья! Моя «жемчужная» профессия приносит немалые деньги. Две трети заработанных мной гео-кредитов я перевожу в госпиталь в Новой Ливии, там работает много моих собратьев по европейскому волонтёрству. Госпиталь требует постоянных вложений. Оставшиеся «гео» я без лишнего шума трачу на себя, такой уж я эгоист и бонвиван.
Открою вам секрет. Только не смейтесь, не думайте, что Вилли Вард, ни на минуту не умолкающий дайвер-болтун, «сбрендил» от одиночества. Я влюбился в эти жемчужные ракушки. Да и как их не любить. Они поют для меня таинственные песни, зовут, приглашают овладеть своими прекрасными младенцами, пурпурно-кобальтовыми жемчужинами. Я достаю их из раковин, из нежной плоти моллюска, словно из материнского лона. Странный, облачённый в стекло и резину, подводный акушер.
Сейчас я поднимаюсь на поверхность и восхожу по спущенному в воду трапу на борт своего рыбацкого "фискебёта"[43]. Мне не терпится присоединить новые, самые крупные на моей памяти зёрна, к их сёстрам. Какие необычные, никогда прежде не испытанные ощущения! Я в контакте с этими таинственными и прекрасными детьми Океана, чувствую их сердцем, тонкой кожей под дайверской искусственной шкурой. Снимаю маску, стягиваю наголовник. Невесомые тончайшие, из сверхпрочного материала перчатки беззвучно падают на деревянную палубу. В нетерпении достаю из поясной сумки свою прелестную добычу. Зрение обостряется до предела. Различаю кобальтовые очертания морей-океанов и пурпурные контуры материков. Как похожи эти малышки на крохотные модели неведомых планет. Из-за мокрой резиновой пазухи вытаскиваю на "свет божий" кожаный кисет на чёрном шнурке. Развязываю его зубами. Сейчас, сейчас! Потерпите! Сейчас разлучённые возлюбленные сёстры воссоединятся.
Но, что происходит?! Девять пурпурно-кобальтовых жемчужин в кисете начинают ощутимо теплеть. Те, что в моей руке, одна большая, «багрянородная», в фиолетовых разводах и две другие поменьше, изысканно-лиловые, с королевскими, синей стали прожилками медленно раскаляются. Я едва терплю, так они жгут мою ладонь. Ощущаю тревогу жемчуга, она сигналами бедствия стучит у меня в висках. От греха подальше кладу в кисет все три новых зерна. Теперь их двенадцать. Может быть, собравшись вместе сестрёнки успокоятся?
Так, ты тоже успокойся, Вилли! Что это было? Галлюцинации? Последствия слишком долгого пребывания под водой? Да, дожил я! С перламутровыми шариками беседую, перед воображаемыми друзьями речи держу! Может, всё-таки обратиться к знакомому "мозгоправу"?
Совсем рядом, в четверть-кабельтове[44] от моего «фискебёта», проплывает пара весёлых, острозубо улыбающихся касаток. А вот ещё четыре, многовато для одного небольшого фьорда. Рядом проходит большая стая белух, полярных дельфинов. Странно, на воле дельфины никогда не приближаются к этим «китам-убийцам». У меня под боком начинается настоящий морской цирк. Прямо у борта выскакивают из воды белухи и касатки. Они выделывают в воздухе замысловатые пируэты, их дрессированным собратьям такое и не снилось. Мощный лобастый вожак-белуха пляшет на могучем хвосте над тёмными волнами и ревмя-ревёт иерихонской трубой. Ледяные и солёные брызги летят мне в лицо.
Вот чёрт! Кажется, «глюки» опять начались! Пурпурно-кобальтовые шарики скоро прожгут мне грудь. Хоть за борт их выбрасывай! Ну, уж нет! Не дождётесь, господа конкуренты!
Или это не "глюки"!
Тогда какого морского ежа жемчуг посылает мне сигналы, а старинные враги, дельфины и касатки, водят совместные хороводы вокруг моего бота?!
Или я сошёл с ума, или сам Океан, подобно разумному собрату из «Соляриса», пытается выйти со мной на контакт?!
Ну, ладно! Хуже не будет! Захожу в рубку и включаю двигатель. За бортом китообразная братия прекратила свои хороводы и выстроившись в колонну, устремляется на выход из фьорда. Похоже эти ребята предлагает следовать за ними. А жемчуг на груди всё горячее!
– "На груди у Вилли зажигали три миллионов разумных "гео"!
Меня разбирает нервный смех. Следую за своими полярными шерпами. Впереди, по курсу, море кипит от изобилия спинных и хвостовых плавников. Этот "солёный поход" длится уже четыре часа. Мы движемся на Восток, вдоль норвежского побережья, в сторону русской, когда-то строгой, а ныне «прозрачной» границы. Мелькают чёрно-серые скалы и бирюзовые фьорды. Ага, кажется прибыли. Сводный отряд китообразных подошёл к ближайшей скале и вновь начал водить хоровод. Мои перлы в кисете просто взбесились. Жгут в буквальном смысле! Ну, ладно, ладно! Уже понятно, что от меня требуется. Хорошо, что я, как рыцарь перед турниром, с ног до головы в дайверских латах, не надо тратить время на облачение. Подхожу к указанному месту, спускаю трап и сам спускаюсь по нему в воду. Молодая юркая самочка-белуха, похоже, назначена мне в проводники! Она направляет меня к подножию скалы. Здесь настоящие джунгли из бурых водорослей. Я двигаюсь медленно, постоянно раздвигая руками лоснящиеся пупырчатые стебли. Вот и поросшие зелёным мхом уступы. Боже, сколько здесь циприн, тысячи, несметное богатство. Я почему-то не сомневаюсь, что все они при пурпурно-кобальтовых дочках. Интересно, каково это, когда «болтают» одновременно сотни раковин. Врубаю «Слухач», хватаюсь в панике за голову и тут же его выключаю. Боже, какой гвалт! Я поворачиваюсь. Прямо напротив гигантской «циприновой» колонии висят в воде, сонно шевеля плавниками, десятки моих новых приятелей, белух и касаток. А вот и одинокий, метров двадцать длиной, приблудный «левиафан» – братец кашалот пожаловал. У гиганта прямоугольная голова, горчичный окрас и обросшее мелкой ракушкой брюхо. Китовая родня с умным видом таращится на бесчисленные гирлянды коричневых раковин.
Моя белуха то заплывает вперёд, то возвращается назад. Она, словно собака перед прогулкой, нетерпеливо «тявкает», тычется носом и даже успевает куснуть за ласты. Я почти ударяюсь лбом о затерянную, утонувшую в этих морских джунглях, обросшую зелёным мхом стену. Плывём с дельфинихой вдоль стены. Ага, тут вход в какую-то пещеру, он большой, метра три в диаметре. А ведь это не стена, а борт затонувшего корабля и пещера не пещера, а пробоина! Я включаю лазерный надголовный фонарь. Лесси, как я успел окрестить белуху, опережает меня. Она, словно звездолёт в чёрную дыру, стремительно ныряет в пробоину. Ныряю следом. В часах срабатывает, легко пощипывая запястье, дозиметр радиации. Излучение не критическое, но значительное.
"Это всё неспроста, друзья мои!" – глубокомысленно замечаю я и тут же спохватываюсь. Не до игр сейчас! Не до разговоров с пустотой!
Фонарь-наголовник даёт ровное, чуть рассеянное освещение. Понимаю, что нахожусь внутри субмарины времён второй мировой. Всё нутро лодки рассыпалось в ржавый прах, а то, что осталось, поросло изумрудным морским мхом и синими водорослями. А, вот и один из хозяев! Сидит, прислонившись к переборке. Положил на плечо лобастую костяную голову с зияющими дырами глазниц и мирно почивает. Подплываю ближе. Синяя роба почти истлела на костяке, но карманная нашивка осталась. На ярлыке нет имени, лишь латинские буквы и цифры. Забираю у мертвеца «визитку» и кладу в подсумок. Вдруг поможет определить с чем я тут имел дело. На проржавевшей палубе, в луче фонаря что-то тускло блеснуло. Опускаюсь и поднимаю, это серебряный нагрудный знак, субмарина и над ней имперский орёл со свастикой. Теперь понятно. Это германский «У-бот», нацистский подводный "волк".
Лесси всплывала наверх, чтобы глотнуть воздуха, теперь она вернулась в лодку и ей не терпится, она нервничает, лобастой головой подталкивает меня под ласты в круглую дыру, проходу в другой отсек. Заплываю внутрь следующей камеры этого подводного склепа. Фон здесь выше, запястье под часами со счётчиком так и щиплет. Всё пространство отсека занято на диво разросшейся ламинарией. Морская капуста не похожа сама на себя, какие-то гигантские лопухи. На стеблях словно воспалённые фурункулы, гирлянды белёсых, с кровавыми сгустками внутри волдырей. Какое-то неведомое создание выползает на один из мясистых листьев. О, Боже, да это краб! Под прозрачным хитиновым покровом видны внутренности, ритмично бьется голубое сердце. Вместо пары глаз на панцире полукружие из шести мерзких паучьих «гляделок». Мутанты!
Белуха на другом конце отсека тычется носом в переборку. Подплываю ближе, вижу ржавую круглую крышку межотсечной двери. Переворачиваюсь и пинаю её обутыми в ласты ногами. Толстый рыжий блин плавно вываливается в следующий отсек. Здесь нет водорослей, всё забито какими-то пузатыми бочками из чёрного искусственного каучука. Между тем, дозиметр в дайверских часах сходит с ума, запястье под ним будто пронзают иглы. Белуха не рискует вплывать сюда. Тревожным бело-чёрным глазом она опасливо косится на меня через круглую дверную дыру. Я выключаю счётчик. Была, не была! Бочек здесь десятки и у них какая-то странная шарообразная форма. А что же внутри? Внимательно рассматриваю одну, ага маркировка есть. Ба, да это по-норвежски!
На дне бочки выплавленный в каучуке штамп: " Йорик и сыновья" Фабрика изделий из искусственного каучука, город Тронхейм, 25.03.1945".
Так, что дальше? Впрочем, норвежец я или нет?! Историю родной страны как-никак помню. Весна,1945-й год, город Тронхейм. В те времена в пригороде Тронхейма существовала германская сверхсекретная база и завод по производству тяжёлой воды. База называлась Дора-1. Там сейчас музей. Я бывал в нём в детстве, на экскурсии. Помнится, причалы для подлодок на Доре-1 тоже были. Получается, что в бочках та самая тяжёлая вода, пресловутый дейтерий, вернее его оксид, компонент для производства атомной бомбы. Куда же его переправляли в самом конце войны? Разрозненная информация начинает «выплясываться». Я где то читал, что оксид дейтерия в те времена стоил долларов пять за грамм! Втрое дороже золота! Значит, кто-то его мог хотеть умыкнуть. И умыкнул, благо в бардаке того времени это было возможно. Странно лишь, почему лодка похитителей оказалась к Востоку, а не к Западу от Тронхейма? Может быть, на Восток их загнала погоня? Да, и откуда радиация, ведь тяжёлая вода нерадиоактивна?! Что ж, будем искать!
Стаскиваю часы с запястья, включаю дозиметр и обнаруживаю, что он зашкалил и вышел из строя. Вдруг ожили и потеплели жемчужины на моей груди. Тепло, сестрёнки! Тепло! Теперь «умные» пурпурно-кобальтовые зёрна поведут меня к цели. Из другого отсека робко тявкает мне вслед Лесси, желает удачи, и удача не заставляет себя ждать. Вижу слабое голубое свечение. Вот, где источник радиации! В самом конце отсека, под завалом из бочек нахожу длинный оцинкованный «гроб», контейнер. Пытаюсь его сдвинуть с места, да куда там, весу в нём не меньше тонны. Угол «гроба» сильно смят и вдавлен внутрь. Когда-то давно, скорее всего, при взрыве, погубившем лодку, сюда «влетел» баллон сжатого кислорода из воздушной регенерационной системы. Время и солёная вода тоже сделали своё дело, герметичность этого ящика явно нарушена. Здесь настоящее джакузи, сорок пять градусов по Цельсию! У моего "сухого костюма" есть теплоизоляция, но нет антирадиационной защиты. Так. В большом контейнере наверняка капсулы или малые контейнеры с обогащённым (неизвестно насколько) немецким ураном-235. Его-то кто и откуда умыкнул? Как минимум, одна из таких капсул повреждена и негерметична, а, значит, и все остальные непозволительно хрупки. В бочках тяжёлая вода, оксид дейтерия. При соединении этих компонентов происходит взрыв с выбросом радиоактивных частиц. Судя по всему, часть бочек тоже негерметична. Вопрос времени, когда здесь разразится новый, на этот раз "норвежский Чернобыль". Тёплый привет от неупокоенной чёрной души Шикльгрубера! Взрыва "грязной бомбы" ждать осталось недолго!
Так вот для чего была нужна вся эта мистерия пурпурно-кобальтового жемчуга и парад касаток с дельфинами. Непостижимо! Сколько раз с переменным успехом упражнялись на эту тему фантасты! В итоге Океан, а по сути вся наша планета, в действительности оказалась наделенной разумом и инстинктом самосохранения. Довольно было с неё радиоактивных «следов» после ядерных испытаний на островах и в пустынях! Хватило загубленной на века Балтики!
Покидаю "не мёртвый" немецкий «У-бот». Полусгнивший «носферату» с нетерпением ожидает своего часа, чтобы погубить и изуродовать всё живое на пространстве от Северной Норвегии до полумиллионного русского Мурманска. Силы мои на исходе. Добрую дозу "урановой любви" я, всё же, хватанул. Лесси то ли в очередной раз всплывала подышать, то ли просто не вынесла долгого пребывания в «зачумлённом» остове и теперь ждёт снаружи. Цепляюсь за плавник, который заботливо подставляет белуха, и она с ветерком доставляет меня до моего бота.
– "Спасибо тебе, девочка!"
С трудом вползаю на трап и добираюсь до рулевой рубки. Откидываю прозрачный кожух над углублением в приборной панели и вдавливаю кнопку «Mayday». Включаю радиостанцию и выхожу в открытый эфир.
"Всем, всем, всем! Опасность радиационного заражения обширного участка акватории. Координаты моего судна равны координатам затопленного объекта. На его борту негерметичный радиоактивный груз".
Голосовой сигнал уходит во всемирную кругосветку.
Теперь можно расслабиться и ожидать помощи. Расслабиться и ждать! Но кто знает, когда рванёт эта дрянь? Больше века терпела и вдруг сейчас, отмечая мой визит, рванёт? А почему нет, "закон Мерфи" никто не отменял! Да, но что я один, в своём нынешнем состоянии могу поделать? Хотя, если подумать, многое! Для того, чтобы прийти в себя, хотя бы на пару часов, в моей аварийной аптечке есть мощный стимулятор. К тому же я не одинок, у меня "под ружьём" целое подразделение мощных китообразных бойцов. А главное, на палубе моего фискибёта имеется надёжная рыбацкая лебёдка. Я, конечно же, никакой не рыбак, только лишь маскируюсь под пахаря моря. Однако теперь маскировка пригодится почти по прямому назначению.
Я опять в деле! Стимулятор вернул мне силы и ясную голову. Подгоняю судно ближе к скале, спускаюсь по трапу и вновь ухожу в воду. Моя верная китообразная Лесси следует за мной. В её мощных челюстях зажат тонкий надёжный стальной трос с крюк-гаком. Мы опять рядом с дьявольским отсеком. Забираю из дельфиньей пасти трос и ныряю в эту преисподнюю. Ох и работёнка мне предстоит!
Кантую бочки с дейтерием. Нелёгкое это дело торить дорожку из бочек с массой под центнер каждая. Хорошо ещё, что в воде они легче. Наконец почётная каучуковая дорожка для уранового "гробика Дракулы" готова. Мне стоит больших трудов затянуть железную петлю на этом чёртовом контейнере. Я нашел бронзовый ломик в бывшем дизельном отсеке и теперь пользуюсь им, как рычагом.
Я опять на палубе своего бота, короткими рывками выбираю лебёдкой трос. Вновь темнеет в глазах. Принимаю ещё две капсулы стимулятора. Трос натянулся. Кажется дело пошло! Стоп, остановка, груз застрял. Надо возвращаться на лодку и кантовать контейнер в следующий отсек. Этим мучениям с проклятым ящиком нет конца. В очередной раз стою на палубе бота и «вираю» груз лебёдкой. Стоп! Обрыв троса! В отчаянии возвращаюсь к лодке. У самой пробоины зависла огромная туша братца-кашалота. Вот молодчина, «малыш»! Да ты на помощь приплыл! Креплю оборванный трос на мощном хвосте кита. Теперь дело пойдёт!
Последний рывок и радиоактивный контейнер вне лодки. Мы с «ребятами» разлучили тонну урана с тяжёлой водой. Большой «грязный» взрыв отменяется! Освобождаю хвост «малыша» от троса. Груз устремляется ко дну. Ну, вот и хорошо, пусть полежит у меня под ботиком, целее будет.
Вваливаюсь на борт своего «фискебёта». Слышу долгий тревожный гудок, вижу серо-стальной абрис норвежского корвета-сторожевика. Своими стремительными очертаниями он смахивает на межгалактический корабль. Поднимаю руку, чтобы помахать корвету, и вижу, что вся кисть покрыта наполненными красной жижей волдырями. Да уж, с ураном-235 шутки плохи. Спецы по радиации это знают и торопиться особо не будут, поберегутся. Всё мое тело под гидрокостюмом горит адским огнём. С трудом стягиваю с себя гладкую плотную шкуру и остаюсь в одних плавках, голый, усыпанный мерзкими кровавыми язвами монстр. На прохладном морском ветру обожжённому радиацией телу всё-таки легче.
Дело сделано, обессилено прислоняюсь спиной к переборке и соскальзываю на палубу.
Что-то "циприновые детки" в моём кисете совсем притихли. Мне больше не надо прятать свою боль, изображать бодрого балагура, неуёмного весёлого трепача. Я лежу на палубе. Небо с редкими перистыми облаками начинает кружиться надо мной со скоростью лопастей взлетающего геликоптера. Моё невесомое тело будто поднялось в воздух и тоже начинает вращаться. В сознании всплывают образы, о которых я запретил себе вспоминать. В ночь взрыва в Стокгольме, в доме моих родителей, гостила Надя, моя жена, а с ней две девочки, две наши маленькие жемчужинки, старшая шестилетняя Анна и годовалая Эйди, Эидис младшая. У Эйди были пухлые щёчки и светлые кудряшки, она уже начала ходить и понемногу лепетала, по-русски и по-норвежски.
Нет ни воли, не желаний, лечу куда-то в неизведанную бесконечность.
"Встречусь ли я Там с вами, родные мои?!"
Вспышка сознания. Свет. Всепроникающий, белый слепящий свет. Мгновение и рождается мир. Сколько же вокруг новых, ранее неведомых звуков, цветов, запахов. Свободно и без усилий парю над морем. Я что, перевоплотился в чайку? Подо мной судно, на палубе неподвижный голый человек. Вот дьявол, да это же моё тело! Я что, любуюсь на собственный труп? Жуть какая! Да неужели! Мои «останки» внезапно зашевелились и уселись на палубе. Хочу увидеть «своё» лицо и тут же оказываюсь рядом. Ну и бедолага! Глаза судорожно зажмурены, физиономия перекошена гримасой ужаса и недоумения. А почему у меня такая розовая и гладкая кожа? Прямо натуральный великовозрастный грудничок! И куда, скажите, подевались мои геройски заслуженные волдыри и язвы? На шее болтается шёлковый шнурок, а на гладкой безволосой груди пустой, дырявый, в подпалинах кисет. Вот чёрт, кто-то успел умыкнуть моих пурпурно-кобальтовых сестрёнок! Мне ужасно, ужасно жаль самого себя. Настолько, что я оказываюсь внутри собственной телесной оболочки. Свет и ощущение пьянящей, безграничной свободы исчезают. Наваливаются тяжкие, как гири, тяжкие человеческие эмоции, слабость, тоска, дикий ужас от непонимания происходящего. Без усилий, лишь мысленно пожелав, покидаю своё тело. Снова свободен! Счастье! Как я жил, как существовал в этой тюремной камере, в этом убогом биологическом скафандре?! Но нет, я не бросал в беде других, не оставлю и самого себя! Злюсь и возвращаюсь обратно. Теперь чувствую себя увереннее. Хотя, разомкнуть плотно сжатые веки, почему-то, не решаюсь. За бортом всплеск воды, знакомый звук, похожий на короткий собачий лай. Уверен на все сто, это «голос» моей девочки, белухи Лесси. Холодный солёный водопад обрушивается на палубу.
"Хорошо! Хорошо! Он с нами!" – доносится из-за борта.
Сказка для младенцев какая-то! Теперь мне и язык морских животных, как родной?
Очень славно, но кто-нибудь собирается объяснить, что со мной произошло? Я всё ещё Вилли Вард, или некто… нечто другое? Умер Вилли, воскрес, или, не дай Бог, сошёл с ума? Вот сейчас, сейчас соберусь с духом и открою свои собственные родные глаза. Тогда уж точно сразу станет понятно… Хотя, что понятно? А вы, друзья мои, почему молчите? Ну и ладно, обойдусь без вас, морского ежа вам в штаны!
Оберег Людвига
Фантастически-солёная новелла
С кем только не сводила меня судьба во времена скитаний по морям-океанам. В начале восьмидесятых, о Боже, уже прошлого века, при заходе в Буэнос-Айрес довелось мне познакомиться с одним весьма интересным субъектом. У входа в мутное устье реки Ла-Плата[45] мы приняли на борт местного лоцмана. Им оказался здоровенный чернявый детина-аргентинец. Лоцмана сопровождал неприметный человек небольшого роста и явно в годах. Лицо у него было жёлто-пергаментного оттенка. Тяжёлая челюсть, ястребиный нос и скользяще-пронзительный взгляд блекло-голубых глаз приятности этому субъекту тоже не добавляли. Старик, к тому же, ещё и изрядно прихрамывал. Рядом с крупным, басовитым лоцманом он смотрелся этаким престарелым нелепым шпицем, за чем-то увязавшимся за солидным, чёрным с проседью мастифом. Как звали лоцмана я, правду сказать, не припомню, но вот имя его спутника – Людвиг я точно никогда не забуду.
Я как раз находился на мостике вместе с капитаном, исполнял свои скромные, на тот момент, обязанности третьего штурмана.
Не прошёл наш траулер и полмили по главной аргентинской реке, как впереди по фарватеру сел на мель, преградив нам путь, какой-то незадачливый сухогруз под панамским флагом. После этого нам оставалось только наблюдать в бинокль, как на просторном мостике невезучего судна мечутся две тени, капитана и лоцмана. В довершении картины "панамец" издавал истеричные и беспорядочные гудки, словно застрявшая в дорожной пробке, вздорная, суетливая блондинка.
– "Хороши же байресовские лоцмана!", – переглянувшись, подумали мы в унисон с капитаном.
Наш лоцман вышел на связь с диспетчером и, коротко переговорив с ним, махнул рукой.
– Это надолго, – заявил он, обращаясь к нашему капитану, – похоже, до утра.
Время было вечернее, как сейчас помню, восемнадцать с четвертью. Мы встали на якорную стоянку в стороне от фарватера, и капитан пригласил лоцмана-аргентинца к себе в каюту на ужин. Приправленного, разумеется, непременным русским радушием. Я же остался коротать вахту в компании неприятного старика. Через час из каюты капитана раздался шум, и мой молчаливый товарищ по вахте, уронив в пространство короткое и злое слово, бросился вниз по трапу. Слово это было немецкое и весьма походило на знакомое по многочисленным, виданным-перевиданным фильмам про Войну. Короче, немец (а кто же ещё?) рявкнул: Шайзе! – и исчез на нижней палубе. Я не имел права покидать мостик, но на акватории нашей якорной стоянки было тихо, якоря держали надёжно и течение нас не сносило. К тому же локатор показывал пустоту и безлюдье вокруг на две с половиной мили. Мучимый любопытством я спустился следом за стариком и украдкой заглянул в полуоткрытую дверь капитанской каюты. Здоровенный лоцман с багровой физиономией и выпученными безумными глазами в угрожающей позе торчал посреди каюты. В правой могучей длани он сжимал «розочку», горлышко от разбитой бутылки. На палубе, источая спиртовую вонь, валялись осколки от литровой бутылки «Смирновской». Капитан наш, стоял в противоположном углу каюты с нелепо разведёнными руками, на манер городничего в немой сцене гоголевского «Ревизора». Растерянно взирал он на внезапно взбесившегося громилу-лоцмана. Не растерялся лишь старик-немец. Похоже, он для того и был приставлен к своему буйному начальству. В два-три приёма, не прилагая особых усилий, бравый дедуля освободил руку лоцмана от опасного стекла и уложил, изрыгающего раскатистые испанские ругательства кабальеро на палубу. Затем, ловко вытащив из штанов клиента брючный ремень, старик заломил назад его толстые, что твои брёвна, руки и окончательно упаковал безумца. Большим пальцем правой руки он надавил поверженному Голиафу на точку, где-то в районе шейной сонной артерии и тот почти мгновенно вырубился. Уснул, аки младенец, громоподобно захрапев, потрясая толстыми губами. Немец без церемоний стянул одеяло с капитанской койки и заботливо укрыл спящего.
Закончив труды, он, взглянув во все ещё изумлённое лицо капитана, что называется, решил добавить интриги. Сильно картавя, но отчётливо, немец произнёс он по-русски:
– Дурной боров!
Эта фраза, как я уже сказал, прозвучала с сильным акцентом, скорее, как:
– Турной пороф!
Однако знание таких оборотов русской речи, вкупе с неожиданной сноровкой борца-профи, само по себе говорило о многом. Ох не прост оказался этот старый фриц, ох не прост!
Я, наконец, вспомнив о своём профессиональном долге, оставил наблюдательный пункт возле капитанской каюты и ретировался на мостик. Вскоре и сам капитан в сопровождении неожиданного спасителя поднялись сюда же. Эти двое, видимо, уже успели накоротке пообщаться, поскольку капитан обращался к своему новому приятелю по имени.
– Ловко ты его, Людвиг! – с мальчишеским восхищением частил капитан, обращаясь к немцу. – Слушай, если этот мужик с такой придурью, что после стакана мозги теряет и себя не помнит, то зачем же его начальство в лоцманах держит?
– Аргентина и Россия, как два незнакомых, но родных сестра, – с усмешкой на тонких, бледных губах отвечал Людвиг. – У вас есть полно бардак, но и здесь довольно таки балаган. Я знаю о чём говорю, потому почти девять лет после война сидел плен в ваших лагерях, строил дома и дорога в красноярский область. Лоцман мой, – кивнул он в сторону связанного храпящего громилы, – женат на сестре начальника порта. У меня тоже есть лоцманский лицензия, но работа эта редкая, зарплат очень высокий, просто так не устроишься. Вот меня и взяли лоцман-дубль и, как это, хранитель тела. Всего за четверть "саропотка" этого "пузотёра".
Они разговаривали ещё с полчаса. Капитан был изрядно навеселе и от того дружелюбен больше обычного. После вахты, когда нас на мостике сменил старпом, он пригласил Людвига к себе, во вновь прибранную каюту. За компанию и, видимо, по русскому обычаю в качестве «третьего», был допущен и ваш покорный слуга. Упакованную же, спящую тушу буйного лоцмана два дюжих матроса не без труда эвакуировали в медизолятор. Через час, когда, в основном стараниями нашего кэпа, была прикончена половина второй бутылки литровой «Смирновской» и произнесён прочувственный тост, "За русских женщин", произошло неизбежное – капитан попросту задремал в своём любимом, привинченном к палубе, глубоком кожаном кресле. Людвиг водку не пил, а потихоньку отхлёбывал, судя по ароматному запаху, хороший коньяк из собственной плоской, серебристой фляжки. Поскольку основной собеседник банально уснул, подвыпивший старик попросту переключился на мою юную персону.
– И не зря! – скажу я вам.
Немец поведал мне невероятную, фантастическую историю, якобы приключившуюся с ним во времена оно… Впрочем, в такое и захочешь, не поверишь. Надо сказать, что рассказывал он свою байку артистично и если, и "травил баланду", то делал это с неподдельным азартом, с множеством ярких, реалистичных деталей, словно вещал о реально пережитом. Я, естественно, привожу эту историю, опуская сильный акцент рассказчика и, к тому же, в своей, по мере моих скромных сил, литературной обработке…
– Ты мне, возможно, не поверишь, юнге, – начал свой рассказ старик Людвиг, – но что было, то было. Во время войны пришлось мне послужить в африканском корпусе Роммеля, что воевал в Северной Африке. В юности я серьёзно занимался борьбой и боксом, в лёгком, разумеется, весе, а потому был зачислен в отдельный диверсионный батальон. Мы проводили спецоперации против англичан, охотились на их старших офицеров, при возможности брали «языков». Командиры натаскивали нас изрядно. Однажды мне пришлось встретиться на борцовском ковре с нанесшим нам неожиданный визит, самим Отто Скорцени. Правда, нас было трое против одного Отто, но и это не помешало красавчику со шрамом уложить на ковёр всю нашу компанию за две минуты. Врать не буду, меня первого, так ведь на то он и тяжеловес. Но, сейчас не об этом. После разгрома в мае 1943 года англо-американцами, вырвавшиеся из окружения, наши уцелевшие части перебросили на восточный фронт. Зимой 44-го я был ранен и попал, как я уже говорил, в плен к вашим, русским. Первые пару лет в уральском лагере для военнопленных самые тяжкие были. Я работал на лесоповале и однажды корабельная сосна, что спилили два моих напарника, задела меня при падении. Я того не помню, но говорят, что скатился я в глубокий овраг с окровавленной головой. Конвой счёл меня погибшим, а потому спускаться на дно оврага никто не стал. К тому же, бригада торопилась обратно в лагерь. Охранники, видимо, решили:
"Потом, дескать, труп заберём, если звери таёжные что оставят".
Очнулся я от того, что кто-то мокрой, шершавой и горячей тряпкой моё лицо обтирает. Ну, думаю, санитар наш, Курт Лемке из второго отряда. Только дыхание у этого Курта тяжёлым мне показалось, уж слишком вонючее оно было, честно сказать. Я глаза открыл, а надо мной влажный чёрный нос и волосатая, бурая морда. Пасть красная, клыки жёлтые. Медведь, одно слово!
"Ну вот, малыш Людвиг, это пришла твоя русская смерть", – со странным спокойствием промелькнуло у меня в голове…
Но тут крик неподалёку раздался и сразу сдвоенный выстрел, похоже из двустволки. А медведь мой, как кенгуру австралийский в сторону отскочил и давай деру, только серые подошвы звериных лап замелькали. Снег заскрипел и подходит ко мне человек в овчинном тулупе и медвежьей шапке. За плечами ружьё, а на ногах такие широкие и короткие, плетёные из древесных веток лыжи. Снегоступы называются. Человек этот посмотрел на мою чёрную телогрейку, подпоясанную старым солдатским ремнём со спиленным орлом со свастикой, да полустёртой надписью "Гот мин унц", то есть, "С нами Бог" на пряжке, и заговорил со мной грубым и низким голосом:
– Ну, что фриц, довоевался, мать твою арийскую? Оставить тебя на прокорм этому шатуну, или как?
Я молчу. Язык распух, а во рту солоно от крови.
Человек присел на корягу, свернул самокрутку. Посидел, покурил и ворчливо так говорит:
– Какой-то ты мелкий, костлявый фриц, как пацанчик малый. Мишке тут и поживиться нечем будет.
Охотник этот крепче прежнего выругался, достал из-за пояса топорик и нарубил из еловых веток волокушу. Часа два волок меня по снегу. Притащил в какую-то лесную глушь к низкой деревянной избе. В заимке этой, так она называлась, спаситель мой тулуп скинул, печь затопил, да керосиновую лампу разжёг. А я, наконец, разглядел, что передо мной вовсе даже не мужчина, а крупная такая фрау, возрастом, лет сорока-пятидесяти. Ухаживала она за мной с неделю, голову перевязывала, отварами лечила, бульоном из дичи поила. Когда встал я на ноги и ловкость с силой ко мне вернулись, то показал я охотнице своё мастерство в меткой стрельбе. Фрау эта, Марией её звали, пушным промыслом промышляла и напарник-снайпер ей весьма кстати пришёлся. Взяла она связку лучшей пушнины и пошла к начальнику лагеря, договариваться. Тот и согласился:
"Бери, мол, Мария себе этого Людвига-доходягу хоть до весны, конца пушного сезона. Всё равно на лесоповале от него толку мало".
Повезло мне. Жизнь, хоть на несколько месяцев, но по сравнению с лагерной, у меня оказалась райская. Однажды заночевали мы в лесу, у костра под большим деревом. Мария задремала, а я отошёл по нужде, да слышу шорох да не справа или слева в чаще, а на верху, над головой. Сноровка разведчика меня выручила, среагировал я на этот звук и в сторону метнулся. Тут же на место, где я стоял, что-то большое, мохнатое свалилось и вскользь меня по плечу задело. Да крепко так, как будто ножами прошлись. Тулуп вдрызг, а само плечо располосовано до кости. Рысь это оказалась, причём матёрый самец. Серый такой, с рыжими подпалинами. Преогромный, с коровьего телёнка, пятнистый кот. Уши у этого зверюги торчком стояли, только на кончиках кисточки чёрные. Глаза зелёно-жёлтые, с мерцающими злобными огоньками. Кинулась эта рысь на меня, да тут выстрел из-за моего плеча. Опять Мария вовремя подоспела, второй раз спасла мою тощую тирольскую задницу. Ты не подумай лишнего, юнге. У меня с Марией ничего не было. Она мне скорее, как старшая сестра была. Ведь, что удивительно. У неё сын и муж на фронте погибли, а она меня немца от смерти спасала. И ведь не один я такой был. Уж если кто и жалел нашего брата военнопленного, так это русские женщины, все как одна военные вдовы. Казалось бы, ненавидеть должны они нас, немцев, а они нет, жалеют… Воистину загадочны русские души, особенно женские… Мария на прощанье подарила мне амулет собственной работы – жёлтый медвежий клык. Того самого медведя-шатуна, что мною пообедать собирался.
– Это, – сказала она, – Оберег тебе, Людвиг. От всякого зверья лесного, водяного, клыкастого, да и от двуногого охранит.
Вернулся я из плена в 1954-ом, перебежал в Западную Германию, но и там долго не мог найти себе достойного места. Было это уже в начале шестидесятых. Эмигрировал я в Аргентину, женился, развёлся, а удачи всё нет. Но тут, наконец, подвернулся один мой однополчанин, сослуживец по Африке. Я тогда подрабатывал "чёртовым официантом" в довольно дорогом кабаке в центре Байреса. И вот однажды, в ресторанном зале какой-то парень в модном костюме, весёлый, пьяный и смуглый вдруг полез ко мне обниматься.
– Людвиг! – кричит. – Бес мелкий, ты ли это?!
И тогда узнал я его. Парень тот немцем был лишь наполовину, а на другую, арабом, в смысле по материнской линии. Он на фронте, при нашем батальоне, служил переводчиком, да и нас спортсменов-олухов пытался натаскивать по-арабски. Короче говоря, вспомнили мы былое, а чуть позже, через свою знатную матушкину родню пристроил он меня к одному саудовскому принцу в личную охрану. Отбор был суровый и моя армейская, боевая подготовка мне пригодилась. Год, другой и стал я начальником охраны, хорошо показал себя. Принц мой постепенно выбился на самый верх, и прочили его не больше, не меньше, как в короли саудовские. Деньги я зарабатывал безумные, да и тратил их безумно, наверное, в плену вашей русской бесшабашностью заразился.
По роду работы я частенько сопровождал своего сюзерена во время подводных морских прогулок. Происходили таковые на его личной сверхсовременной субмарине. И называлась эта роскошная посудина, "Джумана". В переводе с арабского, "Жемчужина". Подлодки у нас в Германии называют "У-ботами"[46]. Так вот этот "У-бот", жемчужина арабская, был построен нашими немецкими корабелами на верфи в Киле, в обстановке строжайшей секретности. Поговаривали, что конструктором этой подлодки был тоже немец. Причём в основе его разработок лежали революционные, новейшие идеи подводного кораблестроения, так и невоплощённые в жизнь из-за нашего поражения в Войне. Сколько стоила "Джумана" нашему принцу можно только гадать. Впрочем, что проку считать чужие деньги…
Глава службы охраны должен находиться при августейшей особе неотлучно. Так было и тогда – в том злосчастном, последнем нашем с ним выходе в море.
Как и положено, я безмолвно стоял по правую сторону от своего господина.
Он снял трубку телефона внутренней связи и произнёс какое-то распоряжение. Тотчас в дверь каюты постучали, и охрана ввела троих бородатых измождённых мужчин со скованными за спиной руками. Пленники мелко семенили при ходьбе, поскольку их ноги тоже были в кандалах. В довершении всего троицу соединяла тонкая, но прочная цепь, довольно короткая, так что бородачи вынуждены были семенить ногами и почти вплотную прижиматься друг к другу. Его Высочество, указывая на скованную троицу, обращаясь ко мне, произнёс:
– Вот, Людвиг, очередная порция мерзавцев, достойных презренной смерти. Это собаки-шииты, смеющие называть себя мусульманами и праведными шахидами. Они приговорены шариатским судом к казни через публичное отсечение головы. Их вина совершенно доказана. В доме, где их схватили, находилась подпольная лаборатория по производству взрывчатки и сборке адских машин. Они собирались провести серию терактов. Среди них, взрыв в торговом центре в нашей столице, причём бомба должна была быть оставлена у детского игрового уголка. В довершении всего эти шакалы планировали покушение на меня, собираясь установить несколько мощных зарядов на пути следования моего кортежа. К счастью, наша служба безопасности оказалась на высоте.
Затем мой принц, с присущим ему, обязательным восточным красноречием обратился к стоящим в ожидании своей участи пленникам:
– Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного мы даём вам, презренным убийцам истинных мусульман, возможность умереть не от сабли палача, а подобно воинам – сражаясь в бою. Если вы проявите надлежащую доблесть, то даю слово: ваши останки будут переданы вашим родственникам.
После того, как увели пленников, его высочество нажал кнопку, и открылся обзорный иллюминатор. Наша субмарина лежала на грунте. Это был белый коралловый песок с кустиками разноцветных актиний. Мы находились в южной части Красного моря на небольшой глубине. Мимо иллюминатора сновали стаи самых разнообразных акул. Судя по их количеству и внушительным размерам, здесь находилось что-то вроде акульей фермы. Подозреваю, что некоторые экземпляры, например, тигровые или акулы-молоты, были доставлены из Индийского и даже Тихого океанов. Через четверть часа из шлюзовой камеры "Джуманы", озираясь, в панике, неумело выплыли трое давешних бородачей. На них было оснащение лёгких аквалангистов с одиночным баллоном. Кроме того, на поясах висели в ножнах длинные ножи-пики. Двое из них, завидев кишевших вокруг морских монстров, начали метаться в животном ужасе. Однако самый старший, седобородый, властным жестом остановил их, велел обнажить клинки и держаться как можно ближе друг к другу. Тут я заметил ещё кое-что! У каждого из приговорённых к смерти имелись небольшие надрезы на предплечье, из них сочилась кровь. От этого в воде оставались еле заметные кровавые дорожки. Компания хищных созданий, почуяв желанный запах, принялась кружить вокруг обречённых, и уже через минуту тупомордая белая акула первой атаковала самого молодого преступника. Его спонтанный, ответный выпад оказался на редкость удачным. Клинок-пика вошёл прямо в глаз и затем в мозг морской убийце, повредив какой-то важный нерв. Зубастая тварь, явно потеряв ориентацию в пространстве, принялась хаотично вращаться вокруг собственной оси, оставляя пурпурные, тающие в воде круги. Её сородичи тут же оставили людей в покое и принялись терзать свою несчастливую подругу. Вода окрасилась бурым цветом. Акулы, подобно гиенам, отталкивая друг друга, рвали на части тело своей соплеменницы. Через пару минут от огромной туши не осталось и следа. Ещё через минуту осел густой бордовый туман, и банда разномастных акул вновь стала проявлять пристальный интерес к людям. Лимит удачи для них, видимо, иссякал. Особенно опасными оказались твари средних размеров. Пока приговорённые сражались с крупными тигровыми и голубыми хищницами, средние особи, как шакалы, подкрадывались к незащищенным ногам людей и по-волчьи на лету отхватывали изрядные куски человеческой плоти.
Кровавая пелена густела, ухудшая видимость, но тут через отверстие в субмарине выплеснулась зелёная струйка какой-то жидкости, мгновенно осветлив воду. Люди быстро слабели, и вскоре рука одного из них исчезла в пасти уродливой головы акулы-молота вместе с клинком. Вот и второй аквалангист, потеряв сознание, перестал сопротивляться смерти. Его безвольное тело было мгновенно растерзано алчными трёхрядными зубами. Старший из приговорённых каким-то чудом ещё держался. Он из последних сил, улучив момент, пока пёстрая свора была занята телами его товарищей, повернулся к огромному обзорному иллюминатору. Седобородый шиит выплюнул загубник, сдёрнул маску и медленно, словно демонстрируя презрение к зрителям по ту сторону иллюминатора, перерезал себе глотку остриём пики. Я, вдруг, физически ощутил, словно бы разряд тока, прошедший через всё мое тело. Это был настоящий "Луч ненависти" чудовищного накала каким-то чудом проникший сквозь толщу воды и прозрачную броню бортового иллюминатора. Сердце моё, прежде вполне здоровое, вдруг дало сбой, и зашлось во внезапном приступе аритмии. Схватился я за грудь и тут уколол меня клык медвежий, мой оберег, подарок Марии. Сразу и отпустило.
Акулий пир завершался. Я с трудом заставил себя отвернуться от этого кошмарного, но завораживающего зрелища. Мой сюзерен, всё это время сидевший в кресле посреди каюты, был бледнее покойника. Похоже, что и его не миновал этот чёртов, злобный импульс, последнее послание от вожака казнённых шиитов. Что же касается останков преступников, то мой господин сдержал своё слово. Он приказал доставить на борт головы погибших и отправить их ближайшим родственникам для погребения. Только вот незадача, головы старшего из казнённых преступников так и не нашли. Когда пришло время, принц совершил очередной намаз, но и после молитвы он оставался бледен и задумчив. Наконец, поскольку поиски головы седобородого так и не увенчались успехом, был отдан приказ возвращаться домой. Но едва заработали главные двигатели, как весь корпус "Джуманы" содрогнулся от мощного удара.
Мы с Его Высочеством поспешили на мостик "У-бота" в ЦПУ. На центральном посту управления царила растерянность близкая к панике. Командир-француз тщетно пытался определить, кем и откуда и каким образом его субмарина атакована. Между тем удары по корпусу продолжались. Причём раз от раза становились всё мощнее и опаснее. Жемчужина пыталась набрать полный ход, но тут последовал толчок такой силы, что все бывшие на мостике, включая моего принца, повалились на палубу. Главные двигатели подлодки остановились и заревели сирены. Одновременно погас свет, и включилось бледно-красное аварийное освещение. Главный механик доложил о выходе из строя всей винто-рулевой группы. Лодка была обездвижена, но командир сумел, каким-то образом, продуть балластные цистерны и нам удалось всплыть. На поверхности начинался шторм и нас изрядно качало. К тому же "У-бот" был неуправляемым и не мог, развернувшись встать носом "на волну", как это следовало бы сделать. Я приказал командиру "Джуманы" немедленно приступить к спасению жизни Его Высочества. По радио экстренно вызвали самолёт-амфибию. Однако неизвестный агрессор всё ещё не оставил нас в покое. Мы с принцем, борясь с качкой, вцепившись в ограждающие леера, стояли на открытой палубе, на рубке субмарины, ожидая самолёт.
Небо было низким, покрытым серыми облаками. Ветер осыпал нас солёными брызгами, волны становились всё выше. Вдруг справа, в двух сотнях метров от нас, под водой появилась какая-то огромная и очень длинная тень. Словно немыслимо гигантская торпеда устремилась она по направлению к нашему борту. Удар пришёлся точно под рубку, где находились мы. Я сумел удержаться на ногах, намертво вцепившись в леер, но моего принца подбросило вверх. Он сильно ударился головой о переборку и лежал теперь на палубе без сознания. Я кинулся к нему, чтобы перевязывать, благо аптечка была под рукой. Находившийся здесь же старший помощник издал вдруг крик удивления. Я поднял голову. Штурман указывал за борт. Там и в самом деле творилось нечто…
Вокруг накренившейся на правый борт субмарины в розовой от крови, волнующейся воде, вверх белыми животами дрейфовали на волнах десятки весьма крупных акул. Твари были мертвее мёртвых. У многих были вдребезги разбиты, размозжены головы, круглые глазные яблоки плавали в воде, болтаясь на белёсых ниточках нервов. Но самое жуткое представление происходило в полумиле от нашего борта. Сотни, тысячи средних, крупных и гигантских акульих туш просто кишели там, толкая друг друга. Вот показалась из воды огромная полосатая морда тигровой акулы с частоколом кривых, словно йеменские кинжалы-джамбия зубов. Вот мелькнула инопланетно-уродливая голова гигантской акулы-молота с широко разведёнными, словно на телескопических антеннах глазами. На верхний мостик уже поднялся командир и главный механик. Все они с изумлением уставились на происходящее за бортом. Мой сюзерен застонал и открыл мутные глаза. В тот же миг хаотически кишащая акулья масса начала какое-то упорядоченное движение. Акулья армия, словно выстраивалась в одну линию. Мерзкие туши на наших глазах тесно прижимались друг к другу, образуя что-то вроде единого боевого организма. Эта масса начала перемещаться прочь от нас, но как мы уже догадались, лишь для того, чтобы ещё теснее сплотившись, совершить боевой разворот и нанести новый, возможно смертельный урон нашей подлодке. В этот момент раздался усиливающийся гул, и из облаков вынырнул самолёт-амфибия. Это была американская "Каталина", морской разведчик и истребитель наших, немецких боевых "У-ботов" во времена Второй мировой. Самолёт, вращая пропеллерами, низко прошёл над волнами. Своими поплавками он, словно гигантскими утюгами, тяжело «гладил» стремительно надвигающуюся на нас акулью массу. Видимо это и спасло нас. Головная часть акульего монстра распалась и тут же всё «тело» его рассыпалось на составляющие. Пилот вырулил и виртуозно подвёл машину к самому борту. Стараясь не смотреть на кишащую в воде толпу морских людоедов, мы погрузили Его Высочество на борт самолёта. Я был обязан находиться рядом с ним. Амфибия пошла на взлёт, но я успел заметить, как вновь группируется в одно целое кишащая акулья масса. Монстр готовился к новой атаке. "Каталина" сделала круг над подлодкой. Пилоты переглянулись и в синхронном удивлении покачали головами в круглых шлемах. Внизу, в том месте, где самолёт, взлетая, оторвался от воды, нарезала круги, словно ища чего-то, тень гигантской полукилометровой акулы.
– Экипаж "Джуманы" благополучно спасся, – продолжил через паузу Людвиг. – Сама лодка вскоре была отбуксирована в порт. Как только амфибия поднялась в воздух, атаки фантастического монстра прекратились. Наверное, после исчезновения Его Высочества этот акулий "Фракенштейн" потерял интерес к субмарине. Вскоре растворились в океанских просторах и сами рядовые участники этой мистерии, вся разномастная акулья братия. Принц после всего происшедшего слёг с тяжёлым инсультом, и мне вновь пришлось остаться не удел. Я до сих пор раздумываю о причинах этого небывалого природного феномена. Значит ли это, что человеческая ненависть, как у того отданного на растерзание акулам шиита, может достигать такой немыслимой точки накала, чтобы после смерти воплотиться в мстительное чудовище. Кто знает, может быть, спас всех нас от "зверья водяного" и тот самый Оберег от Марии?
Людвиг вытащил из-за пазухи желтоватый, остроконечный медвежий клык на серебряной цепочке и с нетрезвой сентиментальностью поцеловал свой талисман.
После чего достал из кармана чёрную пеньковую трубку и неспешно раскурил её.
– Вот, что я тебе скажу, юнге, – закончив рассказ, покачал головой немец. – Смерти нет, а есть Переход и самое интересное ждёт нас после жизни. Я надеюсь хотя бы там нам что-нибудь, да объяснят…
В этом месте Людвига, похоже, позабавила собственная загадочная многозначительность. Он взглянул на мою вытянутую, впечатлённую мальчишескую физиономию и дробно, по-старчески захихикал. После чего поперхнулся ароматным табачным дымом и, бия себя сухим маленьким кулаком в грудь, ещё долго и весело кашлял. До слёз…
Примечания
Касиус Лей – Мохаммед Али – американский боксёр-профессионал, абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе.
"Ес! Ес оф коз! Джаст кимикэл пэйнт!" (искаж. англ.) – Да! Да, конечно! Просто химический краситель!
"Велкам плиз ту ауа шип!" (искаж. англ) – добро пожаловать на наше судно!
Боди-арт (англ. body art – "искусство тела") – одна из форм авангардного искусства, где главным объектом творчества становится тело человека.
"Омниа меа мекум порто" (лат. Omnia mea mecum porto) – Всё своё ношу с собой.
Аккияк – друг.
Анори – ветер.
Инук – человек.
Твоята майка (болг.) – твоя мама.
Такава стреща (болг.) – такая встреча.
Тези крадцы (болг.) – эти воры.
Като турци в Турции, тъминината тъмно (болг.) – как турок в Турции, тьма тёмная.
Съветската бюрокрация, запознат бизнес (болг.) – Советская бюрократия, знакомое дело.
Джиггер – в данном случае блесна для ловли кальмаров. Формой и размером напоминает цветные (жёлтые, красные, бело-зелёные) поплавки для удочки. В нижней части имеет радиально расположенные крючки. Белые джиггеры покрыты люминесцентной, светящей в темноте краской.
Първият обяд (болг.) – Сначала пообедаем.
Пушач (болг.) – мужская компания.
Здравето посетитель (болг.) – За здоровье гостя.
Вятр (болг.) – ветер, буря.
В таково време (болг.) – в такую погоду.
Галтьери Леапольдо (1926–2003) – аргентинский военный и государственный деятель итальянского происхождения, генерал, диктатор Аргентины в 1981–82-годах.
Войну с англичанами из-за Фолклендов затеял" – имеется в виду англо-аргентинский военный конфликт 1982-года из-за спорной территории Фолклендских островов.
Тэтчер Маргарет (1925–2013) – премьер-министр Великобритании 1979–90 гг. Пэр Англии, баронесса. За жёсткость и решительность в проводимой ею внешней и внутренней политике заслужила прозвище – "Железная леди".
Двухсотмильная зона – принятый в 1972 международной конференцией по международному морскому праву юридический статус шельфовой зоны, охватывающей расстояние в 200 миль от берега краевых морей и океанов, согласно которому она объявлена суверенной территорией соответствующего государства со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями, в том числе относительно охраны природных ресурсов. В двухсотмильной экономической зоне сконцентрирована большая часть биологических и углеводородных ресурсов.
Бльгария е малка страна (болг.) – Болгария маленькая страна.
Аргентинская хунта – военная диктатура, находившаяся у власти в Аргентине с 1976 по 1983 гг.
Как стэ? (болг.) – Как дела?
Другар (болг.) – товарищ.
Узел морской – величина для измерения скорости на море. 1 узел = 1 морская миля в час.
Маринерос-marineros (исп.) – моряки.
Фашистите (болг.) – фашисты.
Си, синьор маринеро! Носотрос лос фасистас! (исп.) – Si, señor marinero! Nosotros los fascistas! – Да, синьор моряк! Мы фашисты!
Силенсио (исп.) – Silencio – Тишина.
Дурдурмак, домузлар!!! (турец.) – Durdurmak, domuzlar!!! – Прекратить, свиньи!!!
Destructor (исп.) – разрушитель, эсминец.
"Caballero" (исп.) – всадник, рыцарь, джентльмен.
Каброн (исп. ругательство) – козёл, сволочь.
Кесар (исп.) – Cesar – Прекратить.
Абуэло (исп.) – el abuelo – дед, дедушка.
Барон Суббота (Самеди) – Повелитель мёртвых, главный персонаж религии Вуду.
Библия Вульгата – Biblia Vulgata – "Общепринятая Библия" – последний по времени латинский перевод Священного Писания.
"Меа кульпа, меа максима кульпа!" – Меа culpa, mea maxima culpa! (лат.) – Моя величайшая вина! Формула покаяния и исповеди в религиозном обряде католиков с XI века.
Калавер (исп.) – череп.
Фискебёт – fiskebat (норвеж.) – рыболовный бот.
Кабельтов – 1/10 морской мили, 185,2 метра.
Ла-Пла́та (информация из Википедии) (исп. Río de la Plata – "Серебряная река") – эстуарий, образованный при слиянии рек Уругвай и Парана. Залив на юго-восточном побережье Южной Америки, растянувшийся на 320 км от слияния рек до Атлантического океана.
U-boat (информация из Википедии) – англифицированная версия немецкого слова U-Boot, являющегося в свою очередь сокращением от Unterseeboot, и означающего "подводная лодка". Если немецкий термин относится ко всем субмаринам без исключения, то английский (и несколько языков ещё) соотносят его непосредственно к военным подлодкам, применявшимся Германией в Первую и Вторую мировые войны.




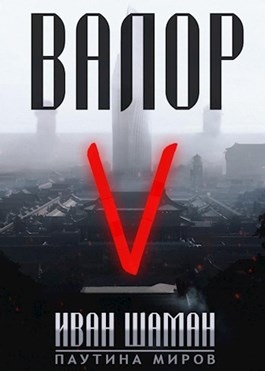


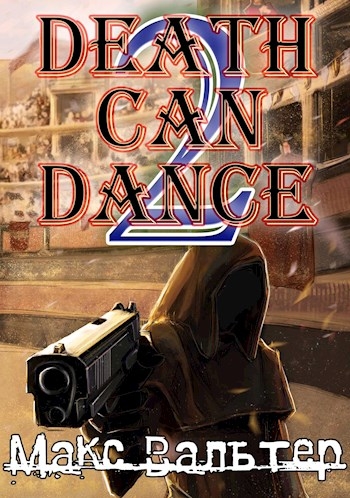






Комментарии к книге «Морские байки», Владимир Владимирович Гораль
Всего 0 комментариев