Александр Блок Стихотворения. Поэмы. Театр
Александр Блок
Александр Блок рос на рубеже двух столетий, двух исторических эпох. В творчестве он отразил духовный кризис целого поколения с несравненной лирической искренностью и силой. Но сам поэт был не столько жертвой кризиса, сколько живым, действенным и революционным его преодолением.
Если это стало явным в 1917–1918 годах, то силы для преодоления накапливались в глубинах блоковского сознания, в его творческих поисках еще с 1905 года. В первые же дни после великого Октября Александр Блок был одним из первых и самых смелых русских интеллигентов, кто открыто и безоговорочно встал на сторону революционного народа, поверил в правоту большевиков и открыто об этом заявил. Он пошел на резкий разрыв с недавними единомышленниками, соратниками, сверстниками. Такую смелость ему диктовало сознание гражданского долга и совесть поэта-демократа. Ему был ясен мировой смысл пролетарской революции.
Только злобно предубежденные слепцы обвиняли Блока в измене либо предпочитали усматривать в его поведении невменяемость декадентского лирика.
Не однажды Блок утверждал органическое единство своего пути, его неизбежность. Заново собирая и редактируя три тома своей лирики, поэт настаивал на том, что они представляют собой единую трехчастную повесть:
И действительно, понять его по-настоящему, оценить его цельность, осознать органическое родство поэта Прекрасной Дамы с автором «Двенадцати» и «Скифов» можно только, следуя за Блоком по его пути.
В восьмидесятых — девяностых годах прошлого века, чуть в стороне от железной дороги, соединяющей Москву с Петербургом, в усадьбе деда с материнской стороны вырастал красивый ребенок, избалованный матерью и ее родными. Вырастал он без отца, потому что мать после года неудачного замужества вернулась с ним, грудным ребенком, обратно в девичью семью. История тяжелых семейных отношений и труднопостижимый облик родного отца когда-нибудь, гораздо позже, сделаются для него личной проблемой. А сейчас мальчик ни о чем не задумывается. Он растет в хорошем доме, в талантливой семье, среди обожающих его женщин. Семья дворянская, одна из самых интеллигентных в стране, отстой многих десятилетий культуры и достатка. Дед — знаменитый ученый-ботаник Бекетов. Бабка — трудолюбивая переводчица. В деревенском доме и книги в избытке, и музыка постоянно гостит, и никогда не кончаются споры обо всем, о чем только могут спорить русские люди. А за свежевымытыми окнами — зеленый мир в клумбах ярких цветов, а еще дальше — дороги и проселки, поле и лес, холмы и овраги, милая с детства синяя даль, которая навсегда потом свяжется с первыми прочитанными сказками, будь то «Мертвая царевна» или «Кащей», «Иван-царевич» или «Снегурочка».
Так недалеко отступило в прошлое другое десятилетие, когда примерно в таком же деревенском доме вырастал под крылом у безмерно обожавшей его бабки другой русский демоненок, впоследствии ставший поручиком Тенгинского полка и гордостью русской поэзии. Две эти судьбы, Лермонтова и Блока, одинаково ушли в историю. Они кажутся сейчас соизмеримыми и родственными, как будто действительно стояли рядом в пространстве и времени.
Между тем время-то как раз было совсем другое.
Кончался девятнадцатый век. Вместе с ним кончилась дворянская Россия. Тургенев, Чехов, Бунин, каждый по-своему, зафиксировали прощание с нею. Сделал это и Александр Блок. Бывало его прощание с прошлым окрашено и элегически, но бывало и так, что оно превращалось в спокойно-сосредоточенное презрение, а то и в ярость. Ведь он был тем самым «поздним потомком», которого предвидел Лермонтов:
Все это пришло гораздо позже. Надо было прожить собственную жизнь, чтобы понять ее исторически, узнать в самом себе сына и внука отцов и дедов. Мысль об этом сделается основной среди раздумий Блока. Сначала она приведет его к познанию родины, а потом заставит «всем сердцем, всем сознанием слушать революцию».
Здесь можно было бы рассказать о буднях классической гимназии, о тех или других прочитанных книгах, из коих одни прошли бесследно, а другие на всю жизнь врезались в память. О чем же еще? О двух-трех дружбах, о первой влюбленности, пережитой далеко от дома, на чужбине, в маленьком немецком городке, об университете с его филологическими дисциплинами, о декламации любимых стихов…
Единственное, что росло в нем, накапливаясь исподволь, заложенное самой природой и неизбежное в этом еще никому не ведомом душевном хозяйстве, было творчество. Стихи он начал писать с пяти лет. Это были обыкновенные детские, а потом отроческие пробы. Ничто не предвещало автора «Стихов о Прекрасной Даме».
Внезапно в подражательные строфы врывался звук — мысль о собственном предназначении:
Факел действительно туманен. Идеал еще не назван. Вся жизнь, все ее беды и удачи впереди. Человеку девятнадцать лет. Таким он был на пороге нового века.
Настоящего поэта читает время. Каждый новый век читает его заново и утверждает по-своему свою связь с поэтом. Так произошло и происходит на наших глазах с Шекспиром, Данте, Гете. В отношении Пушкина и Лермонтова мы улавливаем то же самое, несмотря на сравнительную временную близость нашу к ним. То же самое происходит сейчас с Александром Блоком.
Его современники, особенно в кружке московских символистов, — Андрей Белый, Сергей Соловьев и другие, — прочли в ранних стихах Александра Блока, обращенных к Прекрасной Даме, одну только мистическую исповедь-молитву, утверждение Вечноженственного, потустороннего образа, выросшего на философской лирике Владимира Соловьева. Это было чтением той эпохи, восприятием, обусловленным и оправданным эпохой. Уже в самом таком восприятии коренились причины будущего разрыва Александра Блока с этой дружеской группой, — в частности, разрыва с Андреем Белым, «вражда-дружба» с которым так много значила в биографиях обоих поэтов.
С той поры прошло более шестидесяти лет. «Стихи о Прекрасной Даме» прочитаны заново.
Первая книга двадцатилетнего Александра Блока останется в русской поэзии как одна из самых напряженных лирических исповедей о юношеской любви к женщине. Стихи обращены к женщине, только к ней одной, только ради нее написаны. Один скажет: «Мимолетное виденье» или: «Гений чистой красоты», другой — «Дева, Заря, Купина». Одному блеснут милые очи «из-под таинственной холодной полумаски» на светском балу, другому — в сыром Петербурге, под рожком газового фонаря, — сущность от того не меняется. Тому, и другому, и третьему диктует юношеская страсть в минуту ее сверкающего подъема. В какие бы запредельные выси ни проецировал поэт свою любовь, вплоть до того, что «ты путям открыта млечным, скрыта в тучах грозовых», — все равно реальная подоплека скажется.
Так прорвался живой человеческий голос. Он заявил о своем существовании с превосходным самообладанием и задором. Рогатки классической метрики, амфибрахии и ямбы сметены живой интонацией. Такого паузника еще не было в русской поэзии, хотя искали его многие, в их числе Лермонтов, Фет, старшие современники Блока. Вот откуда начинает свое летосчисление XX век в русской поэзии. Вот откуда вырос интонационный стих Маяковского.
Конечно, мистика Владимира Соловьева оказала серьезное влияние на молодого Блока. Конечно, он, может быть, слишком много читал, и весь склад его мышления был до крайности идеалистичен. Но в том-то и сила дарования, что оно жизненнее книжных истоков. Оно чревато будущим. В первых же стихотворениях Блока звучит не только сокрушающая искренность, но звучит и другое — предчувствие будущего, далеко идущего пути.
Прежде всего, явственна кровная связь автора с Россией, с русской стариной, фольклором, сказкой и песней:
«Тот берег» легко узнать. Это севернорусский пейзаж, может, чуть в стороне от железной дороги, но, право же, до него рукой подать. Картина одушевлена. В ней поселилась сказка. Когда-то такую же сказку рассказывала Арина Родионовна смуглому, кудрявому мальчику. Не раз уже отсюда, из этой светящейся точки, рождалась русская лирика.
Когда-нибудь он скажет: «О, Русь моя! Жена моя!» Был день, когда Россия, не названная по имени, была ему невестой: «Мой любимый, мой князь, мой жених», — звала она своего певца из синей деревенской дали, с клеверных полей, над которыми в летний полдень звенит золотой шмель. Русская сказка рассыпана в первой книге Блока точнейшими приметами. О ней напоминает и крещенское гадание Светланы, и Сирин и Гамаютт, и Голубиная книга с красными и золотыми заставками, на которую загляделась царевна. И с первых же строк мы прочтем:
Все это еле видные зародыши будущего. Все будет, все вернется к поэту в неузнаваемо выросших образах. Даже красное пламя разрастется когда-нибудь в «широкий и тихий пожар» над Куликовым полем, а то и в мировой пожар, «на горе всем буржуям».
Но пока еще безумно далек он от будущего. Как всякий юноша, он может только воскликнуть:
Между тем будущее стоит у порога. Не только для него. Самые чуткие и смелые из его современников живут предчувствием надвигающихся событий, катастрофических и прекрасных. В эти самые дни Горький складывает свою «Песню о Буревестнике». Под сурдинку, глухо, но чем глуше, тем заразительнее для аудитории Художественного театра, перекидываются мечтательными репликами чеховские герои.
Россия жила у порога 1905 года. Чем дальше был Блок от жизни, тем с большей силой, тем искреннее и неожиданнее проснулось в нем не только так называемое сочувствие к революции, которое можно было поделить с тысячами обывателей, но и чувство кровной заинтересованности в происходящем.
Прекрасные стихи о Петербурге в дни восстания, о Медном всаднике, в руке которого заплясало факельное пламя, свидетельствовали о резком переломе в душе поэта. В его сознание ворвались неожиданные стихии. Не смирением и не растерянностью, но посильным проникновением в смысл происходящего продиктованы эти слова:
Революция 1905 года значительна для Блока не только своим непосредственным отражением. Впервые в его стихах зазвучал раскованный голос — голос человека, который может выйти на трибуну, на площадь. Пускай не все им сказанное будет услышано и понято. Важно, что он обращается к большому человеческому сонму, к обществу, к современникам, к согражданам:
Такой речи у Блока до этого не было. Сегодня она звучит как привет будущему — привет, обращенный к нам.
Годы реакции были годами окончательного возмужания и зрелости для Блока. Юношеские сны стихов о Прекрасной Даме и взрыв творческих сил в 1905 году остались далеко позади. Среда сверстников, казавшаяся ранее безоговорочно близкой, распалась. Блок обратился к театру.
Начало блоковской драматургии положено «Балаганчиком». Его ближайшие друзья и единомышленники были крайне возмущены и шокированы этим произведением, оно показалось им изменой, чуть ли не кощунственной. Они смотрели на эту непритязательную пьесу слишком серьезно, отсюда их страстная и пристрастная полемика, почти сектантская настороженность. Между тем сам по себе «Балаганчик» — бесхитростная, традиционная для молодого романтизма сценическая игра. В бесшабашной ее бестолочи, в настойчиво повторяющемся нарушении иллюзии, во вмешательстве автора (который и рассматривает себя как простака и неудачника) — во всей этой наивной атмосфере карнавальной шутки совершенно незачем подозревать нечто большее, более серьезное и глубокое, нежели ее сверкающая поверхность.
По отношению же к развитию самого поэта «Балаганчик» важен как своего рода катарсис — освобождение, выздоровление, отрезвление… Это признак здоровья художника, его самообладания. У Блока проснулась не только ирония по собственному адресу, но и вполне естественный юмор молодого и сильного существа, разглядевшего свой мир со стороны.
Сложнее обстоит дело со второй пьесой Блока, с «Незнакомкой». Этот прихотливый и неожиданный сплав одинокой лирической стихии, которая в нетронуто-трепетном мерцающем освещении перенесена на сцену — с еще более острой, чем в «Балаганчике», почти ожесточенной иронией, включавшей в себя элементы сатирического гротеска, если не карикатуры.
Значительно позже, уже после Октября, Блок писал: «Когда мы перечитываем теперь «Дон Карлоса» Шиллера, мы поражаемся величием архитектуры, тем многообразием замыслов, тем, идей, которые так свободно и спокойно вместил Шиллер в одну трагедию. Элементы исторической науки, искусства, музыки, живописи — все налицо в одной трагедии… Какое же творческое спокойствие, какой творческий досуг, какая насыщенная музыкой атмосфера окружала Шиллера!»[1] Несмотря на то, что Блок противопоставляет здесь «доброе, старое» время европейского гуманизма своей эпохе и говорит о крушении гуманизма, все же эта характеристика во многом относится к нему самому в пору создания «Розы и Креста», да и к самому произведению, сложному и поразительно богатому. В этой драме все доросло, закрепилось, нашло форму и язык, стало рельефно живописным. Этому помогает историзм пьесы, ее социальный фон. Все прочно стоит на земле: и феодальный замок с его обитателями среднего роста, и бушующие вокруг замка кровавые события, и точно обозначенные место и время действия. Особенно помогают живые образы всех действующих лиц, за одним исключением: Гаэтан намеренно и нарочито оставлен в некоей туманной отдаленности. Но и этот образ не колеблет реализма общей картины, скорее подчеркивает ее осязаемую плотность. Повторяю — здесь Блок окончательно созрел и возмужал как художник и человек.
Между тем шли годы, решающие в жизни человека. Блок уже не только поэт, но и публицист, упрямый мыслитель, историк, исследователь. Он стоит перед всем многообразием жизни, жадно глотает множество книг, путешествует по западным странам, вглядывается в памятники мирового искусства и в перекошенные лица городской толпы в европейских городах. Ему есть что сказать людям. Это широкие обобщения, думы о прошлом и будущем человечества. Это горькие думы. Блок ни от чего не зарекается, ни от какого знания, ни от какого вывода.
Так складывается мировоззрение писателя, цельное и органическое. Впоследствии Блок назвал его трагическим. «Оптимизм вообще, — писал он, — несложное и небогатое миросозерцание, обыкновенно исключающее возможность взглянуть на мир как на целое. Его обыкновенное оправдание перед людьми и перед самим собою в том, что он противоположен пессимизму; но он никогда не совпадает также и с трагическим миросозерцанием, которое одно способно дать ключ к пониманию сложности мира» (6, 105).
В чем же существо трагического миросозерцания? Продолжая мысль Блока, надо сказать, что оно прежде всего диалектично, полностью открыто конфликтам и противоречиям жизни. Задача художника — разглядеть и понять жизнь в борьбе ее противоположных сил, в вечном потоке движения. Нетрудно увидеть, что мечта Блока о таком цельном мировоззрении достаточно близка нам сегодня.
Основной, центральный узел блоковских раздумий — там, где соприкасаются поэзия и жизнь, личность и общество, сегодняшний день и вся история:
Сюда тянутся тугие провода его публицистических выступлений. Разрыв между интеллигенцией и народом, грандиозная, веками накопленная вражда между культурой и стихией, — эти проблемы поставлены в статьях Блока с угловатой резкостью, которая не терпит смягчающих формулировок. Блоку нужны ответы окончательные, прямые, честные.
Над всеми «проклятыми» вопросами — пронзительная тоска, пронзительная любовь к России. Если в ранних стихах она звучала в подголосках оркестра, во внезапно набегающей волне, которая заставит вспомнить слышанную когда-то песню, то сейчас, в зрелом творчестве, она прорвалась как лейтмотив, троекратно возвещенная трубами, прокатилась в скрипичном хоре, и снова и снова возникает и повторяется в новых модуляциях ритма, — торжественная, упрямая, требовательная.
Это Россия его мечты, такая, какой она должна быть, загаданная в былинах и сказках, «где разноликие народы, из края в край, из дола в дол ведут ночные хороводы под заревом горящих сел». Далекая старина и самая близкая современность стоят рядом. Блок сам еще не знает, что перед ним: «стан половецкий и татарская буйная крепь», как было в дни «Слова о полку Игореве», или картина капиталистической, фабричной России — «многоярусный корпус завода, города из рабочих лачуг»? Снова и снова стоит он лицом к лицу с вековой историей страны, с ее необъятным пространством: «Знала ли что? Или в бога ты верила? Что там услышишь из песен твоих? Чудь начудила, да Меря намерила гатей, дорог да столбов верстовых…» Снова в русской поэзии воскрес заклинающий, обращенный к будущему голос: «У! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух…»
Недаром Блок связывал свое постижение России с тем, что прочел у Гоголя.
Как будто прост и однозначен сюжет поэмы «Возмездие», тесно переплетенный с биографией самого Блока, с отношениями его отца и матери, особенно с личностью отца. Да, это «коротенький обрывок рода — два-три звена» в смене человеческих поколений, семейная хроника, дифференциал истории. Но на этом маленьком плацдарме дан бой русской и мировой истории. «Дроби, мой гневный ямб, каменья!» — это восклицание завершает вступление в поэму. Гневному ямбу предстоит понять, «как зреет гнев в сердцах, и с гневом — юность и свобода, как в каждом дышит дух народа», — словом, перед Блоком задача поэзии высокого стиля, больших обобщений, задача эпоса. Блок неясно различает очертания будущего создания «сквозь магический кристалл». Он пробует себя, нащупывает метод.
С первых же строк открывается многообещающая перспектива:
Перспектива не обманывает. Девятнадцатый век — всего только предполье для других, более яростных битв.
В поэме возникают петербургские квартиры конца века, улицы и площади, полные народу в дни возвращения армии после русско-турецкой кампании, конспиративные сходки народовольцев, Достоевский в салоне петербургской дамы. И дальше и дальше идет повествование: глухие годы победоносцевской реакции, начало нового века, когда
Поэма была встречена холодно, если не враждебно. Вяч. Иванов видел «разложение, распад, как результат богоотступничества… преступление и гибель в этой поэме»[2]. Как видно, корни того разрыва, который произошел между Блоком и его средой после Октября, — это очень глубокие корни, они обусловлены всем путем автора «Двенадцати» и «Скифов».
Поэма «Возмездие» осталась незаконченной. Мы читаем теперь ее фрагменты — пролог, первую главу, вступление ко второй, большую часть третьей да еще несколько стихотворных отрывков и прозаических планов. Из этого, конечно, следует, что Блок не нашел для своего замысла окончательного воплощения, хотя и возвращался к работе не однажды, но уже совсем в другие времена: предисловие к впервые издаваемой третьей главе написано в 1919 году, а последние стихотворные отрывки датированы 1921, то есть годом смерти поэта.
Главная мысль его ясна. Это мысль историческая. И судьбу своего отца, и собственную судьбу он пытался понять и определить исторически. Сквозь туман гадательных предположений перед Блоком брезжили простые догадки, простые выводы-о разложении дворянской культуры, о распаде социальной среды, к которой он принадлежал. Все яснее росло в нем сознание классового отщепенства. Все глубже чувствовал он, что его отщепенство обусловлено всем ходом русской истории.
Какой же была при этом личная жизнь? Отнюдь не светла и не безоблачна. В ней было в избытке все, что полагается на долю страстного и грешного человека. Жизнь Александра Блока — это жизнь интеллигентного пролетария, юность, потерянная «в кабаках, в переулках, в извивах, в электрическом сне наяву», открытая для всех соблазнов ночного города. «Отчаяние и злоба» господствуют в блоковской лирике того времени. Между тем его мастерство становится совершенным инструментом, виртуозный ритм отточен для передачи ресторанно-демонического колорита, для цыганщины. Уже сказано: «Как тяжко мертвецу среди людей живым и страстным притворяться!» Уже написаны самые лучшие и выразительные стихи. Уже разучивают их наизусть. Уже прозвучала классика итальянского цикла. Александр Блок — самый популярный, самый любимый из поэтов эпохи. У него много подражателей, вплоть до дешевой эстрады. Но чем разухабистее распевает улица песенку, сочиненную «под Блока», тем мрачнее, собраннее и строже становится он сам, судорожно сжимая в нескольких четверостишиях свои горькие думы.
В чем же состояло оно, это совершенство зрелого Александра Блока, так волшебно действовавшее на современников, — да что на современников, разве его не хватило на прошедшие с той поры пятьдесят с лишним лет! Так в чем же оно?
К кому и куда обращены эти заклинающие сетования? Той или другой женщине, с возможностью по документам восстановить имя — отчество — фамилию — домашний адрес? Поистине, дело обстоит совсем по-другому!
Речь идет о первоисточнике поэтического вдохновения — или еще шире: о первоисточнике юношеской радости жизни, таком чистом когда-то и таком замутненном сейчас. Первая цитата взята из стихотворения «К Музе». Во второй речь идет о реальной женщине, у которой одна только примета — золотая прядь. Но речь идет о том же, о безвозвратном.
Волшебство Блока в том, что каждый откликнется по-разному и по-своему на этот стон о поругании Красоты, о ее трагической участи. Скоро, очень скоро Александр Блок еще раз, в последний раз вернется к поруганию Красоты, к ее трагической гибели.
Наступил 1914 год. Началась первая мировая война. Среди русских поэтов нашлись многие, кто с охотой и ремесленной ловкостью рифмовал официальные лозунги царского правительства. Голос молодого Маяковского, отрицавшего войну, еще не был услышан. Также не был услышан и голос Блока. Между тем это был голос значительный и достойный:
И удивительное дело! В то время как представители самых разных толков и направлений, глядя в ужасное лицо войны, надеялись, что вот она — последняя война на зеленой планете, верили, что человечество, достигнув таких пределов в искусстве уничтожения, одумается наконец, — Блок остался вне оптимистического гипноза. В его черновиках мы прочли: «Разве это последняя в мире война?» (3, 598). Он нашел в себе мужество трезвого знания — прямо смотреть в будущее, и его мозга не отравил «грядущих войн ужасный вид».
Сколько было тогда написано книг — и научных, и лженаучных, и совсем не научных — о «духовном кризисе», о «гибели Европы»! Скольким интеллигентам Европы диктовали усталость и отвращение к жизни! Это были те самые люди, о которых Блок сказал:
Категории прошедшего и будущего ясно показывают, о чем идет речь. Речь идет об истории, о живом чувстве непрерывного исторического потока. Это чувство было присуще Блоку в высокой степени.
И если в дни Октябрьской революции Блок с открытым сердцем, один из первых, повернулся к народу, творящему революцию, то в этом нет ничего неожиданного. Это неизбежное продолжение его пути. Когда еще в самые глухие годы реакции, среди общего разброда и шатания умов, он с упорством, которое многим казалось чуть ли не маниакальным, «наивно», как квалифицировали его ученые оппоненты, ставил «роковые» и «проклятые» вопросы о разрыве между интеллигенцией и народом, когда требовал и от себя и от других современников нравственно оправданного и нужного народу искусства, — тогда уже определилась его будущая позиция по отношению к революции:
Это сказано о том же самом, о таком же неизбежном для Блока восприятии действительности. Вожатым его была правда, руководила им совесть.
В письме к В. Розанову в 1909 году, он писал: «…мне неловко говорить и нечего делать со сколько-нибудь важным чиновником или военным, я не пойду к пасхальной заутрене к Исакию, потому что не могу различить, что блестит: солдатская каска или икона, что болтается — жандармская епитрахиль или поповская нагайка. Все это мне по крови отвратительно» (8, 274–275). И в другом письме к тому же Розанову: «Современная русская государственная машина есть, конечно, гнусная, слюнявая, вонючая старость: семидесятилетний сифилитик… Революция русская в ее лучших представителях — юность с нимбом вокруг лица… Если есть чем жить, то только этим. И если где такая Россия «мужает», то, уж конечно, — только в сердце русской революции…» (8,277).
Не надо забывать, что суровая решимость быть на стороне революционного народа далась ему нелегко. Слишком многим — и воспитанием, и дружескими связями, и мировоззрением, и литературной позицией — был он связан с уходящим обществом. Его решение вызвало оголтелую ненависть среди подавляющего большинства недавних единомышленников, среди всей либеральной русской интеллигенции.
События и страсти сорокапятилетней давности стали достоянием истории, но душевный порыв самого Блока не устарел, не ушел в историю. Он поражает и сегодня.
В 1917–1918 годах он незыблемо верит в благородство и величие народа, творящего свою волю в социальной революции. Он восхищен революционным порядком, господствующим в Петрограде с того момента, как исчезла царская полиция, восхищен великодушием питерского пролетариата. Добросовестно и жадно подмечает все новые и новые признаки-приметы полюбившихся ему черт народной жизни, чутко прислушивается к солдатским разговорам в караулах Зимнего дворца, куда он вхож в качестве одного из работников Верховной следственной комиссии. Никакие толки и кривотолки, никакие обывательские сплетни не могут поколебать его веры в правоту народного дела.
Рядом с верой в новые социальные силы — почти безотчетная ненависть, «Злоба, грустная злоба кипит в груди… Черная злоба, святая злоба…» к уходящему миру. По существу, это сказано в «Двенадцати» о самом себе. Он и не пытается дать себе отчет в причинах ненависти. Она настолько сильна, что за ней угадывается весь опыт прожитой жизни, множество разрозненных впечатлений и от царской России, и от западных стран, и от литературной среды где-то рядом, стоившей ему столько крови, и даже от собственной не слишком чтимой родни. Еще так недавно Блок не умел, а то и не хотел назвать враждебный ему мир точно, обозначить его именем. В 1917 году он назвал своего врага без обиняков — это буржуазия, всесветный, а прежде всего петербургский, обыватель и мещанин, одинаковый во всех сословиях, хотя бы и голубой дворянской крови. Здесь Блок поразительно прозорлив и на редкость безжалостен. Какого-нибудь безобидного соседа по дому, бывшего чиновника, он разглядывает с упорной и сосредоточенной ненавистью, он становится чем-то вроде уголовного следователя по отношению к этому случайно подвернувшемуся человеческому жилью. Во всей тогдашней революционной публицистике не много найдется таких обличительно страстных документов, как соответствующие страницы блоковских дневников! Поистине — «такой любви и ненависти люди не выносят, какую я в себе ношу». Это было провозглашено за десять лет до революции и стихийно ворвалось в его жизнь вместе с нею.
Кончая поэму «Двенадцать», обычно очень скромный в самооценках, Блок пометил в своей записной книжке: «Сегодня я — гений». Поэма эта была во многом неожиданной и для самого автора, она явилась результатом, как он выразился, «слепой отдачи стихии». Колеблющийся, зыбкий фон поэмы, ее внутренний, иногда подразумеваемый пейзаж — ветер, вьюга, ночной город и его окраины, занесенные сугробами, — все это вернулось из поэтической юности Блока, из «Снежной маски».
Новым для поэта был народный строй поэмы, ее связь с солдатским фольклором, с частушечными ритмами семнадцатого года, городское просторечье. Темный и смутный рой видений, возникающий в гениальной поэме, — двенадцать красногвардейцев, идущих «державным шагом» сквозь метель петроградских улиц восемнадцатого года, — все это никогда не забудется в нашей поэзии. Двенадцать красногвардейцев остались жить.
Финал «Двенадцати» нуждается в особой пристальности. Я имею в виду загадочное появление Христа в последней из глав. Как известно, сам поэт отказывался внятно объяснить, откуда и почему возникает евангельский образ. Паше литературоведение либо обходило стороной невнятную загадку, либо пыталось — в целях идейной реабилитации автора и самой поэмы — отрицать важное значение этого образа. Мне кажется, в том и другом случае исследователи поступали неправильно. Что же касается Блока, то и его молчание не снимает с нас обязанности понять «Двенадцать» до конца, то есть как целостное и закономерно завершенное явление искусства. Только такого нелицеприятного анализа заслуживает великий поэт. И раскрыть сущность поэмы удастся только в том случае, если раскроется сущность ее последней главы.
С первой же строки она полна нарастающей тревоги. Двенадцать красногвардейцев продолжают свой путь «державным шагом» по ночному Петрограду, по сугробам, наметенным вьюгой. Тревога красногвардейцев звучит в их безответных, брошенных в ночную мглу вопросах:
Приведя эти отрывочные и отрывистые восклицания, мы исчерпали весь движущий механизм главы и приблизились к самому концу поэмы. Ответ на тревогу красногвардейцев ясен и прост: неизвестный, идущий впереди с красным флагом в темноте вьюжной ночи, кажущийся красногвардейцам врагом и злоумышленником, — этот загадочный призрак не кто иной, как Христос.
Таков ответ Блока на тревогу его героев. Христос ведет их по революционно-боевому пути, не видимый ими, невредимый для их свинца, может быть, ими ненавидимый.
Решающее свойство Александра Блока, как духовной и творческой личности, свойство, обозначавшееся в нем с годами все с большей глубиной и резкостью, заключалось в стремлении достигать — в большом и малом одинаково — самой отвесной крутизны: познания, опыта, личного и социально-исторического — крутизны рабочей и творческой. Отсюда непрестанный поиск синтеза культуры, синтеза многозначного и емкого в определениях. Сама культура мыслилась поэту в трех воплощениях, одинаково существенных для него: нравственность, социальная связь между людьми, красота. В «Двенадцати», в последнем по времени произведении Блока, осуществлено стремление связать воедино три начала культуры.
Социальное подсказано самой эпохой: на глазах поэта только что произошел и продолжает развиваться и углубляться величайший в истории социальный переворот. Позиция самого Блока по отношению к историческим событиям обозначена резко и прямо, — здесь ничто не вызывает сомнений и не нуждается в оговорках.
Рядом с социальным — вернее же, внутри социального — возникает красота, ее унижение и попрание. Унижение в сатирических образах уходящего мира мещанства в первой же главе: для Блока это прежде всего мир безобразный. Попрание красоты в еще большем, оно в центре замысла: это убийство. Один из красногвардейцев убивает свою любовницу, питерскую проститутку, — ту самую, что «с юнкерьем гулять ходила — с солдатьем теперь пошла»: эта маленькая венера вне социальной борьбы, выше или ниже — все равно, но юнкера и солдаты одинаково нуждаются в ней. Катька — это не только живьем выхваченный из окружающей действительности образ несчастной, «пропащей» девушки. Убийство Катьки не только рядовой эпизод уголовной хроники. В поэме речь идет о более насущном для поэта Прекрасной Дамы. В лице Катьки убита сама Любовь — заглавная буква для любви обязательна, она достаточно оправдана Блоком, чтобы нуждаться в особом обосновании. Убита Любовь, — значит, убита Красота.
Вот в силу какого сцепления мотивов, их многозначной структуры, в поисках какого синтеза в конце поэмы возникает Христос. Он возникает как нравственная санкция развертывающихся событий, иначе говоря — как требование и обещание: неясное для действующих лиц, невероятное для их смятенного сознания, но призванное им в помощь. С точки зрения Блока они действительно нуждаются в такой помощи — только в ней и нуждаются.
В «Скифах» все нешуточно, все о главном. Уже первая строка убеждает в этом: «Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы». «Тьмы» противопоставлены миллионам. Миллионы поддаются счислению, «тьмы» — нет. В старославянском языке тьма есть нечто не могущее и не должное быть сосчитанным. Так и у Блока: речь идет о целостном существовании человечества вместе с его бесчисленными предками и бесчисленными будущими потомками, — тот самый «род людской», о котором поется в «Интернационале».
О той же емкости напоминает запев второй строфы — «Для вас — века, для нас — единый час»: цикл веков, умещающийся в сознании европейцев, — всего только час мировой истории для человечества, для Индии, для Китая, для Египта, для древних рас Южной Америки.
И этнически («тьма»), и исторически («единый час») Блок раздвигает границы понятия «Скифов» — в беспредельность. Стало быть, и «Россия» в этих ямбах не только географическая родина, тем более не только «Русь моя, жизнь моя» или «О, Русь моя! Жена моя», как это было у Блока недавно, — нет. Россия стала центром притяжения мировых сил, это Россия в Октябре семнадцатого года. Такой она стала в глазах Александра Блока и должна стать, по его представлениям, для современных ему людей Запада.
В самом движении этих мощных ямбов, в их сложном контрапункте заложена диалектика, которая снова и снова раздвигает горизонт исторической картины. Сюда же привлечена неукрощенная стихия — «провал и Лиссабона, и Мессины». Привлечено и вековое томление человеческого духа «пред Сфинксом с древнею загадкой». И снова и снова Блок дает понять нешуточность предстоящего разговора с Западом:
И сейчас же вслед за этим движутся знаменитые, центральные по значению, чаще всего цитируемые строфы «Скифов». Они центральны и для самого Блока, для всего Блока: историзмом своим, ощущением близости западной культуры, вернее же — отдельных западных куль-тур, романской и германской («острый галльский смысл и сумрачный германский гений…»).
Здесь Блок полновластный хозяин, он у себя дома, в своей издавна облюбованной области. Ему и книги в руки!
Соответственно этому крепнет и мужает самый ямб, он становится по-особому содержательным и емким, достигает пушкинской пластической зрелости.
Системе мыслей и чувств в этой части «Скифов» соответствует очень многое в историко-философской публицистике Блока, да и не только в ней, но и в замыслах таких широких его обобщений, как «Роза и Крест», «Шаги командора», «Кармен», все эти знаменательные возвраты к образам европейской поэтической культуры, возврата и к античности — к Катуллу, использованному Блоком так неожиданно и веско в «Катилине»; следует вспомнить о значении, которое получило в творчестве Блока итальянское искусство Возрождения. Эти образы обязательно должны быть сгруппированы рядом с выразительными строфами «Скифов»; они оживают здесь новой жизнью:
За этим стоит весь девятнадцатый век русской культуры — Чаадаев, Герцен, Достоевский и еще множество русских мыслителей, которые буквально выстрадали свои провиденциальные и так далеко идущие, так далеко зовущие обобщения о судьбах мировой культуры. Как и во многих других случаях, Александр Блок связывает русский девятнадцатый век со своим историческим часом, а значит, и со всеми нами.
Вот почему и патетическое заключение «Скифов» с такой силой вторгается в шестидесятые годы века:
Это значит, дата, стоящая под «Скифами», — 30 января 1918 года — должна быть отмечена как дата рождения советской поэзии. Поистине этими стихами более, чем какими бы то ни было другими, может и должна открываться антология нашей поэзии!
Уже сказано о том, каким упорным и всеобщим заговором молчания и клеветы был встречен приход Блока к большевикам со стороны его недавних единомышленников. Ему не подавали руки. Кричали или шептали: «Изменник!» Вот тут-то и возникла очень удобная для этих людей легенда о якобы политической и гражданской безответственности Блока, о его внутренней невменяемости, о так называемом лирическом сумбуре.
Но у суровой правоты Блока, у мужественной его совести нет ничего общего с каким бы то ни было лирическим сумбуром. Понадобилось сочетание мощного поэтического дара и нравственной стойкости, чтобы так прийти к революции, к народу, как это сделал Блок. Но прежде всего надо было так любить родину, как любил он.
И мы снова и снова прислушиваемся к этой суровой правоте:
«Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: все или ничего; ждать нежданного; верить не в «то, чего нет на свете», а в то, что должно быть на свете. Пусть сейчас этого нет и долго не будет. Но жизнь отдаст нам это, ибо она — прекрасна» (6, 14).
«Не стыдно ли издеваться над безграмотностью каких-нибудь объявлений или писем, которые писаны доброй, но неуклюжей рукой?.. Не стыдно ли прекрасное слово «товарищ» произносить в кавычках?» (6,19).
«Мир и братство народов» — вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о чем ревет ее поток. Вот музыка, которую имеющий уши должен слышать» (6, 13).
И наконец:
«Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию» (6, 20).
Блок вырастает как мыслитель особого склада и типа. Вспоминаются знаменитые, по-своему очень скромные, слова Герцена, хотя они и были сказаны совсем по другому поводу в предисловии к пятой части «Былого и дум»: «Отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге».
Блок был именно таким человеком. Именно этим обусловлена блоковская сейсмографическая чуткость к русской и мировой жизни, его особый дар, который может казаться и пророческим, если угодно. На самом же деле дар этот проще и жизненнее. Его образует музыкальный, нервно-восприимчивый слух художника в соприкосновении с совестью. Совесть — вот чем был поистине перегружен Александр Блок до предела! Совесть могла затруднять и отяжелять его решения в отдельном случае, но она безошибочно вела его и руководила каждым его действием в большом плане и каждым поступком в малом. Совесть воспитала в нем гражданское мужество и сознание ответственности перед народом и обществом. Вот чем отличается Блок от подавляющего большинства литераторов той эпохи. Отсюда и возникает взрывная сила перемен, происходивших в нем на протяжении короткой жизни, — из них самая поразительная относится к октябрю 1917 года.
Однажды он сказал: «Культуру надо любить так, чтобы ее гибель не была страшна». Это характерное и важное для Блока признание. Ему было свойственно чувство гибели, неотступно присутствующей где-то рядом, непрестанно напоминающей о себе. Так и выходило для Блока, что поэт — не только глашатай культуры, но и ее бодрствующий, воинственный страж. Он любил воздух своего исторического «неблагополучия», однако его духовная и нравственная позиция оставалась при этом деятельной, бдительной, героической.
Он не дожил своей жизни, не сделал до конца всего, что задумал. Так же как Лермонтов, проживший еще меньше, чем он, Блок в большой мере остался для нас в черновиках, в замыслах, в отрывках, в вариантах. Так же, как Лермонтов, он знал «одной лишь думы власть», знал одну только творческую тревогу и, в силу ее власти над собой, был художником без завершения, без продолжения. Его тревога искала выражения не только в лирике, но и в драматургии, не только в художественном творчестве, но и в философии, и в публицистике. Однако морфология этих разных и противоречивых поисков цельна и едина. Рост ее ствола органичен, как все живое.
Загадку единой творческой тревоги поэта мы разгадываем по мере сил. То же самое будут делать и будущие исследователи. Работы хватит на всех.
П. АНТОКОЛЬСКИЙ
Стихотворения
Книга первая (1898–1904)
Ante Lucem[3] (1898–1900) С.-Петербург — с. Шахматово{2}
«Пусть светит месяц — ночь темна…»
Январь 1898. С.-Петербург
«Ты много жил, я больше пел…»
Н. Гуну{3}
Весна 1898
«Полный месяц встал над лугом…»
21 июля 1898. С. Шахматово
Моей матери («Друг, посмотри, как в равнине небесной…»)
«Она молода и прекрасна была…»
27 июля 1898
«Я стремлюсь к роскошной воле…»
Там один и был цветок,
Ароматный, несравненный
7 августа 1898
«Усталый от дневных блужданий…»
30 октября 1898
«Есть в дикой роще, у оврага…»
3 ноября 1898
«Мне снилась смерть любимого созданья…»
Мне снилось, что ты умерла.
10 ноября 1898
«Луна проснулась. Город шумный…»
14 декабря 1898
«Мне снилась снова ты, в цветах, на шумной сцене…»
23 декабря 1898
«Окрай небес — звезда омега…»
27 января 1899
«Милый друг! Ты юною душою…»
8 февраля 1899
Песня Офелии («Разлучаясь с девой милой…»)
8 февраля 1899
«Когда толпа вокруг кумирам рукоплещет…»
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы.
23 февраля 1899
Гамаюн, птица вещая («На гладях бесконечных вод…»)
(Картина В. Васнецова)
23 февраля 1899
«Я шел к блаженству. Путь блестел…»
18 мая 1899
«Сама судьба мне завещала…»
26 мая 1899
«Дышит утро в окошко твое…»
5 августа 1899
«Помнишь ли город тревожный…»
23 августа 1899
«Город спит, окутан мглою…»
23 августа 1899
«Не легли еще тени вечерние…»
5 октября 1899
Servus-Reginae[5] («Не призывай. И без призыва…»)
14 октября 1899
«Медлительной чредой нисходит день осенний…»
5 января 1900
«Ярким солнцем, синей далью…»
17 февраля 1900
«Лениво и тяжко плывут облака…»
27 февраля 1900
«Шли мы стезею лазурною…»
28 февраля 1900
«Я шел во тьме дождливой ночи…»
15 марта 1900
«Поэт в изгнаньи и в сомненьи…»
31 марта 1900
«Хоть всё по-прежнему певец…»
5 апреля. 1900
«Прошедших дней немеркнущим сияньем…»
28 мая 1900
«Не призывай и не сули…»
1 июня 1900
«В часы вечернего тумана…»
3 июня 1900
«На небе зарево. Глухая ночь мертва…»
10 июня 1900
«То отголосок юных дней…»
29 июля 1900
«Последний пурпур догорал…»
4 августа 1900
«Твой образ чудится невольно…»
22 сентября 1900
«Я знаю, смерть близка. И ты…»
15 октября 1900
«Отрекись от любимых творений…»
1 ноября 1900
«Ищу спасенья…»
О. М. Соловьевой{13}
25 ноября 1900
31 Декабря 1900 года («И ты, мой юный, мой печальный…»)
31 декабря 1900
Стихи о прекрасной даме (1901–1902)
Вступление («Отдых напрасен. Дорога крута…»)
28 декабря 1903
I С.-Петербург. Весна 1901 года
«Я вышел. Медленно сходили…»
25 января 1901. С.-Петербург
«Ветер принес издалёка…»
29 января 1901
«Тихо вечерние тени…»
2 февраля 1901
«Душа молчит. В холодном небе…»
3 февраля 1901
«Ты отходишь в сумрак алый…»
6 марта 1901
Моей матери («Чем больней душе мятежной…»)
8 марта 1901
«Я недаром боялся открыть…»
1 апреля 1901
«Ночью сумрачной и дикой…»
О. М. Соловьевой
23 апреля 1901
«В день холодный, в день осенний…»
27 апреля 1901
Поле за Старой Деревней{14}
«Всё отлетают сны земные…»
Так — разошлись в часы рассвета.
4 мая 1901
«Всё бытие и сущее согласно…»
17 мая 1901
«Кто-то шепчет и смеется…»
20 мая 1901
II С. Шахматово. Лето и осень 1901 года
«Небесное умом не измеримо…»
29 мая 1901. С. Шахматово
«Они звучат, они ликуют…»
30 мая 1901
«Одинокий, к тебе прихожу…»
1 июня 1901. С. Шахматово
«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…»
И тяжкий сон житейского сознанья
Ты отряхнешь, тоскуя и любя.
4 июня 1901. С. Шахматово
«Не сердись и прости. Ты цветешь одиноко…»
…и поздно желать,
Все минуло: и счастье и горе.
10 июня 1901
«Сегодня шла Ты одиноко…»
22 июня 1901
«Она росла за дальними горами…»
С. Соловьеву{17}
26 июня 1901
«Я помню час глухой, бессонной ночи…»
27 июня 1901. С. Боблово{18}
«Внемля зову жизни смутной…»
3 июля 1901
«Прозрачные, неведомые тени…»
3 июля 1901
«Я жду призыва, ищу ответа…»
7 июля 1901
«Не ты ль в моих мечтах, певучая, прошла…»
8 июля 1901
«За городом в полях весною воздух дышит…»
12 июля 1901
«Не жди последнего ответа…»
19 июля 1901
«Не пой ты мне и сладостно, и нежно…»
19 июля 1901
«Не жаль мне дней ни радостных, ни знойных…»
27 июля 1901
«Признак истинного чуда…»
29 июля 1901. Фабрика{19}
«Сумерки, сумерки вешние…»
Дождешься ль вечерней порой
Опять и желанья, и лодки,
Весла, и огня за рекой?
16 августа 1901
«Ты горишь над высокой горою…»
18 августа 1901
«Видно, дни золотые пришли…»
24 августа 1901
«Кругом далекая равнина…»
25 августа 1901. Д. Ивлево{20}
«Я всё гадаю над тобою…»
27 августа 1901
«Нет конца лесным тропинкам…»
2 сентября 1901. Церковный лес{21}
III С.-Петербург. Осень и зима 1901 года
«Смотри — я отступаю в тень…»
20 сентября 1901
«Пройдет зима — увидишь ты…»
21 сентября 1901
«Встану я в утро туманное…»
3 октября 1901
«Снова ближе вечерние тени…»
14 октября 1901
«Скрипнула дверь. Задрожала рука…»
3 ноября 1901
«Зарево белое, желтое, красное…»
6 ноября 1901
«Я ли пишу, или ты из могилы…»
21 ноября 1901
«Жду я холодного дня…»
21 ноября 1901
«Ты страстно ждешь. Тебя зовут…»
22 ноября 1901
«Будет день — и свершится великое…»
23 ноября 1901
«Я долго ждал — ты вышла поздно…»
27 ноября 1901
«Ночью вьюга снежная…»
5 декабря 1901
«Вечереющий сумрак, поверь…»
20 декабря 1901
«Сумрак дня несет печаль…»
24 декабря 1901
Ночь на Новый год
31 декабря 1901
IV С.-Петербург. Зима и весна 1902 года
«Бегут неверные дневные тени…»
С. Соловьеву
4 января 1902
«Высоко с темнотой сливается стена…»
11 января 1902
«Там, в полусумраке собора…»
14 января 1902
«Я укрыт до времени в приделе…»
29 января 1902
«И нам недолго любоваться…»
Январь 1902
«Уходит день. В пыли дорожной…»
1 февраля 1902
«Сны раздумий небывалых…»
3 февраля 1902
«На весенний праздник света…»
3 февраля 1902
«Сны безотчетны, ярки краски…»
Для солнца возврата нет.
12 февраля 1902
«Мы живем в старинной келье…»
18 февраля 1902
«Верю в Солнце Завета…»
И Дух и Невеста говорят: прииди.
22 февраля 1902
«Ты — божий день. Мои мечты…»
21 февраля 1902
«Целый день передо мною…»
Февраль 1902
«Там сумерки невнятно трепетали…»
Февраль 1902
«Жизнь медленная шла, как старая гадалка…»
16 марта 1902
«Мой вечер близок и безволен…»
27 марта 1902
«На темном пороге тайком…»
«Я медленно сходил с ума…»
«Весна в реке ломает льдины…»
«Кто плачет здесь? На мирные ступени…»
«Утомленный, я терял надежды…»
1 апреля 1902
«Странных и новых ищу на страницах…»
4 апреля 1902
«Днем вершу я дела суеты…»
5 апреля 1902
«Люблю высокие соборы…»
8 апреля 1902
«Слышу колокол. В поле весна…»
Апрель 1902
«Там — в улице стоял какой-то дом…»
1 мая 1902
«Мы встречались с тобой на закате…»
13 мая 1902
«Тебя скрывали туманы…»
«Когда святого забвения…»
«Ты не ушла. Но, может быть…»
28 мая 1902
V. С. Шахматово. Лето 1902 года
«Брожу в стенах монастыря…»
11 июня 1902 С. Шахматово
«На ржавых петлях открываю ставни…»
«Пробивалась певучим потоком…»
1 июля 1902
На смерть деда (1 июля 1902 г.)
С. Шахматово
«Я, отрок, зажигаю свечи…»
Имеющий невесту есть жених; а друг
жениха, стоящий и внимающий ему,
радостью радуется, слыша голос жениха.
7 июля 1902
«Говорили короткие речи…»
15 июля 1902
«Сбежал с горы и замер в чаще…»
21 июля 1902
«Я и молод, и свеж, и влюблен…»
31 июля 1902
«Ужасен холод вечеров…»
«За темной далью городской…»
4 августа 1902
«Свет в окошке шатался…»
6 августа 1902
«Пытался сердцем отдохнуть я…»
27 августа 1902
«Золотистою долиной…»
29 августа 1902
«Без Меня б твои сны улетали…»
Август 1902
«Тебя я встречу где-то в мире…»
Август 1902
VI С.-Петербург. Осень — 7 ноября 1902 года
«Я вышел в ночь — узнать, понять…»
6 сентября 1902 С.-Петербург
«Безрадостные всходят семена…»
6 сентября 1902
«В городе колокол бился…»
15 сентября 1902
«Я просыпался и всходил…»
18 сентября 1902
Экклесиаст («Благословляя свет и тень…»)
24 сентября 1902
«Она стройна и высока…»
27 сентября 1902
«Был вечер поздний и багровый…»
19 апреля — 28 сентября 1902
Старик («Под старость лет, забыв святое…»)
А.С.Ф.{29}
29 сентября 1902
«При жолтом свете веселились…»
Сентябрь 1902
«Явился он на стройном бале…»
«Явился он на стройном бале…»
7 октября 1902
«Свобода смотрит в синеву…»
10 октября 1902
«Ушел он, скрылся в ночи»
12 октября 1902
1. «Любил я нежные слова…»
18 октября 1902
2. «Безмолвный призрак в терему…»
18 октября 1902
«Вхожу я в темные храмы…»
25 октября 1902
«Будет день, словно миг веселья…»
31 октября 1902
«Его встречали повсюду…»
Октябрь 1902
«Разгораются тайные знаки…»
Октябрь 1902
«Мне страшно с Тобой встречаться…»
5 ноября 1902
«Дома растут, как желанья…»
5 ноября 1902
Распутья (1902–1904) С.-Петербург — Bad Nauheim — с. Шахматово
«Я их хранил в приделе Иоанна…»
8 ноября 1902
«Стою у власти, душой одинок…»
14 ноября 1902
«Еще бледные зори на небе…»
Несбыточное грезится опять.
17 ноября 1902
«Я надел разноцветные перья…»
21 ноября 1902
Песня Офелии («Он вчера нашептал мне много…»)
23 ноября 1902
«Я, изнуренный и премудрый…»
30 ноября 1902
«Я буду факел мой блюсти…»
4 декабря 1902
«Я смотрел на слепое людское строение…»
Андрею Белому{33}
5 декабря 1902
«Царица смотрела заставки…»
14 декабря 1902
«Все кричали у круглых столов…»
25 декабря 1902
«Покраснели и гаснут ступени…»
25 декабря 1902
«Запевающий сон, зацветающий цвет…»
Сентябрь-декабрь 1902
«Целый год не дрожало окно…»
Андрею Белому
6 января 1903
«Я к людям не выйду навстречу…»
14 января 1903
«Погружался я в море клевера…»
18 февраля 1903
«Зимний ветер играет терновником…»
20 февраля 1903
«Снова иду я над этой пустынной равниной…»
22 февраля 1903
«Всё ли спокойно в народе?…»
3 марта 1903
«Мне снились веселые думы…»
11 марта 1903
«Отворяются двери — там мерцанья…»
17 марта 1903
«Я вырезал посох из дуба…»
25 марта 1903
«У забытых могил пробивалась трава…»
С. Соловьеву
1 апреля 1903
«Я был весь в пестрых лоскутьях…»
Апрель 1903
«По городу бегал черный человек…»
Апрель 1903
«Просыпаюсь я — и в поле туманно…»
2 мая 1903
«Когда я стал дряхлеть и стынуть…»
4 июня 1903. Bad Nauheim
«Скрипка стонет под горой…»
Июнь 1903. Bad Nauheim
«Ей было пятнадцать лет. Но по стуку…»
16 июня 1903. Bad Nauheim
Двойник («Вот моя песня — тебе, Коломбина…»)
30 июля 1903. С. Шахматово
Вербная суббота
1 сентября 1903. С.-Петербург
«Мой месяц в царственном зените…»
1 октября 1903
«Сижу за ширмой. У меня…»
Иммануил Кант
18 октября 1903
«Когда я уйду на покой от времен…»
1 ноября 1903
«Так. Я знал. И ты задул…»
Андрею Белому
1 ноября 1903
«Ты у камина, склонив седины…»
1 ноября 1903
«Крыльцо Ее словно паперть…»
7 ноября 1903
«Темная, бледно-зеленая…»
М. А. Олениной д'Альгейм{39}
23 ноября 1903
24 ноябре 1903
«Мы шли на Лидо в час рассвета…»
11 декабря 1903. С.-Петербург
«Мне гадалка с морщинистым ликом…»
11 декабря 1903
«Плачет ребенок. Под лунным серпом…»
Е. П. Иванову{41}
14 декабря 1903
«Среди гостей ходил я в черном фраке…»
18 декабря 1903
27 декабря 1903
28 декабря 1903
«По берегу плелся больной человек…»
28 декабря 1903
«Ветер хрипит на мосту меж столбами…»
28 декабря 1903
«Светлый сон, ты не обманешь…»
25 февраля 1904
«Мой любимый, мой князь, мой жених…»
26 марта 1904
1. «Сторожим у входа в терем…»
2. Утренняя
3. Вечерняя
Они Ее видят!
Март-апрель 1904
«Дали слепы, дни безгневны…»
22 Апреля — 20 мая 1904. С. Шахматово
«В час, когда пьянеют нарциссы…»
26 мая 1904. С. Шахматова
«Вот он — ряд гробовых ступеней…»
18 июня 1904. С. Шахматово
Книга вторая (1904–1908)
Вступление («Ты в поля отошла без возврата…»)
16 апреля 1905
Пузыри Земли (1904–1905)
Земля, как и вода, содержит газы,
И это были пузыри земли.
«На перекрестке…»
5 мая 1904
Болотные чертенятки
А. М. Ремизову{48}
Январь 1905
«Я живу в отдаленном скиту…»
Январь 1905
Твари весенние
(Из альбома «Kindisch»[7] Т.Н. Гиппиус{49})
19 февраля 1905
Болотный попик
17 апреля 1905
«На весеннем пути в теремок…»
24 апреля 1905
«Полюби эту вечность болот…»
3 июня 1905
«Белый конь чуть ступает усталой ногой…»
3 июня 1905. Новоселки{53}
«Болото — глубокая впадина…»
3 июня 1905
Старушка и чертенята
Григорию Е.{54}
«Осень поздняя. Небо открытое…»
Август 1905
4 октября 1905
Пляски осенние
1 октября 1905
Ночная фиалка Сон (1906)
18 ноября 1905 — 6 мая 1906
Разные стихотворения (1904–1908)
«Жду я смерти близ денницы…»
Л. Семенову{59}
Январь 1904
«Я восходил на все вершины…»
15 марта 1904
«Ты оденешь меня в серебро…»
14 мая 1904
«Фиолетовый запад гнетет…»
14 мая 1904
Взморье («Сонный вздох онемелой волны…»)
26 мая 1904
«Я живу в глубоком покое…»
15 июня 1904
«Поет, краснея, медь. Над горном…»
4 июля 1904
«Зажигались окна узких комнат…»
Осень 1904
«Всё бежит, мы пребываем…»
Сентябрь 1904
«Нежный! У ласковой речки…»
Федору Смородскому{60}
18 октября 1904
«Гроб невесты легкой тканью…»
5 ноября 1904
«Тяжко нам было под вьюгами…»
5 ноября 1904
Ночь («Маг, простерт над миром брении…»)
19 ноября 1904
«Вот — в изнурительной работе…»
Ноябрь 1904
Её прибытие
1. Рабочие на рейде («Окаймлен летучей пеной…»)
2. Так было («Жизнь была стремленьем…»)
3. Песня матросов («Подарило нам море…»)
4. Голос в тучах («Нас море примчало к земле одича- лой…»)
5. Корабли идут («О, светоносные стебли морей, мая- ки!..»)
6. Корабли пришли («Океан дремал зеркальный…»)
7. Рассвет («Тихо рассыпалась в небе ракета…»)
Моей матери («Помнишь думы? Они улетели…»)
4 декабря 1904
«Все отошли. Шумите, сосны…»
14 декабря 1904
У полотна Финл. ж. д.
«Шли на приступ. Прямо в грудь…»
Январь 1905
«Вот на тучах пожелтелых…»
28 мая 1905
Влюбленность («Королевна жила на высокой горе…»)
3 июня 1905
«Она веселой невестой была…»
3 июня 1905
«Не строй жилищ у речных излучин…»
Г. Чулкову{64}
«Потеха! Рокочет труба…»
Балаганчик («Вот открыт балаганчик…»)
Поэт («Сидят у окошка с папой…»)
У моря («Стоит полукруг зари…»)
Моей матери («Тихо. И будет всё тише…»)
«Старость мертвая бродит вокруг…»
«В туманах, над сверканьем рос…»
Осенняя воля («Выхожу я в путь, открытый взорам…»)
Июль 1905. Рогачевское шоссе{67}
«Не мани меня ты, воля…»
«Оставь меня в моей дали…»
Август 1905
«Девушка пела в церковном хоре…»
Август 1905
«В лапах косматых и страшных…»
Август 1905
«Там, в ночной завывающей стуже…»
Август 1905
«Утихает светлый ветер…»
21 августа 1905
«В голубой далекой спаленке…»
4 октября 1905
«Вот он — Христос — в цепях и розах…»
Евгению Иванову
10 октября 1905
«Так. Неизменно всё, как было…»
10 октября 1905
«Прискакала дикой степью…»
31 октября 1905
4 ноября 1905
Сказка о петухе и старушке («Петуха упустила старушка…»)
11 января 1906
«Милый брат! Завечерело…»
13 января 1906
«Ты придешь и обнимешь…»
24 января 1906
«Мы подошли — и воды синие…»
25 января 1906
1-10 февраля 1906
Иванова ночь («Мы выйдем в сад с тобою, скромной…»)
12 февраля 1906
Сольвейг («Сольвейг! Ты прибежала на лыжах ко мне…»)
Сергею Городецкому{73}
Сольвейг прибегает на лыжах.
20 февраля 1906
«Ты был осыпан звездным цветом…»
Г. Гюнтеру{74}
19 марта 1906
«Прошли года, но ты — всё та же…»
Я знал ее еще тогда,
В те баснословные года.
30 мая 1906
Ангел-хранитель («Люблю Тебя, Ангел-Хранитель во мгле…»)
17 августа 1906
«Есть лучше и хуже меня…»
Сентябрь 1906
«Шлейф, забрызганный звездами…»
Сентябрь 1906
Русь («Ты и во сне необычайна…»)
24 сентября 1906
Сын и мать («Сын осеняется крестом…»)
Моей матери
4 октября 1906
«Нет имени тебе, мой дальний…»
Октябрь 1906
Октябрь 1906
Тишина цветет («Здесь тишина цветет и движет…»)
Октябрь 1906
«Так окрыленно, так напевно…»
Октябрь 1906
«Ты можешь по траве зеленой…»
Октябрь 1906
«Ищу огней — огней попутных…»
Октябрь 1906
Проклятый колокол («Вёсны и зимы меняли убранство…»)
7 ноября 1906
«О жизни, догоревшей в хоре…»
Ноябрь 1906
«В синем небе, в темной глуби…»
Ноябрь 1906
Балаган («Над черной слякотью дороги…»)
Ну, старая кляча, пойдем
ломать своего Шекспира!
Ноябрь 1906
«Твоя гроза меня умчала…»
Ноябрь 1906
«В час глухой разлуки с морем…»
Ноябрь 1906
«Сольвейг! О, Сольвейг! О, Солнечный Путь!..»
Декабрь 1906
«В серебре росы трава…»
Декабрь 1906
Усталость («Кому назначен темный жребий…»)
14 февраля 1907
«Придут незаметные белые ночи…»
18 марта 1907
«Зачатый в ночь, я в ночь рожден…»
12 апреля 1907
«С каждой весною пути мои круче…»
7 мая 1907
Девушке («Ты перед ним — что стебель гибкий…»)
6 июня 1907
«Когда я создавал героя…»
3 октября 1907
«Всюду ясность божия…»
3 октября 1907
«Она пришла с заката…»
8 ноября 1907
«Я миновал закат багряный…»
Февраль 1908
«Твое лицо мне так знакомо…»
1 августа 1908
Город (1904–1908)
Последний день («Ранним утром, когда люди ленились шевелиться…»)
3 февраля 1904
Петр («Он спит, пока закат румян…»)
Евг. Иванову
22 февраля 1904
Поединок («Дни и ночи я безволен…»)
22 февраля 1904
Обман («В пустом переулке весенние воды…»)
5 марта 1904
«Вечность бросила в город…»
26 июня 1904
«Город в красные пределы…»
28 июня 1904
«Я жалобной рукой сжимаю свой костыль…»
3 июля 1904
Гимн («В пыльный город небесный кузнец прикатил…»)
27 августа 1904
«Поднимались из тьмы погребов…»
10 сентября 1904
«В высь изверженные дымы…»
25 сентября 1904
«Блеснуло в глазах. Метнулось в мечте…»
Сентябрь 1904
«День поблек, изящный и невинный…»
24 декабря 1904
«В кабаках, в переулках, в извивах…»
Декабрь 1904
«Барка жизни встала…»
Декабрь 1904
«Улица, улица……»
Январь 1905
Повесть («В окнах, занавешенных сетью мокрой пыли…»)
Г. Чулкову
Январь 1905
«Иду — и всё мимолетно…»
9 марта 1905
Песенка («Она поет в печной трубе…»)
9 апреля 1905
Легенда («Господь, ты слышишь? Господь, простишь ли?..»)
15 апреля 1905
«Я вам поведал неземное…»
16 апреля 1905
Невидимка («Веселье в ночном кабаке…»)
16 апреля 1905
Митинг («Он говорил умно и резко…»)
10 октября 1905
«Вися над городом всемирным…»
18 октября 1905
«Еще прекрасно серое небо…»
18 октября 1905
«Ты проходишь без улыбки…»
29 октября 1905
Перстень-страданье («Шел я по улице, горем убитый…»)
30 октября 1905
Сытые («Они давно меня томили…»)
10 ноября 1905
«Лазурью бледной месяц плыл…»
Январь 1906
«Твое лицо бледней, чем было…»
Незнакомка («По вечерам над ресторанами…»)
24 апреля 1906. Озерки{91}
«Там дамы щеголяют модами…»
Апрель 1906 — 28 апреля 1911
«Передвечернею порою…»
Сентябрь 1906
Холодный день
Холодный день («Мы встретились с тобою в храме…»)
Сентябрь 1906
В октябре («Открыл окно. Какая хмурая…»)
Октябрь 1906
«К вечеру вышло тихое солнце…»
Октябрь 1906
«Ночь. Город угомонился…»
Октябрь 1906
«Я в четырех стенах — убитый…»
Октябрь 1906
Окна во двор («Одна мне осталась надежда…»)
Октябрь 1906
«Хожу, брожу понурый…»
7 декабря 1906
Пожар («Понеслись, блеснули в очи…»)
Декабрь 1906
«На серые камни ложилась дремота…»
Декабрь 1906
«Ты смотришь в очи ясным зорям…»
Декабрь 1906
На чердаке («Что на свете выше…»)
Декабрь 1906
Клеопатра («Открыт паноптикум печальный…»)
16 декабря 1907
Не пришел на свиданье («Поздним вечером ждала…»)
Февраль 1908. Ревель
Снежная маска
Снежная маска (1907)
col1_0{96}
Снежное вино («И вновь, сверкнув из чаши винной…»)
29 декабря 1906
Снежная вязь («Снежная мгла взвилась…»)
3 января 1907
Последний путь («В снежной пене — предзакатная…»)
3 января 1907
На страже («Я — непокорный и свободный…»)
3 января 1907
Второе крещенье («Открыли дверь мою метели…»)
3 января 1907
Настигнутый метелью («Вьюга пела…»)
3 января 1907
На зов метелей («Белоснежней не было зим…»)
3 января 1907
Ее песни («Не в земной темнице душной…»)
4 января 1907
Крылья («Крылья легкие раскину…»)
4 января 1907
Влюбленность («И опять твой сладкий сумрак, влюбленность…»)
4 января 1907
Не надо («Не надо кораблей из дали…»)
4 января 1907
Тревога («Сердце, слышишь…»)
4 января 1907
Прочь! («И опять открыли солнца…»)
8 января 1907
И опять снега («И опять, опять снега…»)
8 января 1907
Голоса («Нет исхода вьюгам певучим!..»)
(Двое проносятся в сфере метелей)
(Вьюга вздымает белый крест)
8 января 1907
В снегах («И я затянут…»)
9 января 1907
Под масками («А под маской было звездно…»)
9 января 1907
Бледные сказанья («— Посмотри, подруга, эльф твой…»)
9 января 1907
Сквозь винный хрусталь («В длинной сказке…»)
9 января 1907
В углу дивана («Но в камине дозвенели…»)
9 января 1907
Тени на стене («Вот прошел король с зубчатым…»)
9 января 1907
Насмешница («Подвела мне брови красным…»)
10 января 1907
Они читают стихи («Смотри, я спутал все страницы…»)
10 января 1907
Неизбежное («Тихо вывела из комнат…»)
13 января 1907
Здесь и там («Ветер звал и гнал погоню…»)
13 января 1907
Смятение («Мы ли — пляшущие тени?..»)
13 января 1907
Обреченный («Тайно сердце просит гибели…»)
12 января 1907
Нет исхода («Нет исхода из вьюг…»)
13 января 1907
Сердце предано метели («Сверкни, последняя игла…»)
13 января 1907
На снежном костре («И взвился костер высокий…»)
13 января 1907
Фаина (1906–1908)
«Вот явилась. Заслонила…»
Декабрь 1906
«Я был смущенный и веселый…»
Декабрь 1906
«Я в дольний мир вошла, как в ложу…»
Н.Н.В.{99}
1 января 1907
«Ушла. Но гиацинты ждали…»
31 марта 1907
«За холмом отзвенели упругие латы…»
2 апреля 1907
«Я насадил мой светлый рай…»
Моей матери
Апрель 1907
«В этот серый летний вечер…»
25 июня 1907
Осенняя любовь
3 октября 1907
«В те ночи светлые, пустые…»
10 октября 1907
Снежная Дева («Она пришла из дикой дали…»)
17 октября 1907
«И я провел безумный год…»
21 октября 1907
Заклятие огнем и мраком
За всё, за всё тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растраченный в пустыне.
24 октября 1907
26 октября 1907
23 октября 1907
Октябрь 1907
21 октября 1907
23 октября 1907
26 октября 1907
1 ноября 1907
9 ноября 1907
26 октября 1907
8 ноября 1907
Инок («Никто не скажет: я безумен…»)
6 ноября 1907
Песня Фаины
Песня Фаины («Когда гляжу в глаза твои…»)
Декабрь 1907
«Всю жизнь ждала. Устала ждать…»
13 января 1908
«Когда вы стоите на моем пути…»
6 февраля 1908
«Она пришла с мороза…»
6 февраля 1908
«Я помню длительные муки…»
4 марта 1908
«Своими горькими слезами…»
20 ноября 1908
Вольные мысли (1907)
(Посв. Г. Чулкову)
О смерти («Всё чаще я по городу брожу…»)
Над озером («С вечерним озером я разговор веду…»)
Шувалово{107}
В северном море («Что сделали из берега морского…»)
Сестрорецкий курорт{111}
В дюнах («Я не люблю пустого словаря…»)
Июнь-июль 1907
Книга третья (1907–1916)
Страшный мир (1909–1916)
К музе («Есть в напевах твоих сокровенных…»)
29 декабря 1912
«Под шум и звон однообразный…»
2 февраля 1909
«В эти желтые дни меж домами…»
6 октября 1909
«Из хрустального тумана…»
6 октября 1909
Двойник («Однажды в октябрьском тумане…»)
Октябрь 1909
Песнь Ада («День догорел на сфере той земли…»)
31 октября 1909
«Поздней осенью из гавани…»
14 ноября 1909
На островах («Вновь оснежённые колонны…»)
22 ноября 1909
«С мирным счастьем покончены счеты…»
11 февраля 1910
«Седые сумерки легли…»
11 февраля 1910
«Дух пряный марта был в лунном круге…»
6 марта 1910.
Часовня на Крестовском острове{115}
В ресторане («Никогда не забуду (он был, или не был…»)
19 апреля 1910
Демон («Прижмись ко мне крепче и ближе…»)
19 апреля 1910
«Как тяжело ходить среди людей…»
Там человек сгорел.
10 мая 1910
«Я коротаю жизнь мою…»
17 сентября 1910
«Идут часы, и дни, и годы…»
4 октября 1910
Унижение («В черных сучьях дерев обнаженных…»)
6 декабря 1911
Авиатор («Летун отпущен на свободу…»)
1910 — январь 1912
«Повеселясь на буйном пире…»
Моей матери
6 января 1912
Пляски смерти
1. «Как тяжко мертвецу среди людей…»
19 февраля 1912
2. «Ночь, улица, фонарь, аптека…»
10 октября 1912
3. «Пустая улица. Один огонь в окне…»
Октябрь 1912
4. «Старый, старый сон. Из мрака…»
7 февраля 1914
5. «Вновь богатый зол и рад…»
7 февраля 1914
«Миры летят. Года летят. Пустая…»
2 июля 1912
«Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный…»
Ночь без той, зовут кого
Светлым именем: Ленора.
2 ноября 1912
«Есть игра: осторожно войти…»
18 декабря 1913
«Как растет тревога к ночи!..»
30 декабря 1913
«Ну, что же? Устало заломлены слабые руки…»
21 февраля 1914
Жизнь моего приятеля
1. «Весь день — как день: трудов исполнен малых…»
11 февраля 1914
2. «Поглядите, вот бессильный…»
30 декабря 1913
3. «Всё свершилось по писаньям…»
30 декабря 1913
4. «Когда невзначай в воскресенье…»
30 декабря 1913
5. «Пристал ко мне нищий дурак…»
30 декабря 1913
6. «День проходил, как всегда…»
24 мая 1914
7. «Греши, пока тебя волнуют…»
Говорят черти:
10 декабря 1915
8. «Когда осилила тревога…»
Говорит смерть:
10 декабря 1915
Черная кровь
1. «В пол-оборота ты встала ко мне…»
2 января 1914
2. «Я гляжу на тебя. Каждый демон во мне…»
22 марта 1914
3. «Даже имя твое мне презренно…»
30 января 1914
4. «О, нет! Я не хочу, чтоб пали мы с тобой…»
Февраль 1912
5. «Вновь у себя… Унижен, зол и рад…»
29 января 1914
6. «Испугом схвачена, влекома…»
2 января 1914
7. «Ночь — как века, и томный трепет…»
27 декабря 1913
8. «Я ее победил, наконец!..»
Октябрь 1909
9. «Над лучшим созданием божьим…»
13 марта 1910
Демон («Иди, иди за мной — покорной…»)
9 июня 1910
Голос из хора («Как часто плачем — вы и я…»)
6 июня 1910 — 27 февраля 1914
Возмездие (1908–1913)
«О доблестях, о подвигах, о славе…»
30 декабря 1908
Забывшие тебя
1 августа 1908
«Она, как прежде, захотела…»
30 июля 1908
«Ночь — как ночь, и улица пустынна…»
4 ноября 1908
«Я сегодня не помню, что было вчера…»
3 февраля 1909
На смерть младенца
Февраль 1909
«Когда я прозревал впервые…»
«Дохнула жизнь в лицо могилой…»
«Когда, вступая в мир огромный…»
Евг. Иванову
«Весенний день прошел без дела…»
«Какая дивная картина…»
«Ты в комнате один сидишь…»
«Кольцо существованья тесно…»
«Чем больше хочешь отдохнуть…»
27 августа 1909
Шаги командора
В. А. Зоргенфрею{124}
Сентябрь 1910 — 16 февраля 1912
«Мой бедный, мой далекий друг!..»
29 декабря 1912
«Как свершилось, как случилось?…»
19 декабря 1913
Ямбы (1907–1914)
Fecit indignacio versum.
Посвящается памяти моей покойной сестры
Ангелины Александровны Блок{127}
«О, я хочу безумно жить…»
5 февраля 1914
«Я ухо приложил к земле…»
3 июня 1907
«Тропами тайными, ночными…»
3 июня 1907
«В голодной и больной неволе…»
15 февраля 1909
«Не спят, не помнят, не торгуют…»
30 марта 1909
«О, как смеялись вы над нами…»
Январь 1911
«Я — Гамлет. Холодеет кровь…»
6 февраля 1914
«Так. Буря этих лет прошла…»
14 февраля 1909
«Да. Так велит мне вдохновенье…»
Сентябрь 1911
«Когда мы встретились с тобой…»
1910 — 6 февраля 1914
«Земное сердце стынет вновь…»
1911 — 6 февраля 1814
«В огне и холоде тревог…»
1910 — 6 февраля 1914
Итальянские стихи (1909)
Sic finit occulte sic multos decipit aetas
Sic venit ad finem quidquid in orbe manet
Heu heu praeteritum non est revocabile tempus
Heu propius tacito mors venit ipsa pede.[13]
Равенна («Всё, что минутно, всё, что бренно…»)
Май-июнь 1909
«Почиет в мире Теодорих…»
Девушка из Spoleto («Строен твой стан, как церковные свечи…»)
3 июня 1909
9 мая 1909
Евг. Иванову
Август 1909
26 августа 1909
Перуджия («День полувеселый, полустрадный…»)
Май-июнь 1909
17 мая 1909
Август 1909
«Вот девушка, едва развившись…»
15 мая 1909
Settignano
Madonna Da Settignano («Встретив на горном тебя перевале…»)
3 июня 1909
Фьезоле («Стучит топор, и с кампанил…»)
Сиена («В лоне площади пологой…»)
7 июня 1909
Сиенский собор («Когда страшишься смерти скорой…»)
«Искусство — ноша на плечах…»
«Глаза, опущенные скромно…»
12 июня 1909
Благовещение
Благовещение («С детских лет — видения и грезы…»)
Май-июнь 1909
Perudgia — Spoleto
Успение («Ее спеленутое тело…»)
4 июня 1909
Эпитафия Фра Филиппо Липпи («Здесь я покоюсь, Филипп, живописец навеки бессмертный…»)
17 марта 1914
CONDITUS HIC EGO SUM PICTURE FAMA PHILIPPUS
NULLI IGNOTA МЕЕ GRATIA MIRA MANUS
ARTIFICIS POTUI DIG1TIS ANIMARE COLORES
SPERATAQUE ANIMOS FALLERE VOCE DIU
IPSA MEIS STUPUIT NATURA EXPRESSA FIGURIS
MEQUE SUIS FASSA EST ARTIBUS ESSE PAREM
MARMOREO TUMULO MEDICES LAURENTIUS HIC ME
COND1DIT ANTE HUMILI PULVERE TECTUS ERAM
Разные стихотворения (1908–1916)
За гробом («Божья матерь Утоли мои печали…»)
6 июля 1908
Друзьям («Друг другу мы тайно враждебны…»)
Молчите, проклятые струны!
24 июля 1908
Поэты («За городом вырос пустынный квартал…»)
24 июля 1908
«Когда замрут отчаянье и злоба…»
1 августа 1908
«Ты так светла, как снег невинный…»
8 ноября 1908
«Всё это было, было, было…»
Август 1909
Сусальный ангел («На разукрашенную елку…»)
25 ноября 1909
Сон («Я видел сон: мы в древнем склепе…»)
Моей матери
20 июня 1910
Комета («Ты нам грозишь последним часом…»)
Сентябрь 1910
«Ты помнишь? В нашей бухте сонной…»
1911 — 6 февраля 1914
Aber'Wrach, Finistère
«Благословляю всё, что было…»
15 января 1912
Юрию Верховскому («Дождь мелкий, разговор неспешный…»)
(При получении «Идиллий и элегий»{178})
Сентябрь 1910
Валерию Брюсову («И вновь, и вновь твой дух таинственный…»)
(При получении «Зеркала теней»)
20 марта 1912
Владимиру Бестужеву («Да, знаю я: пронзили ночь отвека…»)
23 марта 1912
Вячеславу Иванову («Был скрипок вой в разгаре бала…»)
18 апреля 1912
Анне Ахматовой («„Красота страшна" — Вам скажут…»)
16 декабря 1913
«И вновь — порывы юных лет…»
19 июня 1912
Художник («В жаркое лето и в зиму метельную…»)
12 декабря 1913
«О, нет! не расколдуешь сердца ты…»
15 декабря 1913
Женщина («Да, я изведала все муки…»)
Памяти Августа Стриндберга{187}
Август 1914
Перед судом
Перед судом («Что же ты потупилась в смущеньи?..»)
11 октября 1915
Антверпен («Пусть это время далеко…»)
5 октября 1914
«Похоронят, зароют глубоко…»
18 октября 1915
«На улице — дождик и слякоть…»
10 декабря 1915
«Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух…»
9 июня 1916
Арфы и скрипки (1908–1916)
«Свирель запела на мосту…»
22 мая 1908
«Душа! Когда устанешь верить?…»
26 марта 1908
«И я любил. И я изведал…»
30 марта 1908
«Май жестокий с белыми ночами!..»
Вл. Пясту{194}
28 мая 1908
Три послания
{195} В.
28 мая 1908
Февраль 1910
18 ноября 1910
Встречной («Я только рыцарь и поэт…»)
2 июня 1908
17 июля 1908
«Усните блаженно, заморские гости, усните…»
30 июля 1908
«Я пригвожден к трактирной стойке…»
«Я пригвожден к трактирной стойке…»
26 октября 1908
«Не затем величал я себя паладином…»
30 декабря 1908
«Часовая стрелка близится к полночи…»
4 ноября 1908
«Старинные розы…»
4 ноября 1908
«Уже над морем вечереет…»
24 ноября 1908
«Всё б тебе желать веселья…»
7 декабря 1908
«Я не звал тебя — сама ты…»
7 декабря 1908
«Грустя и плача и смеясь…»
8 декабря 1908
«Опустись, занавеска линялая…»
30 декабря 1908
«Мой милый, будь смелым…»
1 января 1909
«Не венчал мою голову траурный лавр…»
19 января 1909
«Покойник спать ложится…»
3 февраля 1909
«Уж вечер светлой полосою…»
1 марта 1909
«Здесь в сумерки в конце зимы…»
27 марта 1909
Через двенадцать лет
К.М.С.{197}
Bad Nauheim
23 марта 1910
Елагин остров{200}
23 марта 1910
Утро в Москве («Упоительно встать в ранний час…»)
«Как прощались, страстно клялись…»
5 сентября 1909
«Всё на земле умрет — и мать, и младость…»
7 сентября 1909
На смерть Коммиссаржевской («Пришла порою полуночной…»)
Февраль 1910
Голоса скрипок («Из длинных трав встает луна…»)
Евг. Иванову
Февраль 1910
На Пасхе («В сапогах бутылками…»)
18 апреля 1910 — май 1914
«Когда-то гордый и надменный…»
11 июля 1910
«Где отдается в длинных залах…»
19 июля 1910
«Сегодня ты на тройке звонкой…»
6 августа 1910
«В неуверенном, зыбком полете…»
Ноябрь 1910
«Без слова мысль, волненье без названья…»
Декабрь 1911
«Ветр налетит, завоет снег…»
6 января 1912
«Шар раскаленный, золотой…»
Борису Садовскому{204}
6 января 1912
«Сквозь серый дым от краю и до краю…»
30 апреля 1912
«Есть минуты, когда не тревожит…»
«Болотистым пустынным лугом…»
Октябрь 1912
Испанке («Не лукавь же, себе признаваясь…»)
Октябрь 1912
«В небе — день, всех ночей суеверней…»
Октябрь 1912
«В сыром ночном тумане…»
Декабрь 1912
Седое утро («Утреет. С богом! По домам!..»)
Утро туманное, утро седое…
29 ноября 1913
«Есть времена, есть дни, когда…»
22 ноября 1913
«Я вижу блеск, забытый мной…»
12 декабря 1913
«Ты говоришь, что я дремлю…»
12 декабря 1913
«Ваш взгляд — его мне подстеречь…»
12 декабря 1913
«Натянулись гитарные струны…»
19 декабря 1913
«Ты — буйный зов рогов призывных…»
Декабрь 1913
«Как день, светла, но непонятна…»
20 февраля 1914
«Петербургские сумерки снежные…»
15 марта 1914
«Смычок запел. И облак душный…»
14 мая 1914
«Ты жил один! Друзей ты не искал…»
26 августа 1914
«Превратила всё в шутку сначала…»
29 февраля 1916
«Та жизнь прошла…»
31 августа 1914
«Была ты всех ярче, верней и прелестней…»
31 августа 1914
«Разлетясь по всему небосклону…»
31 августа 1914
«Он занесен — сей жезл железный…»
3 декабря 1914
«Пусть я и жил, не любя…»
8 октября 1915
«Протекли за годами года…»
30 сентября 1915
«За горами, за лесами…»
30 сентября 1915
Кармен (1914)
Л.А.Д.
«Как океан меняет цвет…»
4 марта 1914
«На небе — празелень, и месяца осколок…»
24 марта 1914
«Есть демон утра. Дымно-светел он…»
24 марта 1914
«Бушует снежная весна…»
18 марта 1914
«Среди поклонников Кармен…»
26 марта 1914
«Сердитый взор бесцветных глаз…»
25 марта 1914
«Вербы — это весенняя таль…»
30 марта 1914
«Ты — как отзвук забытого гимна…»
28 марта 1914
«О да, любовь вольна, как птица…»
28 марта 1914
«Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь…»
31 марта 1914
Соловьиный сад («Я ломаю слоистые скалы…»)
6 января 1914 — 14 октября 1915
Родина (1907–1916)
«Ты отошла, и я в пустыне…»
30 мая 1907
«В густой траве пропадешь с головой…»
12 июля 1907
«Задебренные лесом кручи…»
Октябрь 1907 — 29 августа 1914
На поле Куликовом
7 июня 1908
8 июня 1908
14 июня 1908
31 июля 1908
И мглою бед неотразимых
Грядущий день заволокло.
23 декабря 1908
Россия («Опять, как в годы золотые…»)
18 октября 1908
«Вот он — ветер…»
4 ноября 1908
Осенний день («Идем по жнивью, не спеша…»)
1 января 1909
«Дым от костра струею сизой…»
Не уходи. Побудь со мною,{214}
Я так давно тебя люблю.
Август 1909
«Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?…»
28 февраля 1910
На железной дороге («Под насыпью, во рву некошенном…»)
Марии Павловне Ивановой{216}
14 июня 1910
Посещение («То не ели, не тонкие ели…»)
Второй голос
Сентябрь 1910
С. Шахматово
«Там неба осветленный край…»
Сентябрь 1910
«Приближается звук. И, покорна щемящему звуку…»
2 мая 1912
Сны («И пора уснуть, да жалко…»)
Октябрь 1912
Новая Америка («Праздник радостный, праздник вслпкпп…»)
12 декабря 1913
«Ветер стих, и слава заревая…»
Моей матери
Август 1914
Последнее напутствие («Боль проходит понемногу…»)
14 мая 1914
«Грешить бесстыдно, непробудно…»
26 августа 1914
«Петроградское небо мутилось дождем…»
1 сентября 1914
«Я не предал белое знамя…»
3 декабря 1914
«Рожденные в года глухие…»
З. Н. Гиппиус{224}
8 сентября 1914
«Дикий ветер…»
22 марта 1916
Коршун («Чертя за кругом плавный круг…»)
22 марта 1916
О чем поет ветер (1913)
«Мы забыты, одни на земле…»
19 октября 1913
«Поет, поет…»
19 октября 1913
«Милый друг, и в этом тихом доме…»
Октябрь 1913
«Из ничего — фонтаном синим…»
Октябрь 1913
«Вспомнил я старую сказку…»
Октябрь 1913
«Было то в темных Карпатах…»
Октябрь 1913
Из стихотворений, не вошедших в основное собрание (1898–1921)
«Муза в уборе весны постучалась к поэту…»
Май 1898 (Апрель 1918)
«Пусть рассвет глядит нам в очи…»
«Я ношусь во мраке, в ледяной пустыне…»
Июль 1898. Трубицыно{228} (Май 1918)
«Я шел во тьме к заботам и веселью…»
Тоску и грусть, страданья, самый ад,
Всё в красоту она преобразила.
2 августа 1898
«Ты, может быть, не хочешь угадать…»
21 сентября 1898
«Как мучительно думать о счастьи былом…»
23 сентября 1898. Петербург
«В ночи, когда уснет тревога…»
Сентябрь (?) 1898 (2 июня 1919)
«Жизнь — как море она — всегда исполнена бури…»
30 октября 1898 (Май 1918)
«Офелия в цветах, в уборе…»
30 ноября 1898 (24 декабря 1914)
«В болезни сердца мыслю о Тебе…»
11 декабря 1898
Летний вечер
Летний вечер («Последние лучи заката…»)
13 декабря 1898 (Июль 1916)
На вечере в честь Л. Толстого («В толпе, родной по вдохновенью…»)
20 декабря 1898
«О, не просите скорбных песен!..»
Одиночество («Река несла по ветру льдины…»)
25 января 1899 (24 мая 1918)
«Ночной туман застал меня в дороге…»
10 февраля 1899
«Мы были вместе, помню я…»
9 марта 1899 (Апрель 1918)
После дождя («Сирени бледные дождем к земле прибиты…»)
1 июня 1899
«Когда я был ребенком, — лес ночной…»
18 июня 1899
Перед грозой («Закат горел в последний раз…»)
31 июля 1899 (8 октября 1919)
«О, как безумно за окном…»
Вы, бедные, нагие несчастливцы.{233}
24 августа 1899
Песня за стеной («О, наконец! Былой тревоге…»)
9 ноября 1899
«За краткий сон, что нынче снится…»
25 декабря 1899 (18 января 1919)
«Как сон молитвенно-бесстрастный…»
25 декабря 1899
«Как мимолетна тень осенних ранних дней…»
5 января 1900
«Я умирал. Ты расцветала…»
27 января 1900
«В те дни, когда душа трепещет…»
7 февраля 1900 (21 мая 1918)
«Ночь теплая одела острова…»
11 марта 1900 (12 мая 1918)
«В ночи, исполненной грозою…»
20 марта 1900 (11 июля 1919)
«К ногам презренного кумира…»
Весна 1900 (24 декабря 1914)
«В фантазии рождаются порою…»
22 апреля 1900
«Есть много песен в светлых тайниках…»
3 мая 1900 (Февраль 1914)
«Бежим, бежим, дитя свободы…»
7 мая 1900 (12 мая 1918)
После грозы («Под величавые раскаты…»)
3 июня 1900
«Пророк земли — венец творенья…»
21 июня 1900
«Они расстались без печали…»
10 июля 1900
Смерть («Прислушайся к земле в родных полях…»)
13 сентября 1900
Аметист («Порою в воздухе, согретом…»)
К. М. С. {239}
19 сентября 1900
«Не нарушай гармонии моей…»
18 декабря 1900 (1918)
«Я никогда не понимал…»
17 января 1901
«Часто в мысли гармония спит…»
23 января 1901
«Навстречу вешнему расцвету…»
25 апреля 1901
«В передзакатные часы…»
5 мая 1901
«Вечереющий день, догорая…»
11 июля 1901
«Нас старость грустная настигнет без труда…»
3 августа 1901
«Наступает пора небывалая…»
17 августа 1901
«Глушь родного леса…»
5 сентября 1901
«Мчит меня мертвая сила…»
6 сентября 1901
Между Клином и Тверью
Почтовый поезд
«Знаю, бедная, тяжкое бремя…»
Смерть и время дарят на земле —
Ты владыками их не зови.
15–16 сентября 1901
Посвящение («Встали надежды пророка…»)
18 сентября 1901
«Ходит месяц по волне…»
7 октября 1901
Ворожба («Я могуч и велик ворожбою…»)
5 декабря 1901
«Недосказанной речи тревогу…»
6 декабря 1901
При посылке роз («Смотрел отвека бог лукавый…»)
24 декабря 1901
На могиле друга («Удалены от мира на кладбище…»)
22 января 1902
«Война горит неукротимо…»
Январь 1902 (25 декабря 1914)
«Вдали мигнул огонь вечерний…»
Январь 1902
«В пути — глубокий мрак, и страшны высоты…»
Январь 1902
«Или устал ты до времени…»
11 февраля 1902
«Всю зиму мы плакали, бедные…»
Февраль 1902
«Успокоительны и чудны…»
6 марта 1902
«Травы спят красивые…»
22 марта 1902
«Ловлю дрожащие, хладеющие руки…»
«Я жалок в глубоком бессильи…»
«У окна не ветер бродит…»
«Ты, отчаянье жизни моей…»
1 апреля 1902
«Завтра в сумерки встретимся мы…»
13 апреля 1902
«Я тишиною очарован…»
18 апреля 1902
На полотне Финл. жел. дороги
«Ты — молитва лазурная…»
27 апреля 1902
«Поздно. В окошко закрытое…»
«Сплетались времена, сплетались страны…»
2 июня 1902
«Ушли в туман мечтания…»
30 июня 1902
«Вот снова пошатнулись дали…»
«Хоронил я тебя, и, тоскуя…»
Июнь 1902 (18 ноября 1920)
«Как сон, уходит летний день…»
27 июля 1902
«Давно хожу я под окнами…»
7 сентября 1902
«Смолкали и говор, и шутки…»
11 сентября 1902 (24 мая 1918)
«Как старинной легенды слова…»
22 сентября 1902
«Я ждал под окнами в тени…»
Сентябрь 1902
«О легендах, о сказках, о мигах…»
17 октября 1902
Сфинкс («Шевельнулась безмолвная сказка пустынь…»)
8 ноября 1902 (Апрель 1918)
«Загляжусь ли я в ночь на метелицу…»
12 ноября 1902
«Ушел я в белую страну…»
16 ноября 1902
«Золотит моя страстная осень…»
Ноябрь 1902
«Любопытство напрасно глазело…»
13 декабря 1902
Отшедшим («Здесь тихо и светло. Смотри, я подойду…»)
22 января 1903
«Днем за нашей стеной молчали…»
29 января 1903
«Разгадал я, какие цветы…»
9 февраля 1903
«Никто не умирал. Никто не кончил жить…»
12 марта 1903
«Вот они — белые звуки…»
(При посылке белой азалии)
5 апреля 1903. Пасха
«Кто заметил огненные знаки…»
13 апреля 1903
«Если только она подойдет…»
3 июня 1903. Bad Nauheim
«Очарованный вечер мой долог…»
11 июня 1903. Bad Nauheim
«Сердито волновались нивы…»
К. М. С. {248}
12 июня 1903, Bad Nauheim
«Многое замолкло. Многие ушли…»
Июнь 1903. Bad Nauheim
Рассвет («Я встал и трижды поднял руки…»)
18 ноября 1903
Заключение спора («Ты кормчий — сам, учитель — сам…»)
И. Д. Менделееву{249}
2 декабря 1903
Ненужная весна
1. «Отсеребрилась, отзвучала…»
2. «В глазах ненужный день так ярок…»
3. «Зима прошла. Я болен…»
18 марта 1907
«В темной комнате ты обесчещена…»
12 апреля 1907
«Сырое лето. Я лежу…»
20 июня 1907
«Везде — над лесом и над пашней…»
8 июля 1907
«Стучится тихо. Потом погромче…»
24 декабря 1907
«В глубоких сумерках собора…»
25 мая 1908
«Их было много — дев прекрасных…»
Март — июнь 1908
«Не могу тебя не звать…»
30 ноября 1908
«Ты из шопота слов родилась…»
Май 1903 — декабрь 1908
«Как из сумрачной гавани…»
Ноябрь (?) 1909 578
Королевна («Не было и нет во всей подлунной…»)
28 ноября 1908 — 16 мая 1914
«Я помню нежность ваших плеч…»
1 июля 1914
«Распушилась, раскачнулась…»
25 декабря 1914
«Милая девушка, что ты колдуешь…»
9 декабря 1915
З. Гиппиус («Женщина, безумная гордячка!..»)
(При получении «Последних стихов»)
1–6 июня 1918
Две надписи на сборнике «Седое утро»:
1. «Вы предназначены не мне…»
23 октября 1920
2. «Едва в глубоких снах мне снова…»
23–24 октября 1920
Пушкинскому Дому («Имя Пушкинского Дома…»)
11 февраля 1921
Юность — это возмездие.{265}
Предисловие
Не чувствуя ни нужды, ни охоты заканчивать поэму, полную революционных предчувствий, в года, когда революция уже произошла, я хочу предпослать наброску последней главы рассказ о том, как поэма родилась, каковы были причины ее возникновения, откуда произошли ее ритмы.
Интересно и небесполезно и для себя и для других припомнить историю собственного произведения. К тому же нам, счастливейшим или несчастливейшим детям своего века, приходится помнить всю свою жизнь; все годы наши резко окрашены для нас, и — увы! — забыть их нельзя, — они окрашены слишком неизгладимо, так что каждая цифра кажется написанной кровью; мы и не можем забыть этих цифр; они написаны на наших собственных лицах.
Поэма «Возмездие» была задумана в 1910 году и в главных чертах набросана в 1911 году. Что это были за годы?
1910 год — это смерть Коммиссаржевской, смерть Врубеля и смерть Толстого. С Коммиссаржевской умерла лирическая нота на сцене; с Врубелем — громадный личный мир художника, безумное упорство, ненасытность исканий — вплоть до помешательства. С Толстым умерла человеческая нежность — мудрая человечность.
Далее, 1910 год — это кризис символизма, о котором тогда очень много писали и говорили, как в лагере символистов, так и в противоположном. В этом году явственно дали о себе знать направления, которые встали во враждебную позицию и к символизму, и друг к другу: акмеизм, эгофутуризм и первые начатки футуризма. Лозунгом первого из этих направлений был человек — но какой-то уже другой человек, вовсе без человечности, какой-то «первозданный Адам».
Зима 1911 года была исполнена глубокого внутреннего мужественного напряжения и трепета. Я помню ночные разговоры, из которых впервые вырастало сознание нераздельности и неслиянности искусства, жизни и политики. Мысль, которую, по-видимому, будили сильные толчки извне, одновременно стучалась во все эти двери, не удовлетворяясь более слиянием всего воедино, что было легко и возможно в истинном мистическом сумраке годов, предшествовавших первой революции, а также — в неистинном мистическом похмелье, которое наступило вслед за нею.
Именно мужественное веянье преобладало: трагическое сознание неслиянности и нераздельности всего — противоречий непримиримых и требовавших примирения. Ясно стал слышен северный жесткий голос Стриндберга{267}, которому остался всего год жизни. Уже был ощутим запах гари, железа и крови. Весной 1911 года П. Н. Милюков{268} прочел интереснейшую лекцию под заглавием «Вооруженный мир и сокращение вооружению». В одной из московских газет появилась пророческая статья: «Близость большой войны»{269}. В Киеве произошло убийство Андрея Ющннского{270}, и возник вопрос об употреблении евреями христианской крови. Летом этого года, исключительно жарким, так что трава горела на корню, в Лондоне происходили грандиозные забастовки железнодорожных рабочих, в Средиземном море — разыгрался знаменательный эпизод «Пантера — Агадир»{271}.
Неразрывно со всем этим связан для меня расцвет французской борьбы в петербургских цирках; тысячная толпа проявляла исключительный интерес к ней; среди борцов были истинные художники; я никогда не забуду борьбы безобразного русского тяжеловеса с голландцем, мускульная система которого представляла из себя совершеннейший музыкальный инструмент редкой красоты.
В этом именно году, наконец, была в особенной моде у нас авиация; все мы помним ряд красивых воздушных петель, полетов вниз головой, — падений и смертей талантливых и бездарных авиаторов.
Наконец, осенью в Киеве был убит Столыпин{272}, что знаменовало окончательный переход управления страной из рук полудворянских, получиновничьих в руки департамента полиции.
Все эти факты, казалось бы столь различные, для меня имеют один музыкальный смысл. Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему зрению в данное время, и уверен, что все они вместе всегда создают единый музыкальный напор.
Я думаю, что простейшим выражением ритма того времени, когда мир, готовившийся к неслыханным событиям, так усиленно и планомерно развивал свои физические, политические и военные мускулы, был ямб. Вероятно, потому повлекло и меня, издавна гонимого по миру бичами этого ямба, отдаться его упругой волне на более продолжительное время.
Тогда мне пришлось начать постройку большой поэмы под названием «Возмездие». Ее план представлялся мне в виде концентрических кругов, которые становились все уже и уже, и самый маленький круг, съежившись до предела, начинал опять жить своей самостоятельной жизнью, распирать и раздвигать окружающую среду и, в свою очередь, действовать на периферию. Такова была жизнь чертежа, который мне рисовался, — в сознание и на слова я это стараюсь перевести лишь сейчас; тогда это присутствовало преимущественно в понятии музыкальном и мускульном; о мускульном сознании я говорю недаром, потому что в то время все движение и развитие поэмы для меня тесно соединилось с развитием мускульной системы. При систематическом ручном труде развиваются сначала мускулы на руках, так называемые — бицепсы, а потом уже — постепенно — более тонкая, более изысканная и более редкая сеть мускулов на груди и на спине под лопатками. Вот такое ритмическое и постепенное нарастание мускулов должно было составлять ритм всей поэмы. С этим связана и ее основная идея, и тема.
Тема заключается в том, как развиваются звенья единой цепи рода. Отдельные отпрыски всякого рода развиваются до положенного им предела и затем вновь поглощаются окружающей мировой средой; но в каждом отпрыске зреет и отлагается нечто новое и нечто более острое, ценою бесконечных потерь, личных трагедий, жизненных неудач, падений и т. д.; ценою, наконец, потери тех бесконечно высоких свойств, которые в свое время сияли, как лучшие алмазы в человеческой короне (как, например, свойства гуманные, добродетели, безупречная честность, высокая нравственность и проч.).
Словом, мировой водоворот засасывает в свою воронку почти всего человека; от личности почти вовсе не остается следа, сама она, если остается еще существовать, становится неузнаваемой, обезображенной, искалеченной. Был человек — и не стало человека, осталась дрянная вялая плоть и тлеющая душонка. Но семя брошено, и в следующем первенце растет новое, более упорное; и в последнем первенце это новое и упорное начинает, наконец, ощутительно действовать на окружающую среду; таким образом, род, испытавший на себе возмездие истории, среды, эпохи, начинает, в свою очередь, творить возмездие; последний первенец уже способен огрызаться и издавать львиное рычание; он готов ухватиться своей человечьей ручонкой за колесо, которым движется история человечества. И, может быть, ухватится-таки за него…
Что же дальше? Не знаю, и никогда не знал; могу сказать только, что вся эта концепция возникла под давлением все растущей во мне ненависти к различным теориям прогресса.
Такую идею я хотел воплотить в моих «Rougon-Macquar’ax»{273} в малом масштабе, в коротком обрывке рода русского, живущего в условиях русской жизни: «Два-три звена, и уж видны заветы темной старины»… Путем катастроф и падений мои «Rougon-Macquar’ы» постепенно освобождаются от русско-дворянского éducation sentimentale[19], «уголь превращается в алмаз», Россия — в новую Америку; в новую, а не в старую Америку.
Поэма должна была состоять из пролога, трех больших глав и эпилога. Каждая глава обрамлена описанием событий мирового значения; они составляют ее фон.
Первая глава развивается в 70-х годах прошлого века, на фоне русско-турецкой войны и народовольческого движения, в просвещенной либеральной семье; в эту семью является некий «демон», первая ласточка «индивидуализма», человек, похожий на Байрона, с какими-то нездешними порываниями и стремлениями, притупленными, однако, болезнью века, начинающимся fin de siècle[20].
Вторая глава, действие которой развивается в конце XIX и начале XX века, так и не написанная, за исключением вступления, должна была быть посвящена сыну этого «демона», наследнику его мятежных порывов и болезненных падений, — бесчувственному сыну нашего века. Это — тоже лишь одно из звеньев длинного рода; от него тоже не останется, по-видимому, ничего, кроме искры огня, заброшенной в мир, кроме семени, кинутого им в страстную и грешную ночь в лоно какой-то тихой и женственной дочери чужого народа.
В третьей главе описано, как кончил жизнь отец, что сталось с бывшим блестящим «демоном», в какую бездну упал этот яркий когда-то человек. Действие поэмы переносится из русской столицы, где оно до сих пор развивалось, в Варшаву — кажущуюся сначала «задворками России», а потом призванную, по-видимому, играть некую мессианическую роль, связанную с судьбами забытой богом и истерзанной Польши. Тут, над свежей могилой отца, заканчивается развитие и жизненный путь сына, который уступает место собственному отпрыску, третьему звену все того же высоко взлетающего и низко падающего рода.
В эпилоге должен быть изображен младенец, которого держит и баюкает на коленях простая мать, затерянная где-то в широких польских клеверных полях, никому не ведомая и сама ни о чем не ведающая. Но она баюкает и кормит грудью сына, и сын растет; он начинает уже играть, он начинает повторять по складам вслед за матерью: «И я пойду навстречу солдатам… И я брошусь на их штыки… И за тебя, моя свобода, взойду на черный эшафот».
Вот, по-видимому, круг человеческой жизни, съежившийся до предела, последнее звено длинной цепи; тот круг, который сам, наконец, начнет топорщиться, давить на окружающую среду, на периферию; вот отпрыск рода, который, может быть, наконец, ухватится ручонкой за колесо, движущее человеческую историю.
Вся поэма должна сопровождаться определенным лейтмотивом «возмездия»; этот лейтмотив есть мазурка, танец, который носил на своих крыльях Марину{274}, мечтавшую о русском престоле, и Костюшку{275} с протянутой к небесам десницей, и Мицкевича на русских и парижских балах. В первой главе этот танец легко доносится из окна какой-то петербургской квартиры — глухие 70-е годы; во второй главе танец гремит на балу, смешиваясь со звоном офицерских шпор, подобный пене шампанского fin de siècle, знаменитой veuve Clicquot;[21] еще более глухие — цыганские, апухтинские годы{276}; наконец, в третьей главе мазурка разгулялась: она звенит в снежной вьюге, проносящейся над ночной Варшавой, над занесенными снегом польскими клеверными полями. В ней явственно слышится уже голос Возмездия.
12 июля 1919
Первая глава
Вторая глава <Вступление>
Третья глава
Двенадцать
Двенадцать. Скифы
Двенадцать
Двенадцать
Январь 1918
Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.
30 января 1918
Балаганчик
Посвящается
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду
Действующие лица
Коломбина.
Мистики обоего пола в сюртуках и модных платьях, а потом в масках и маскарадных костюмах.
Председатель мистического собрания.
Три пары влюбленных.
Обыкновенная театральная комната с тремя стенами, окном и дверью. У освещенного стола с сосредоточенным видом сидят мистики обоего пола — в сюртуках и модных платьях. Несколько поодаль, у окна сидит Пьеро в белом балахоне, мечтательный, расстроенный, бледный, безусый и безбровый, как все Пьеро. Мистики некоторое время молчат.
Первый мистик
Второй мистик
Третий мистик
Первый мистик
Второй мистик
Третий мистик
Пьеро размечтался и оживился. Но из-за занавеса сбоку вылезает обеспокоенный автор.
Что он говорит? Почтеннейшая публика! Спешу уверить, что этот актер жестоко насмеялся над моими авторскими правами. Действие происходит зимой в Петербурге. Откуда же он взял окно и гитару? Я писал мою драму не для балагана… Уверяю вас…
Внезапно застыдившись своего неожиданного появления, прячется обратно за занавес.
(Он не обратил внимания на автора. Сидит и мечтательно вздыхает)
Первый мистик
Второй мистик
Третий мистик
Первый мистик
Второй мистик
Третий мистик
Первый мистик
Второй мистик
Третий мистик
Первый мистик
Второй мистик
Третий мистик
Первый мистик
Второй наклоняется и что-то шепчет на ухо первому.
Второй мистик
Первый мистик (в неподдельном ужасе)
Автор опять испуганно высовывается, но быстро исчезает, как будто его оттянул кто-то за фалды.
(по-прежнему, мечтательно)
Первый мистик
Второй мистик
Третий мистик
Первый мистик
Второй мистик
Третий мистик
Первый мистик
Второй мистик поднимает свечу.
Совершенно неожиданно и непонятно откуда, появляется у стола необыкновенно красивая девушка с простым и тихим лицом матовой белизны. Она в белом. Равнодушен взор спокойных глаз. За плечами лежит заплетенная коса.
Девушка стоит неподвижно. Восторженный Пьеро молитвенно опускается на колени. Заметно, что слезы душат его. Все для него — неизреченно.
Мистики в ужасе откинулись на спинки стульев. У одного беспомощно болтается нога. Другой производит странные движения рукой. Третий выкатил глаза. Через некоторое время очнувшись, громко шепчут:
— Прибыла!
— Как бела ее одежда!
— Пустота в глазах ее!
— Черты бледны, как мрамор!
— За плечами коса!
— Это — смерть!
Пьеро услыхал. Медленно поднявшись, он подходит к девушке, берет ее за руку и выводит на средину сцены. Он говорит голосом звонким и радостным, как первый удар колокола.
Господа! Вы ошибаетесь! Это — Коломбина! Это — моя невеста!
Общий ужас. Руки всплеснулись. Фалды сюртуков раскачиваются. Председатель собрания торжественно подходит к Пьеро.
Председатель
Вы с ума сошли. Весь вечер мы ждали событий. Мы дождались. Она пришла к нам — тихая избавительница. Нас посетила смерть.
Пьеро (звонким, детским голосом)
Я не слушаю сказок. Я — простой человек. Вы не обманете меня. Это — Коломбина. Это — моя невеста.
Председатель
Господа! Наш бедный друг сошел с ума от страха. Он никогда не думал о том, к чему мы готовились всю жизнь. Он не измерил глубин и не приготовился встретить покорно Бледную Подругу в последний час. Простим великодушно простеца. (Обращается к Пьеро.) Брат, тебе нельзя оставаться здесь. Ты помешаешь нашей последней вечере. Но, прошу тебя, вглядись еще раз в ее черты: ты видишь, как бела ее одежда; и какая бледность в чертах; о, она бела, как снега на вершинах! Очи ее отражают зеркальную пустоту. Неужели ты не видишь косы за плечами? Ты не узнаешь смерти?
Пьеро (по бледному лицу бродит растерянная улыбка)
Я ухожу. Или вы правы, и я — несчастный сумасшедший. Или вы сошли с ума — и я одинокий, непонятый вздыхатель. Носи меня, вьюга, по улицам! О, вечный ужас! Вечный мрак!
Коломбина (идет к выходу вслед за Пьеро)
Я не оставлю тебя.
Пьеро остановился, растерян. Председатель умоляюще складывает руки.
Председатель
Легкий призрак! Мы всю жизнь ждали тебя! Не покидай нас!
Появляется стройный юноша в платье Арлекина. На нем серебристыми голосами поют бубенцы.
(подходит к Коломбине)
Он кладет руку на плечо Пьеро. — Пьеро свалился навзничь и лежит без движения в белом балахоне. Арлекин уводит Коломбину за руку. Она улыбнулась ему. Общий упадок настроения. Все безжизненно повисли на стульях. Рукава сюртуков вытянулись и закрыли кисти рук, будто рук и не было. Головы ушли в воротники. Кажется, на стульях висят пустые сюртуки.
Вдруг Пьеро вскочил и убежал. Занавес сдвигается. В ту же минуту на подмостки перед занавесом выскакивает взъерошенный и взволнованный автор.
Милостивые государи и государыни! Я глубоко извиняюсь перед вами, но снимаю с себя всякую ответственность! Надо мной издеваются! Я писал реальнейшую пьесу, сущность которой считаю долгом изложить перед вами в немногих словах: дело идет о взаимной любви двух юных душ! Им преграждает путь третье лицо; но преграды наконец падают, и любящие навеки соединяются законным браком! Я никогда не рядил моих героев в шутовское платье! Они без моего ведома разыгрывают какую-то старую легенду! Я не признаю никаких легенд, никаких мифов и прочих пошлостей! Тем более — аллегорической игры словами: неприлично называть косой смерти женскую косу! Это порочит дамское сословие! Милостивые государи…
Высунувшаяся из-за занавеса рука хватает автора за шиворот. Он с криком исчезает за кулисой. Занавес быстро раздергивается.
Бал. Маски кружатся под тихие звуки танца. Среди них прогуливаются другие маски, рыцари, дамы, паяцы.
Грустный Пьеро сидит среди сцены на той скамье, где обыкновенно целуются Венера и Тангейзер.
Пьеро грустно удаляется.
Через некоторое время на той же скамье обнаруживается пара влюбленных. Он в голубом, она в розовом, маски — цвета одежд. Они вообразили себя в церкви и смотрят вверх, в купола.
Прижимается к нему.
Первую пару скрывает от зрителей тихий танец масок и паяцов. В средину танца врывается вторая пара влюбленных. Впереди — она в черной маске и вьющемся красном плаще. Позади — он — весь в черном, гибкий, в красной маске и черном плаще. Движения стремительны. Он гонится за ней, то настигая, то обгоняя ее. Вихрь плащей.
Исчезают в вихре плащей. Кажется, за ними вырвался из толпы кто-то третий, совершенно подобный влюбленному, весь — как гибкий язык черного пламени.
В среде танцующих обнаружилась третья пара влюбленных. Они сидят посреди сцены.
Средневековье. Задумчиво склонившись, она следит за его движениями. — Он, весь в строгих линиях, большой и задумчивый, в картонном шлеме, — чертит перед ней на полу круг огромным деревянным мечом.
Вы понимаете пьесу, в которой мы играем не последнюю роль?
Она (как тихое и внятное эхо)
Вы знаете, что маски сделали нашу сегодняшнюю встречу чудесной?
Так вы верите мне? О, сегодня вы прекрасней, чем всегда.
Вы знаете все, что было и что будет. Вы поняли значение начертанного здесь круга.
О, как пленительны ваши речи! Разгадчица души моей! Как много ваши слова говорят моему сердцу!
О, Вечное Счастье! Вечное Счастье!
Он (со вздохом облегчения и торжества)
Близок день. На исходе — эта зловещая ночь.
В эту минуту одному из паяцов пришло в голову выкинуть штуку Он подбегает к влюбленному и показывает ему длинный язык Влюбленный бьет с размаху паяца по голове тяжким деревянным мечом. Паяц перегнулся через рампу и повис. Из головы его брыжжет струя клюквенного сока.
Паяц (пронзительно кричит)
Помогите! Истекаю клюквенным соком!
Поболтавшись, удаляется.
Шум. Суматоха. Веселые крики: «Факелы! Факелы! Факельное шествие!» Появляется хор с факелами. Маски толпятся, смеются прыгают.
Арлекин выступает из хора, как корифей.
Прыгает в окно. Даль, видимая в окне, оказывается нарисованной на бумаге. Бумага лопнула. Арлекин полетел вверх ногами в пустоту. В бумажном разрыве видно одно светлеющее небо. Ночь истекает, копошится утро. На фоне занимающейся зари стоит, чуть колеблемая дорассветным ветром, — Смерть, в длинных белых пеленах, с матовым женственным лицом и с косой на плече. Лезвее серебрится, как опрокинутый месяц, умирающий утром.
Все бросились в ужасе в разные стороны. Рыцарь споткнулся на деревянный меч. Дамы разроняли цветы по всей сцене. Маски, неподвижно прижавшиеся, как бы распятые у стен, кажутся куклами из этнографического музея. Любовницы спрятали лица в плащи любовников. Профиль голубой маски тонко вырезывается на утреннем небе. У ног ее испуганная, коленопреклоненная розовая маска прижалась к его руке губами.
Как из земли выросший Пьеро медленно идет через всю сцену, простирая руки к Смерти. По мере его приближения черты Ее начинают оживать. Румянец заиграл на матовости щек. Серебряная коса теряется в стелющемся утреннем тумане. На фоне зари, в нише окна, стоит с тихой улыбкой на спокойном лице красивая девушка — Коломбина.
В ту минуту, как Пьеро подходит и хочет коснуться ее руки своей рукой, — между ним и Коломбиной просовывается торжествующая голова автора.
Автор. Почтеннейшая публика! Дело мое не проиграно! Права мои восстановлены! Вы видите, что преграды рухнули! Этот господин провалился в окошко! Вам остается быть свидетелями счастливого свиданья двух влюбленных после долгой разлуки! Если они потратили много сил на преодоление препятствий, — то теперь зато они соединяются навек!
Автор хочет соединить руки Коломбины и Пьеро. Но внезапно все декорации взвиваются и улетают вверх. Маски разбегаются.
Автор оказывается склоненным над одним только Пьеро, который беспомощно лежит на пустой сцене в белом балахоне своем с красными пуговицами.
Заметив свое положение, автор убегает стремительно.
Пьеро (приподнимается и говорит жалобно и мечтательно)
(Помолчав.)
Пьеро задумчиво вынул из кармана дудочку и заиграл песню о своем бледном лице, о тяжелой жизни и о невесте своей Коломбине.
Незнакомка
На портрете была изображена действительно необыкновенной красоты женщина. Она была сфотографирована в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона; волосы, по-видимому темно-русые, были убраны просто, по-домашнему; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна…
Достоевский
— А как вы узнали, что это я? Где вы меня видели прежде? Что это, в самом деле, я как будто его где-то видела?
— Я вас тоже будто видел где-то?
— Где? — Где?
— Я ваши глаза точно где-то видел… да этого быть не может! Это я так… Я здесь никогда и не был. Может быть, во сне…
Достоевский
Действующие лица:
Незнакомка.
Звездочет.
Посетители кабачка и гостиной.
Два дворника.
Первое видение
Уличный кабачок. Подрагивает бело-матовый свет ацетиленового фонаря в смятом колпачке. На обоях изображены совершенно одинаковые корабли с огромными флагами. Они взрезают носами голубые воды. За дверью, которая часто раскрывается, впуская посетителей, и за большими окнами, украшенными плющом, идут прохожие в шубах и девушки в платочках — под голубым вечерним снегом.
За прилавком, на котором водружена бочка с гномом и надписью «Кружка-бокал», — двое совершенно похожих друг на друга: оба с коками и проборами, в зеленых фартуках; только у хозяина усы вниз, а у брата его, полового, усы вверх. У одного окна, за столиком, сидит пьяный старик — вылитый Верлэн, у другого — безусый бледный человек — вылитый Гауптман. Несколько пьяных компаний.
Разговор в одной компании
Один. Купил я эту шубу за двадцать пять рублей. А тебе, Сашка, меньше тридцати ни за что не уступлю.
Другой (убедительно и с обидой)
Да врешь ты!.. Да вот поди ж ты… Я тебе…
Третий (усатый, кричит)
Молчать! Не ругаться! Еще бутылочку, любезный.
Половой подбегает. Слышно, как булькает пиво. Молчание. Одинокий посетитель поднимается из угла и неверной походкой идет к прилавку. Начинает шарить в блестящей посудине с вареными раками.
Хозяин. Позвольте, господин. Так нельзя. Вы у нас всех раков руками переберете. Никто кушать не станет.
Посетитель, мыча, отходит.
Разговор в другой компании
Семинарист. И танцовала она, милый друг ты мой, скажу я тебе, как небесное создание. Просто взял бы ее за белые ручки и прямо в губки, скажу тебе, поцеловал…
Собутыльник (визгливо хохочет). Эка, эка, Васинька-то наш, размичтался, заалел, как маков цвет! А что она тебе за любовь-то? За любовь-то что?.. А?..
Все визгливо хохочут.
Семинарист (совсем красный). И, милый друг ты мой, скажу тебе, нехорошо смеяться. Так бы вот взял ее, и унес бы от нескромных взоров, и на улице плясала бы она передо мной на белом снегу… как птица, летала бы. И откуда мои крылья взялись, — сам полетел бы за ней, над белыми снегами…
Все хохочут.
Второй собутыльник Ты, Васька, смотри, того, по первопутку-то не очень полетишь…
Первый собутыльник. Тебе бы по морозцу-то легче, а то с твоей милой как раз в грязь угодишь…
Второй собутыльник. Мичтатель.
Семинарист (совсем осоловел). Эх, милые други, в семинарии не учась, скажу я вам, вы нежных чувств не понимаете. А впрочем, еще бы пивца…
Верлэн (бормочет громко сам с собою). Каждому свое. Каждому свое…
Гауптман делает выразительные знаки половому. Входят рыжий мужчина и девушка в платочке.
Девушка (половому). Бутылку портеру, Миша. (Продолжает быстро рассказывать мужчине.) …только она, милый мой, вышла, хвать — забыла хозяйку пивом угостить. Сейчас — назад, а уж он комод открыл, да и роется, все перерыл, все перерыл, думал — не скоро вернется… Она, милый мой, кричать, а он, милый мой, ей рот зажимать. Ну, все-таки хозяйка прибежала, да сама кричать, да дворника позвала; так его, милый мой, сейчас в участок… (Быстро прерывает.) Дай двугривенный.
Мужчина хмуро вынимает двугривенный.
Девушка. Тебе нешто жалко?
Мужчина. Пей, да помалкивай.
Молчат. Пьют. Вбегает молодой человек и радостно бросается к Гауптману.
Молодой человек. Костя, друг, она у дверей дожидает!..
Ладно. Пошляется еще. Давай выпьем.
Верлэн (громко бормочет). И всем людям — свое занятие… И каждому — свое беспокойство.
Входит Поэт. Подзывает полового.
Поэт. Угостить вас?
Половой (прирожденный юморист). Великая честь-с… От знаменитого лица-с…
Убегает за пивом. Поэт вынимает записную книжку. Тишина. Ацетилен шипит. Похрустывают бублики.
Половой приносит Поэту бутылку пива и садится на край стула против него.
Поэт. Вы послушайте только. Бродить по улицам, ловить отрывки незнакомых слов. Потом — прийти вот сюда и рассказать свою душу подставному лицу.
Половой. Непонятно-с, но весьма утонченно-с…
Срывается со стула и бежит на зов посетителя. Поэт пишет в книжке.
(напевает)
Половой возвращается к Поэту.
Поэт (пьет). Видеть много женских лиц. Сотни глаз, больших и глубоких, синих, темных, светлых. Узких, как глаза рыси. Открытых широко, младенчески. Любить их. Желать их. Не может быть человека, который не любит. И вы их должны любить.
Половой. Слушаю-с.
Поэт. И среди этого огня взоров, среди вихря взоров, возникнет внезапно, как бы расцветет под голубым снегом — одно лицо: единственно прекрасный лик Незнакомки, под густою, темной вуалью… Вот качаются перья на шляпе… Вот узкая рука, стянутая перчаткой, держит шелестящее платье… Вот медленно проходит она… проходит она…
Жадно пьет.
Верлэн (бормочет). И все проходит. И каждому — своя забота.
Семинарист (заплетающимся языком). Танцовала она, как небесный, скажу вам, ангел, а вы, черти и разбойники, не стоите ее мизинца. А впрочем, выпьем.
Собутыльник. Мичтатель. Оттого и пьешь. И все мы — мичтатели. Поцелуй меня, дружок.
Обнимаются.
Семинарист. И никто ее так не полюбит, как я. И будем мы на белом снегу свою грустную жизнь доживать. Она — плясать, а я — на шарманке играть. И полетим. И под самый серебряный месяц залетим. И туда, чорт возьми, скажу я вам, дурацким вашим грязным носам, милые други, не соваться. И все-таки я очень вас люблю и высоко ставлю. Кто из одной бутылки не пивал, тот и дружбы не видал.
Все хохочут.
Собутыльник. Ай да Васька! Уж очень складно! Поцелуемся, дружок.
Молодой человек (Гауптману)
Однако ж будет. Что ей столько на морозе дожидать? Замерзнет совсем. Пойдем, брат Костя.
Гауптман. Брось. Если женскому нраву потакать, так от мужчины ничего не останется — только ему в рожу плюнуть. Пусть пошляется, а мы еще посидим.
Молодой человек послушался. Все посетители пьют и хмелеют. Человек в желтом трепаном пальто, сидевший отдельно, встает и обращается к честной компании с речью.
Человек в пальто. Государи мои! Есть у меня небольшая вещица — весьма ценная миниатюра. (Вытаскивает из кармана камею.) Вот-с, не угодно ли: с одной стороны — изображение эмблемы, а с другой — приятная дама в тюнике на земном шаре сидит и над этим шаром держит скипетр: подчиняйтесь, мол, повинуйтесь — и больше ничего!
Все одобрительно смеются. Некоторые подходят и рассматривают камею.
Поэт (захмелевший). Вечная сказка. Это — Она — Мироправительница. Она держит жезл и повелевает миром. Все мы очарованы Ею.
Человек в пальто. Рад служить русской интеллигенции. Дешево продам, хотя досталось не дешево, но уж, как говорится, только по дружбе. Вижу, что любитель. Ну, так по рукам.
Поэт дает ему монету. Берет камею, рассматривает ее. Человек в пальто садится на свое место. Разговор продолжается только между двумя, сидящими за отдельным столиком.
Первый (берет юмористический журнал). А теперь пришло время нам повеселиться. Ну, Ваня, слушай (торжественно развертывает журнал и читает): «Любящие супруги. Муж: — Ты, милочка, зайди сегодня к мамаше и попроси ее…» Заранее отчаянно хохочет.
Второй. Ишь, чорт возьми, здорово!
Первый (продолжает читать). «…И попроси ее… подарить Катеньке куколку…» Страшно хохочет.
Первый (читает). «Жена: — Что ты, милочка! Катеньке уж скоро двадцать лет. (Еле может прочесть от смеха.) Ей уж не куколку, а женишка пора подарить».
Громовой хохот.
Второй. Вот так здорово!
Первый. Что называется отбрила!
Второй. Чорт их дери, ловко пишут!..
И опять одинокий посетитель шарит в посудине. Он вытаскивает красных раков за клешни. Подержит и положит. И опять хозяин отгоняет его.
Поэт (рассматривает камею). Вечное возвращение. Снова Она объемлет шар земной. И снова мы подвластны Ее очарованию. Вот Она кружит свой процветающий жезл. Вот Она кружит меня… И я кружусь с Нею… Под голубым… под вечерним снегом…
Семинарист. Танцует… Танцует… Я на шарманке, а она под шарманку. (Делает пьяные жесты, как будто что-то ловит.) Вот, не поймал… опять не поймал… но и вам, черти, не поймать, если уж мне не поймать…
Медленно, медленно начинают кружиться стены кабачка. Потолок наклоняется, один конец его протягивается вверх бесконечно. Корабли на обоях, кажется, плывут близко, а все не могут доплыть. Сквозь смутный общий говор человек в пальто, уже присоединившийся к кому-то, кричит.
Человек в пальто. Нет-с, я любитель! Люблю острый сыр, знаете, такой круглый! (Делает кругообразные жесты.) Забыл название.
Его собеседник (неуверенно). А вы… пробовали?
Человек в пальто. Что пробовал? Вы думаете, нет? Я рошефор кушал!
Собеседник (под которым качается стул). А знаете… люксем-бургский… так пахнет нехорошо… и шевелится, шевелится… (Чмокает губами, шевелит пальцами.)
Человек в пальто (вдохновенно встает). Швейцарский!.. Вот что-с! (Щелкает пальцами.)
Собеседник (мигает и сомневается). Ну, этим не удивите…
Человек в пальто (громко, как ружейный залп). Бри!
Собеседник. Ну это… это… знаете…
Человек в пальто (угрожающе). Что знаете?
Собеседник (уничтожен).
Все вертится, кажется перевернется сейчас. Корабли на обоях плывут, вспенивая голубые воды. Одну минуту кажется, что все стоит вверх ногами.
Верлэн (бормочет). И всему свой черед… И всем пора идти домой…
Гауптман (орет). Шлюха она, ну и пусть шляется! А мы выпьем!
Девушка (поет в ухо мужчине). Прощай, желанный мой…
Семинарист. Снег танцует. И мы танцуем. И шарманка плачет. И я плачу. И мы все плачем.
Поэт. Синий снег. Кружится. Мягко падает. Синие очи. Густая вуаль. Медленно проходит Она. Небо открылось. Явись! Явись!
Весь кабачок как будто нырнул куда-то. Стены расступаются. Окончательно наклонившийся потолок открывает небо — зимнее, синее, холодное. В голубых вечерних снегах открывается —
Второе видение
Тот же вечер. Конец улицы на краю города. Последние дома, обрываясь внезапно, открывают широкую перспективу: темный пустынный мост через большую реку. По обеим сторонам моста дремлют тихие корабли с сигнальными огнями. За мостом тянется бесконечная, прямая, как стрела, аллея, обрамленная цепочками фонарей и белыми от инея деревьями. В воздухе порхает и звездится снег.
(на мосту)
Два дворника волокут под руки пьяного Поэта.
Разъяренные дворники
Волокут Поэта дальше.
По небу, описывая медленную дугу, скатывается яркая и тяжелая звезда. Через миг по мосту идет прекрасная женщина в черном, с удивленным взором расширенных глаз. Все становится сказочным — темный мост и дремлющие голубые корабли. Незнакомка застывает у перил моста, еще храня свой бледный падучий блеск. Снег, вечно юный, одевает ее плечи, опушает стан. Она, как статуя, ждет.
Такой же Голубой, как она, восходит на мост из темной аллеи. Также в снегу. Также прекрасен. Он колеблется, как тихое, синее пламя.
Она обращает очи к нему.
Незнакомка
Его голубой плащ осыпан снежными звездами.
Незнакомка
Голубой дремлет в бледном свете. На фоне плаща его светится луч, как будто он оперся на меч.
Незнакомка
Незнакомка
Незнакомка
Незнакомка
Незнакомка
Незнакомка
Незнакомка
Незнакомка
Незнакомка
Незнакомка
Незнакомка
Незнакомка
В голосе Ее просыпается земная страсть.
Незнакомка
Незнакомка
Плащ Голубого колеблется, исчезая под снегом.
Незнакомка
Незнакомка
(еще тише)
Незнакомка
Голубой молчит.
Незнакомка
Незнакомка
Голубой дремлет, весь осыпанный снегом.
Голубого больше нет. Закрутился голубоватый снежный столб, и кажется, на этом месте и не было никого. Зато рядом с Незнакомкой проходящий господин приподнимает котелок.
Незнакомка
Незнакомка
Незнакомка
Незнакомка
Незнакомка
Незнакомка
Незнакомка покорно дает ему руку.
Незнакомка
Уводит Незнакомку под руку. След их заметает голубой снег.
Звездочет снова на мосту. Он — в тоске. Простирает руки в небо. Поднял взоры.
Тихо плачет. Поэт поднимается на мост из аллеи.
Оба плачут под голубым снегом.
Оба грустят под голубым снегом. Пропадают в нем. И снег грустит. Он запорошил уже и мост, и корабли. Он построил белые стены на канве деревьев, вдоль стен домов, на телеграфных проволоках. И даль земная и даль речная поднялись белыми стенами, так что все бело, кроме сигнальных огней на кораблях и освещенных окон домов. Снежные стены уплотняются. Они кажутся близкими одна к другой. Понемногу открывается —
Третье видение
Большая гостиная комната с белыми стенами, на которых ярко горят электрические лампы. Дверь в переднюю открыта. Тоненький звонок часто извещает о приходе гостей. На диванах, креслах и стульях уже сидят хозяева и гости; хозяйка дома — пожилая дама, как бы проглотившая аршин; перед нею — корзинка с бисквитами, ваза с фруктами и чашка дымящегося чаю; против нее — глухой старик с глупым лицом жует и хлебает. Молодые люди, в безукоризненных смокингах, частью разговаривают с другими дамами, частью толпятся стадами в углах. Общий гул бессмысленных разговоров.
Хозяин дома встречает гостей в передней и каждому сначала деревянным голосом кричит: «А-а-а!», а потом говорит пошлость. В настоящий момент он занят тем же.
Хозяин дома (в передней). А-а-а! Ну и закутались же вы, батюшка!
Голос гостя. И холод же, доложу я вам! В шубе — и то замерз.
Гость сморкается. Так как разговор в гостиной почему-то исчерпался, слышно, как хозяин конфиденциально говорит гостю:
Хозяин. А где шили?
Гость. У Шевалье.
Из двери торчат фалды хозяйского сюртука. Хозяин рассматривает шубу.
Хозяин. А сколько платили?
Гость. Тысячу.
Хозяйка, стараясь замять разговор, кричит:
Хозяйка. Cher[25] Иван Павлович! Идите скорее! Только вас и ждали! Вот, Аркадий Романович обещался нам сегодня спеть!
Аркадий Романович, подходя к хозяйке, делает различные жесты, долженствующие показать, что он невысокого о себе мнения. Хозяйка жестами же старается показать ему обратное.
Молодой человек Жорж. Совершенная дура твоя Серпантини, Миша. Так танцовать, как она вчера, значит — не иметь никакого стыда.
Молодой человек Миша. Ты, Жорж, ровно ничего не понимаешь! Я совершенно влюблен. Это — для немногих. Вспомни, у нее совсем классическая фигура — руки, ноги…
Жорж. Я пошел туда затем, чтобы наслаждаться искусством. На ножки я могу смотреть и в другом месте.
Хозяйка. О чем это вы там, Георгий Николаевич? Ах, о Серпантини! Какой ужас, не правда ли? Во-первых — интерпретировать музыку — это уж одно — наглость. Я так страстно люблю музыку и ни за что, ни за что не допущу, чтоб над ней надругались. Потом — танцовать без костюма — это… это я не знаю, что! Я увела мою дочь.
Жорж. Я совершенно согласен с вами. А вот Михаил Иванович — другого мнения…
Хозяйка. Что вы, Михаил Иванович! По-моему, здесь двух мнений не может быть! Я понимаю, молодые людям свойственно увлекаться, но на публичном концерте… когда ногами изображают Баха… Я сама музыкантша… страстно люблю музыку… Как хотите…
Старик, сидящий против хозяйки, неожиданно и просто выпаливает:
Старик. Публичный дом.
Продолжает хлебать чай и жевать бисквиты. Хозяйка краснеет и обращается к одной из дам.
Миша. Ах, Жорж, все вы ничего не понимаете! Разве это — интерпретация музыки? Серпантини сама — воплощение музыки. Она плывет на волнах звуков, и, кажется, сам плывешь за нею. Неужели тело, его линии, его гармонические движения — сами по себе не поют так же, как звуки? Тот, кто истинно чувствует музыку, не оскорбляется за нее. У вас отвлеченное отношение к музыке…
Жорж. Мечтатель! Завел машину. Строишь какие-то теории и ничего не слушаешь и не видишь. Я о музыке даже не говорю, и мне в конце концов наплевать! И я был бы очень рад видеть все это в отдельном кабинете. Но согласись же, не объявить на афише, что Серпантини будет завернута в одну тряпку, — это значит поставить всех в пренеловкое положение. Если б я знал, я не повел бы туда мою невесту. (Миша рассеянно шарит в корзинке с бисквитами.) Послушай, оставь бисквиты. Ведь противно есть, если все перетрогаешь. Смотри, как на тебя смотрит кузина. А все оттого, что ты рассеян. Эх, мечтатели.
Миша, сконфуженно мыча, удаляется в другой угол.
Старик (внезапно, хозяйке). Нина! Сиди смирно. У тебя на спине платье расстегнулось.
Хозяйка (вспыхнув). Да полно, дядя, нельзя же при всех! Вы слишком… откровенны…
Старается незаметно застегнуть платье. В комнату впархивает молодая дама, за ней идет огромный рыжий господин.
Дама. Ах, здравствуйте, здравствуйте! Вот, позвольте вас познакомить: мой жених.
Рыжий господин. Очень приятно.
Угрюмо удаляется в угол.
Дама. Пожалуйста, не обращайте на него внимания. Он очень застенчив. Ах, представьте, какой случай!..
Торопливо пьет чай и шопотом рассказывает хозяйке что-то пикантное, судя по тому, что обе ерзают по дивану и хихикают.
Дама (вдруг оборачивается к жениху). У тебя мой платок?
Жених угрюмо вытаскивает платок.
Дама. Тебе жалко, что ли?
Рыжий господин (неожиданно угрюмо). Пей, да помалкивай.
Молчат. Пьют. Вбегает молодой человек и радостно бросается к другому. В последнем легко узнать того, кто увел незнакомку.
Молодой человек. Костя, друг, да она у дверей дожида…
Запинается на полуслове. Все становится необычайно странным. Как будто все внезапно вспомнили, что где-то произносились те же слова и в том же порядке. Михаил Иванович смотрит странными глазами на Поэта, который входит в эту минуту. Поэт, бледный, делает общий поклон на пороге притихшей гостиной.
Хозяйка (с натянутым видом). Мы только вас и ждали. Надеюсь, вы прочтете нам что-нибудь. Сегодня престранный вечер! Наша мирная беседа не клеится.
Старик (выпаливает). Точно кто-нибудь умер. Богу душу отдал.
Хозяйка. Ах, дядя, перестаньте! Вы всех окончательно спугнете… Господа! Обновим наш разговор… (Поэту.) Вы прочтете нам что-нибудь, не правда ли?
Поэт. С удовольствием… если это займет…
Хозяйка. Господа! Молчание! Наш прекрасный поэт прочтет нам свое прекрасное стихотворение, и, надеюсь, опять о прекрасной даме…
Все замолкают. Поэт становится у стены, прямо против двери в переднюю, и читает:
Тоненький звонок в передней. Хозяйка умоляюще складывает руки по направлению к Поэту. Он прерывает чтение. Все с любопытством заглядывают в переднюю.
Хозяин. Сию минуту. Прошу извинения.
Выходит в переднюю, но не кричит там: «А-а-а!» Молчание.
Голос хозяина. Чем могу служить?
Женский голос отвечает что-то. Хозяин появляется на пороге.
Хозяин. Ниночка, какая-то дама. Ничего не могу разобрать. Вероятно, к тебе. Извините, господа, извините…
Сконфуженно улыбается во все стороны. Хозяйка идет в переднюю и запирает за собой дверь. Гости шепчутся.
Молодой человек (в углу). Да не может быть…
Другой (прячась за него). Да уверяю тебя… вот скандал!.. Я слышал ее голос…
Поэт стоит неподвижно против дверей. Двери открываются. Хозяйка вводит Незнакомку.
Хозяйка. Господа, приятный сюрприз. Моя очаровательная новая знакомая. Надеюсь, мы примем ее с радостью в наш дружеский кружок. Мария… извините, я не расслышала, как вас называть?
Незнакомка. Мария.
Хозяйка. Но… ваше отчество?
Незнакомка. Мария. Я зову себя: Мария.
Хозяйка. Хорошо, милочка. Я буду звать вас: Мэри. В вас есть некоторая эксцентричность, не правда ли? Но тем веселее мы проведем сегодняшний вечер с нашей восхитительной гостьей. Не правда ли, господа?
Все сконфужены. Неловкое молчание. Хозяин замечает, что один из гостей проскользнул в переднюю, и выходит за ним. Слышен извиняющийся шопот, слова: «не совсем здоров». Поэт стоит неподвижно.
Хозяйка. Итак, может быть, наш прекрасный поэт продолжит прерванное чтение? Дорогая Мэри, когда вы вошли, наш известный поэт как раз читал нам… читал нам.
Поэт. Простите. Позвольте мне прочесть в другой раз. Я так извиняюсь.
Никто не выражает неудовольствия. Поэт подходит к хозяйке, которая некоторое время делает умоляющие жесты, но скоро перестает. Поэт спокойно садится в дальний угол. Задумчиво смотрит на Незнакомку.
Горничная разносит, что полагается. Из общего бессмысленного говора вырывается хохот, отдельные слова и целые фразы:
Нет, как она танцовала! Да ты послушай! Русская интеллигенция…
Кто-то (особенно громко). Да и вам не поймать! Да и вам не поймать!
Все забыли о Поэте. Он медленно поднимается со своего места. Он проводит рукою по лбу. Делает несколько шагов взад и вперед по комнате. По лицу его заметно, что он с мучительным усилием припоминает что-то. В это время из общего говора доносятся слова: «рокфор», «камамбер». Вдруг толстый человек, в страшном увлечении, делая кругообразные жесты, выскакивает на середину комнаты с криком:
Поэт сразу останавливается. Мгновение кажется, что он вспомнил все. Он делает несколько быстрых шагов в сторону Незнакомки. Но дорогу ему заслоняет Звездочет в голубом вицмундире, входящий из передней.
Звездочет. Извините, я в вицмундире и запоздал. Прямо из заседания. Пришлось делать доклад. Астрономия…
Поднимает палец кверху.
Хозяин (подходя). Вот и мы только что говорили о гастрономии. Ниночка, не пора ли ужинать?
Хозяйка (встает). Господа, прошу вас!
Все выходят вслед за нею. В потемневшей гостиной остаются некоторое время Незнакомка, Звездочет и Поэт. Поэт и Звездочет стоят в дверях, готовые выйти. Незнакомка медлит в глубине у темной полуоткрытой занавеси окна.
Звездочет. Нам опять привелось встретиться с вами. Я очень рад. Но пусть обстоятельства нашей первой встречи останутся между нами.
Поэт. Прошу о том же и вас.
Звездочет. Я только что сделал доклад в астрономическом обществе — о том, чему вы были невольным свидетелем. Поразительный факт: звезда первой величины…
Поэт. Да, это очень интересно.
Звездочет (восторженно). Да! Я занес в мои списки новый параграф: «Пала звезда Мария!» Наука в первый раз… Ах, извините, что я не спрашиваю вас о результатах ваших поисков…
Поэт. Поиски мои были безрезультатны.
Он оборачивается в глубь комнаты. Безнадежно смотрит. На лице его — томление, в глазах — пустота и мрак. Он шатается от страшного напряжения. Но он все забыл.
Хозяйка (на пороге). Господа! Идите же в столовую! Я не вижу Мэри…
Грозит им пальцем.
Ах, молодые люди! Вы спрятали куда-нибудь мою Мэри?
Всматривается в глубь комнаты.
Где же Мэри? Да где же Мэри?
У темной занавеси уже нет никого. За окном горит яркая звезда. Падает голубой снег, такой же голубой, как вицмундир исчезнувшего Звездочета.
Роза и крест
Посвящается ***
Действующие лица
Граф Арчимбаут (владелец замка в Лангедоке).
Первый Рыцарь.
Второй Рыцарь.
Алискан, паж.
Бертран, по прозванию Рыцарь-Несчастие, сторож замка.
Гаэтан, сеньор Трауменека, трувер.
Изора, жена графа.
Алиса, ее придворная дама.
Рыцари, вассалы, гости, придворные дамы, поварята и прочая челядь, крестьянские девушки, менестрели и жонглеры.
Действие происходит в начале XIII столетия; первое, третье и четвертое — в Лангедоке; второе — в Бретани.
Действие первое
Двор замка. Сумерки.
(глухо поет)
Алиса (в окне). Кто здесь поет и бормочет?
Бертран. Сторож замка.
Алиса. Ах, это вы, Рыцарь-Несчастие! Прошу вас, отойдите от окна! Моя госпожа нездорова, ее расстраивает ваше пенье.
Бертран. Я отойду.
Переход в замке.
Алиса. Святой отец, как вы меня перепугали!
Капеллан. Я не хотел вас пугать, прекрасная дама.
Алиса. Вы, верно, ждете графа?
Капеллан. Нет, не графа.
Алиса. Или, чтобы паж передал графине…
Капеллан. И не граф, и не графиня, и не паж… вы не очень проницательны, моя красавица…
Алиса. Святой отец, я теряюсь в догадках…
Капеллан (обнимая ее). Дело проще, чем вы думаете, дорогая Алиса.
Алиса. Ваш сан, ваш возраст…
Капеллан. Ну, это я сам знаю, плутовка… ты не откажешься от маленького подарка…
Алиса. Кто-то идет сюда… оставьте меня, я буду кричать!
Капеллан (убегая). Святой Иаков{323}! Хорошо же, я вам это припомню…
Алискан. Кто здесь шепчется в темноте?
Алиса. Это я… прекрасный паж… мне страшно… мне почудилось, что здесь кто-то есть…
Алискан. Без сомнения, Алиса. Сейчас в эту дверь шмыгнуло его преподобие.
Алиса. Гадкий старикашка!
Алискан. Что он вам сделал?
Алиса. Он покушался на мою честь… ах, Алискан, я теряю сознание… я падаю… помогите мне…
Алискан. Что ж я могу сделать? Жалуйтесь графу.
Алиса. И вы не поможете мне, прекрасный паж?
Алискан. Я не понимаю даже, о чем вы говорите, придворная дама. — Проводите меня к вашей госпоже. Она жаждет звуков моей лютни.
Покои Изоры.
(напевает)
Не помню дальше… странная песня! «Радость-Страданье… сердцу закон непреложный…» Помоги вспомнить, Алиса!
Алиса. Чем я могу вам помочь, госпожа, если даже доктор не помогает.
Доктор. Все средства испробованы, но не принесли облегчения больной. Тем не менее, я продолжаю утверждать, вслед за Галленом и Гиппократом, что болезнь называется меланхолией{324}…
Изора. Оставь меня, доктор, ты все равно ничего не поймешь.
Доктор уходит.
«Сердцу закон непреложный…» любить и ждать. «Радость-Страданье…» да, и страданье — радость с милым!.. Не так ли, Алиса?
Алиса (взглядывая на Алискана). Да, госпожа, мне тоже кажется, что так.
Изора. Тоска, тоска, Алиса! — Дай сюда шахматы{325}! — Паж, песню!
Алискан. Спеть вам сегодня песню, которую поют при Аррасском дворе?{326}
Изора. Пой, что хочешь.
Алиса. Ваш ход, госпожа моя.
Изора (играет королевой). Ах!
(напевает)
Алискан. Она положительно сходит с ума…
Алиса. Я думаю, это уже случилось… предпочесть вам… кого же?..
Алискан. И нам придется проскучать всю зиму…
Алиса. Вам грустно, прекрасный паж?
Алискан. Она не придет сюда?
Алиса. Нет, в этот час, вы знаете, она всегда мечтает… и видит сны… В этот час никто не придет сюда.
Обнимает Алискана.
Покои Графа.
Граф. Клянусь святым Иаковом Кампостельским, они приводят меня в бешенство! Ты знаешь, Оттон чуть дышит!
Капеллан. Ваша милость, ума не приложу, о чем вы волнуетесь. Пошлите новый отряд рыцарей, и непокорные вилланы будут уничтожены.
Граф. Давно ли беднягу Клари до полусмерти исколотили дубьем?
Капеллан. У вас есть вассалы получше Оттона и Клари. К тому же, говорят, граф Симон Монфор{328} уже идет из Парижа помочь нам сломить еретиков…
Граф. Когда еще дойдет Монфор!..
Позвать Бертрана!
Входит Бертран.
Капеллан. И греховодник к тому же: пять жен — и ни одного законного сына…
Бертран уходит.
Капеллан. Что верно, то верно! Это не рыцарь, а ворона в рыцарских перьях…
Граф. Почтенный духовник, у меня голова идет кругом…
Капеллан. Э, не беспокойтесь, ваша милость. С дьяволовыми ткачами мы сладим{332}. Обратите лучше внимание на то, что делается в замке…
Граф. Измена?
Капеллан. Нет… но…
Граф. Говори!
Капеллан. Isora, coniunx vestra, aliquantulum male sorbia est.[26]
Граф. Ничего не понимаю! Говори по-человечески!
Капеллан. Супруга вашей милости…
Граф. Моя жена!
Капеллан. На столе у ее постели лежит роман о Флоре…{333}
Граф. Что же из этого?
Капеллан. И о Бланшефлёре… вместо молитвенника. А вы знаете, что романы сочиняют враги святой церкви?
Граф. Крамольники!
Капеллан. Ну да. Самозванного папу чтут люди, которые бьют ваших рыцарей. А людей, которые бьют рыцарей, хвалят сочинители романов…
Граф. Я говорил, что это все — одна шайка!
Капеллан. И всему этому учит вашу супругу ее придворная дама…
Граф. Проклятие! Если бы я знал это прежде!
Капеллан. Спокойствие, ваша милость. Она идет сюда. Расспросите ее, не показывая вида, будто что-нибудь знаете.
Входит Алиса.
Алиса. Ваша светлость, госпожа моя больна…
Граф. Вот как! Давно ли?
Алиса. Сегодня с утра она не принимает пищи…
Капеллан. Слышите, ваша милость…
Граф. Вы звали доктора?
Алиса. Доктор сказал, что болезнь происходит от меланхолии; а там, где избыток меланхолии, тело испорчено, и легко лишиться рассудка…
Граф. Помоги нам, святой Иаков!
Алиса. Госпожа сильно скучает днем, а по ночам мечется, кусает подушки и твердит чье-то имя…
Граф. Чье имя?
Алиса. Я не могла расслышать… кажется, она бормочет: «Странник».
Граф. «Странник»?
Алиса. Так зовут рыцаря… сочинителя песни…
Капеллан. Вот видите, ваша милость: роман родит песню, песня родит рыцаря, а рыцарь родит…
Алиса. Госпожа не может забыть песни с тех пор, как у нас пели жонглеры…
Граф. О чем там поется?
Капеллан. Это известно заранее: о соловье и о розе.
Алиса. Нет, о розе и о соловье там нет ни слова. Я совсем не понимаю песни, хотя госпожа не раз повторяла ее.
Граф. В таком случае, может быть, она сошла с ума!
Алиса. Мне самой приходило это на ум, ваша светлость.
Граф. Изменники! Позвать сюда доктора!
Входит доктор.
Что с моей женой?
Доктор. Melancholia regnat…[27]
Граф. Тысяча проклятий! Они все говорят по-латыни, когда дело касается моей жены!
Доктор. Ваша милость, супруга ваша подвержена меланхолии, которая холодна, суха и горька. Царство меланхолии длится от августовских до февральских ид…
Граф. Святой Иаков! Да ведь февраль уже на дворе!
Доктор. Ничего не поделаешь, придется еще подождать, ваша милость. Скоро начнет прибывать кровь; а когда крови накопится слишком много, мы выпустим ее через нос, как учат древние мудрецы Галлен и Гиппократ…
Капеллан. Здесь скрывается иносказание…
Граф. Святой Иаков, я сам лишаюсь рассудка! Святой отец, что теперь делать?
Капеллан. Положитесь на меня, ваша милость, я дам добрый совет…
Доктор. Idem — melancholia regnat…[28]
Граф. Доктор, ты дождешься виселицы!
Покои Изоры.
Алиса. Госпожа, будьте осторожней, ради бога. Граф встревожен; он, кажется, догадывается, за нами подсматривают. Ваша болезнь — зимняя скука, не более.
Алиса. Все это вам набормотал Рыцарь-Несчастье. Поверьте, весна возвратит вам здоровье и радость…
Алиса. Тише, во имя всех святых! Здесь кто-то есть…
Капеллан (открывая дверь). Так вот какие сны вам снятся! Все передам графу! Вам хватит времени на чтение романов в Круглой башне!
Изора. Что он сказал?
Алиса. Он грозил заточеньем…
Изора. Святой Видиан{334}! Что делать теперь?
Алиса. Не знаю… ждать… покориться…
Изора. Проклятие! — Я разорву им сердце! — Недаром в сердце матери моей течет испанская кровь!
Алиса. Госпожа, тише… кто-то под окном…
Изора (смотрит в окно). Бертран!.. — Рыцарь! Войдите! Осторожней!
Алиса (плачет). Чему поможет этот урод… несчастные мы…
Бертран (входит). Госпожа, чем могу вам служить?
(вкрадчиво)
(удивленный)
(удивленная)
(с любопытством)
Бертран преклоняет колено.
Отходит от него.
(про себя)
Входит Граф, грохоча ржавым ключом.
Граф. Ни слова, изменница! Я знаю все! (Бертрану.) Зачем ты здесь?
Алиса. Ваша светлость, он сам ворвался сюда!..
Граф. Негодяй! Я убил бы тебя на месте, если б ты не был так жалок! Урод! Собака! — Какой прекрасный вкус для придворной дамы!..
Алиса. Ваша светлость…
Граф. Молчите! Низкая тварь! Вот чем занимаетесь вы, вместо того, чтобы следить за нею! Вы разделите участь вашей госпожи! (Изоре.) Или вы хотите вернуться в свои Толозанские Муки? За все заботы вы платите мне золотом Тулузы!{336}
Изора. Мой повелитель, я послушна вам.
Граф. Вы поняли, что спорить со мной бесполезно! Сейчас, не медля, — в Башню Неутешной Вдовы! И да поможет вам исправиться святой Иаков Кампостельский! — Ступайте!
Изора и Алиса уходят.
А ты, несчастный урод, умеешь только каркать, как ворона, и приставать к придворным дамам! Ты забыл, может быть, мое порученье!
Бертран. Я еду, как вы сказали, сегодня в ночь.
Граф. Все узнай! Я буду ждать месяц, два месяца! Если вести твои будут также плохи, — не сносить тебе головы! Если же ты привезешь мне доброе о графе Монфоре, — я прощу тебя, Рыцарь-Несчастье!
Уходит вслед Изоре.
Действие второе
Берег океана.
Бертран (на коне). Куда я заехал? Снег слепит глаза, ветер свистит в уши! Безумец! Все равно — вперед, усталый конь!
Скрывается за камнем.
Рыбак. С нами крестная сила! За снегом ничего не разобрать! Был рыцарь, теперь — ты! Я думал, это мой голос раздается в скалах. Или ты призрак?
Гаэтан. Ты кричишь на меня, однако поешь мою песню.
Рыбак. Какую твою песню? Сумасшедший ты, что ли? Эту песню поют и в Плугасну, и в Плуэзеке, и у нас, в Плугерно.
Гаэтан. А где был город Кэр-Ис?
Рыбак. Да, говорят, здесь неподалеку. Видишь ту кучу камней на берегу?
Гаэтан. Вижу. Впереди — лев, потом — конь…
Рыбак. Никакого там нет коня, а просто — камни, и в камнях — заводь. Туда летом заплывают самые жирные крабы. Вот там, говорят, и ходит каждый сочельник святой Гвеннолэ. — А тебя откуда бог несет?
Гаэтан. Я — из Трауменека{338}.
Рыбак. Трауменека? — Не слыхал что-то.
Гаэтан. Ведь здесь недалеко Аберврак?
Рыбак. Ну да, монастырь…
Гаэтан. Так мимо монастырского сада — к колодцу, от колодца — в гору, до первых домов Ландеда…
Рыбак. Кто же не знает Ландеда! Мы все туда на праздник ходим…{339}
Гаэтан. Поверни, не доходя до церкви, налево, полем, там скоро и будет Трауменек.
Рыбак. Этот замок называется — Трауменек?
Гаэтан. Ну, разумеется, да.
Рыбак. Так это — Трауменек… И чудак же, должно быть, тамошний сеньер!
Гаэтан. Почему ты думаешь?
Рыбак. Не я один, все так; он, говорят, сам пасет свое стадо; а стадо у него всего-навсего три петуха. Живет бедно, должно быть скупой. Другие рыцари пируют и дерутся на турнирах, а этот знай бродит да рассказывает сказки… А ты чем там занимаешься?
Гаэтан. Признаться, рыбак, ведь это я и есть сеньер Трауменека.
Рыбак. С нами крестная сила! Не подумайте, сеньер, что я — в насмешку, мало ли чего у нас…
Гаэтан. Это правда, рыбак. У меня — крест на груди, а крест дается не для забавы…
Рыбак. Крест на груди, а я-то и не разобрал сразу… Конечно, господин, для богатых людей закон не писан…
Бертран (возвращается). Опять тот же камень! — Кто там? Эй, бродяга!
Гаэтан. Не кричи зря на людей. Сам ты кто?
Бертран. Рыцарь.
Гаэтан. А я — сеньер.
Бертран. Ты что-то не похож на сеньера.
Гаэтан. Я докажу тебе, что это правда! Берись за меч!
Сражаются.
Рыбак (убегая). Спаси, господи! Эти рыцари вечно дерутся!
Бертран. Плохо ты бьешься, сеньер! Проси пощады, или я отрублю тебе голову!
Гаэтан (снимая шлем). Прошу пощады. Ты видишь, я стар.
Бертран. Не стоило мне тупить свой меч, старик! — Обещай исполнить то, о чем я тебя попрошу.
Гаэтан. Ты нравишься мне, и я исполню, что ты попросишь. Не откажись отдохнуть у меня в Трауменеке.
Бертран. Спасибо. Я не устал, но конь мой устал от долгого пути.
Двор Трауменека.
(вслушиваясь)
Берег океана.
Гаэтан и Бертран на конях.
Действие третье
Покои Графа.
Кухня замка. Поварята безобразничают.
Повар. Он, говорят, так и спит — с ключом от башни. С тех пор никому у нас нельзя громко слова сказать.
Доктор. А видел ты, что у него на голове? — Как у чорта на картинке. Два месяца не стригся. Когда улыбается, скалит зубы по-собачьи. Никому не верит, кроме его преподобия. А между нами говоря, святой отец…
Повар. Потише, потише, здесь и у стен есть уши. — Да замолчите ли вы, сорванцы? — Ну, готово теперь, что еще?
Доктор. Теперь подсыпь немного ивовой коры{348}…
Капеллан (входит). Святители, какой пирог! Для кого же это?
Повар. Для ее светлости, графини Изоры.
Капеллан. Постой, постой… Что ты здесь толчешься, доктор?
Доктор. Немного salix alba…[29] от меланхолии…
Капеллан. Это — яд?
Доктор. Простое слабительное, ваше преподобие…
Капеллан. Дай-ка мне отведать.
Алискан (входя). Ваше преподобие, я ищу вас всюду.
Капеллан (жуя). Что вам от меня надо, молодой человек?
Алискан. Сегодня я встаю на ночную стражу…{349}
Незаметно сует повару записку.
Записку в пирог, получишь червонец.
Капеллан. А приняли вы очистительную ванну?
Алискан. Принял, ваше преподобие.
Капеллан. А сколько времени вы постились?
Алискан. Два месяца, ваше преподобие.
Капеллан. Идите в капеллу, молодой человек: завтра за обедней мы посвятим вас в рыцари.
Алискан. Я готов.
Повар. Готово, ваше преподобие.
Доктор. А ты прибавил коры?
Капеллан. Закрывай блюдо и неси за мной.
Башня Неутешной Вдовы.
Изора. Боже Милосердный! Легче быть рабыней у армянина, лучше таскать камни и бревна! — Алиса! Подойди сюда!
Алиса. Что вам угодно, госпожа?
Изора. Я умираю с тоски, Алиса.
Алиса. Терпите. Ярость любого дракона можно смягчить кротостью.
Изора. Все твои утешения я знаю наизусть. Давай поиграем лучше.
Алиса. В шахматы или в шашки?
Изора. Нет… представь себе: я слушаю мессу, а он переоделся клерком; в церкви темно… негодяй следит за мною… Клерк подходит с молитвенником… дай сюда книгу!
Алиса. Вот — роман о Флоре.
Изора. Подойди, как он… вот так. Что он шепнет, пока я целую молитвенник?
Алиса. Конечно, он вздохнет прежде всего…
Изора. Вот, я целую молитвенник… он сказал: «Ах»; что же мне отвечать?
Алиса. Сначала надо ответить осторожно; например: «Что с вами, рыцарь?»
Изора. Ну, да… «Что с вами, рыцарь?» — Что же он?
Алиса. Он говорит: «Умираю».
Изора (входя в роль). «Отчего?»
Алиса. «От любви».
Изора. «Вы любите?.. кого?..»
Алиса. «Вас».
Изора (опуская глаза). «Что я могу?»
Алиса. «Исцелить меня».
Изора. «Как?»
Алиса. «Хитростью».
Изора. «Я надеюсь на вас…»
Алиса. «Я готов».
Изора. «На что?»
Алиса. «Я приду…»
Изора. «Куда?»
Алиса. «В Башню Неутешной Вдовы…»
Изора. «Как?»
Алиса. «Потайным ходом».
Изора. «Когда?»
Стук в дверь.
Алиса. Граф!
Изора (увлекшись). «Когда? Когда?» — Боже! Он слышал все!
Убегает. Входят Граф и Капеллан.
Граф. Дай пирог! Открывает крышку. Где же верх пирога?
Капеллан. Я скушал его, заботясь о вашей чести…
Граф. Изменник! При чем тут моя честь?
Капеллан. Во-первых, в пироги иногда кладут яд. Во-вторых, кушанья служат средством для передачи записок…
Граф. Святой отец! Ты предусмотрительней меня! Прости, что я тебя оскорбил! — Где жена?
Алиса. Она совершает вечернюю молитву.
Граф. Пускай помолится, — и да поможет ей святой Иаков.
Алиса. Ваша светлость, на что вы похожи! В два месяца так перемениться!
Граф. Я знаю, что делаю… лучше припрятать молодую жену в надежное место, чем попусту терять время и труд… Как чувствует она себя?
Алиса. День ото дня теряет сон и аппетит.
Граф. Ей, пожалуй, опять что-нибудь снится?
Алиса. Еще вчера… рыцарь…
Граф. Опять!
Алиса. Прекрасный, как святой Губерт{351}…
Граф. Проклятие!
Алиса. И притом, черты его напоминали ваши черты…
Граф. Мои? — Это хорошо. Очевидно, дело идет на лад, если ей начинают сниться такие сны!
Алиса. У госпожи есть одно смиренное желание, она не смеет вам признаться…
Граф. Говорите и не бойтесь! Арчимбаут щедр!
Алиса. Увещания святого отца помогли ей… она хотела бы помолиться в церкви… мы только что говорили об этом…
Граф. Доволен ты, святой отец?
Капеллан. Если моя смиренная молитва помогла заблудшему чаду…
Алиса делает ей знак.
Уходит с Капелланом.
(глядя на розу в окне)
Давай хоть ужинать, Алиса! Разрежь пирог…
Алиса (режет пирог). Ах!
Изора. Что с тобой? — Что ты там прячешь?
Алиса. Нет, ничего…
Изора (вырывая записку). Дай сюда! Вот он, наконец!
Алиса. Госпожа…
Изора (читает). «Дама, чьи уста алее розы, чей голос звонче соловьиного пения, дайте мне знак. Я буду ждать восхода луны…» О, как сладостен язык его любви! — Какого же знака он ждет?
Алиса. Опомнитесь… это не вам…
Изора. Сон, или счастье?.. Честный Бертран!.. Или все — сон?.. — Алиса, у тебя будут шелковые ткани, драгоценные камни… и самый красивый валет… Святой Видиан! Какой это знак?
Розовая заросль.
Башня Неутешной Вдовы. Вдали — перекличка ночных сторожей{352}.
Алиса. Полночь прошла, госпожа. Я задвину бесполезную плиту. Граф может войти и увидеть…
Изора. Делай, что хочешь, мне не на что больше надеяться.
Алиса. Ведь я говорила, что записка не к вам…
Изора. Кто посмеет писать записки другим?
Алиса. Госпожа… валет прислал ее мне…
Изора. Не лги! Меня все равно не утешишь…
Алиса. Я задвигаю плиту…
Изора. Заклинаю тебя ангелами, архангелами, всеми силами небесными, ты придешь ко мне! Святой Видиан, сжалься надо мною!
Алиса. Госпожа… вы больны… ложитесь…
Изора. Оставь меня, уйди!
Алиса уходит.
Падает на колени. В лунном луче, над плитой, является образ Гаэтана.
(за дверью)
(срывая розу в окне)
Падает без чувств. Дверь открывается. Образ исчезает. Входят Алиса и Граф.
Граф. Что с ней?
Алиса. Вы слышали крик? Она лишилась рассудка! Вот до чего довела ее тюрьма!
Граф. Воды! Приведите ее в чувство! — Еще! Она приходит в себя! Она свободна, — скажите ей! Завтра — май! Бертран привез жонглера! Мы развеселим ее! Только приведите ее в чувство!
Двор замка.
Действие четвертое
Цветущий луг. Рассвет.
(с цветком в руке)
Эта глупая дама, может быть, думает, что я в ней нуждаюсь! Она не могла не получить записки… и однако… я ждал всю ночь… знака не было! Хорошо же, она раскается! Да, по правде сказать, мне смертельно надоела ее навязчивость…
Розовая заросль.
(несет одежду жонглера)
(просыпаясь)
(прячет розу под панцырь)
Цветущий луг.
(с майским деревом{356}, поют)
Во время песни собираются все участники празднества — от обедни: Граф с придворными, вассалами, гостями и рыцарями, Изора с дамами. Трубы.
Бертран (выходя из толпы). Одно слово, ваша светлость!
Граф. Ты что-то осмелел, Рыцарь-Несчастье! По лицу твоему вижу, что ты собираешься говорить некстати! Нам и так весело, едва ли ты прибавишь веселья!
Бертран. Господин Монфор далеко…
Граф. Ты сам сказал, на Толозанской дороге!
Бертран. Толозанская дорога длинна… Народ волнуется…
Граф (указывая на девушек). Вот наш народ!
Бертран. Альби, Каркассон, Валь д'Аран объяты восстаньем…
Граф. Довольно! Шуты веселей тебя! Я больше не слушаю! Трубы! — Пускай приблизится сюда наш верный Алискан!
Бертран уходит в толпу. Алискан преклоняет колено, Граф наносит ему легкий удар мечом плашмя. Рыцари привязывают золотые шпоры.
Алискан. Дама, позволите ли мне быть вашим рыцарем?
Изора рассеянно протягивает руку для поцелуя, Алискан садится у ее ног.
Завтра — турнир, и ты покажешь пример всем рыцарям! Теперь — пускай усладят нам слух певцы.
Первый менестрель выходит из толпы.
Изора (Алисе). Это новый менестрель?
Алиса. Нет. Другой.
Алискан. Прошлогодний.
Изора. Рыцарь, я не просила вас шутить.
Менестрель (поет){358}
Граф. Что-то уж очень воинственна твоя песня, жонглер! Военные заботы и так утомили нас! Пускай другой споет что-нибудь повеселее!
Второй менестрель
(поет){359}
Граф. Певцу за сладкую песню лучшее платье с моего плеча! — Пей и ешь с нами, рассказывай нам сказки все лето!
Изора. Где же новый менестрель?
Алиса. Вот он выходит из круга…
Изора. Который?
Алиса. Видите, одежда блестит…
Изора. Этот маленький, в бубенчиках?
Алискан. Да он ростом с великана…
Изора. Рыцарь, не говорите со мной! — Стройный, светлокудрый?
Алиса. Нет, седые волосы блестят на солнце…
Изора (равнодушно откидываясь на спинку скамьи). Старик!
(поет){360}
Во время песни Изора, волнуясь, наклоняется вперед и незаметно для себя опирается на плечо Алискана.
Алиса. Ей дурно, помогите!
Алискан. Помогите!
Изора (лишаясь чувств). Этот голос мне снился!
Граф. Старик, или ты забыл, что в природе — весна? Твоя песня пахнет мокрым февралем, как твои седины! Нечего сказать, веселого скомороха привез нам Рыцарь-Несчастье!
Гаэтан пропадает в толпе.
Изора (приходя в себя). «Радость-Страданье»… страданье…
Алиса. Госпожа бредит!
Изора. Нет… мне легко… где старик?
Алискан. Старик исчез.
Изора. Паж… рыцарь! Помогите мне.
Граф. Трубачи, трубите! Шутов сюда!{361}
Выбегают жонглеры.
Первый жонглер. Рыцари, бароны и прекрасные дамы! Я расскажу о славном короле Артуре…
Второй жонглер. Не слушайте его, благородные рыцари! Я играю на цитре и хожу на голове!..
Граф. Веселей, шуты, старайтесь, выходите из себя!
Первый жонглер. Я спою о верных любовниках: о Геро и о Леандре! О Елене и о Парисе!
Второй жонглер. А я пляшу на канате, прыгаю в обруч, играю ножами!
Изора. Вы льстите мне, рыцарь…
Первый жонглер. А вот как Нарцисс смотрел в воду и утонул…
Второй жонглер. Вам угодно шлемов для зайцев? Уздечек для коров? Перчаток для собак? — Имейте в виду, я ставлю также банки быкам и пускаю кровь кошкам!
Издали доносятся звуки труб.
Рыцарь. Ваша светлость! Враги! Крест на красном поле{362}!
Граф. Знамя Тулузы! — Поднимите мост!
Вассалы. На коней! — К оружию! — Ткачи! — Во имя бога и Монфора!
Бертран (бросаясь в битву). Святая Роза!
Переход в замке.
Первый Рыцарь
Второй Рыцарь
Первый Рыцарь
Второй Рыцарь
Первый Рыцарь
Второй Рыцарь
Первый Рыцарь
Входят Граф и вассалы.
Второй Рыцарь
Первый Рыцарь
Второй Рыцарь
Все расходятся.
Алиса (входит). Святой отец!
Капеллан. Что, дочь моя?
Алиса. Душа моя больна…
Капеллан. Завтра, завтра, уж поздно, какая теперь исповедь…
Алиса. Но, отец мой…
Капеллан. Впрочем, сегодня, близ полуночи, я буду на дворе…
Алиса. Я тоже буду там, святой отец…
Расходятся.
Второй Рыцарь
Второй Рыцарь
Второй Рыцарь
Рыцарь уходит.
(появляется на верху лестницы)
Двор замка.
Алискан. Как же мне взобраться по голому стволу?
Изора (в окне). Ты, Алискан?
Алискан. Я.
Изора. Ко мне! сюда!
Алискан. Это — Рыцарь-Несчастие. Благодарю вас, Бертран!
Изора. Бертран, это вы?
Бертран. Я, госпожа.
Изора. Как ночь прекрасна!
Бертран. Да, госпожа.
Скрывается в окне.
Входят Капеллан и Алиса.
Капеллан. Теперь вы не откажетесь от этого подарка, красавица…
Алиса. Ах! какой красивый перстень!
Капеллан. Драгоценный, плутовка…
Алиса. Святой отец, ваш сан…
Капеллан. А чем я хуже рыцаря?
Алиса. Ах, рыцари такие обманщики…
Капеллан. О, я вас не обману… — Тише! Слышите… шопот? И будто… звук поцелуя…
Алиса. Да…
Капеллан. Послушаем еще.
Луна освещает Бертрана.
Алиса. Святые угодники!.. там сторож… у стены…
Капеллан. Да… он.
Алиса. Уйдем…
Капеллан. Зачем он здесь?
Алиса. Не ходите, святой отец… я боюсь… не знаю чего… смотрите… он неподвижен… лицо белее холста… черное пятно на груди…
Капеллан. Уйдем… разбудим графа…
Бертран со звоном роняет меч на плиты.
Алискан быстро спускается по стволу яблони и бежит.
Слышны голоса, Изора скрывается в окне. Входят Граф, Капеллан, Алиса, Доктор, рыцари.
Граф. Что случилось? Зачем ты разбудил меня?
Капеллан. Ваша милость, мне почудилось недоброе…
Алиса. Подозрительно… в окне у госпожи…
Граф. Бертран! — Рыцарь-Несчастье! — Сторож! Ты спишь?
Доктор. Ваша светлость, он мертв.
Изора (в окне). Зачем меня будят так рано?
Граф. Это вы? Вы не спите?
Изора. Если вы не верите мне, можете обыскать мои покои… Что случилось?
Граф. Сторож умер здесь на дворе…
Доктор. Сколько крови! Сколько крови!
Граф. Какая досада! Кто же теперь будет стеречь замок? — Изора, что с вами? — Вы плачете?
Изора. Мне жаль его. Он был все-таки верным слугой.
Приложения
К поэме «Возмездие»
1. Планы поэмы
24 февраля <1911>
У моего героя не было событий в жизни. Он жил с родными тихой жизнью в победоносцевском периоде. С детства он молчал, и все сильнее в нем накоплялось волнение, беспокойное и неопределенное. Между тем близилась Цусима и кровавые зори 9 Января. Он ко всему относился как поэт, был мистиком, в окружающей тревоге видел предвестие конца мира. Всё разрастающиеся события были для него только образами развертывающегося xaocа. Скоро волнение его нашло себе русло: он попал в общество людей, у которых не сходили с языка слова «революция», «мятеж», «анархия», «безумие». Здесь были красивые женщины «с вечно смятой розой на груди»{365} — с приподнятой головой и приоткрытыми губами. Вино лилось рекой. Каждый «безумствовал», каждый хотел разрушить семью, домашний очаг — свой вместе с чужим. Герой мой с головой ушел в эту сумасшедшую игру, в то неопределенно-бурное миросозерцание, которое смеялось над всем, полагая, что все понимает. Однажды, с совершенно пустой головой, легкий, беспечный, но уже с таящимся в душе протестом против своего бесцельного и губительного существования, вбежал он на лестницу своего дома.
На столе лежало два письма: одно — надушенное, безграмотное и страстное… Потом он распечатал второе. Здесь его извещали кратко, что отец его находится при смерти в варшавской больнице.
Оставив все, он бросился в Варшаву. Одиночество в вагоне. «Жандармы, рельсы, фонари»{366}… Первые впечатления Варшавы.
21 февраля 1913
Пролог («Жизнь без начала и конца»).
Глава I. Петербург конца 70-х годов. Турецкая война и 1 марта. Это — фон. Семья и появление в ней «демона». Скучая, увозит молодую жену в Варшаву. Через год она возвращается: «бледна, измучена, ребенок золотокудрый на руках».
Глава II. Петербург 90-х годов. Царь. Тройки, вдова Клико. Воспитание сына у матери. Юность, видения, весенний пыл, роман (еще удачливый). Первая мазурка. Приближение революции, весть о приближающейся кончине отца.
Глава III. Приезд в Варшаву. Смерть отца. Тоска, мороз, ночь. Вторая мазурка. «Ее» появление. Зачат сын.
Глава IV. Возвращение в Петербург. Красные зори, черные ночи. Гибель его (уже неудачливый). Баррикада.
Эпилог. Третья мазурка. Где-то в бедной комнате, в каком-то городе растет мальчик.
Два лейтмотива: один — жизнь идет, как пехота, безнадежно. Другой — мазурка.
21. IX. 1913
Дед светел. В семью является демон, чтобы родить сына (первый «отбор»).
Детство и юность сына. Розовый туман, пар над лугами. Любовь. Опять война — и за нею революция. Встреча — как рыцарь, закованный в броню, — лица не видно. Безумие холодной страсти, так и нет лица. Утром — записка: «Смертельно болен ваш отец».
Вся тоска — только для встречи с «простой». Все лицо, пленительное все. Зачатие сына (последний отбор, что сулит?).
Октябрь 1913
В 70-х годах жизнь идет «ровно» (сравнительно. Лейтмотив — пехота). Это оттого, что деды верят в дело. Есть незыблемое основание, почва под ногами. Уже кругом — 1 марта. И вот — предвестием входит в семью «демон».
Октябрь 1911
… Но уже на все это глядят чьи-то холодные глаза. В дружной семье появляется «странный незнакомец»…
… И ребенка окружили всеми заботами, всем теплом, которое еще осталось в семье, где дети выросли и смотрят прочь, а старики уже болеют, становятся равнодушнее, друзей не так много, а друзья уже не те — свободолюбивые, пламенные. Теперь — апухтинская нотка.
Семья, идущая как бы на убыль, старикам суждено окончить дни в глуши победоносцевского периода. Теперь уже то, что растет, — растет не по-ихнему, они этого не видят, им виден только мрак. Тут и начинается: золотое детство, елка, дворянское баловство, няня, Пушкин (опять и опять!), потом — гимназия — сначала утра при лампе, потом великопостные сумерки с трескающимся льдом и ветром. Петербург рождается новый, напророченный «обскурантом» Достоевским
Пускай, наконец, «герой» воплотится. Пусть его зовут Дмитрием (как хотели назвать меня).
План первой части (1878–1881)
Чему радуется Петербург? Солнечный сентябрь 1878. Войска наши возвращаются от стен Цареграда. Их держали в карантине, довезли до Александровской станции и теперь по одному полку в день вводят в город по шоссе от Пулкова. Трибуны у Московской заставы, там императрица и двор. Народ по всему пути. Из окон летят цветы и папиросы на «серые груди». Идут усталые и разреженные полки. У командиров полков, батальонов — всюду цветы, на седле, на лошадиной челке. У каждого солдата — букет цветов на штыке. Тяжелая, усталая пехота идет через весь город — по Забалканскому, Гороховой, Морской… Адреса, речи. Гренадеры, бывшие у Московской заставы утром, дошли до казарм только в 6-м часу.
За ними Плевна, Шипка, Горный Дубняк. Шапки и темляки будут украшены. Но за ними еще — голод, лохмотья, спотыканье по снегу на Балканах, кровь, холод, смерть, хуже смерти — воровство интендантов.
В этой поэме я хочу указать на пропасть между общественным и личным, пропасть, которая становится все глубже [30].
10 октября <1911> на рассвете.
Начало — на рубеже 70—80-х годов. Прекрасная семья. Гостеприимство — стародворянское, думы — светлые, чувства — простые и строгие.
Реформы отшумели. Еще жива память об измене Каткова{368}. Рядом «злится» Щедрин, Достоевский — обскурант.
Все заволакивается. 1-е марта. Победоносцев бесшумно садится па трон, как сова. Около этого времени в семье появляется черная птица: молодой мрачный (байронист) — предвестие индивидуализма, неудачник Александр Львович Блок. Приготовляется индивидуализм, это значит старинное «общественное» (миродержание) отпускается с миром, просыпается и готов зашуметь народ.
Вся суть в том, что прелесть той семьи так заметна, потому что все тогдашние прекрасные передовые русские люди носили в себе мир — при всеобщем сне. То были герои еще (дракон, спящая царевна). То. что кажется «наивным» теперь, тогда не было наивно, но было сораспятием. Профессор лучших времен Петербургского университета{369} был тем самым общественным деятелем, он берег Россию. То, что Щедрин говорит о современных ему урядниках и полицейских («Современная идиллия») — верно, не шарж. Тогда и казалось, что есть и было на самом деле только две силы: сила тупой и темной «византийской» реакции — и сила светлая — русский либерализм. Единицы держат Россию, составляя «общественное мнение». —
Ну, а «Народная воля»?
Итак, — священен кабинет деда, где вечером и ночью совещаются общественные деятели, конспирируют, разрешают самые общие политические вопросы (а в университете их тем временем разрешают, как всегда, студенты), — а утром маленький внук, будущий индивидуалист, пачкает и рвет «Жизнь животных» Брэма, и няня читает с ним долго-долго, внимательно, изо дня в день:
Внук читает с няней в дедушкином кабинете (Кот Мурлыка{371}, Андерсен, Топелиус{372}), а на другом конце квартиры веселится молодежь. Молодая мать, тройки, разношерстые молодые люди — и кудластые студенты, и молодые военные (милютинская{373} закваска), апухтинское: вечера и ночи, ребенок не замешан, спит в кроватке, чисто и тепло, а на улице — уютный, толстый снег, шампанское для молодости, еще беспечной, не «раздвоенной», ничем не отравленной, по-старинному веселой. Еще все дешево — и ямщицкий начай, и кабинет, и вдова Клико (кажется, в то время).
Весна 1911
Семья начинает тяготить. И вот — его уже томит новое. Когда говеет гимназистом — синяя весна, сумерки, ладан, и лед звездится на лужах. Скоро мы встречаем его уже в обществе другом. Еврейка. Неутомимость и тяжелый плен страстей.
На фоне каждой семьи встают ее мятежные отрасли — укором, тревогой, мятежом. Может быть, они хуже остальных, может быть, они сами осуждены на погибель, они беспокоят и губят своих, но они — правы новизною. Они способствуют выработке человека. Они обыкновенно сами бесплодны. Они — последние. В них все замыкается. Им нет выхода из собственного мятежа — ни в любви, ни в детях, ни в образовании новых семей.
Хотя они разрывают с семьей, но разрывают тем и ее. Они любимцы, баловни, если не судьбы, то семьи. Они всегда «демоиичны». Они жестоки и вызывающи. Они бросают перчатку судьбе. Они — едкая соль земли. И они — предвестники лучшего.
<1911>
После «А мир прекрасен, как всегда».
Я стою ночью у решотки Саксонского сада и слышу завывание ветра, звон шпор и храп коня. Скоро все сливается и вырастает в определенную музыку. Над Варшавой порхают боевые звуки — легкая мазурка.
Цынцырны — цынцырны — цынцырны — цыцы.
_____________________________________
И пахнет клевером с берегов Немана. Что за чудеса? Я замерзаю и слышу во сне райские звуки. Меня пробуждает…
План дальнейшего
<Январъ 1911>
Бесконечно прав тот, кто опускает руки, кто отказывается от поверхностных радостей жизни.
Сын спускался по Краковскому предместью, в том самом месте…
9-я глава: человек, опускающий руки и опускающийся, прав. Нечего спорить против этого. Все так ужасно, что личная гибель, зарывание своей души в землю — есть право каждого. Это — возмездие той кучке олигархии, которая угнетает весь мир. Также и «страна под бременем обид»{374}…
2. Наброски продолжения второй главы
24 января 1921
Пропадая на целые дни — до заката, он очерчивает все большие и большие круги вокруг родной усадьбы. Все новые долины, болота и рощи, за болотами опять холмы, и со всех холмов, то в большем, то в меньшем удалении, — высокая ель на гумне и шатер серебристого тополя над домом.
Он проезжает деревни, сначала ближние, потом — незнакомые. Молодухи и девки у колодца. Зачерпнула воды, наклонилась, надевает ведра на коромысло, слышит топот коня, заслонилась от солнца, взглянула и засмеялась — блеснули глаза и зубы — и отвернулась, и пошла плавно прочь. Он смотрит вслед, как она качает стан, и долго ничего нс видит, кроме этих смеющихся зубов, и поднимает лошадь в галоп. Она переходит в карьер, он летит без оглядки, солнце палит, и ветер свистит в ушах, уже вся деревня промелькнула мимо — последние сараи, конопля, поля ржаные, голубые полоски льна, — опять перелесок, он остановил лошадь, она пошла шагом, тень, колеи, корни, из-за стволов старых смотрит большая заросль белой серебрянки, как дым, как видение.
Долго он объезжал окрестные холмы и поля, и уже давно его внимание было привлечено зубчатой полоской леса на гребне холма на горизонте. Под этой полосой, на крутом спуске с холма, лежала деревня. Он поехал туда весной, и уже солнце было на закате, когда он въехал в старую березовую рощу под холмом. Косые лучи заката — облака окрасились в пурпур, видение средневековой твердыни{379}. Он минует деревню и подъезжает к лесу, едет шагом мимо него; вдруг — дорожка в лесу, он сворачивает, заставляя лошадь перепрыгнуть через канаву, за сыростью и мраком виден новый просвет, он выезжает на поляну, перед ним открывается новая необъятная незнакомая даль, а сбоку — фруктовый сад. Розовая девушка, лепестки яблони — он перестает быть мальчиком.
Январь и май — июль 1921
3. Наброски окончания третьей главы
— Мне жить надоело. — Я тебя не оставлю. Ты умрешь со мной. Ты одинок? — Да, одинок. — Я зарою тебя там, где никто не узнает, и поставлю крест, и весной над тобой расцветет клевер.
И он умирает в ее объятиях. Все неясные порывы, невоплощенные мысли, воля к подвигу, [никогда] не совершенному, растворяется на груди этой женщины.
Май — июль 1921
К драме «Роза и крест»
1. Примечания к драме «Роза и крест»
(Данные примечания разнесены по тексту драмы в виде комментариев с пометкой (коммент. А. Блока — верстальщик).
2. Записки Бертрана, написанные им за несколько часов до смерти
Я, Бертран, сын простого тулузского ткача, с малых лет попал на службу в замок графа Арчимбаута в Лангедоке. За долгую службу граф опоясал меня мечом. Посвящение мое в рыцари прошло незаметно, и никакая дама не дала мне ни шарфа, ни пояса, но сам я, втайне от всех, избрал дамою своего сердца прекрасную супругу моего господина — графиню Изору. Жизнь моя так и протекла бы в неустанных заботах об охране замка, которые были все возложены на меня; я мог бы проводить еще долгие ночи на страже во дворе замка, так как силу не спать, по бодрствовать мне давала любовь к той, чье окно выходило на мой пустой двор; но случилось происшествие, которое дало толчок к перемене всей моей судьбы.
Однажды во время турнира, в минуту, когда я почувствовал непобедимую усталость после бессонных ночей, чужой рыцарь — великан с дельфином в гербе — вышиб меня из седла подлым ударом и наступил мне ногой на грудь. Горя стыдом и гневом, я умолял его пронзить мне сердце; но госпожа махнула платком, и меня пощадили. С тех пор никто не давал мне проходу, все стали смеяться мне прямо в лицо. Вероятно, и она смеялась надо мной за глаза, но любовь моя к ней не умерла, а только чувство горечи примешалось к ней, потому что я чувствовал себя ей обязанным моей, хотя и несчастной, жизнью; я решил тогда доживать свой век, редко позволяя себе утешаться мыслями о смерти и полагая, что мне уже ничем не смыть того унижения, которое так неожиданно на меня обрушилось.
Тем временем окрестные крестьяне, которых здесь зовут презрительно «ткачами», стали все чаще совершать набеги на замок, а иногда нападать и на наших рыцарей, которых заставали врасплох на дороге. Таким образом они напали на Оттона и на Клари; правда, их не убили, а только исколотили дубьем до полусмерти. Это было ответом на вызывающее поведение нашего двора; графу случалось для потехи устраивать облавы на крестьян, как на диких зверей, а иногда рыцари наши, наскучив турнирами, пирами и песнями, охотились за девушками из соседних деревень.
Видя все это, я не мог оставаться равнодушным, но также не мог ничем помочь беде, так как был только ночным сторожем и разведчиком и, в унижении моем, не имел даже голоса, чтобы умолить моего господина оставить жестокие забавы и предостеречь его от грозящих неприятностей. Может быть, — да простит меня бог, — в моей оскорбленной душе жило грешное чувство злорадства, ибо тот, кто унижал меня не совсем справедливо, сам не был чист. Особенно же мучило меня и восстановляло против господина — его отношение к молодой графине, на которую он не обращал никакого внимания, не умея ничем занять свою прекрасную супругу, которой было только семнадцать лет. Молодые женщины требуют внимания и забот, а те из них, которые отличаются пылким нравом, умеют сами занять себя, когда их не занимает супруг.
Невнимание моего господина к прекрасной Изоре, которая отличалась пылким нравом, не замедлило сказаться. Юная графиня приблизила к себе своего молодого пажа Алискана, и я был иногда свидетелем того, как она резвилась на зеленом лугу среди цветов, приподнимая платье от вечерней росы, с этим красивым мальчиком, а он преследовал ее, как мотылек преследует пеструю бабочку.
Наступила весна этого тяжелого года, когда невинные забавы молодой графини были неожиданно прерваны. Заезжий жонглер спел в замке странную песню, которая произвела глубокое впечатление на прекрасную Изору; она отстранила от себя пажа и предалась непонятной ни для кого тоске. Напрасно размышлял я о том, чем волнует ее песня, из которой мне запомнились ярко слова о том, что беда и утраты преследуют человека всюду и нет для него иного спасения, кроме креста. В песне этой говорилось также о море, о снеге и Радости Страданья. Я помню утро, когда я, по обыкновению, стоя на страже во дворе замка, размышлял о своей несчастной судьбе, о неразделенной любви и о том, как может Страдание быть Радостью. Эти слова песни влекли меня, но я не знаю, сам ли я чувствовал скрытый за ними тайный смысл или чувствовать его меня заставляла любовь к той, для кого в те дни эта песня была предметом всех стремлений. — Пока я стоял там на страже и тихо повторял про себя темный напев, придворная дама моей госпожи, распахнув окно наверху, велела мне, по обыкновению, принести воды из колодца и потом приказала отойти от окна. Я помню, она сказала: «Моя госпожа больна, ее расстраивает ваше пенье».
В те дни я был послан на разведки и узнал, что граф Раймунд снарядил войско в Тулузе и под знамя его встал сосед наш — Монсегюр. Граф Монфор, которого ждали у нас в замке как избавителя от еретиков, был, по словам окрестных жителей, еще только в Лионе. Господин мой, призвав меня через несколько дней к себе, расспросил меня обо всем подробно и велел ехать на север, чтобы узнать в точности, где находится войско Симона Монфора.
В тот самый день госпожа кликнула меня из окна, когда я проходил по двору. Я вошел к ней изумленный, ибо никогда прежде не удостоивался от нее такой чести. В присутствии своей придворной дамы она сказала мне, что ее супруг и мой господин подозревает ее и собирается заточить в Башню Неутешной Вдовы, чем возбудила в моей душе величайшее сострадание к ней. Узнав от меня, что я послан на север и что в башне есть потайной ход, она велела мне отыскать сочинителя той песни, которая не дает ей уснуть, по двум признакам, которые она видела во сне: и по черной розе на груди, и по имени «Странник». Поручение это показалось мне детскою сказкой, но, зная, что в детских сказках больше правды, чем думают люди, я дал ей слово погибнуть или исполнить ее поручение, полагая втайне, что иду на верную гибель, которая не страшила меня, ибо я ни на что больше не надеялся в жизни.
После этого госпожа моя заставила меня, как я ни просил меня отпустить, признаться в моей любви к ней. Когда я безмолвно склонил перед ней колени, мне показалось, что тень привета скользнула по ее прекрасному лицу. В эту минуту вошел граф с ключами от башни и, застав меня в комнате госпожи, решил, что я ухаживаю за ее придворной дамой. Госпожа не стала, конечно, отрицать этого, чтобы не навлечь на себя худших подозрений, так как гневу графа и без того не было пределов. Он унижал меня словами, которых я не стерпел бы, если бы могла в те дни исполниться мера моего унижения. Но унижение мое тогда было беспредельно, и, когда граф на моих глазах отослал свою супругу в Башню Неутешной Вдовы, я исполнился желанием помочь моей невольной и прекрасной предательнице и, смущенный сердцем, отправился на далекий север — с двойным поручением: от господина, который с того часа стал вовсе чужим моей душе, но которому я не мог и не хотел изменять, ибо измену, даже неправде, почитаю делом, недостойным рыцаря; и от госпожи, любовь и сострадание к которой давали мне силу продолжать путь, еще самому мне непонятный.
Я странствовал долго и уже собрал все сведения о войске графа Монфора, которое застал на Толозанской дороге, в Безье, где оно занималось делом, позорным для христиан, избивая, по наущению папского легата, мирных жителей. Давно свернув с Толозанской дороги, я доехал до самого берега океана в той местности, которая носила некогда название Арморики, а ныне называется Бретанью. Кружа по берегу на усталом коне среди камней под хлопьями снега и под ветром, который хлестал мне в лицо, — я увидал внезапно странного рыцаря в лохмотьях; он затеял со мной ссору, из которой я легко вышел победителем, так как он был стар и слаб. После этого он позвал меня отдохнуть у себя в замке, и я охотно принял его предложение, так как конь мой устал и я начинал отчаиваться в моих долгих поисках. Рыцарь, оказавшийся сеньером Трауменека и назвавшийся Гаэтаном, рассказывал мне чудно и непонятно о подводном городе, а я, слушая его голос и смотря на его юношеское лицо и глаза, которые не утратили своего огня даже под тенью седин, убелявших его голову, — исполнялся странным предчувствием, чего со мной никогда не бывало. Иногда во время его рассказа, содержание которого мне было трудно уловить моим простым умом, мне казалось, что он послан мне в награду за что-то. Каково же было мое изумление и радость, когда он наконец явственно повторил слова песни, волновавшей мою госпожу, и признался, что он сам сочинил эту песню! Я радовался и тому, что нашел того, кого, казалось мне, не было и не могло быть на свете, и тому, что рыцарь этот стар и что госпожа моя лучше услышит из его уст его песню, не смущаясь низкой мужской красотой. Да простит мне господь это грешное чувство, но я не должен скрывать, что, хотя я никогда не помышлял о близости к госпоже, зная, что недостоин ее ни по положению моему, ни по возрасту, тем не менее радовался тайно тому, что она отстранила от себя юного Алискана, и тайно боялся красоты того нового рыцаря, которого она поручила мне отыскать.
Мне было не трудно уговорить Гаэтана отправиться со мной на юг, ибо он не имел почти никакого имущества в своем замке и был по природе своей истинным Странником. То, что на груди Гаэтана вместо черной розы был вышит выцветший крест, мало смущало меня, ибо говорят, что сны нельзя толковать дословно; более смущала меня непонятность его речей, которые я слушал от него всю дорогу. Особенно волновал меня напев о Радости-Страданьи, который он повторял часто; порою речи его и песни, имевшие какой-то таинственный смысл, которого я никак не мог уловить, наводили на меня жуть, ибо мне начинало казаться, что передо мной нет человека, а есть только голос, зовущий неизвестно куда. Тогда, чтобы разогнать свой испуг, я должен был прикоснуться рукой к своему собеседнику, и, убедившись таким образом, что это — не призрак, я бережно укладывал его спать и кормил хлебом, как старого младенца. Он же, нисколько не интересуясь тем, куда и зачем я его везу, — не замечая ни времени, ни мест, по которым мы проезжали, и не нуждаясь почти ни в пище, ни в питье, ни в сне, без которых нельзя жить человеку, — рассказывал мне свои сказки и пел песни. Меня одновременно увлекал его странный образ, в котором было какое-то обаяние нездешнее, и отталкивала его беспомощность, слабого подобия которой я никогда не встречал в нашем мире. Некоторые черты его возбуждали во мне даже негодование, которого я никак не умел побороть; особенно не мог я простить ему того, что он не мог запомнить имени моей госпожи и часто смешивал ее с какой-то Морганой, к рассказу о которой он возвращался часто.
Так, волнуемый противуположными чувствами и зарождавшимися во мне сомнениями, привез я старого Гаэтана в наш замок, где в это время томилась в заточении моя госпожа.
Доложив графу о своих разведках и приведя его в доброе расположение духа мало говорящим известием, что Монфор находится на Толозанскои дороге, я воспользовался этим, чтобы просить графа — освободить юную графиню, упомянул, что наступает май, который все празднуют в нашей округе, и что я привез с собой нового жонглера с новыми песнями. Граф обещал мне на радостях освободить Изору.
Когда наступила ночь, я, перед тем как отправиться на стражу, спрятал Гаэтана в розовых кустах, чтобы его никто не нашел. Ложась спать, он продолжал рассказывать сказки, еще раз назвал госпожу мою Морганой, и когда я спросил его наконец, где у него правда и где вымысел и может ли он объяснить мне, как может Страданье стать Радостью, он сослался только на свои песни.
Стоя в ту ночь на страже у ее пустого окна, я чувствовал какую-то особенную тревогу, и крайние сомнения стали терзать меня. Мне с ясностью представилось, что старик, которого я привез с собой и которому должен завтра принести одежду жонглера, чтобы он пел на празднике, где будет слушать его моя госпожа, наслал на нее какие-то туманные и страшные сны. от которых она томится, не находя исхода. Я подумал о том, что она была счастливее, когда предавалась невинным играм с молодым пажем, и стал молиться господу богу, прося его освободить от туманных образов пламенную грудь юной Изоры.
Наутро, когда я пришел будить Гаэтана, он бредил во сне, а на груди его лежала черная роза, непохожая на все те красные, которые цвели над ним. Грудь моя исполнилась несказанным волнением, и я спросил его, откуда у него этот цветок. Он ответил, что цветок, вероятно, упал с куста, и, в ответ на мою просьбу, с легкостью отдал мне розу. Взяв благоговейно цветок и спрятав его на грудь, я не пытался проникнуть в чудо, посланное мне за мою усердную молитву, но почувствовал необыкновенный прилив сил. В тот час я понял ясно, что старый младенец более не опасен для прекрасной Изоры и что любовь моя стала выше и чище с той минуты, как роза стала моею.
Перед началом праздника я узнал о готовящемся нападении на замок и пытался предупредить графа, который не захотел, однако, меня слушать. Положившись на волю божию, я был свидетелем того, как Али-скан был посвящен в рыцари, как Гаэтан пел свою песню, как Изора от волнения лишилась чувств, как старик скрылся куда-то и как потом Изора, очнувшись от обморока, обратила свои взоры на Алискана. В ту минуту, когда придворные дамы скрыли от моих глаз двух влюбленных, пришла весть о нападении, все бросились к оружию, и я, чувствуя розу на груди моей, пошел в бой.
Богу угодно было, чтобы среди небольшого отряда нападающих, сторонников графа Раймунда, оказался тот самый рыцарь с дельфином на гербе, который был причиной всех моих несчастий. Я вступил с ним в бой, бой длился недолго, и в ту минуту, когда этот рыцарь нанес мне жестокий удар мечом в грудь, где была спрятана роза, я повалил его на землю, хотя он был ростом с великана, и, наступив ему ногою на грудь, так же, как некогда он наступил мне, заставил его просить пощады. Тогда войска нападающих рассеялись, и я, оставив моему противнику жизнь, возвратился в замок. Граф, узнав о том, что я ранен, передал через дружественного мне рыцаря, что он на эту ночь освобождает меня от стражи, но госпожа моя, встретив меня благосклонно, приказала мне быть на страже эту ночь, чтобы во время ее свидания с Алисканом подать ей знак ударом меча, в случае опасности. Теперь я чувствую себя в руке божией и, насколько хватит сил (ибо раны мои болят), буду стараться, чтобы никто в эту ночь не нарушил покоя юных влюбленных, помня, как добрый отец, что не страшны те, кто убивает тело, души же не может убить.
3. «Роза и крест»
(К постановке в Художественном театре)
Первое, что я хочу подчеркнуть, это то, что «Роза и Крест» — не историческая драма. Дело не в том, что действие происходит в южной и северной провинции Франции в начале XIII столетия, а в том, что помещичья жизнь и помещичьи нравы любого века и любого народа ничем не отличаются один от другого. Первые планы, чертежи драмы в тот период творчества, когда художник собирается в один нервный клубок, не позволяет себе разбрасываться, — все это было, так сказать, внеисторично. История и эпоха пришли на помощь только во второй период, когда художник позволяет себе осматриваться, вспоминать, замечать, когда он «распускает» себя.
Вот вкратце содержание и основная мысль драмы «Роза и Крест».
Есть песни, в которых звучит смутный зов к желанному и неизвестному. Можно совсем забыть слова этих песен, могут запомниться лишь несвязанные отрывки слов; но самый напев все будет звучать в памяти, призывая и томя призывом.
Одну из таких туманных северных песен спел в южном французском замке заезжий жонглер. Песня говорила о том, что в мире повсюду беда и утраты и что рыцарь должен отметить грудь свою знаком креста, ибо «сердцу закон непреложный — Радость-Страданье одно»; эта песня, с суровым припевом о море и о снеге, запала в душу юной графини Изоры, жены владельца богатого замка, и в душу бедного рыцаря Бертрана, который верно служил графу, не получая наград за трудную службу, и тайно любил графиню Изору без надежды на взаимность.
Семнадцатилетняя Нзора. дочь простои пспанкп, начитавшаяся романов, поняла песню о Радости-Страдании по-своему: «Радость — любить, страданье — не знать любви». Она затосковала и заболела, стараясь припомнить и понять зовущую песню. Причина ее болезни неизвестна ни старому глупому мужу, ни льстивому и развратному капеллану, ни доктору, ни придворной даме, ни молодому и красивому пошляку — пажу Алискану, с которым Изора еще недавно занималась от скуки легкими любовными играми.
Простой и здравый разум седеющего неудачника Бертрана не умеет постичь туманного смысла песни. Бертран слишком свыкся со страданием, чтобы поверить, что оно может стать Радостью; но сердце его слышит далекий зов, и оно твердит ему, что госпожа, которую он любит, томится этой самой песней.
В то время разгорается на юге Франции восстание альбигойцев, и папа снаряжает против них крестовый поход; войско его движется с севера на выручку сюзеренов Лангедока. Граф, который также боится нападения окрестных крестьян, посылает Бертрана разведать, близко ли папское войско. Изора, узнав, что Бертран отправляется на север, велит ему отыскать создателя непонятной песни по признакам, которые ей приснились, и привезти его к ней.
Бертран не отказывается от сумасбродного поручения и решает исполнить его пли погибнуть. Поэтому, разузнав все, что ему приказано, о войске папы, он пускается в дальний путь и достигает пределов Бретани. Здесь, на пустынном берегу океана, судьба или случай сталкивают его с высок им худым рыцарем в поношенной одежде с выцветшим крестом на груди. В причудливых рассказах этого старого ребенка, которого зовут Гаэтаном, простой ум Бертрана не может различить правды от вымысла; но, вслушиваясь в рассказы, Бертран исполняется странным предчувствием: сам себе плохо веря, он узнает понемногу в странном старике создателя туманной песни, и с торжеством увозит его с собою.
На празднестве, устроенном в первый весенний день, Гаэтан должен выступить после других жонглеров и спеть свою песню; но взволнованная ожиданием графиня Изора ждала прекрасного юного певца, и не признает его в призрачном старике. Только голос, слышанный ею во сне, потрясает ее так, что она лишается чувств. Придя в себя, она видит, что старик исчез, а рядом с нею — влюбленный в нее красивый и молодой Алискан. Тогда все недавнее томление начинает казаться ей сном.
Празднество прервано нападением врагов. Бертран бросается в бой, обращает врагов в бегство и смертельно ранен. Изора, не зная о ране и видя в Бертране единственного преданного слугу, просит его стать ночью на стражу у окна, пока у нее будет Алискан, и, в случае опасности, подать знак ударом меча о камень.
Бертран, помогая Алискану взобраться в окно госпожи, встает на стражу у окна счастливых любовников. Истекая кровью, он постигает наконец, как Страданье может стать Радостью. В ту минуту, когда Изоре грозит опасность быть застигнутой ревнивым мужем, умирающий Бертран роняет меч на каменные плиты двора. Алискан, услышав звон меча, успевает бежать. Изора, никогда не обращавшая внимания на бедного рыцаря, увидав его мертвым, плачет.
Такова основа драмы «Роза и Крест». Она есть, во-первых, драма человека, Бертрана; он — не герой, но разум и сердце драмы; бедный разум искал примирения Розы никогда не испытанной Радости с Крестом привычного Страдания. Сердце, прошедшее долгий путь испытаний и любви, нашло это примирение лишь в минуту смерти, так что весь жизненный путь бедного рыцаря представлен в драме.
«Роза и Крест» есть, во-вторых, драма Изоры, хотя в ней представлена лишь часть ее пути, дальнейшая же судьба неразумной мещанки, сердце которой чисто, потому что юно и страстно, — неизвестна. Изора еще слишком молода для того, чтобы оценить преданную, человеческую только любовь, которая охраняет незаметно и никуда не зовет. Изора прислушивается к нечеловеческим зовам, которые влекут ее на противоположные пути. Если Гаэтан — не человек, а призрак и как бы чистый зов, певец, сам не знающий, о чем поет, то и Алискан — не человек, а красивое животное, которое слишком знает, куда зовет.
Естественно, что молодая и красивая женщина предпочла живое — призрачному; было бы странно, если бы темная и страстная испанка забыла южное солнце для северного тумана; но судьба Изоры еще не свершилась, о чем говорят ее слезы над трупом Бертрана. Может быть, они случайны, и она скоро забудет о них; может быть, и она приблизилась к пониманию Радости-Страдания; может быть, наконец, ее судьба — совсем не сходна с судьбою человека, который любил ее христианской любовью и умер за нее как христианин, открыв для нее своей смертью новые пути.
25 мая 1915
Алфавитный указатель произведений
«А под маской было звездно…» (Под масками) — 292.
Авиатор («Летун отпущен на свободу…») — 358.
Аметист («Порою в воздухе, согретом…») — 542.
Ангел-Хранитель («Люблю Тебя, Ангел-Хранитель во мгле…») — 211.
Анне Ахматовой («„Красота страшна” — Вам скажут…») — 431.
Антверпен («Пусть это время далеко…») — 437.
Балаган («Над черной слякотью дороги…») — 225.
Балаганчик («Вот открыт балаганчик…») — 190.
Балаганчик. Пьеса — 649.
«Барка жизни встала…» — 246.
«Бегут неверные дневные тени…» — 73.
«Бежим, бежим, дитя свободы…» — 539.
«Без Меня б твои сны улетали…» — 97.
«Без слова мысль, волненье без названья…» — 466.
«Безмолвный призрак в терему…» — 105.
«Безрадостные всходят семена…» — 98.
«Белоснежней не было зим…» (На зов метелей) — 282.
«Белый конь чуть ступает усталой ногой…» — 154.
Благовещение («С детских лет — видения и грезы…») — 415.
«Благославляю всё, что было…» — 427.
«Благословляя свет и тень…» (Экклесиаст) — 100.
Бледные сказанья («— Посмотри, подруга, эльф твой…») — 293.
«Блеснуло в глазах. Метнулось в мечте…» — 244.
«Божья матерь Утоли мои печали…» (За гробом) — 419.
«Болотистым, пустынным лугом…» — 469.
Болотные чертенятки («Я прогнал тебя кнутом…») — 149.
Болотный попик («На весенней проталинке…») — 152.
«Болото — глубокая впадина…» — 155.
«Боль проходит понемногу…» (Последнее напутствие) — 511.
Бред («Я знаю, ты близкая мне…») — 202.
«Брожу в стенах монастыря…» — 89.
«Будет день — и свершится великое…» — 70.
«Будет день, словно миг веселья…» — 106.
«Бушует снежная весна…» — 484.
«Бывают тихие минуты…» — 458.
«Был вечер поздний и багровый…» — 101.
«Был скрипок вой в разгаре бала…» (Вячеславу Иванову) — 429.
«Была ты всех ярче, верней и прелестней…» — 479.
«Было то в темных Карпатах…» — 521.
«В бесконечной дали корридоров…» — 318.
«В болезни сердца мыслю о Тебе…» — 529.
«В высь изверженные дымы…» — 243.
«В глазах ненужный день так ярок…» — 572.
«В глубоких сумерках собора…» — 575.
«В голодной и больной неволе…» — 397.
«В голубой далекой спаленке…» — 200.
«В городе колокол бился…» — 99.
«В густой траве пропадешь с головой…» — 495.
«В день холодный, в день осенний…» — 52.
«В длинной сказке…» (Сквозь винный хрусталь) — 294.
В дюнах («Я не люблю пустого словаря…») — 339.
«В жаркое лето и в зиму метельную…» (Художник) — 432.
«В кабаках, в переулках, в извивах…» — 245.
«В лапах косматых и страшных…» — 198.
«В лоне площади пологой…» (Сиена) — 412.
«В небе — день, всех ночей суеверней…» — 470.
«В неуверенном, зыбком полете…» — 466.
«В ночи, исполненной грозою…» — 538.
«В ночи, когда уснет тревога…» — 528.
«В ночь, когда Мамай залег с ордою…» — 498.
«В огне и холоде тревог…» — 401.
«В окнах, занавешенных сетью мокрой ныли…» (Повесть) — 248.
В октябре («Открыл окно. Какая хмурая…») — 266.
«В передзакатные часы…» — 544.
«В пол-оборота ты встала ко мне…» — 374.
«В пустом переулке весенние воды…» (Обман) — 238.
«В пути — глубокий мрак, и страшны высоты…» — 551.
«В пыльный город небесный кузнец прикатил…» (Гимн) — 241.
В ресторане («Никогда не забуду (он был, или не был…») — 353.
«В сапогах бутылками…» (На Пасхе) — 463.
В северном море («Что сделали из берега морского…») — 337.
«В серебре росы трава…» — 227.
«В синем небе, в темной глуби…» — 224.
В снегах («И я затянут…»)— 292.
«В снежной пене — предзакатная…» (Последний путь) — 279.
«В соседнем доме окна жолты…» (Фабрика) — 131.
«В сыром ночном тумане…» — 471.
«В те дни, когда душа трепещет…» — 536.
«В те ночи светлые, пустые…» — 310.
«В темной комнате ты обесчещена…» — 573.
«В темпом парке под ольхой…» — 456.
«В тихий вечер мы встречались…» — 458.
«В толпе, родной по вдохновенью…» (На вечере в честь Л. Толстого) — 530.
«В туманах, над сверканьем рос…» — 194.
В углу дивана («Но в камине дозвенели…») — 295.
«В фантазии рождаются порою…» — 538.
«В час глухой разлуки с морем…» — 226.
«В час, когда пьянеют нарциссы…» — 143.
«В часы вечернего тумана…» — 42.
«В черных сучьях дерев обнаженных…» (Унижение) — 357.
«В эти желтые дни меж домами…» — 345.
«В этот серый летний вечер…» — 307.
Валерию Брюсову («И вновь, и вновь твой дух таинственный…») — 428.
«Ваш взгляд — его мне подстеречь…» — 474.
«Вдали мигнул огонь вечерний…» — 551.
«Везде — над лесом и над пашней…» — 574.
Венеция (3 стихотворения) — 405.
Вербная суббота («Вечерние люди уходят в дома…») — 126.
Вербочки («'Мальчики да девочки…») — 207.
«Вербы — это весенняя таль…» — 486.
«Верю в Солнце Завета…» — 78.
«Веселье в ночном кабаке…» (Невидимка) — 252.
«Весенний день прошел без дела…» — 387.
«Весна в реке ломает льдины…» — 82.
«Вёсны и зимы меняли убранство…» (Проклятый колокол) — 222.
«Весь день — как день: трудов исполнен малых…» — 368.
«Ветер звал и гнал погоню…» (Здесь и там) — 298.
«Ветер принес издалёка…» — 48.
«Ветер стих, и слава заревая…» — 510.
«Ветер хрипит на мосту меж столбами…» — 136.
«Ветр налетит, завоет снег…» — 467.
«Вечереющий день, догорая…» — 544.
«Вечереющий сумрак, поверь…» — 71.
«Вечерние люди уходят в дома…» (Вербная суббота) — 126.
Вечерняя («Солнце сходит на запад. Молчанье…») — 139.
«Вечность бросила в город…» — 239.
Взморье («Сонный вздох онемелой волны…») — 170.
«Видно, дни золотые пришли…» — 63.
«Вися над городом всемирным…» — 255.
Владимиру Бестужеву («Да, знаю я: пронзили ночь отвека…») — 429.
Влюбленность («И опять твой сладкий сумрак, влюбленность…») — 284.
Влюбленность («Королевна жила на высокой горе…») — 186.
«Внемля зову жизни смутной…» — 58.
«Вновь богатый зол и рад…» — 363.
«Вновь оснежённые колонны…» (На островах) —351.
«Вновь у себя… Унижен, зол и рад…» — 376.
Возмездие. Поэма — 587.
«Война горит неукротимо…» — 550.
«Волновать меня снова и снова… (Пляски осенние) — 158.
Ворожба («Я могуч и велик ворожбою…») — 548.
«Вот — в изнурительной работе…» — 177.
«Вот, девушка, едва развившись…» — 411.
«Вот моя песня — тебе, Коломбина…» (Двойник) — 125.
«Вот на тучах пожелтелых…» — 186.
«Вот он — ветер…» — 502.
«Вот он — ряд гробовых ступеней…» — 144.
«Вот он — Христос — в цепях и розах…» — 200.
«Вот они — белые звуки…» — 567.
«Вот открыт балаганчик…» (Балаганчик) — 190.
«Вот прошел король с зубчатым…» (Тени на стене) — 295.
«Вот снова пошатнулись дали…» — 559.
«Вот явилась. Заслонила…» — 303.
«Всё б тебе желать веселья…» — 451.
«Всё бежит, мы пребываем…» — 173.
«Всё бытие и сущее согласно…» — 53.
«Все кричали у круглых столов…» — 115.
«— Всё ли спокойно в народе…» — 119.
«Всё на земле умрет — и мать, и младость…» — 461.
«Всё отлетают сны земные…» — 52.
«Все отошли. Шумите, сосны…» — 184.
«Всё помнит о весле вздыхающем…» — 444.
«Всё свершилось по писаньям…» — 370.
«Всё та же озерная гладь…» — 456.
«Всё чаще я по городу брожу…» (О смерти) — 331.
«Всё, что минутно, всё, что бренно…» (Равенна) — 403.
«Всё, что память сберечь мне старается…» — 460.
«Всё это было, было, было…» — 423.
«Вспомнил я старую сказку…» — 520.
«Встала в сияньи. Крестила детей…» (Из газет) — 134.
«Встали надежды пророка…» (Посвящение) — 547.
«Встану я в утро туманное…» — 67.
«Встретив на горном тебя перевале…» (Madonna da Settignano) — 412.
Встречной («Я только рыцарь и поэт…») — 445.
Вступление («Отдых напрасен. Дорога крута…») — 47.
Вступление («Ты в поля отошла без возврата…») — 147.
«Всю жизнь ждала. Устала ждать…» — 326.
«Всю зиму мы плакали, бедные…» — 552.
«Всюду ясность божия…» — 232.
Второе крещенье («Открыли дверь мою метели…») — 280.
«Вхожу я в темные храмы…» — 106.
«Вы предназначены не мне…» — 582v
«Высоко с темнотой сливается стена…» — 74.
«Выхожу я в путь, открытый взорам…» (Осенняя воля) — 195.
«Вьюга пела…» (Настигнутый метелью) — 280.
Вячеславу Иванову («Был скрипок вой в разгаре бала…») — 429.
Гамаюи, птица вещая («На гладях бесконечных вод…») — 34.
«Гармоника, гармоника!..» — 322.
«Где отдается в длинных залах…» — 464.
Гимн («В пыльный город небесный кузнец прикатил…») — 241.
«Глаза, опущенные скромно…» — 414.
«Глушь родного леса…» — 546.
«Говорили короткие речи…» — 92.
Голос в тучах («Нас море примчало к земле одичалой…») — 180.
Голос из хора («Как часто плачем — вы и я…») — 381.
Голоса («Нет исхода вьюгам певучим!..») — 290.
Голоса скрипок («Из длинных трав встает луна…») — 463.
«Голубоватым дымом…» — 410.
«Город в красные пределы…» — 240.
«Город спит, окутан мглою…» — 37.
«Господь, ты слышишь? Господь, простишь ли?..» (Легенда) — 250.
«Греши, пока тебя волнуют…» — 373.
«Грешить бесстыдно, непробудно…» — 512.
«Гроб невесты легкой тканью…» — 175.
«Грустя и плача и смеясь…» — 452.
«Да, знаю я: пронзили ночь отвека…» (Владимиру Бестужеву) — 429.
«Да, так велит мне вдохновенье…» — 399.
«Да, я изведала все муки…» (Женщина) — 434.
«Давно хожу я под окнами…» — 560.
«Даже имя твое мне презренно…» — 375.
«Дали слепы, дни безгневны…» — 141.
Две надписи на сборнике «Седое утро» (2 стихотворения) — 582.
Двенадцать. Поэма — 633.
Двойник («Вот моя песня — тебе, Коломбина…») — 125.
Двойник («Однажды в октябрьском тумане…») — 346.
Девушка из Spoleto («Строен твой стан, как церковные свечи…») — 405.
«Девушка пела в церковном хоре…» — 197.
Девушке («Ты перед ним — что стебель гибкий…») — 231.
Демон («Иди, иди за мной — покорной…») — 379.
Демон («Прижмись ко мне крепче и ближе…») — 354.
«День догорел на сфере той земли…» (Песнь Ада) — 347.
«День поблек, изящный и невинный…» — 245.
«День полувеселый, полустрадный…» (Перуджия) — 407.
«День проходил, как всегда…» — 371.
«Дикий ветер…» — 515.
«Днем вершу я дела суеты…» — 84.
«Днем за нашей стеной молчали…» — 566.
«Дни и ночи я безволен…» (Поединок) — 237.
«До утра мы в комнатах спорим…» (Утренняя) — 139.
«Дождь мелкий, разговор неспешный…» (Юрию Верховскому) — 427.
«Дома растут, как желанья…» — 108.
«Дохнула жизнь в лицо могилой…» — 386.
«Друг другу мы тайно враждебны…» (Друзьям) — 420.
«Друг, посмотри, как в равнине небесной…» (Моей матери) — 29.
Друзьям («Друг другу мы тайно враждебны…») — 420.
«Дух пряный марта был в лунном круге…» — 353.
«Душа! Когда устанешь верить?..» — 442.
«Душа молчит. В холодном небе…» — 49.
«Дым от костра струею сизой…» — 503.
«Дышит утро в окошко твое…» — 36.
«Его встречали повсюду…» — 107.
«Едва в глубоких снах мне снова…» — 582.
Ее песни («Не в земной темнице душной…») — 283.
Ее прибытие (7 стихотворений) — 177.
«Ее спеленутое тело…» (Успение) — 417.
«Ей было пятнадцать лет. Но по стуку…» — 124.
«Если только она подойдет…» — 568.
«Есть в дикой роще, у оврага…» — 31.
«Есть в напевах твоих сокровенных…» (К Музе) — 343.
«Есть времена, есть дни, когда…» — 472.
«Есть демон утра. Дымно-светел он…» — 484.
«Есть игра: осторожно войти…» — 366.
«Есть лучше и хуже меня…» — 213.
«Есть минуты, когда не тревожит…» — 468.
«Есть много песен в светлых тайниках…» — 539.
«Еще бледные зори на небе…» — 110.
«Еще прекрасно серое небо…» —256.
«Жгут раскаленные камни…» — 409.
«Жду я смерти близ денницы…» — 168.
«Жду я холодного дня…» — 69.
«Жениха к последней двери…» — 446.
Женщина («Да, я изведала все муки…») — 434.
«Женщина, безумная гордячка!..» (З. Гиппиус) — 581.
«Жизнь была стремленьем…» (Так было) — 178.
«Жизнь — как море она — всегда исполнена бури…» — 528.
«Жизнь медленная шла, как старая гадалка…» — 80.
Жизнь моего приятеля (8 стихотворений) — 368.
З. Гиппиус («Женщина, безумная гордячка!..») — 581.
«За горами, лесами…» — 482.
«За городом в полях весною воздух дышит…» 60.
«За городом вырос пустынный квартал…» (Поэты) — 421.
За гробом («Божья матерь Утоли мои печали…») — 419.
«За краткий сон, что нынче снится…» — 535.
«За темной далью городской…» — 94.
«За холмом отзвенели упругие латы…» — 306.
Забывшие Тебя («И час настал. Свой плащ скрутило время…») — 383.
«Завтра в сумерки встретимся мы…» — 555.
«Загляжусь ли я в ночь на метелицу…» — 563.
«Задебренные лесом кручи…» — 496.
«Зажигались окна узких комнат…» — 173.
«Закат горел в последний раз…» (Перед грозой) — 534.
Заключение спора («Ты кормчий — сам, учитель — сам…») — 571.
Заклятие огнем и мраком (И стихотворений) — 314.
«Запевающий сон, зацветающий цвет…» — 116.
«Заплетаем, расплетаем…» (Угар) — 218.
«Зарево белое, желтое, красное…» — 68.
«Зачатый в ночь, я в ночь рожден…» — 229.
«Здесь в сумерки в конце зимы…» — 455.
Здесь и там («Ветер звал и гнал погоню…») — 298.
«Здесь тихо и светло. Смотри, я подойду…» (Отшедшим) — 565.
«Здесь тишина цветет и движет…» (Тишина цветет) — 219.
«Здесь я покоюсь, Филипп, живописец навеки бессмертный…» (Эпитафия Фра Филиппо Липпи) — 417.
«Земное сердце стынет вновь…» — 401.
«Зима прошла. Я болен…» — 572.
«Зимний ветер играет терновником…» — 118.
«Знаю, бедная, тяжкое бремя…» — 547.
«Знаю я твое льстивое имя…» — 445.
«Золотистою долиной…» — 96.
«Золотисты лица купальниц…» (Твари весенние) — 151.
«Золотит моя страстная осень…» — 564.
«И взвился костер высокий…» (На снежном костре) — 302.
«И вновь, и вновь твой дух таинственный…» (Валерию Брюсову) — 428.
«И вновь — порывы юных лет…» — 431.
«И вновь, сверкнув из чаши винной…» (Снежное вино) — 277.
«И вот уже ветром разбиты, убиты…» — 309.
«И нам недолго любоваться…» — 75.
«И опять, опять снега…» (И опять снега) — 289.
«И опять открыли солнца…» (Прочь!) — 287.
И опять снега («И опять, опять снега…») — 289.
«И опять твой сладкий сумрак, влюбленность…» (Влюбленность) — 284.
«И пора уснуть, да жалко…» (Сны) — 507.
«И ты, мой юный, мой печальный…» (31 декабря 1900 года) — 46.
«И час настал. Свой плащ скрутило время…» (Забывшие Тебя) — 383.
«И я затянут…» (В снегах) — 291.
«И я любил. И я изведал…» — 442.
«И я опять затих у ног…» — 324.
«И я провел безумный год…» — 312.
Иванова ночь («Мы выйдем в сад с тобою, скромной…») — 208.
«Идем по жнивью, не спеша…» (Осенний день) — 502.
«Иди, иди за мной — покорной…» (Демон) — 379.
«Иду — и всё мимолетно…» — 249.
«Идут часы, и дни, и годы…» — 356.
Из газет («Встала в сияньи. Крестила детей…») — 134.
«Из длинных трав встает луна…» (Голоса скрипок) — 463.
«Из ничего — фонтаном синим…» — 519.
«Из хрустального тумана…» — 345.
«Или устал ты до времени…» — 551.
«Имя Пушкинского Дома…» (Пушкинскому Дому) — 583.
Инок («Никто не скажет: я безумен…») — 324.
«Искусство — ноша на плечах…» — 414.
Испанке («Не лукавь же, себе признаваясь…») — 469.
«Испугом схвачена, влекома…» — 377.
«Их было много — дев прекрасных…» — 576.
«Ищу огней — огней попутных…» — 221.
«Ищу спасенья…» — 45.
«К вечеру вышло тихое солнце…» — 267.
«К зеленому лугу, взывая, внимая…» (Эхо) — 157.
К Музе («Есть в напевах твоих сокровенных…» — 343.
«К ногам презренного кумира…» — 538.
«Как день, светла, но непонятна…» — 476.
«Как из сумрачной гавани…» — 578.
«Как мимолетна тень осенних ранних дней…» — 536.
«Как мучительно думать о счастьи былом…» — 527.
«Как океан меняет цвет…» — 483.
«Как прощались, страстно клялись…» — 460.
«Как растет тревога к ночи!..» — 367.
«Как свершилось, как случилось?..» — 392.
«Как сон молитвенно-бесстрастный…» — 535.
«Как сон, уходит летний день…» — 559.
«Как старинной легенды слова…» — 561.
«Как тяжело ходить среди людей…» — 355.
«Как тяжко мертвецу среди людей…» — 360.
«Как часто плачем — вы и я…» (Голос из хора) — 381.
«Какая дивная картина…» — 388.
Клеопатра («Открыт паноптикум печальный…») — 274.
«Когда в листве сырой и ржавой…» — 308.
«Когда, вступая в мир огромный…» — 387.
«Когда вы стоите на моем пути…» — 327.
«Когда гляжу в глаза твои…» (Песня Фаины) — 325.
«Когда замрут отчаянье и злоба…» — 422.
«Когда мучительно восстали…» — 457.
«Когда мы встретились с тобой…» — 400.
«Когда невзначай в воскресенье…» — 370.
«Когда осилила тревога…» — 374.
«Когда под заступом холодным…» (На смерть младенца) — 385.
«Когда святого забвения…» — 88.
«Когда страшишься смерти скорой…» (Сиенский собор) — 413.
«Когда-то гордый и надменный…» — 464.
«Когда толпа вокруг кумирам рукоплещет…» — 34.
«Когда я был ребенком, — лес ночной…» — 533.
«Когда я прозревал впервые…» — 386.
«Когда я создавал героя…» — 232.
«Когда я стал дряхлеть и стынуть…» — 123.
«Когда я уйду на покой от времен…» — 128.
«Кольцо существованья тесно…» — 389.
Комета («Ты нам грозишь последним часом…») — 425.
«Кому назначен темный жребий…» (Усталость) — 228.
Корабли идут («О, светоносные стебли морей, маяки!..») — 181.
Корабли пришли («Океан дремал зеркальный…») — 182.
Королевна («Не было и нет во всей подлунной…») — 579.
«Королевна жила на высокой горе…» (Влюбленность) — 186.
Коршун («Чертя за кругом плавный круг…») — 516.
«Косы Мэри распущены…» — 447.
«„Красота страшна" — Вам скажут…» (Анне Ахматовой) — 431.
«Кругом далекая равнина…» — 64.
«Крыльцо Ее словно паперть…» — 130.
Крылья («Крылья легкие раскину…») — 284.
«Кто заметил огненные знаки…» — 568.
«Кто плачет здесь? На мирные ступени…» — 83.
«Кто-то шепчет и смеется…» — 54.
«Лазурью бледной месяц плыл…» — 259.
Легенда («Господь, ты слышишь? Господь, простишь ли?..») — 250.
«Лежат холодные туманы…» (Ночь на Новый год) — 72.
«Лениво и тяжко плывут облака…» — 39.
Летний вечер («Последние лучи заката…») — 530.
«Летун отпущен на свободу…» (Авиатор) — 358.
«Ловлю дрожащие, хладеющие руки…» — 553.
«Лошадь влекли под уздцы на чугунный…» (Статуя) — 135.
«Луна проснулась. Город шумный…» — 32.
«Любил я нежные слова…» — 105.
«Люблю высокие соборы…» — 85.
«Люблю Тебя, Ангел-Хранитель во мгле…» (Ангел-Хранитель) —211.
«Любопытство напрасно глазело…» — 565.
«Маг, простерт над миром брений…» (Ночь) — 176.
Madonna da Settignano («Встретив на горном тебя перевале…») — 412.
«Май жестокий с белыми ночами!..» — 443.
«Мальчики да девочки…» (Вербочки) — 207.
«Медлительной чредой нисходит день осенний…» — 38.
«Милая девушка, что ты колдуешь…» — 581.
«Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы…» (Скифы) — 644.
«Милый брат! Завечерело…» — 205.
«Милый друг, и в этом тихом доме…» — 519.
«Милый друг! Ты юною душою…» — 33.
«Миновали случайные дни…» (Ночная Фиалка) — 160.
«Миры летят. Года летят. Пустая…» — 364.
Митинг («Он говорил умно и резко…») — 253.
«Мне гадалка с морщинистым ликом…» — 132.
«Мне снилась смерть любимого созданья…» — 31.
«Мне снилась снова ты, в цветах, на шумной сцене…» — 32.
«Мне снились веселые думы…» — 120.
«Мне страшно с Тобой встречаться…» — 108.
«Многое замолкло. Многие ушли…» — 570.
Моей матери («Друг, посмотри, как в равнине небесной…») — 29.
Моей матери («Помнишь думы? Они улетели…») — 184.
Моей матери («Тихо. И будет всё тише…») — 193.
Моей матери («Чем больней душе мятежной…») — 50.
«Мой бедный, мой далекий друг…» — 392.
«Мой вечер близок и безволен…» — 80.
«Мой любимый, мой князь, мой жених…» — 138.
«Мой месяц в царственном зените…» — 127.
«Мой милый, будь смелым…» — 453.
Молитвы (5 стихотворений) — 138.
«Муза в уборе весны постучалась к поэту…» — 525.
«Мчит меня мертвая сила…» — 546.
«Мы были вместе, помню я…» — 533.
«Мы вместе ждали смерти или сна…» (На смерть деда) — 91.
«Мы встретились с тобою в храме…» (Холодный день) — 265.
«Мы встречались с тобой на закате…» — 86.
«Мы выйдем в сад с тобою, скромной…» (Иванова ночь) — 208.
«Мы живем в старинной келье…» — 78.
«Мы забыты, одни на земле…» — 517.
«Мы ли — пляшущие тени?..» (Смятение) — 299.
«Мы подошли — и воды синие…» — 207.
«Мы, сам-друг, над степью в полночь стали…» — 498.
«Мы шли на Лидо в час рассвета…» — 132.
Мэри (3 стихотворения) — 446.
«На весенней проталинке…» (Болотный попик) — 152.
«На весеннем пути в теремок…» — 153.
«На весенний праздник света…» — 77.
На вечере в честь Л. Толстого («В толпе, родной по вдохновенью…») — 530.
«На гладях бесконечных вод…» (Гамаюн, птица вещая) — 34.
На железной дороге («Под насыпью, во рву некошенном…») — 504.
На зов метелей («Белоснежней не было зим…») — 282.
На могиле друга («Удалены от мира на кладбище…») — 550.
«На небе зарево. Глухая ночь мертва…» — 42.
«На небе — празелень, и месяца осколок…» — 483.
На островах («Вновь оснежённые колонны…») —351.
На Пасхе («В сапогах бутылками…») — 463.
«На перекрестке…» — 148.
На поле Куликовом (5 стихотворений) — 497.
«На разукрашенную елку…» (Сусальный ангел) — 424.
«На ржавых петлях открываю ставни…» — 89.
«На серые камни ложилась дремота…» — 272.
На смерть деда («Мы вместе ждали смерти или сна…») — 91.
На смерть Коммиссаржевской («Пришла порою полуночной…») — 461.
На смерть младенца («Когда под заступом холодным…») — 385.
На снежном костре («И взвился костер высокий…») — 302.
На страже («Я — непокорный и свободный…») — 279.
«На темном пороге тайком…» — 81.
«На улице — дождик и слякоть…» — 438.
На чердаке («Что на свете выше…») — 273.
«Навстречу вешнему расцвету…» — 543.
«Над лучшим созданием божьим…» — 379.
Над озером («С вечерним озером я разговор веду…») — 334.
«Над черной слякотью дороги…» (Балаган) — 225.
«Нас море примчало к земле одичалой…» (Голос в тучах) — 180.
«Нас старость грустная настигнет без труда…» — 545.
Насмешница («Подвела мне брови красным…») —296.
Настигнутый метелью («Вьюга пела…») — 280.
«Наступает пора небывалая…» — 545.
«Натянулись гитарные струны…» — 475.
«Не было и нет во всей подлунной…» (Королевна) — 579.
«Не в земной темнице душной…» (Ее песни) — 283.
«Не венчал мою голову траурный лавр…» — 454.
«Не жаль мне дней ни радостных, ни знойных…» — 62.
«Не жди последнего ответа…» — 61.
«Не затем величал я себя паладином…» — 448.
«Не легли еще тени вечерние…» — 37.
«Не лукавь же, себе признаваясь…» (Испанке) — 469.
«Не мани меня ты, воля…» — 196.
«Не могу тебя не звать…» — 577.
Не надо («Не надо кораблей из дали…») — 285.
«Не нарушай грамонии моей…» — 542.
«Не пой ты мне и сладостно, и нежно…» — 61.
«Не призывай. И без призыва…» (Servus — Reginae) — 37.
«Не призывай и не сули…» — 41.
Не пришел на свиданье («Поздним вечером ждала…») — 276.
«Не сердись и прости. Ты цветешь одиноко…» — 56.
«Не спят, не помнят, не торгуют…» — 397.
«Не строй жилищ у речных излучин…» — 189.
«Не ты ль в моих мечтах, певучая, прошла…» — 60.
«Небесное умом не измеримо…» — 54.
Невидимка («Веселье в ночном кабаке…») — 252.
«Недосказанной речи тревогу…» — 549.
«Нежный! У ласковой речки…» — 174.
Незнакомка («По вечерам над ресторанами…») — 261.
Незнакомка. Пьеса — 662.
Неизбежное («Тихо вывела из комнат…») — 298.
Ненужная весна (3 стихотворения) — 571.
«Нет имени тебе, мой дальний…» — 217.
Нет исхода («Нет исхода из вьюг…») — 300.
«Нет исхода вьюгам певучим!..» (Голоса) — 290.
«Нет исхода из вьюг…» (Нет исхода) — 300.
«Нет конца лесным тропинкам…» — 65.
«Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь…» — 488.
«Никогда не забуду (он был, или не был…» (В ресторане) — 353.
«Никто не скажет: я безумен…» (Инок) — 324.
«Никто не умирал. Никто не кончил жить…» — 567.
«Но в камине дозвенели…» (В углу дивана) — 295.
Новая Америка («Праздник радостный, праздник великий…») — 509.
Ночная («Спи. Да будет твой сон спокоен…») — 140.
Ночная («Тебе, Чей Сумрак был так ярок…») — 140.
Ночная Фиалка («Миновали случайные дни…») — 160.
«Ночной туман застал меня в дороге…» — 532.
Ночь («Маг, простерт над миром брений…») — 176.
«Ночь. Город угомонился…» — 268.
«Ночь — как века, и томный трепет…» — 377.
«Ночь — как ночь, и улица пустынна…» — 384.
Ночь на Новый год («Лежат холодные туманы…») — 72.
«Ночь теплая одела острова…» — 537.
«Ночь, улица, фонарь, аптека…» — 362.
«Ночью вьюга снежная…» — 71.
«Ночью сумрачной и дикой…» — 51.
«Ну, что же? Устало заломлены слабые руки…» — 367.
«О, весна без конца и без краю…» — 314.
«О да, любовь вольна, как птица…» — 487.
«О доблестях, о подвигах, о славе…» — 382.
«О жизни, догоревшей в хоре…» — 223.
«О, как безумно за окном…» — 534.
«О, как смеялись вы над нами…» — 398.
«О легендах, о сказках, о мигах…» — 562.
«О, наконец! Былой тревоге…» (Песня за стеной) — 535.
«О, не просите скорбных песен!..» — 531.
«О, нет! не расколдуешь сердца ты…» — 433.
«О, нет! Я не хочу, чтоб пали мы с тобой…» — 376.
«О, светоносные стебли морей, маяки!..» (Корабли идут) — 181.
О смерти («Всё чаще я по городу брожу…») — 331.
«О, что мне закатный румянец…» — 320.
«О, я хочу безумно жить…» — 395.
Обман («В пустом переулке весенние воды…») — 238.
Обреченный («Тайно сердце просит гибели…») —300.
«Одинокий, к тебе прихожу…» — 55.
Одиночество («Река несла по ветру льдины…») — 531.
«Одна мне осталась надежда…» (Окна во двор) — 269.
«Однажды в октябрьском тумане…» (Двойник) — 346.
«Окаймлен летучей пеной…» (Рабочие на рейде) — 177.
«Океан дремал зеркальный…» (Корабли пришли) — 182.
Окна во двор («Одна мне осталась надежда…») — 269.
«Окна ложные на небе черном…» — 410.
«Окрай небес — звезда омега…» — 33.
«Он вчера нашептал мне много…» (Песня Офелии) — 111.
«Он говорил умно и резко…» (Митинг) — 253.
«Он занесен — сей жезл железный…» — 480.
«Он спит, пока закат румян…» (Петр) — 236.
«Она веселой невестой была…» — 187.
«Она, как прежде, захотела…» — 383.
«Она молода и прекрасна была…» — 29.
«Она поет в печной трубе…» (Песенка) — 249.
«Она пришла из дикой дали…» (Снежная Дева) — 311.
«Она пришла с заката…» — 232.
«Она пришла с мороза…» — 328.
«Она росла за дальними горами…» — 57.
«Она стройна и высока…» — 101.
«Они давно меня томили…» (Сытые) — 258.
«Они звучат, они ликуют…» — 55.
«Они расстались без печали…» — 541.
Они читают стихи («Смотри: я спутал все страницы…») — 297.
«Опустись, занавеска линялая…» — 452.
«Опять, как в годы золотые…» (Россия) — 501.
«Опять над полем Куликовым…» — 500.
«Опять с вековою тоскою…» — 499.
«Опять у этой двери…» — 446.
«Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный…» — 365.
Осенний день («Идем по жнивью, не спеша…») — 502.
Осенняя воля («Выхожу я в путь, открытый взорам…») — 195.
Осенняя любовь (3 стихотворения) — 308.
«Осень поздняя. Небо открытое…» — 157.
«Оставь меня в моей дали…» — 196.
«Отворяются двери — там мерцанья…» — 120.
«Отдых напрасен. Дорога крута…» (Вступление) — 47.
«Открыл окно. Какая хмурая…» (В октябре) — 266.
«Открыли дверь мою метели…» (Второе крещенье) — 280.
«Открыт паноптикум печальный…» (Клеопатра) — 274.
«Отрекись от любимых творений…» — 45.
«Отсеребрилась, отзвучала…» — 571.
Отшедшим («Здесь тихо и светло. Смотри, я подойду…») — 565.
«Офелия в цветах, в уборе…» — 528.
«Очарованный вечер мой долог…» — 569.
Перед грозой («Закат горел в последний раз…») — 534.
Перед судом («Что же ты потупилась в смущеньи?..») — 436.
«Передвечернею порою…» — 264.
«Перехожу от казни к казни…» — 316.
Перстень-Страданье («Шел я по улице, горем убитый…») — 257.
Перуджия («День полувеселый, полустрадный…») — 407.
Песенка («Она поет в печной трубе…») — 249.
Песнь Ада («День догорел на сфере той земли…») — 347.
Песня за стеной («О, наконец! Былой тревоге…») — 535.
Песня матросов («Подарило нам море…») — 179.
Песня Офелии («Он вчера нашептал мне много…») — 111.
Песня Офелии («Разлучаясь с девой милой…») — 33.
Песня Фаины («Когда гляжу в глаза твои…») — 325.
«Петербургские сумерки снежные…») — 477.
Петр («Он спит, пока закат румян…») — 236.
«Петроградское небо мутилось дождем…» — 513.
«Петуха упустила старушка…» (Сказка о петухе и старушке) — 204.
«Плачет ребенок. Под лунным серпом…» — 133.
Пляски осенние («Волновать меня снова и снова…») — 158.
Пляски смерти (5 стихотворений) — 360.
«По берегу плелся больной человек…» — 136.
«По вечерам над ресторанами…» (Незнакомка) — 261.
«По городу бегал черный человек…» — 122.
«По улицам метель метет…» — 319.
«Побывала старушка у Троицы…» (Старушка и чертенята) — 156.
«Повеселясь на буйном пире…» — 360.
Повесть («В окнах, занавешенных сетью мокрой пыли…») — 248.
«Поглядите, вот бессильный…» — 369.
«Погружался я в море клевера…» — 117.
«Под величавые раскаты…» (После грозы) — 540.
«Под ветром холодные плечи…» — 309.
«Под зноем флорентийской лени…» — 410.
Под масками («А под маской было звездно…») — 292.
«Под насыпью, во рву некошенном…» (На железной дороге) — 504.
«Под старость лет, забыв святое…» (Старик) — 102.
«Под шум и звон однообразный…» — 344.
«Подарило нам море…» (Песня матросов) — 179.
«Подвела мне брови красным…» (Насмешница) — 296.
«Поднимались из тьмы погребов…» — 242.
Поединок («Дни и ночи я безволен…») — 237.
«Поет, краснея, медь. Над горном…» — 172.
«Поет, поет…» — 518.
Пожар («Понеслись, блеснули в очи…») —271.
«Поздней осенью из гавани…» — 350.
«Поздним вечером ждала…» (Не пришел на свиданье) — 276.
«Поздно. В окошко закрытое…» — 557.
«Пойми же, я спутал, я спутал…» — 317.
«Покойник спать ложится…» — 454.
«Покраснели и гаснут ступени…» — 115.
«Полный месяц встал над лугом…» — 28.
«Полюби эту вечность болот…» — 154.
«Помнишь думы? Они улетели…» (Моей матери) — 184.
«Помнишь ли город тревожный…» — 36.
«Понеслись, блеснули в очи…» (Пожар) — 271.
«Порою в воздухе, согретом…» (Аметист) — 542.
Посвящение («Встали надежды пророка…») — 547.
Посещение («То не ели, не тонкие ели…») — 505.
После грозы («Под величавые раскаты…») — 540.
После дождя («Сирени бледные дождем к земле прибиты…») — 533.
Последнее напутствие («Боль проходит понемногу…») — 511.
«Последние лучи заката…» (Летний вечер) — 530.
Последний день («Ранним утром, когда люди ленились шевелиться…») — 235.
«Последний пурпур догорал…» — 43.
Последний путь («В снежной пене — предзакатная…») — 279.
«— Посмотри, подруга, эльф твой…» (Бледные сказанья) — 293.
«Потеха! Рокочет труба…» — 189.
«Похоронят, зароют глубоко…» — 438.
«Почиет в мире Теодорих…» — 404.
Поэт («Сидят у окошка с папой…») — 191.
«Поэт в изгнаньи и в сомненьи…» — 40.
Поэты («За городом вырос пустынный квартал…») — 421.
«Праздник радостный, праздник великий…» (Новая Америка) — 509.
«Превратила всё в шутку сначала…» — 478.
«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…» — 56.
«При жолтом свете веселились…» — 102.
При посылке роз («Смотрел отвека бог лукавый…») — 549.
«Приближается звук. И, покорна щемящему звуку…» — 507.
«Придут незаметные белые ночи…» — 228.
«Прижмись ко мне крепче и ближе…» (Демон) — 354.
«Признак истинного чуда…» — 62.
«Прискакала дикой степью…» — 202.
«Прислушайся к земле в родных полях…» (Смерть) — 541.
«Пристал ко мне нищий дурак…» — 371.
«Пришла порою полуночной…» (На смерть Коммиссаржевской) — 461.
«Приявший мир, как звонкий дар…» — 315.
«Пробивалась певучим потоком…» — 90.
«Прозрачные, неведомые тени…» — 58.
«Пройдет зима — увидишь ты…» — 66.
Проклятый колокол («Вёсны и зимы меняли убранство…») — 222.
«Пророк земли — венец творенья…» — 540.
«Просыпаюсь я — и в поле туманно…» — 123.
«Протекли за годами года…»—481.
Прочь! («И опять открыли солнца…») — 287.
«Прошедших дней немеркнущим сияньем…» — 41.
«Прошли года, но ты — всё та же…» — 211.
«Пустая улица. Один огонь в окне…» — 362.
«Пусть рассвет глядит нам в очи…» — 525.
«Пусть светит месяц — ночь темна…» — 27.
«Пусть это время далеко…» (Антверпен) — 437.
«Пусть я и жил, не любя…» —480.
Пушкинскому Дому («Имя Пушкинского Дома…») — 583.
«Пытался сердцем отдохнуть я…» — 95.
«Работай, работай, работай…» — 323.
Рабочие на рейде («Окаймлен летучей пеной…») — 177.
Равенна («Всё, что минутно, всё, что бренно…») — 403.
«Разгадал я, какие цветы…» — 566.
«Разгораются тайные знаки…» — 107.
«Разлетясь по всему небосклону…» — 479.
«Разлучаясь с девой милой…» (Песня Офелии) — 33.
«Ранним утром, когда люди ленились шевелиться…» (Последний день) — 235.
«Распушилась, раскачнулась…» — 580.
Рассвет («Тихо рассыпалась в небе ракета…») — 183.
Рассвет («Я встал и трижды поднял руки…») — 570.
«Река несла по ветру льдины…» (Одиночество) — 531.
«Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» — 497.
Religio (2 стихотворения) — 105.
«Рожденные в года глухие…» — 515.
Роза и Крест. Пьеса — 684.
Россия («Опять, как в годы золотые…») — 501.
Русь («Ты и во сне необычайна…») — 214.
«Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..» — 504.
«С вечерним озером я разговор веду…» (Над озером) — 334.
«С детских лет — видения и грезы…» (Благовещение) — 415.
«С каждой весною пути мои круче…» — 230.
«С мирным счастьем покончены счеты…» — 352.
«С ней уходил я в море…» — 405.
«Сама судьба мне завещала…» — 35.
«Сбежал с горы и замер в чаще…» — 93.
«Сверкни, последняя игла…» (Сердце предано метели) — 301.
«Свет в окошке шатался…» — 95.
«Светлый сон, ты не обманешь…» — 137.
«Свирель запела на мосту…» — 441.
«Свобода смотрит в синеву…» — 103.
«Своими горькими слезами…» — 330.
«Сегодня ты на тройке звонкой…» — 465.
«Сегодня шла Ты одиноко…» — 57.
Седое утро («Утреет. С богом! По домам!..») — 471.
«Седые сумерки легли…» — 352.
Servus — Reginae («Не призывай. И без призыва…») — 37.
«Сердито волновались нивы…» — 569.
«Сердитый взор бесцветных глаз…» — 485.
Сердце предано метели («Сверкни, последняя игла…») — 301.
«Сердце, слышишь…» (Тревога) — 286.
«Сидят у окошка с папой…» (Поэт) — 191.
Сиена («В лоне площади пологой…») — 412.
Сиенский собор («Когда страшишься смерти скорой…») — 413.
«Сижу за ширмой. У меня…» — 128.
«Синеокая, бог тебя создал такой…» — 458.
«Сирени бледные дождем к земле прибиты…» (После дождя) — 533.
Сказка о петухе и старушке («Петуха упустила старушка…») — 204.
Сквозь винный хрусталь («В длинной сказке…») — 294.
«Сквозь серый дым от краю и до краю…» — 468.
Скифы («Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы…») — 644.
«Скрипка стонет под горой…» — 124.
«Скрипнула дверь. Задрожала рука…» — 68.
«Слабеет жизни гул упорный…» — 406.
«Слышу колокол. В иоле весна…» — 85.
Смерть («Прислушайся к земле в родных полях…») — 541.
«Смолкали и говор и шутки…» — 560.
«Смотрел отвека бог лукавый…» (При посылке роз) — 549.
«Смотри — я отступаю в тень…» — 66.
«Смотри: я спутал все страницы…» (Они читают стихи) —297.
«Смычок запел. И облак душный…» — 477.
Смятение («Мы ли — пляшущие тени?..») — 299.
Снежная вязь («Снежная мгла взвилась…») — 277.
Снежная Дева («Она пришла из дикой дали…») — 311.
«Снежная мгла взвилась…» (Снежная вязь) — 277.
Снежное вино («И вновь, сверкнув из чаши винной…») — 277.
«Снова ближе вечерние тени…» — 67.
«Снова иду я над этой пустынной равниной…» — 118.
Сны («И пора уснуть, да жалко…») — 507.
«Сны безотчетны, ярки краски…» — 77.
«Сны раздумий небывалых…» — 76.
«Солнце сходит на запад. Молчанье…» (Вечерняя) — 139.
Соловьиный сад («Я ломаю слоистые скалы…») — 490.
Сольвейг («Сольвейг! Ты прибежала на лыжах ко мне…») — 209.
«Сольвейг! О, Сольвейг! О, Солнечный Путь!..» — 226.
Сон («Я видел сон: мы в древнем склепе…») — 424.
«Сонный вздох онемелой волны…» (Взморье) — 170.
«Спи. Да будет твой сон спокоен…» (Ночная) — 140.
«Сплетались времена, сплетались страны…» — 558.
«Среди гостей ходил я в черном фраке…» — 134.
«Среди поклонников Кармен…» — 484.
Старик («Под старость лет, забыв святое…») — 102.
«Старинные розы…» — 449.
«Старость мертвая бродит вокруг…» — 193.
Старушка и чертенята («Побывала старушка у Троицы…») — 156.
«Старый, старый сон. Из мрака…» — 363.
Статуя («Лошадь влекли под уздцы на чугунный…») — 135.
«Стоит полукруг зари…» (У моря) — 192.
«Сторожим у входа в терем…» — 138.
«Стою у власти, душой одинок…» — 109.
«Странных и новых ищу на страницах…» — 84.
«Страстью длинной, безмятежной…» — 409.
«Строен твой стан, как церковные свечи…» (Девушка из Spoleto) — 405.
«Стучит топор, и с кампанил…» (Фьезоле) — 412.
«Стучится тихо. Потом погромче…» — 575.
«Сумерки, сумерки вешние…» — 62.
«Сумрак дня несет печаль…» — 72.
Сусальный ангел («На разукрашенную елку…») — 424.
Сфинкс («Шевельнулась безмолвная сказка пустынь…») — 563.
Сын и мать («Сын осеняется крестом…») — 215.
«Сырое лето. Я лежу…» — 573.
Сытые («Они давно меня томили…») — 258.
«Та жизнь прошла…» — 479.
«Тайно сердце просит гибели…» (Обреченный) — 300.
«Так. Буря этих лет прошла…» — 399.
Так было («Жизнь была стремленьем…») — 178.
«Так. Неизменно всё, как было…» — 201.
«Так окрыленно, так напевно…» — 219.
«Так. Я знал. И ты задул…» — 129.
«Там, в ночной завывающей стуже…» — 198.
«Там, в полусумраке собора…» — 74.
«Там — в улице стоял какой-то дом…» — 86.
«Там дамы щеголяют модами…» — 263.
«Там неба осветленный край…» — 506.
«Там сумерки невнятно трепетали…» — 79.
Твари весенние («Золотисты лица купальниц…») — 151.
«Твое лицо бледней, чем было…» — 260.
«Твое лицо мне так знакомо…» — 234.
«Твой образ чудится невольно…» — 44.
«Твоя гроза меня умчала…» — 225.
«Тебе, Чей Сумрак был так ярок…» (Ночная) — 140.
«Тебя скрывали туманы…» — 87.
«Тебя я встречу где-то в мире…» — 97.
«Темная, бледно-зеленая…» — 131.
Тени на стене («Вот прошел король с зубчатым…») — 295.
«Тихо вечерние тени…» — 49.
«Тихо вывела из комнат…» (Неизбежное) — 298.
«Тихо. И будет всё тише…» (Моей матери) — 193.
«Тихо рассыпалась в небе ракета…» (Рассвет) — 183.
Тишина цветет («Здесь тишина цветет и движет…») — 219.
«То не ели, не тонкие ели…» (Посещение) — 505.
«То отголосок юных дней…» — 43.
«Травы спят красивые…» — 553.
Тревога («Сердце, слышишь…») — 286.
Три послания (3 стихотворения) — 444.
31 декабря 1900 года («И ты, мой юный, мой печальный…») — 46.
«Тропами тайными, ночными…» — 396.
«Ты — божий день. Мои мечты…» — 79.
«Ты — буйный зов рогов призывных…» — 475.
«Ты был осыпан звездным цветом…» — 210.
«Ты в комнате один сидишь…» — 388.
«Ты в поля отошла без возврата…» (Вступление) — 147.
«Ты говоришь, что я дремлю…» — 473.
«Ты горишь над высокой горою…» — 63.
«Ты жил один! Друзей ты не искал…» — 478.
«Ты и во сне необычайна…» (Русь) — 214.
«Ты из шопота слов родилась…» — 578.
«Ты — как отзвук забытого гимна…» — 486.
«Ты кормчий — сам, учитель — сам…» (Заключение спора) — 571.
«Ты много жил, я больше пел…» — 28.
«Ты, может быть, не хочешь угадать…» — 526.
«Ты можешь по траве зеленой…» — 220.
«Ты — молитва лазурная…» — 557.
«Ты нам грозишь последним часом…» (Комета) — 425.
«Ты не ушла. Но может быть…» — 88.
«Ты оденешь меня в серебро…» — 169.
«Ты отошла, и я в пустыне…» — 495.
«Ты отходишь в сумрак алый…» — 50.
«Ты, отчаянье жизни моей…» — 555.
«Ты перед ним — что стебель гибкий…» (Девушке) — 231.
«Ты помнишь? В нашей бухте сонной…» — 426.
«Ты придешь и обнимешь…» — 206.
«Ты проходишь без улыбки…» — 256.
«Ты смотришь в очи ясным зорям…» — 272.
«Ты страстно ждешь. Тебя зовут…» — 69.
«Ты так светла, как снег невинный…» — 422.
«Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух…» — 439.
«Ты у камина, склонив седины…» — 130.
«Тяжкий, плотный занавес у входа…» (Шаги командора) — 390.
«Тяжко нам было под вьюгами…» — 175.
«У забытых могил пробивалась трава…» — 121.
У моря («Стоит полукруг зари…») — 192.
«У окна не ветер бродит…» — 554.
Угар («Заплетаем, расплетаем…») — 218.
«Удалены от мира на кладбище…» (На могиле друга) — 550.
«Уж вечер светлой полосою…» — 455.
«Ужасен холод вечеров…» — 94.
«Уже над морем вечереет…» — 450.
«Уже померкла ясность взора…» — 459.
«Улица, улица…» — 247.
«Умри, Флоренция, Иуда…» — 408.
Унижение («В черных сучьях дерев обнаженных…») — 357.
«Упоительно встать в ранний час…» (Утро в Москве) — 460.
«Усните блаженно, заморские гости, усните…» — 447.
Успение («Ее спеленутое тело…») — 417.
«Успокоительны, и чудны…» — 552.
Усталость («Кому назначен темный жребий…») — 228.
«Усталый от дневных блужданий…» — 30.
«Утихает светлый ветер…» — 199.
«Утомленный, я терял надежды…» — 83.
«Утреет. С богом! По домам!..» (Седое утро) — 471.
Утренняя («До утра мы в комнатах спорим…») — 139.
Утро в Москве («Упоительно встать в ранний час…») — 460.
«Уходит день. В ныли дорожной…» — 75.
«Ушел он, скрылся в ночи…» — 104.
«Ушел я в белую страну…» — 564.
«Ушла. Но гиацинты ждали…» — 305.
«Ушли в туман мечтания…» — 558.
Фабрика («В соседнем доме окна жолты…») — 131.
«Фиолетовый запад гнетет…» — 170.
Флоренция (7 стихотворений) — 408.
«Флоренция, ты ирис нежный…» — 408.
Фьезоле («Стучит топор, и с кампанил…») — 412.
«Ходит месяц по волне…» — 548.
«Хожу, брожу понурый…» — 270.
«Холодный ветер от лагуны…» — 406.
Холодный день («Мы встретились с тобою в храме…») — 265.
«Хоронил я тебя, и, тоскуя…» — 559.
«Хоть всё по-прежнему певец…» — 41.
Художник («В жаркое лето и в зиму метельную…») — 432.
«Царица смотрела заставки…» — 114.
«Целый год не дрожало окно…» — 116.
«Целый день передо мною…» — 79.
«Часовая стрелка близится к полночи…» — 449.
«Часто в мысли гармония спит…» — 543.
«Чем больней душе мятежной…» (Моей матери) — 50.
«Чем больше хочешь отдохнуть…» — 390.
Через двенадцать лет (8 стихотворений) — 456.
Черная кровь (9 стихотворений) — 374.
«Черный ворон в сумраке снежном…» — 444.
«Чертя за кругом плавный круг…» (Коршун) — 516.
«Что же ты потупилась в смущеньи?..» (Перед судом) — 436.
«Что на свете выше…» (На чердаке) — 273.
«Что сделали из берега морского…» (В северном море) — 337.
Шаги командора («Тяжкий, плотный занавес у входа…») — 390.
«Шар раскаленный, золотой…» — 467.
«Шевельнулась безмолвная сказка пустынь…» (Сфинкс) — 563.
«Шел я по улице, горем убитый…» (Перстень-Страданье) — 257.
«Шлейф, забрызганный звездами…» — 213.
«Шли мы стезею лазурною…» — 39.
«Шли на приступ. Прямо в грудь…» — 185.
Экклесиаст («Благословляя свет и тень…») — 100.
Эпитафия Фра Филиппо Липпи («Здесь я покоюсь, Филипп, живописец навеки бессмертный…») — 417.
Эхо («К зеленому лугу, взывая, внимая…») — 157.
Юрию Верховскому («Дождь мелкий, разговор неспешный…») — 427.
«Я буду факел мой блюсти…» — 112.
«Я был весь в пестрых лоскутьях…» — 122.
«Я был смущенный и веселый…» — 304.
«Я в дольний мир вошла, как в ложу…» — 304.
«Я в четырех стенах — убитый…» — 268.
«Я вам поведал неземное…» — 252.
«Я видел сон: мы в древнем склепе…» (Сон) — 424.
«Я вижу блеск, забытый мной…» — 473.
«Я восходил на все вершины…» — 169.
«Я всё гадаю над тобою…» — 65.
«Я встал и трижды поднял руки…» (Рассвет) — 570.
«Я вырезал посох из дуба…» — 121.
«Я вышел в ночь — узнать, понять…» — 97.
«Я вышел. Медленно сходили…» — 48.
«Я — Гамлет. Холодеет кровь…» — 398.
«Я гляжу на тебя. Каждый демон во мне…» — 375.
«Я долго ждал — ты вышла поздно…» — 70.
«Я ее победил, наконец!..» — 378.
«Я жалобной рукой сжимаю свой костыль…» — 241.
«Я жалок в глубоком бессильи…» — 554.
«Я ждал под окнами в тени…» — 562.
«Я жду призыва, ищу ответа…»—59.
«Я живу в глубоком покое…» — 171.
«Я живу в отдаленном скиту…» — 150.
«Я знаю, смерть близка. И ты…» — 44.
«Я знаю, ты близкая мне…» (Бред) — 202.
«Я и молод, и свеж, и влюблен…» — 93.
«Я, изнуренный и премудрый…» — 112.
«Я их хранил в приделе Иоанна…» — 109.
«Я к людям не выйду навстречу…» — 117.
«Я коротаю жизнь мою…» — 355.
«Я ли пишу, или ты из могилы…» — 68.
«Я ломаю слоистые скалы…» (Соловьиный сад) — 490.
«Я медленно сходил с ума…» — 82.
«Я миновал закат багряный…» — 233.
«Я могуч и велик ворожбою…» (Ворожба) — 548.
«Я надел разноцветные перья…» — 111.
«Я насадил мой светлый рай…» — 307.
«Я не звал тебя — сама ты…» — 451.
«Я не люблю пустого словаря…» (В дюнах) — 339.
«Я не предал белое знамя…» — 514.
«Я неверную встретил у входа…» — 316.
«Я недаром боялся открыть…» — 51.
«Я — непокорный и свободный…» (На страже) — 279.
«Я никогда не понимал…» — 543.
«Я ношусь во мраке, в ледяной пустыне…» — 526.
«Я, отрок, зажигаю свечи…» — 91.
«Я помню длительные муки…» — 329.
«Я помню нежность ваших плеч…» — 579.
«Я помню час глухой, бессонной ночи…» — 58.
«Я пригвожден к трактирной стойке…» — 448.
«Я прогнал тебя кнутом…» (Болотные чертенятки) — 149.
«Я просыпался и всходил…» — 99.
«Я сегодня не помню, что было вчера…» — 385.
«Я смотрел на слепое людское строение…» — 113.
«Я стремлюсь к роскошной воле…» — 30.
«Я тишиною очарован…» — 556.
«Я только рыцарь и поэт…» (Встречной) — 445.
«Я укрыт до времени в приделе…» — 75.
«Я умирал. Ты расцветала…» — 536.
«Я ухо приложил к земле…» — 395.
«Я шел во тьме дождливой ночи…» — 40.
«Я шел во тьме к заботам и веселью…» — 526.
«Я шел к блаженству. Путь блестел…» — 35.
«Явился он на стройном бале…» — 103.
«Ярким солнцем, синей далью…» — 38.
Примечания
Александр Блок, Собрание сочинений в восьми томах, т. 6, М.—Л. 1962, стр. 100. (В дальнейшем ссылки на это издание приводятся непосредственно в тексте указанием тома и страницы.)
Сергей Городецкий, Воспоминания об Александре Блоке. — Журн. «Печать и революция», М. 1922, № 1, стр. 86.
До света (лат.). — Ред.
Стихи Полонского.
Слуга — царице (лат.) — Ред.
Благочестие (лат.). — Ред.
«Детское» (нем.). — Ред.
Статуя на кровле Зимнего дворца.
«Истине в вине!» (лат.). — Ред
Се — человек! (лат.). — Ред.
Яд (лат.). — Ред.
Негодование рождает стих.
Ювенал. Сатиры, I, 79 (лат.). — Ред.
Так незаметно многих уничтожают годы,
Так приходит к концу всё сущее в мире;
Увы, увы, невозвратимо минувшее время,
Увы, торопится смерть неслышным шагом.
(лат.). — Ред.
Нынче вечером (итал.). — Ред.
Прекрасная (итал.) — распространенное в Италии название Флоренции. — Ред.
Кинематограф (франц.). — Ред.
Идите прочь, непосвященные: здесь свято место любви (лат.). — Ред.
Эпитафия сочинена Полицианом и вырезана на могильной плите художника в Сполетском соборе по повелению Лаврентия Великолепного.
Полициан (1454–1494) — итальянский писатель-гуманист.
Чувствительного воспитания (франц.). — Ред.
Концом века (франц.). — Ред.
Вдова Клико (франц.) — марка французского шампанского, — по фамилии владелицы фирмы. — Ред.
Улица в Варшаве.
Чувствительное воспитание (франц.) «Education sentimentale» — заглавие романа Г. Флобера. — Ред.
«В полную меру» (лат.) — лозунг Бранда, героя одноименной драмы Г. Ибсена. — Ред.
Дорогой (франц.). — Ред.
Изора, супруга ваша, недостаточно благоразумна (лат.). — Ред.
Меланхолия царствует (лат.). — Ред.
Все то же — меланхолия царствует (лат.). — Ред.
Белой ивы (лат.). — Ред.
Последний абзац перечеркнут в рукописи знаком вопроса. — Ред.
«Константин и учитель Гален и Гиппократ нам свидетельствуют… И когда меланхолия возобладает, терзает тело… и таким образом не легко избежать безумия… Кровь бунтует весною и осенью черным цветом. Кровь бунтует от ид февраля до ид марта… Меланхолия господствует от ид августа до февраля. Когда бывает излишек крови, она исходит через нос…
…Против меланхолии, которая холодна, суха и остра, не следует быть слишком худым; следует полностью соблюдать диету и следует вводить влагу, и это помогает…» (старофранц.). — Ред.
Прекрасная Аэлис подняла руку… (старофранц.). — Ред.
Сказка об Окассене и Николетте (франц.). — Ред.
Героическими поэмами (франц.). — Ред.
Мне очень приятно сладостное время Пасхи (старофранц.). — Ред.
Единственная Необходимость, Анку, отец Страдания; ничего впереди, ничего более (франц.). — Ред.
Снег падал, ветер свистел (франц.). — Ред.
Радость и поэзия — синонимы, так же как чистые синонимы — поэзия и любовь (итал.). — Ред.
Комментарии
В основу настоящего издания положены три книги «Стихотворений» Александра Блока в их последних изданиях, осуществленных по плану автора (книга первая в пятом издании 1922 г., книга вторая в четвертом издании 1918 г., книга третья в третьем издании 1921 г.).
Александр Блок во всех подготовленных им собраниях стихотворений делил свою лирику на три книги. Это членение отнюдь не носило внешнего, механического характера. Каждая из трех книг, по замыслу поэта, должна была отражать определенный этап его творческого пути и имела целостную художественную структуру, равно как и все три книги вместе. К составу и конструкции своих стихотворных сборников
А. Блок относился с глубоким вниманием. «Переиздание моих книг побуждает меня всегда проверять весь путь, потому я семь раз отмериваю, чтобы раз отрезать… Выбираю и распределяю все так, чтобы как можно яснее (насколько в данное время жизни понимаю) было, чего хотел, чего не достиг, как падал, где удалось удержаться», — заметил он в 1916 г. в письме к. А. Я. Гуревич (Александр Блок, Собрание сочинений в восьми томах, т. 8, М.—Л. 1964, стр. 456–457).
Поскольку задача настоящего издания состоит в том, чтобы представить лучшие, наиболее совершенные в художественном отношении произведения Блока, из книги первой опущено 101 стихотворение. Книги вторая и третья остались неприкосновенными. Вместе с тем принятый критерий обязывал дополнить основной свод лирики Блока избранными стихами из числа не вошедших в трехтомник в его окончательном составе. Эти, по преимуществу юношеские (1898–1903), стихи в большинстве были радикально переработаны в позднейшее время (в иных случаях — переписаны, по существу, заново) и опубликованы либо в периодических изданиях, либо в сборниках поэта. Относительно таких стихотворений Блок сказал в предисловии к сборнику «За гранью прошлых дней» (1919) > «Многие из них переделаны впоследствии, так что их нельзя отнести ни к этому раннему, ни к более позднему времени». В отдельных случаях стихи этого раздела помечены двумя датами: вторая дата, заключенная в скобки, указывает на время радикальной переработки; две даты через тире означают, что в основу стихотворения был положен ранний черновой набросок.
Текст воспроизводится по изданию: Александр Блок, Собрание сочинений в восьми томах, тт. I–IV, Государственное издательство художественной литературы, М. — JI. 1960–1961. Единственное исключение — стихотворение «Да, так велит мне вдохновенье…» (из цикла «Ямбы»), Оно печатается по журнальной публикации 1920 года, которая, как выясняется, должна считаться последней авторской редакцией
СТИХОТВОРЕНИЯ
Книга первая
Стр. 27. Шахматово — усадьба А. Н. Бекетова, деда Блока, в Клинском уезде Московской губернии.
«Ты много жил, я больше пел…» (стр. 28) Гун Николай Васильевич — гимназический товарищ Блока, покончивший самоубийством 20 января 1902 г. (см. стихотворение «На могиле друга» — стр. 550 наст. тома).
Моей матери (стр. 29). — Мать Блока — Александра Андреевна Бекетова (1860–1923), по первому мужу Блок, по второму — Кублицкая-Пиоттух, переводчица и писательница для детей.
«Я стремлюсь к роскошной воле…» (стр. 30). — Дедово — подмосковная усадьба А. Г. Коваленской, двоюродной бабки Блока.
«Есть в дикой роще, у оврага…» (стр. 31)Среди юношеских стихотворений Блока есть целый ряд вариаций на темы и мотивы трагедии Шекспира «Гамлет». Все они связаны с любительским спектаклем, состоявшемся 1 августа 1898 г. в усадьбе Менделеевых Боблово; роль Гамлета исполнял Блок, роль Офелии — его будущая жена Л. Д. Менделеева. См. стихотворение «Я шел во тьме к заботам и веселью…» (стр. 526 наст. тома).
«Луна проснулась. Город шумный…» (стр. 32). — К. М. С. — Ксения Михайловна Садовская (1862–1925), «первая любовь» Блока, с которой он встречался в 1897–1899 гг.
«О край небес — звезда омега…» (стр. 33). Омега — последняя буква греческого алфавита; по астрономической классификации, так обозначаются цветные звезды, к числу которых принадлежат Сириус и Вега.
Гамаюн, птица вещая (стр. 34) Имеется в виду картина Виктора Михайловича Васнецова (1848–1926), изображающая Гамаюна — по древнерусским поверьям, сказочную райскую птицу-вещунью с человеческим лицом.
Трус — землетрясение.
«Прошедших дней немеркнущим сияньем…» (стр. 41). — Курсивом выделена цитата из трагедии Шекспира «Гамлет» (д. III, сц. 1 — монолог Гамлета).
«На небе зарево. Глухая ночь мертва….» (стр. 42). — По разъяснению Блока, в этом стихотворении отразилось одно из его впечатлений: деревья березовой рощи и облака, освещенные лучами заходящего солнца, показались ему картиной средневекового города.
«Ищу спасенья…» (стр. 45). — Соловьева Ольга Михайловна (1855–1903) — художница и переводчица, жена М С Соловьева (брата философа и поэта Вл. Соловьева), мать поэта Сергея Соловьева, родственница Блока, содействовавшая его первому выступлению в печати.
«В день холодный, в день осенний…» (стр. 52). — Старая Деревня — пригород Петербурга.
«Всё отлетают сны земные…» (стр. 52). — Эпиграф принадлежит Блоку.
«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…» (стр. 56). — Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) — поэт, философ, публицист и литературный критик; воинствующий идеалист и мистик, оказавший глубокое влияние на молодого Блока.
«Она росла за дальними горами…» (стр. 57). — Соловьев Сергей Михайлович (1885–1942) — троюродный брат Блока и до 1905 г. один из ближайших его друзей; поэт и критик; племянник Вл. Соловьева.
«Я помню час глухой, бессонной ночи…» (стр. 58). — Боблово — усадьба Д. И. Менделеева в Клинском уезде Московской губернии, в 8 верстах от Шахматова.
«Признак истинного чуда…» (стр. 62). — Фабрика — в окрестностях Шахматова.
«Кругом далекая равнина…» (стр. 64). — Ивлево — деревня в окрестностях Шахматова.
«Нет конца лесным тропинкам…» (стр. 65). — Церковный лес — в окрестностях Шахматова.
Ночь на Новый год (стр. 72). — Вариация на тему баллады В. А. Жуковского «Светлана».
«Верю в Солнце Завета…» (стр. 78). — Апокалипсис — «Откровение Иоанна Богослова», одна из книг «Нового завета», содержащая пророчества о грядущем «конце света».
«Весна в реке ломает льдины…» (стр. 82). — Моисеев куст. — По библейскому преданию, Моисей из горевшего и не сгоравшего куста (Неопалимая купина) услышал божественный призыв к освобождению евреев от египетского рабства.
«Странных и новых ищу на страницах…» (стр. 84) Купина — см. предыдущее примечание.
На смерть деда (стр. 91) Дед Блока (по матери) — Андрей Николаевич Бекетов (1825–1902), видный ученый (ботаник) и либеральный общественный деятель, профессор и ректор (в 1876–1883 гг.) Петербургского университета.
Экклесиаст (стр. 100). — Переложение части (ст. 3–6) XII главы ветхозаветной «Книги Екклесиаста», приписанной в древности царю Соломону.
«Был вечер поздний и багровый…» (стр. 101). — Иуда Искариот — по евангельской легенде, один из апостолов Иисуса Христа, из корысти предавший его в руки врагов. Версия о том, что Иуда был при рождении Иисуса, не находит подтверждения в евангельских источниках и, очевидно, придумана Блоком.
Старик (стр. 102). — Посвящено академику Андрею Сергеевичу Фаминцыну (1835–1918), ботанику и физиологу, близкому знакомому старших Бекетовых.
«Дома растут, как желанья…» (стр. 108). — Орфей (греч. миф.) — чудесный поэт и певец; спустился в подземное царство за своей умершей женой Эвридикой, которую все же потерял, потому что, выводя ее, оглянулся, вопреки запрету богов.
«Я их хранил в приделе Иоанна…» (стр. 109). — Написано было сразу после решительного объяснения с Л. Д. Менделеевой 7 ноября 1902 г., когда она согласилась стать женой Блока.
Осанна (в переводе с греческого: «Спаси же!») — молитвенный возглас, славословие.
«Я смотрел на слепое людское строение…» (стр. 113). — Андрей Белый — литературный псевдоним Бориса Николаевича Бугаева (1880–1934), поэта, прозаика, критика, виднейшего теоретика символизма, с которым Блок вступил в переписку в январе 1903 г., лично познакомился в январе 1904 г. и с которым в течение всей жизни поддерживал крайне неровные отношения (наиболее близкие в 1904–1905 гг.).
«Царица смотрела заставки…» (стр. 114). — Отражение народно-поэтического предания о Глубинной (или Голубиной) книге, упавшей на землю с неба. Книга эта, одно из популярных произведений духовной литературы, явилась средоточием церковной мудрости русского средневековья. Глубинной книгу называли от глубины премудрости, в ней заключенной, а голубиной — по известному символу «святого духа».
«— Все ли спокойно в народе?..» (стр. 119). — Посох железный — образ, заимствованный из Апокалипсиса.
«Когда я стал дряхлеть и стынуть…» (стр. 123) Бессмертная пошлость — выражение Ф. И. Тютчева («Чему молилась ты с любовью…»). Стихотворение было вызвано впечатлениями курортного быта в немецком курортном городе Бад Наугейм.
«Ей было пятнадцать лет. Но по стуку…» (стр. 124). — В стихотворении биографически достоверно изложены обстоятельства встречи Блока с Л Д. Менделеевой 7 ноября 1902 г. на вечере курсисток в зале Дворянского собрания, их решительного объяснения и следующей встречи, имевшей место 9 ноября в Казанском соборе.
«Сижу за ширмой. У меня…» (стр. 128). — По разъяснению Блока, стихотворение было внушено ему «Трансцендентальной эстетикой» И. Канта. Образ человека, прячущегося за ширмой, заимствован из «Драматической симфонии» А. Белого (1902), где описан «молодой философ», который, прочитав у Канта о пространстве и времени как априорных формах познания, придумывает — «нельзя ли заставить себя ширмами, спрятавшись от времени и от пространства».
«Темная, бледно-зеленая…» (стр. 131). — Оленина-д’Альгейм Мария Алексеевна (род. в 1869 г.) — камерная певица, популярная в кругу символистов.
«Мы шли на Лидо в час рассвета…» (стр. 132). — Лидо (итал.) — взморье; Блок так называл побережье Финского залива в окрестностях Петербурга.
«Плачет ребенок. Под лунным серпом…» (стр. 133). — Иванов Евгений Павлович (1879–1942) — литератор, самый близкий и задушевный друг Блока.
Из газет (стр. 134). — Человек с оловянной бляхой на теплой шапке — городовой.
Статуя (стр. 135). — По свидетельству Блока, стихотворение было «внушено статуями барона Клодта на Аничковом мосту в Петербурге».
«Светлый сон, ты не обманешь…» (стр. 137). — Вечерницы — здесь: вечерние звезды (зорницы).
Молитвы (стр. 138). — 4. Ночная. Суровый маг — В. Я. Брюсов, признанный вождь символистской школы, который возражал против стремления «младших» символистов (А. Белый, А. Блок, С. Соловьев и др.) сделать поэзию «служанкой» мистической философии Вл. Соловьева. Документом этой полемики служит стихотворение Брюсова «Младшим» («Они Ее видят! Они Ее слышат!..»), обращенное к Блоку и Белому. «Ночная молитва» Блока явилась ответом на это стихотворение Брюсова.
«Дали слепы, дни безгневны…» (стр. 141). — По разъяснению Блока, написано «под впечатлением живописи Врубеля».
Книга вторая
Пузыри земли (стр. 148) Эпиграф — из трагедии Шекспира «Макбет» (акт I, сц. 3), которая принадлежала к числу любимейших литературных произведений Блока.
Болотные чертенятки (стр. 149). — Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957) — писатель-символист, прозаик и драматург, приятель Блока.
Твари весенние (стр. 151). — Гиппиус Татьяна Николаевна (род. в 1877 г.) — художница-график, автор портрета Блока (1906). Блок любил рассматривать рисунки Т. Н. Гиппиус в ее альбоме «Kindisch», заполненном изображениями разного рода фантастических «тварей» и чертенят.
Купальница — купава, луговой цветок.
«Белый конь чуть ступает усталой ногой…» (стр. 154). — Схима — высшая монашеская степень, требующая от посвященного в нее выполнения суровых, аскетических правил.
Змеевик — общее название ряда травянистых растений.
Новоселки — деревня в окрестностях Шахматова.
Старушка и чертенята (стр. 156). — Посвящение носит шуточный характер: Григорий Е. — это еж, пойманный Блоком и живший в шахматовском доме летом 1905 г.
Троица — монастырь Троице-Сергиевой лавры (ныне Загорск).
Ночная фиалка (стр. 160). — «Эта поэма — почти точное описание виденного мною сна», — пояснил Блок.
Что нечаянно Радость придет И пребудет она совершенной (стр. 167) — цитата из Евангелия от Иоанна.
«Жду я смерти близ денницы…» (стр. 168). — Как отметил сам Блок, было написано «в подражание» стихотворению Б. Брюсова «Приходи путем знакомым…».
Семенов Леонид Дмитриевич (1884–1917) — поэт, товарищ Блока по университету.
«Нежный! У ласковой речки…» (стр. 174). — Смородский Федор — мелкий поэт 1900-х годов, писавший также под псевдонимом: Ф. Ладо-Светогорский.
Ее прибытие (стр. 177). — Фрагменты неоконченной поэмы, как указал Блок, «посвященной разным «несбывшимся надеждам» (по моему тогдашнему замыслу)», связанным с переживанием революционных событий конца 1904 и 1905 гг.
«Шли на приступ. Прямо в грудь…» (стр. 185) Отклик на события «кровавого воскресенья» 9 января 1905 г.
Влюбленность (стр. 186). — По разъяснению Блока, стихотворение внушено старинным замком города Фридберга в Германии.
«Не строй жилищ у речных излучин…» (стр. 189) Чулков Георгий Иванович (1879–1939) — поэт, драматург, критик и литературовед, приятель Блока в 1904–1908 гг.
«Потеха! Рокочет труба…» (стр. 189). — Слова слаще звуков Моцарта — цитата из либретто оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама».
Балаганчик (стр. 190). — «Развитие этой темы — в лирической драме того же имени; те же мотивы встречаются и в „Стихах о Прекрасной Даме”» (примечание Блока).
Осенняя воля (стр. 195). — Рогачевское шоссе — вблизи Шахматова.
«Не мани меня ты, воля…» (стр. 196). — Персть — земля, земной прах.
«Вот он — Христос — в цепях и розах…» (стр. 200). — «Стихотворение навеяно теми чертами русского пейзажа, которые нашли себе лучшее выражение у Нестерова» (примечание Блока). Наиболее близкий пейзаж у М. В. Нестерова (1862–1942) — картина «Видение отроку Варфоломею».
«Милый брат! Завечерело…» (стр. 205). — Обращено к А. Белому.
Сестра — Л. Д. Блок, жена поэта.
Сольвейг (стр. 209). — Блок указал, что драматической поэмой Генрика Ибсена (1828–1906) «Пер Гюнт» «навеяны и женственный образ Сольвейг, и другие образы этого стихотворения». Женское имя Сольвейг в буквальном переводе с норвежского означает: «Солнечный путь». Ср. стихотворение «Сольвейг! О, Сольвейг! О, Солнечный Путь!..» (стр. 226).
Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967) — поэт и беллетрист, приятель Блока в 1905–1908 гг.
«Ты был осыпан звездным цветом…» (стр. 210). — Гюнтер Ганс (Иоганн) (род. в 1886 г.) — немецкий поэт, переводчик русских писателей (в том числе Блока) на немецкий язык; одно время жил в Петербурге.
Ангел-Хранитель (стр. 211). — Обращено к Л. Д. Блок — жене поэта. Написано в третью годовщину их свадьбы.
Русь (стр. 214). — По разъяснению Блока, «„мутный взор колдуна“, чарование злаков, ведьмы и черти в снеговых столбах на дороге, девушка, точащая под снегом лезвее ножа на изменившего милого, — все это подлинные образы наших поверий, заговоров и заклинаний».
Угар (стр. 218). — Стихира — церковное песнопение на библейские мотивы.
Балаган (стр. 225). — Эпиграф — из пьесы А. Дюма «Кин, или Гений и беспутство». Кин Эдмунд (1787–1833) — английский драматический актер, прославившийся в ролях шекспировского репертуара.
Последний день (стр. 235). — Блок отметил сказавшееся здесь влияние стихотворения В. Брюсова «Конь Блед»,
Петр (стр. 236). — По разъяснению Блока, стихотворение внушено памятником Петру I работы Э. Фальконе на Сенатской площади в Петербурге («Медный всадник»).
Поединок (стр. 237). — Вечерница — здесь: вечерняя звезда, вечерняя заря.
Ясный, Кроткий, Златолатный — св. Георгий Победоносец, патрон Московской Руси.
Невидимка (стр. 252). — Красный фонарик — опознавательный знак дома терпимости.
На Звере Багряном — Жена. — образ «Великой блудницы» (развращенного Вавилона) в Апокалипсисе.
Митинг (стр. 253). — Блок отметил сказавшееся в этом стихотворении влияние «Баллады Рэдиигской тюрьмы» О. Уайльда (1856–1900) в русском переводе К. Д. Бальмонта.
«Вися над городом всемирным…» (стр. 255). — Это стихотворение, как и следующее, было написано в день опубликования царского манифеста о «даровании» конституции, которую Блок оценил как обман свободолюбивых чаяний и надежд народа.
Предок царственно-чугунный — памятник Петру I («Медный всадник»).
Сытые (стр. 258). — Блок указал, что это стихотворение «внушено октябрьскими забастовками 1905 года в Петербурге». В частности, тогда бастовала столичная электростанция.
Незнакомка (стр. 261). — «Развитие темы этого и смежных стихотворений — в лирической драме того же имени» (примечание Блока).
Чуть золотится крендель булочной… — В дореволюционное время вывески булочных украшались золоченым изображением кренделя.
Озерки — дачный пригород Петербурга.
«Там дамы щеголяют модами…» (стр. 263). — Вариант предыдущего стихотворения, обработанный в 1911 г.
Лицеист — ученик Александровского лицея в Петербурге, привилегированного учебного заведения; в нарицательном смысле — представитель светской лощеной молодежи.
Клеопатра (стр. 274). — В 1907 г. Блок часто посещал открытый в Петербурге паноптикум (музей восковых фигур), где, в числе других, была выставлена фигура Клеопатры, снабженная механизмом, благодаря которому создавалось впечатление, будто она дышит. По преданию, Клеопатра покончила с собой, приложив к груди ядовитую змею.
Цезарь — Юлий Цезарь, возлюбленный Клеопатры.
Снежная маска (стр. 277). — Эта «лирическая поэма» (как названа «Снежная маска» в рукописи) была написана под свежим впечатлением встречи и знакомства с актрисой драматического театра В. Ф. Коммиссаржевской — Натальей Николаевной Волоховой (род. в 1880 г.), которой и посвящена (как и цикл «Фаина» и вообще большинство стихотворений, написанных в 1907 г.). В «Снежной маске» отразились впечатления костюмированного вечера, устроенного актрисами театра В. Ф. Коммиссаржевской — так называемого «бумажного бала», на котором дамы были в маскарадных костюмах, сделанных из бумаги (отсюда в стихах Блока — «трехвенечная тиара» и т. п., вплоть до таких деталей, как пряжки в виде змеек на женской обуви: «На конце ботинки узкой Дремлет тихая змея»).
Под масками (стр. 292). — В последней строфе упоминается книжный шкаф с металлическим изображением амура на дверце, стоявший в кабинете Блока.
Обреченный (стр. 300). — Призор — в церковнославянском языке: сглаз, порча от дурного глаза (перешло в народную речь).
«Я в дольний мир вошла, как в ложу…» (стр. 304). — Н. Я. В. — Н. Н. Волохова.
Снежная Дева (стр. 311). — Сфинкс с выщербленным ликом — один из двух древних фиванских сфинксов, установленных в Петербурге, на набережной Невы, возле Академии художеств.
«И я провел безумный год…» (стр. 312). — Третья стража (лат. Tertia vigilia). — В Древнем Риме был учрежден корпус ночных стражников — вигилий; третья стража — последняя смена караула перед рассветом. В переносном значении «за третьей стражей» — под утро.
Песня Фаины (стр. 325). — «На тему одной шансонетки. Фаина — действующее лицо в моей пьесе „Песня Судьбы”» (примечание Блока).
«Она пришла с мороза…» (стр. 328). — Пузыри земли — см. выше, стр. 148.
Паоло и Франческа — несчастные любовники, жившие в Италии в XIII веке; об их трагической судьбе рассказано в «Божественной Комедии» Данте («Ад», песнь V).
«Своими горькими слезами…» (стр. 330). — Развенчанная тень — слова А. С. Пушкина (из стихотворения «Наполеон»). Это стихотворение — последнее из посвященных Н. И. Волоховой.
О смерти (стр. 331). — Сотка — водочная бутылка (в одну сотую ведра).
Над озером (стр. 334). — Шувалово — дачная местность под Петербургом; здесь на берегу озера на крутом склоне холма расположено кладбище.
В северном море (стр. 337). — Тальеры — женские костюмы.
Вольный остров — один из островов, расположенных в дельте Невы.
Фероньера — женское украшение для волос.
Сестрорецку курорт — под Петербургом, на берегу Финского залива.
В дюнах (стр. 339). — Дюны — местность под Петербургом, на бывшей границе с Финляндией, на берегу Финского залива, в районе поселка Оллила (ныне — Солнечное).
Книга третья
Песнь Ада (стр. 347). — День догорел… — Так начинается вторая песнь «Ада» Данте («Lo giorno se n’andava…»). По разъяснению Блока, «Песнь Ада» — «есть попытка изобразить «пифернальность» (термин Достоевского), «вампиризм» нашего времени стилем Inferno…» («Inferno» — «Ад»).
На островах (стр. 351). — Елагин мост — в Петербурге.
«Дух пряный марта был в лунном круге…» (стр. 353). — Крестовский остров — в Петербурге.
Демон (стр. 354). — «Стихотворение написано под впечатлением смерти Врубеля; связь демонов Лермонтова и Врубеля, намеки на которую есть в этих стихах, подлежит исследованию» (примечание Блока).
«Идут часы, и дни, и годы…» (стр. 356). — Ессе Homo! (Се — человек!) — по евангельской легенде, слова, с которыми Поитий Пилат указал на Иисуса Христа.
Авиатор (стр. 358). — В рукописи посвящено памяти В. Ф. Смита — одного из первых русских летчиков, разбившегося па глазах у Блока 14 мая 1911 г. на Коломяжском аэродроме в Петербурге.
Летун — в народном языке: огненный змей, летучий дух.
«Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный…» (стр. 365). — Безумный Эдгар — Эдгар По (1809–1849).
«Ну, что же? Устало заломлены слабые руки…» (стр. 367). — Ревность по дому и Что делаешь, делай скорее — цитаты из Евангелия (вторая — слова Иисуса Христа, обращенные к Иуде).
«Весь день — как день: трудов исполнен малых…» (стр. 368). — Ни охнуть, ни вздохнуть — выражение И. А. Крылова (басня «Волк и Журавль»).
На смерть младенца (стр. 385). — Написано на смерть сына Л. Д. Блок — Дмитрия, прожившего всего восемь дней.
Шаги командора (стр. 390). — Зоргенфрей Вильгельм Александрович (1882–1938) — поэт, приятель Блока.
Ямбы (стр. 395). — Стихи, составившие этот цикл, в большинстве были выделены из рукописей первой редакции поэмы «Возмездие».
Ювенал Децим Юний — римский поэт-сатирик (I–II вв. н. э.).
Блок Ангелина Александровна (1892–1918) — дочь А. Л. Блока от второго брака; поэт познакомился с сестрой в декабре 1909 г. в Варшаве, на похоронах отца, в дальнейшем встречался с ней не часто, но относился к ней с большой симпатией и был озабочен ее судьбой.
«Я ухо приложил к земле…» (стр. 395). — В рукописи озаглавлено: «Рабочему». Конкретно-политический смысл этого и следующего за ним стихотворений раскрывается более полно, если учесть, что они были написаны в тот самый день, когда царским манифестом было объявлено о роспуске Государственной думы, после чего правительство перешло к открытой политике жесточайшего контрреволюционного террора.
«Тропами тайными, ночными…» (стр. 396). — Их корабли в пучине водной — отзвук Цусимского сражения 14–15 мая 1905 г., когда в морском бою с японцами погибла большая часть русской Тихоокеанской эскадры.
Отходная — молитва, которую священник (иерей) читает над умирающим.
«В голодной и больной неволе…» (стр. 397) Господне лето — выражение из Евангелия («Лето господнее благоприятно»).
«Не спят, не помнят, не торгуют….» (стр. 397). — В рукописи озаглавлено: «Святая Пасха».
Ты — Л. Д. Блок;
та ночь — ночь с 7 на 8 ноября 1902 г, когда произошло решительное объяснение Блока с будущей женой.
«О, как смеялись вы над нами…» (стр. 398) Заключительное двустишие — цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silen-lium!» («Молчание!»).
«Я — Гамлет. Холодеет кровь…» (стр. 398) Обращено к жене и связано с воспоминаниями о «шекспировском спектакле» 1898 г. (см. выше, стр. 774).
«В огне и холоде тревог…» (стр. 401). — В час искупительный у гроба — то есть у гроба отца, А. Л. Блока.
Равенна (стр. 403). — Равенна — древняя столица Западной Римской империи, в 493 г. была завоевана королем остготов Теодори-хом Великим (ок. 454–526); впоследствии она пришла в упадок и постепенно превратилась в захолустный городок. Многочисленные старинные церкви Равенны (у Блока — базилики) украшены замечательными мозаиками. В Равенне похоронены Теодорих Великий, римская императрица V века Галла Плацидия Августа (Галла) и величайший поэт Италии Данте Алигьери.
Далеко отступило море… — «Лежащий на юго-восток от Равенны Glasse был во времена Августа главной римской гаванью — рогtns Glassis; но Адриатика давно уже отступила от этих берегов; и шумная некогда гавань состоит теперь из нескольких домиков и огромной полупустой базилики…» (примечание Блока).
«Новая Жизнь» — произведение Данте.
Девушка из Spoleto (стр. 405). — Сполето — городок в Средней Италии.
Лишь, как художник, смотрю за ограду. — «Художники Возрождения любили изображать себя самих на своих картинах, в качестве свидетелей или участников…» (примечание Блока).
Венеция (стр. 405). — Львиный столб — памятник в Венеции.
Гиганты — две человеческие фигуры, установленные на башенных часах в Венеции.
Марк — собор св. Марка в Венеции, отличающийся богатством архитектурного оформления.
Лагуна лунная — По разъяснен нию Блока, он имел в виду освещенное луной небо. На воспоминание о библейской легенде о царевне Саломее, потребовавшей в награду за пляску голову Иоанна Крестителя, Блока, возможно, натолкнула картина Карло Дольчи «Саломея с головой Иоанна Крестителя», которую он видел в Италии.
Священной шалью оградить. — «Черные шали с бахромой — до сих пор неизменная принадлежность костюма венецианок; их накидывают и носят особенно» (примечание Блока).
Перуджия (стр. 407) Перуджия — городок в Италии в области Умбрия.
Перуджино (1446–1524) — итальянский художник.
Флоренция (стр. 408). — Там, где святой монах сожжен. — Во Флоренции, на площади Синьории, по приговору церковных властей был повешен и сожжен, как еретик, монах Джироламо Савонарола (1452–1498) — проповедник и общественный реформатор.
Леонардо — Леонардо да Винчи.
Беато — Фра Джованни да Фьезоле (1387–1455) — итальянский художник, причисленный церковью к «лику блаженных» под именем Беато Фра Анжелико.
Медичи — знатный род, правивший во Флоренции.
Лилии — эмблема феодальной Флоренции.
Кашины — парк во Флоренции.
Христовы слезы («Lacrima Christ!») — марка итальянского вина.
«Вот девушка, едва развившись…» (стр. 411) Септимий Север — римский император (с 193 по 211 г.).
Madonna da Settignano (стр. 412). — «Settignano — местечко в окрестностях Флоренции. Стихотворение это внушил мне бюст синеокой мадонны в желтом платке с цветочками, помещенный под местечком, в полугоре» (примечание Блока).
Фьезоле (стр. 412). — Фьезоле — городок в окрестностях Флоренции.
Кампанилы (итал.) — колокольни.
Сиена (стр. 412). — Сиена — древний город в Средней Италии.
Сиенский собор (стр. 413). — Мраморный пол великолепного Сиенского собора покрыт многими изображениями, среди которых — девять сивилл (древнегреческих пророчиц; впоследствии в так называемых «Сивиллиных книгах» ранние христиане находили пророчества о появлении «спасителя», мессии), а также — «возрасты человека» от детства до старости.
«Искусство — ноша на плечах…» (стр. 414) В итальянском городке Фолиньо Блок случайно увидел в кинематографе французский фильм, который уже посмотрел за год до того в Петербурге.
Благовещение (стр. 415). — Стихотворение внушено фреской художника Джианниколо Манни, которую Блок увидел в Перуджии. Под фреской — латинская подпись: «Убеждаю: идите прочь, непосвященные, это место свято».
Успение (стр. 417). — «Стихотворение внушено фреской Фра Филиппо Липпи в алтаре Сполетского собора (Умбрия)» (примечание Блока).
Три царя. — По евангельской легенде, когда родился Иисус Христос, его пришли приветствовать три царя из восточных земель, ведомые вновь появившейся на небе звездой.
Эпитафия Фра Филиппо Липпи (стр. 417). — Фра Филиппо Липпи (около 1406–1469) — итальянский художник.
Лаврентий Медичи Великолепный (1448–1492) — флорентийский правитель, покровитель художников и ученых.
За гробом (стр. 419). — Утоли мои печали — название одной из распространенных икон богоматери.
«Когда замрут отчаянье и злоба…» (стр. 422). — Обращено к Л. Д. Блок.
«Всё это было, было, было…» (стр. 423). — Возлюбленная поляна — Шахматово.
Калита — московский великий князь Иван Данилович, по прозванию Калита (умер в 1340 г.).
Комета (стр. 425). — В 1910 г. много говорили и писали о появлении Кометы Галлея, якобы угрожающей существованию Земли.
Матчиш — мотив популярного в свое время танца.
Симплон — знаменитый туннель в швейцарских Альпах.
«Ты помнишь? В нашей бухте сонной…» (стр. 426). — Стихотворение связано с воспоминанием о следующем эпизоде: в начале августа 1911 г. во французский порт Аберврак (на Бретонском побережье Атлантического океана), где тогда жил Блок с женой, неожиданно вошла военная эскадра; политическое положение в Европе в то время было напряженным, и Блок истолковал это событие как предзнаменование близящейся мировой войны.
Юрию Верховскому (стр. 427). — Верховский Юрий Никандрович (1878–1956) — поэт и историк русской поэзии.
«Идиллии и элегии» (Спб. 1910) — сборник стихотворений Ю. Верховского, в значительной части имитирующих жанры и формы античной идиллической и элегической лирики.
Валерию Брюсову (стр. 428) Блок в молодости испытал сильное влияние поэзии В. Я. Брюсова (1873–1924) и считал его одним из своих учителей. Личное знакомство их состоялось 30 января 1903 г. В дальнейшем Блок в значительной мере разочаровался в поэзии Брюсова, продолжая поддерживать с ним личные и деловые отношения. В марте 1912 г., получив от В. Я. Брюсова новый сборник его стихов «Зеркало теней» (М. 1912), Блок записал в дневнике: «Книга новых стихов от Брюсова (отозвалось прежней радостью и болью)».
Владимиру Бестужеву (стр. 429). — Владимир Бестужев — один из литературных псевдонимов Владимира Васильевича Гиппиуса (1876–1941), поэта и критика, участника раннего символистского движения. Ответ на послание В. Бестужева «Александру Блоку» («Гиперборей», 1912, № 2).
Вячеславу Иванову (стр. 429). — Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) — поэт и филолог, виднейший теоретик и деятель русского символизма.
Восстанья страшная душа и Из стран чужих, из стран далеких. — Блок познакомился с Вяч. Ивановым в январе 1905 г. (вскоре после событий 9 Января), когда тот вернулся в Россию после длительного пребывания за границей.
Анне Ахматовой (стр. 431). — Ответ на послание Анны Андреевны Ахматовой (1889–1966) «Александру Блоку («Я пришла к поэту в гости…»).
Художник (стр. 432). — Сирины — в русском фольклоре и древнерусской литературе сказочные райские птицы, символизирующие радость и счастье.
«О, нет! не расколдуешь сердца ты…» (стр. 433). — Обращено к JI. Д. Блок.
Девятый день и день сороковой — дни, установленные православной церковью для поминовения умерших.
Женщина (стр. 434). — Начиная с 1911–1912 гг. Блок переживал сильное увлечение творчеством и самой личностью шведского писателя Августа Стриндберга (1849–1912), в котором он видел черты демократа и «нового человека» — волевого и мужественного. В данном стихотворении переданы характерные для позднего Стриндберга настроения: его протест против размягчающего «женственного» начала. Блок, под влиянием Стриндберга, в известной мере разделял эти настроения, в шутку называя их «женоненавистничеством».
Перед судом (стр. 436). — Обращено к Л. Д. Блок.
Антверпен (стр. 437). — В Антверпене Блок был в сентябре 1911 г. Осенью 1914 г., в начале первой мировой войны, Антверпен, кок и вся Бельгия, стал ареной кровопролитных сражений.
Эско — французское название реки Шельды, на берегах которой расположен Антверпен.
Стимер — корабль.
Квентин Массис (1466–1530) — художник нидерландского Возрождения.
«Душа! Когда устанешь верить?..» (стр. 442) Обращено к некоей Маргарите Аносовой, в ту пору курсистке и начинающей поэтессе, литературной поклоннице Блока.
«Май жестокий с белыми ночами!..» (стр. 443). — Пяст Владимир Алексеевич (1886–1940) — поэт, друг Блока, порваашпй с ним после появления поэмы «Двенадцать».
Три послания (стр. 444) Посвящено Валентине Андреевне Щеголевой (1878–1931), драматической актрисе.
«Уже над морем вечереет…» (стр. 450). — Обетование неложно— слова молитвы («Ты дал неложное обетование…»).
Через двенадцать лет (стр 456). — Стихи этого цикла в большинстве были набросаны в июне 1909 г. в Бад Наугейме, где за 12 лет до того Блок встретился с К. М. Садовской (см. выше, стр. 774).
Градирни — стены из хвороста, который пропускает сквозь себя ветер и механически приводимую в движение соленую воду (сооружены в Бад Наугейме в лечебных целях).
Лес девичий (Frauenwald) — парк в Бад Наугейме.
Елагин остров — парк в Петербурге.
Синий призрак умершей любовницы. — До Блока дошел ложный слух о смерти К. М. Садовской.
На смерть Коммиссаржевской (стр. 461) Блок познакомился с Верой Федоровной Коммиссаржевской (1864–1910) в 1906 г., когда в ее театре была поставлена первая лирическая драма Блока — «Балаганчик».
Камень бел-горючий и плакун-трава — образы русского былинного, песенного и сказочного фольклора.
«Шар раскаленный, золотой…» (стр. 467). — Садовской Борис Александрович (1881–1952) — поэт, беллетрист, критик и историк литературы.
«Я вижу блеск, забытый мной…» (стр. 473). — Связано с воспоминаниями о К. М. Садовской.
«Затянулись гитарные струны…» (стр. 475). — Ксюша — известная в свое время цыганская певица Ксения Прохорова.
«Петербургские сумерки снежные…», «Превратила все в шутку сначала…», «Та жизнь прошла…», «Была ты всех ярче, верней и прелестней…» (стр. 477–479). — Эти стихи обращены к Л. А. Дельмас (см. о ней ниже) (см. коммент. 210 — верстальщик).
«Он занесен — сей жезл железный…» (стр. 480). — Жезл железный — образ из Апокалипсиса.
«Пусть я и жил, не любя…», «Протекли за годами года…», «За горами, лесами…» (стр. 480–482). — Эти стихи обращены к Л. Д. Блок, которая в это время находилась в Галиции, в качестве сестры милосердия в военном госпитале.
Кармен (стр. 483). — Цикл был написан под впечатлением встречи и знакомства с Любовью Александровной Андреевой-Дельмас — оперной актрисой, исполнительницей партии Кармен в опере Ж. Бизе. Курсивом в стихах выделены цитаты из либретто «Кармен».
Соловьиный сад (стр. 490). — В пейзаже поэмы отразились воспоминания Блока о местечке Гетари в Южной Франции (на Бискайском побережье Атлантического океана), где он жил с женой летом 1913 г. «В Гетари была вилла, с ограды которой свешивались вьющиеся розы. Блоки часто проходили мимо нее и видели на скалистом берегу рабочего с киркой и ослом» (М. Бекетова, Александр Блок, Л. 1930, стр. 200–201).
«Ты отошла, и в пустыне…» (стр. 495). — Галилея — область на севере Палестины, но евангельскому преданию — родина Иисуса Христа (Сына Человеческого). Последнее двустишие — цитата из Евангелия.
На поле Куликовом (стр. 497). — В 1912 г. Блок сопроводил цикл следующим примечанием: «Куликовская битва принадлежит, по убеждению автора, к символическим событиям русской истории. Таким событиям суждено возвращение. Разгадка их еще впереди». Символика Куликовской битвы (8 сентября 1380 г.), сыгравшей важную роль в освобождении Руси от монгольско-татарского ига, занимала видное место в кругу мыслей Блока о судьбах России, о взаимоотношениях народа и интеллигенции, о грядущей революции.
«Дым от костра струею сизой…» (стр. 503). — Эпиграф из распространенного цыганского романса.
На железной дороге (стр. 504). — «Бессознательное подражание эпизоду из «Воскресения» Толстого: Катюша Маслова на маленькой станции видит в окне Нехлюдова на бархатном кресле ярко освещенного купе первого класса» (примечание Блока).
Иванова Мария Павловна (1874?—1941) — сестра Е. П. Иванова, задушевного друга Блока.
Молчали желтые и синие; в зеленых плакали и пели… — В дореволюционное время вагоны I класса окрашивали в синий цвет, II класса — в желтый и III класса — в зеленый.
Посещение (стр. 505). — Связано с циклом «Через двенадцать лет» (см. выше, стр. 787). Первый «голос» — это голос К. М. Садовской; второй — самого Блока.
«Приближается звук. И, покорна щемящему звуку…» (стр. 507). — Обращено к Л. Д. Блок.
Новая Америка (стр. 509). — Ектенья — один из разделов православного богослужения.
Орарь — принадлежность облачения дьякона (длинная лента, перекинутая через плечо).
Бунчук — конский хвост на древке; знак власти и достоинства украинских гетманов (также и турецких пашей).
«Я не предал белое знамя…» (стр. 514). — Звезда Вифлеема — по евангельской легенде, звезда, возвестившая о рождении Иисуса Христа и указавшая путь в Вифлеем — место рождения «мессии».
«Рожденные в года глухие…» (стр. 515). — Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945) — поэт, беллетрист, критик, видная представительница символистской литературы; с 1920 г. — в белой эмиграции.
Дни войны и дни свободы — русско-японская война и революционные события 1904–1905 гг.
О чем поет ветер (стр. 517). — В первый раз было напечатано с посвящением: «Посвящается моей жене».
Азраил — ангел смерти в восточной мифологии»
«Я ношусь во мраке, в ледяной пустыне…» (стр. 526). — Трубицыно — подмосковная усадьба С. Г. Карелиной, двоюродной бабки Блока.
«Я шел во тьме к заботам и веселью…» (стр. 526). — Первоначальный текст был озаглавлен: «Воспоминание о «Гамлете» 1 августа в Боблове» (см. выше, стр. 774) (см. коммент. 6 — верстальщик).
«Офелия в цветах, в уборе…» (стр. 528). — Нимфы (нимфеи) — кувшинки.
На вечере в честь Л. Толстого (стр. 530) На этом вечере Блок был с Л. Д. Менделеевой, к которой и обращено стихотворение.
Одиночество (стр. 531). — Первоначальный текст был настолько короче, что, по существу, стихотворение это следует отнести к маю 1918 г.
«О, как безумно за окном…» (стр. 534). — Эпиграф — из трагедии Шекспира «Король Лир».
«Как мимолетна тень осенних ранних дней…» (стр. 536). — В рукописи было объединено со стихотворением «Медлительной чредой нисходит день осенний…» (стр. 38 наст, тома) под общим заголовком: «Осенняя элегия».
«В те дни, когда душа трепещет…» (стр. 536). — Строфы Ш — V написаны в мае 1918 г.
«К ногам презренного кумира…» (стр. 538). — В 1900 г. была написана первая строфа; вторая добавлена 24 декабря 1914 г.
«Бежим, бежим, дитя свободы…» (стр. 539). — Третья строфа была написана в июне 1916 г.
«Пророк земли — венец творенья…» (стр. 540). — Старый гений — Шекспир.
Аметист (стр. 542) К. М. С. — К. М. Садовская (см. выше, стр. 774) (см. коммент. 7 — версталщик).
«Я никогда не понимал…» (стр. 543). — Было написано под впечатлением оперы Р. Вагнера «Парсифаль» в концертном исполнении композитора С. В. Панченко.
Посвящение (стр. 547). — Было написано на книге стихов Вл. Соловьева, которую Блок собирался подарить Л. Д. Менделеевой.
На могиле друга (стр. 550). — Посвящено памяти Н. В. Гуна (см. о нем выше, стр. 774) (см. коммент. 3 — версталщик).
«Война горит неукротимо…» (стр. 550). — Две первых строфы были написаны 25 декабря 1914 г.
«В пути — глубокий мрак, и страшны высоты…» (стр. 551). — Ср. стихотворение «Экклесиаст» (стр. 100 наст. тома).
«Успокоительны и чудны…» (стр. 552) Посвящено памяти Вл. Соловьева.
«Смолкали и говор и шутки…» (стр. 560). — Строфы IV–V были написаны в мае 1918 г.
Отшедшим (стр. 565). — Посвящено памяти М. С. и О. М. Соловьевых (см. о них выше, стр. 775), скончавшихся в один день— 16 января 1903 г.
«Сердито волновались нивы…» (стр. 569) Стихотворение вызвано воспоминаниями о К. М. Садовской (см. выше, стр. 774) (см. коммент. 7 — версталщик).
Заключение спора (стр. 571). — Менделеев Иван Дмитриевич (1883–1936) — старший сын Д. И. Менделеева от второго брака, брат Л. Д. Блок, физик и метролог, автор ряда философских сочинений, выдержанных в идеалистическом духе. Блок дружил с ним в молодые годы.
Ненужная весна (стр. 571). — Красная Горка — народное название первого воскресенья после Пасхи; в этот день в деревнях было в обычае устраивать свадьбы.
«Сырое лето. Я лежу…» (стр. 573). — Стихотворение примыкает к циклу «Вольные мысли» (стр. 331 наст. тома). В черновике — первоначальный вариант 11-го стиха: «То место в книжке Бебеля…», из чего видно, что Блок имел в виду известный трактат немецкого социалиста Августа Бебеля (1840–1913) «Женщина и социализм» (русское издание — 1905 г.), в котором доказывалось, что женщина в условиях буржуазного экономического и общественного строя обречена на домашнее рабство.
Я знаю женщину… — Имеется в виду Н. Н. Волохова (см. о ней выше, стр. 780) (см. коммент. 96 — версталщик)..
«В глубоких сумерках собора…» (стр. 575). — Ленивый и лукавый раб — цитата из Евангелия.
«Ты из шопота слов родилась…» (стр. 578) К 1903 г. относится лишь набросок первого четверостишия; все остальное было написано в декабре 1908 г.
Королевна (стр. 579). — В окончательной редакции обращено к Л. А. Дельмас (о ней — выше, стр. 787) (см. коммент. 210 — версталщик)..
«Я помню нежность ваших плеч…» (стр. 579). — Обращено к Л. А. Дельмас.
З. Гиппиус (стр. 581). — Написано было по следующему поводу. 3. Н. Гиппиус (о ней — выше, стр. 788) 31 мая 1918 г. переслала Блоку свою книжку «Последние стихи» (П. 1918), проникнутую лютой ненавистью к Октябрьской революции. Блок сперва решил ответить Гиппиус письмом, черновик которого сохранился, но потом передумал — и ответил стихами. В неотосланном письме он писал: «Нас разделил не только 1917 год, по даже 1905-й… В наших отношениях всегда было замалчивание чего-то; узел этого замалчивания завязывался все туже, но это было естественно и трудно, как все кругом было трудно, потому что все узлы были затянуты туго — оставалось только рубить. Великий Октябрь их и разрубил».
Петь, плескаться у ирландских скал… — В стихотворении 3. Гиппиус «Почему», вошедшем в сборник «Последние стихи», упоминаются «Ирландия океанная» и «лезвия ее острых скал».
Две надписи на сборнике «Седое утро» (стр. 582). — «Седое утро» — пятый сборник лирики Блока, вышедший в 1920 г. Первая надпись обращена к Марии Игнатьевне Бенкендорф (Закревской, Будберг); вторая — к Любови Александровне Дельмас.
Пушкинскому Дому (стр. 583). — Было написано за несколько дней до торжественного чествования памяти Пушкина по случаю 84-й годовщины его смерти.
Древний сфинкс и Всадник бронзовый — древнефиванский сфинкс на набережной Невы и памятник Петру I («Медный всадник»).
Тайная свобода — слова Пушкина (из стихотворения «К Н. Я… Плюсковой).
С белой площади Сената. — Пушкинский Дом в 1921 г. помещался в главном здании Академии наук, расположенном почти напротив Сенатской площади (ныне — площадь Декабристов).
Возмездие — Над поэмой «Возмездие» Блок работал в общей сложности (со значительными перерывами) на протяжении двенадцати лет — с 1910 по 1921 г. Первоначальный замысел поэмы возник у Блока в начале 1910 г., под впечатлением смерти отца. Первые наброски начала будущей третьей главы поэмы (приезд героя в Варшаву и похороны «отца») датированы 7 июня 1910 г.; они обрабатывались в течение августа — сентября, когда в главных чертах уже сложился замысел поэмы, озаглавленной: «1 декабря 1909 года» (дата смерти А. Л. Блока), — впоследствии заглавие было заменено другим: «Отец». Работа продлилась до 2 января 1911 г. К январю 1911 г. относится уже полностью оформленная первая редакция будущей третьей главы — самостоятельное произведение, озаглавленное: «Возмездие (Варшавская поэма)» и посвященное сестре поэта — Ангелине Блок.
Но сразу вслед за тем план поэмы сильно расширился, тема индивидуальной судьбы «отца» заменилась более общей темой — судьбы целого рода, нескольких сменяющих друг друга поколений. В начале марта 1911 г. были написаны пролог и вступление во вторую главу. Работа продолжалась весной и летом 1911 г. и особенно интенсивно — осенью, когда было написано начало первой главы и заново переработана глава третья. В начале декабря выяснился «план» поэмы в четырех частях: «Демон», «Детство», «Смерть отца», «Война и революция — гибель сына».
Однако в дальнейшем работа над поэмой замедлилась: в течение четырех лет Блок только эпизодически возвращался к ней. Следующий этап активной работы над «Возмездием» — период с 10 мая но 4 июня 1916 г., когда была полностью закончена и отделана первая глава.
Наконец, после нового длительного перерыва, Блок вернулся к поэме в январе и, вторично, в мае — июле 1921 г., пытаясь продолжить вторую главу и закончить третью (см. стр. 747–753 наст. тома). Июльские предсмертные наброски — последнее, что Блок написал в стихах.
В работе над «Возмездием» Блок широко пользовался, кроме семейных преданий своих родных (Бекетовых), документальными историческими материалами и мемуарной литературой об эпохе 1870— 1880-х гг. (русско-турецкая война 1877–1878 гг., правительственная деятельность, царь и придворная камарилья, общественное движение, кружок народовольцев и пр.). Кое-что из прочитанного и изученного он законспектировал в особой тетради «Матерьялы для поэмы», которую начал составлять осенью 1911 г..
Эпиграф к поэме — слова Сольнеса, героя драмы Генрика Ибсена «Строитель Сольнес». Смысл, который Блок вкладывал в эту формулу, раскрыт им в предисловии к поэме.
Стр. 587–591. Предисловие. — Было написано для публичного чтения третьей главы поэмы в петербургском Доме искусств 12 июля 1919 г.
А. Стриндберге — выше, стр. 786 (см. коммент. 187 — версталщик)..
Милюков ГГ. 11. (1869–1943) — лидер кадетской партии, идеолог империалистической буржуазии.
Статья «Близость большой войны» (автор — А. П. Мертваго) была напечатана в газете «Утро России» 25 октября 1911 г.; в статье доказывалась неизбежность войны между Россией и Германией.
Ющинский Андрей — мальчик, убитый киевскими черносотенцами в провокационных целях инсценировки «ритуального убийства», якобы совершенного евреями. Возникшее в связи с этим нашумевшее «дело Бейлиса» явилось одним из наиболее гнусных эпизодов реакционной политики царизма накануне его крушения. Блок подписал составленное В. Г. Короленко воззвание, разоблачавшее провокацию черносотенцев и требовавшее оправдания Бейлиса, а когда тот был оправдан, написал для какой-то газеты заметку «о том, что рад оправдательному приговору» (заметка не разыскана).
Эпизод «Пантера — Агадир». — В июле 1911 г. в гавань Агадир (Морокко) вошел германский военный корабль «Пантера», что вызвало резкое обострение фраико-германских и англо-германских отношений; одно время общеевропейская война казалась неизбежной.
Столыпин П. А. (1862–1911) — председатель Комитета министров в годы реакции, жестоко подавлявший революционное движение; был убит агентом охранки.
«Rougon-Macquar’bi» — двадцатитомная серия романов Эмиля Золя, излагающая историю одной семьи.
Марина — Марина Мнишек, жена первого и второго Лжедмитриев.
Костюшка Тадеуш (1746–1817) — вождь польского национально-освободительного движения.
Апухтинские годы — по имени А. 11. Апухтина (1840–1893), популярного в 80-е годы лирического поэта, часто писавшего в духе и формах «цыганского романса».
Стр. 592. Зигфрид — герой древнегерманского эпоса «Песня о Нибелунгах».
Нотунг — сказочный меч Зигфрида. После того как Зигфрид заново сковал расколотый в бою Нотунг, злой карлик Миме, желавший завладеть мечом, пытался убить Зигфрида, но сам пал от его руки. Весь этот эпизод в прологе поэмы связан с музыкально-драматическим циклом Р. Вагнера «Кольцо Нибелунгов», который с юности производил на Блока очень сильное впечатление.
Стр. 593. Вот голову его на блюде… — Имеется в виду библейская легенда о царевне Саломее, потребовавшей у галилейского царя Ирода-Антипы, в награду за пляску, голову Иоанна Крестителя.
Денница — упоминаемый в Библии падший ангел, свергнутый с неба за гордыню и злость.
Стр. 594. Рекамье Юлия-Аделаида (1777–1849) — знаменитая красавица, в салоне которой собиралось множество выдающихся людей ее времени.
Стр. 595. Роланд — доблестный рыцарь, герой французского средневекового эпоса «Песнь о Роланде».
Кометы грозной… — см. выше, стр. 785 (см. коммент. 173 — верстальщик).
Безжалостный конец Мессины… — В 1908 г. этот итальянский город был разрушен землетрясением.
Стр. 596. Столица севера — Петербург. Далее описано возвращение в Петербург гвардии с русско-турецкой войны в 1878 г.
Стр. 598. Белый Генерал — прозвище генерала М. Д. Скобелева (1843–1882), героя русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
Стр. 601. Набита комната людьми… и далее. — В этой части поэмы Блок, основываясь на мемуарных источниках, описал новогоднюю пирушку народовольцев. Среди них изображены С. Л. Перовская (1853–1881) («Средь прочих — женщина сидит…») и С. М. Степияк-Кравчинский (1852–1895) («Гость новый входит на порог…»).
Стр. 602. Наполеоновская бородка — борода особого фасона, по имени французского императора Наполеона III.
Стр. 603. В те дни под петербургским небом… — Отсюда идет рассказ о родственной Блоку семье Бекетовых.
Стр. 604. «Княгиня Марья Алексевна»… — Цитата из «Горя от ума» А. С. Грибоедова («Ах, боже мой; что станет говорить Княгиня Марья Алексевна»), ставшая ходячей поговоркой.
«Народная воля» — журнал (1879–1885), нелегальный орган партии народовольцев.
Стр. 605. Глава семьи… — Андрей Николаевич Бекетов, дед Блока (см. выше, стр. 776) (см. коммент. 26 — верстальщик).
Борель — фешенебельный ресторан в Петербурге.
Щедрин — М. Е. Салтыков-Щедрин, друживший с Л. Н. Бекетовым.
Три дочки… — В семье Бекетовых росли не три, а четыре дочери. Мать Блока (Александра Андреевна) названа «меньшой».
Кипсэк — книга, иллюстрированная гравюрами.
Стр. 606. «Луч света в царство темноты»… — Перефразировка заглавия знаменитой статьи Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве».
Стр. 608. «Не моего романа»… — Цитата из «Горя от ума» А. С. Грибоедова.
Стр. 609. Анна Вревская. — Под этим именем выведена А. П. Философова (1837–1912) — либеральная общественная деятельница.
«Дневник» — «Дневник писателя», периодическое издание, выпускавшееся единолично Ф. М. Достоевским в 1873, 1876–1877 и 1880–1881 гг., в пору тесного сближения его с К. П. Победоносцевым (1827–1907), обер-прокурором Синода, виднейшим идеологом поповщины, черносотенства и полицейского режима, вдохновителем реакционной политики царизма в 80-е годы.
Полонский Яков Петрович (1819–1898) — известный поэт, высоко ценившийся Блоком.
Стр. 610. Один ученый молодой… — Отсюда идет рассказ об отце поэта — профессоре Александре Львовиче Блоке (1852–1909). Юрист и философ, отличавшийся широтой и самостоятельностью научных воззрений, удивлявший своей необъятной эрудицией и щедро наделенный художественными способностями, знаток музыки (сам отлично играл на рояле), тонкий стилист, он был человеком психически полунормальным, со многими странностями и необыкновенно тяжелым характером. В молодости пользовался в своем кругу репутацией «радикала» и «богоборца», но к старости превратился в убежденного, воинствующего реакционера и богомольного церковника. Блок отца знал мало (А. А. Бекетова рассталась с мужем, когда Блоку было всего несколько месяцев), встречался с ним редко и относился к нему, под влиянием Бекетовых, недоброжелательно. Только в декабре 1909 г., после похорон отца, Блок писал матери: «Для меня выясняется внутреннее обличье отца — во многом совсем по-новому. Все свидетельствует о благородстве и высоте его духа, о каком-то необыкновенном одиночестве и исключительной крупности натуры».
Стр. 612. Бенжамен Констан (1767–1830) — французский писатель и политический деятель, идеолог буржуазного либерализма.
Лоренц Штейн (1815–1890) — немецкий юрист-государствовед. А. Л. Блок был поклонником Г. Флобера и не только в ученых трудах, но даже в деловых бумагах и письмах старался подражать строгому стилю и сжатому языку флоберовского романа «Мадам Бовари».
Стр. 616. Грянул взрыв… — 1 марта 1881 г. на Екатерининском канале в Петербурге по приговору Исполнительного комитета партии «Народная воля» был казнен Александр II.
Стр. 617. Куранты. — Имеются в виду часы с боем, установленные на колокольне собора в Петропавловской крепости.
Стр. 618. Востока страшная заря… — Предвестие русско-японской войны 1904 г.
Царь — огромный, водянистый… — Александр III.
«Князь» — в дореволюционное время распространенная кличка татарина-старьевщика.
Стр. 620. Коперник… склоняясь над пустою сферой… — Имеется в виду памятник Копернику в Варшаве.
Мост через Вислу — как тюрьма… — Решетчатые пролеты этого моста напомнили Блоку тюремную решетку.
Стр. 627. Над коим Врубель изнемог… — Картина М. А. Врубеля «Демон» известна в нескольких вариантах. В последние годы жизни Врубель, будучи уже душевнобольным, лихорадочно искал наилучшого художественного решения образа Демона, писал его множество раз, переделывал и часто портил сделанное.
И в снах холодных и жестоких он видит «Горе от ума»… — Есть версия, будто замысел «Горя от ума» возник у Грибоедова под впечатлением увиденного им сна.
Двенадцать — В основной части поэма была написана в течение двух дней (27–28 января 1918 г.), но в целом процесс создания ее растянулся на три недели: 8 января она была начата, 28 января — вчерне закончена.
В 9-й песне первая строфа представляет собой вариацию начальных строк популярного народного романса «Не слышно шуму городского…», литературным источником которого послужило стихотворение Ф. Н. Глинки «Узник».
Невская башня у Блока — башня здания б. Городской думы на Невском проспекте.
В 10-Й и 11-й песнях стихи «Вперед, вперед, вперед, Рабочий народ» — вариации слов известной революционной песни 1890—1900-х гг. «Варшавянка».
Скифы — Было написано 29–30 января 1918 г., сразу же после того, как была закончена поэма «Двенадцать».
…провал и Лиссабона и Мессины. — Дважды, в XIV и XVIII вв., Лиссабон был разрушен землетрясением; в 1908 г. такой же участи подверглась Мессина.
Пестум — древнегреческая колония в Южной Италии, разгромленная в конце IX в. арабами.
Балаганчик — «Балаганчик» был написан в январе 1900 г. по инициативе Г. И. Чулкова, который предложил Блоку развить в драматическое представление тему его одноименного стихотворения, написанного в июле 1905 г. (стр, 190 наст. тома). Пьеса предназначалась для предполагавшегося театра «Факелы». Предприятие это не осуществилось, и в апреле 1906 г. «Балаганчик» был опубликован в первом выписке альманаха «Факелы» (с подзаголовком: «Лирические сцены»).
Осенью 1906 г. решено было поставить «Балаганчик» в реформированном театре В. Ф. Коммиссаржевской. Премьера состоялась 30 декабря 1906 г. Спектакль шел в постановке В. Э. Мейерхольда, в оформлении Н. П. Сапунова и с музыкой, написанной М. А. Кузминым. Спектакль стал заметным явлением тогдашней театральной жизни и вызвал оживленный обмен мнениями в литературно-театральной среде и в прессе. Современник вспоминает о первом представлении: «Я никогда, ни до, ни после, не наблюдал такой непримиримой оппозиции и такого восторга поклонников в зрительном зале театра. Неистовый свист врагов и гром дружеских аплодисментов смешались с криками и воплями» (Г. Чулков, «Культура театра», 1921. № 7/8, стр. 20).
Вторично при жизни Блока «Балаганчик» был поставлен в апреле 1914 г. В. Э. Мейерхольдом же, силами молодых актеров его студии, в Тенишевском зале (Петербург), в оформлении Ю. М. Бонди.
Незнакомка — Пьеса была закончена 11 ноября 1906 г., в мае — июле 1907 г. опубликована в журнале «Весы», намечалась к постановке в театре
В. Ф. Коммиссаржевской, в конце ноября 1907 г. была представлена в Главное управление печати и тогда же запрещена к постановке. При жизни Блока «Незнакомка» ставилась трижды — в феврале 1913 г. в Московском литературно-художественном кружке силами «Студии молодых актеров» при драматических курсах С. В. Халютпной; в апреле
1914 г. в Петербурге силами молодых актеров студии В. Э. Мейерхольда (вместе с «Балаганчиком») и в 1917 г. в Москве, в «Кафе-Питгореск». Блок видел лишь вторую из этих постановок.
Эпиграфы к пьесе взяты из романа Ф. М. Достоевского «Идиот» (ч. I, гл. 3 и 4), где эти строки относятся к героине романа — Настасье Филипповне.
В «Незнакомке», по свидетельству биографа Блока, отразились скитания поэта «по глухим улицам Петроградской стороны»: вся обстановка пивной нз «Первого видения», начиная с кораблей на обоях и кончая действующими лицами, «взята с натуры».
Роза и Крест — Первоначально, в марте — апреле 1912 г., пьеса была задумана как сценарий балета из жизни средневековых провансальских трубадуров, который Блока просили написать для композитора Л. К. Глазунова. В дальнейшем сценарий балета превратился в либретто оперы, которое было закончено в середине июля 1912 г. Однако вскоре Блок пришел к мысли, что «оперу» следует переделать в драму. Интенсивная работа над «Розой и Крестом» шла осенью и зимой 1912 г.; план драмы расширялся и углублялся, и лишь 19 января 1913 г. она была завершена. В августе 1913 г. драма была опубликована в альманахе «Сирин».
В апреле 1913 г. Блок предложил «Розу и Крест» Московскому Художественному театру (предложения других театров он отверг), но К. С. Станиславскому она тогда представилась мало сценичной. В ноябре 1915 г. Художественный театр сам обратился к Блоку с предложением поставить пьесу. Блок отозвался горячо, в марте 1916 г. приехал в Москву, прочитал «Розу и Крест» труппе Художественного театра, провел разъяснительные беседы с актерами и принял активное участие в подготовке к репетициям. Театр работал над пьесой с весны 1916 г. до осени 1918 г. (предполагалось открыть «Розой и Крестом» зимний сезон 1918–1919 г.), всего было проведено около 200 репетиций, но спектакль так и не увидел света. Кроме Художественного театра, «Розу и Крест» собирались ставить многие другие театры — Камерный, «Наш театр», Свободный, Александринский, Михайловский, б. Незлобина, б. Корша и др., но единственная постановка драмы состоялась в сезон 1920–1921 г., в Костромском городском театре (режиссер и художник Ю. М. Бонди).
Посвящена «Роза и Крест» Л. А. Дельмас (о ней — выше, стр. 787) (см. коммент. 210 —верстальщик).
Святой Иаков! — Граф и Капеллан часто поминают одного из наиболее почитаемых в их время святых — апостола Иакова Старшего, «святого Иакова Кампостельского». Прах святого Иакова, покровителя Испании, был перевезен в IX столетии в Кампостелло; легенда говорит, что место для погребения (в испанской провинции Галиции) было указано звездой; отсюда — имя местечка — Campus Stellae; немного позже, по преданию, сам Иаков на белом коне участвовал в битве с маврами при Logrono и принес испанцам победу. Все это сделало Santiago местом паломничества не менее знаменитым, чем Рим; один из торных путей северных паломников пролегал близ Тулузы; как раз в начале XIII столетия достраивался собор над могилой святого — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Болезнь называется меланхолией… — Диагноз Доктора заимствован мной из средневекового лечебника, составляющего часть рукописи XIII–XIV вв. муниципальной библиотеки в Cambrai (напечатан в статье A. Salmon, в книге «Études romanes dédiées à Gaston Paris par ses élèves français et étrangers». Paris, 1891). Лечебник начинается словами: «Constentins et maistre Galiens et Ypocras nous tiesmoignent…» Далее: «Et u melancolie surhabunde, le corps malmet… et si ne puet la folie de legier esciver» (избежать… см. слова Алисы в IV сцене)… «Li sanc croist en printans, et en gain (осенью) noire cole. Li sanc croist des ydes de fevrier dusques as ydes de marc… Melancolie regne des ydes d’aoust dusques en feverier… Quant il i a trop sanc, par le nés s’en ist fors…
…Contre melancolie, ki est froide et seke et aigre, on ne le doit mie tenir trop maigre; on le doit plenierement dyeter, et li doit on donner douc et moiste, et ce li vaut…» [31] — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Дай сюда шахматы… — В романе Круглого Стола «Lancelot» фея Вивиана играет в шахматы с Ланселотом. О том, что шахматы были распространены в замках феодалов, свидетельствует и Вальтер Скотт в своих «Essais sur la Chevalerie», и популярные истории литературы и нравов — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Спеть вам песню, которую поют при Аррасском, дворе? — Аррасский двор (Аррас — столица графства Артуа, главный город нынешнего департамента Па де Калэ), о котором только и мечтает Али-скан, был в XII столетии, после долгого господства графов фландрских, присоединен Филиппом-Августом к французской короне; он отличался особым блеском куртуазии в XIII столетии — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Аэлис, о, роза… — Только имя Аэлис в этой песне заимствовано мной (по его созвучию с именем Алисы) из известной старофранцузской народной песенки: «Bele Aaliz main leva…» [32] (см. E. В. Аничков, «Весенняя обрядовая песня»; транскрипция имени принадлежит ему же) — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Симон Монфор — Симон — сначала барон, потом граф Монфортский (родился около 1160 г.), в 1199 г. участвовал в крестовом походе в Палестину и был прозван за храбрость «Маккавеем» своего века, возвратясь, был избран баронами предводителем крестового похода против альбигойцев; поход этот начался в 1208 году, к которому и надо приурочить время действия «Розы и Креста». Крестоносное войско собралось в Лионе и пошло на юг; взятие Безье, при котором папский легат произнес исторические слова (слова Бертрана, д. Ш, сц. I), а потом и Каркассона, относится к следующему году. Симон, прославившийся крайней жестокостью во время альбигойской войны, был убит (гораздо позже) ударом камня при осаде Тулузы — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Раймунд — Раймунд VI «Старый», граф Тулузский, родился в 1156 г., имел бурные разногласия со св. престолом по поводу альбигойства, которому он негласно сочувствовал; ему приписали убийство легата Петра де Кастельно. Два раза отлученный от церкви (1208, 1211), он выдержал страшную резню, шесть лет был в изгнании (пока Тулузой правил Симон Монфор), но потом возвратился и до смерти продолжал владеть графством, несмотря на нападения Амори Монфора (сына Симона). Раймунд был женат пять раз, но оставил только двух законных сыновей. В 1208 году графство Тулузское вмещало в себе графства Кверси, Альби, Каркассон, Ним, Безье, Фуа и «Прованский маркизат» — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Монсегюр — Монсегюр — замок в Лангедоке — был одним из очагов сектантства — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Епископу их новому присягу… — Многие города Лангедока (Альби, Тулуза, Каркассон, Валь д’Аран) были почти сплошь заселены сектантами (катарами); в Альби жил епископ, стоявший во главе одной из епархий — (коммент. А.Блока — верстальщик).
С дьяволовыми ткачами мы сладим… — «Ткачами» (tisserands, téxerands) назывались альбигойцы потому, что большая часть секты состояла из ремесленников этого рода, особенно в Тулузе — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Роман о Флоре и Бланшефлёре — Роман этот греческого происхождения (две редакции XII века); сюжет его использован, между прочим, Боккачио; это — трогательная история любви двух детей; их разлучают, но, после многих приключений и опасностей, они счастливо соединяются; родственна этой истории chantefable Aucassin et Nicolette[33], написанная также в XII столетии, частью стихами, частью прозой (G. Paris, La Littérature française au moyen âge, XI–XIV siècle) — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Святой Видиан — Изора, дочь бедной швеи-испанки, из маленького городка Martres Tolosanes (Муки Толозанские), который лежит у подошвы Пиреней на берегу Гаронны; патрон этого городка — малоизвестный St. Vidian, сын герцога времен Карла Великого, обративши в бегство мавров, убитый ими около городка Ангонии и погребенный там; на могиле его были явлены чудеса; с той поры Ангония (южнее Толозы) была названа городом «мучеников» (Martres), и до сих пор, около Троицы, праздник святого знаменуется там примерными битвами христиан с маврами (описание праздника и костюмов — в статье A. Thomas — Vivien d’Aliscans et la légende de St. Vidian в книге «Etudes romanes», указанной выше; в статье доказывается родство жития св. Видиана с некоторыми chansons de geste[34]) — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Я клялся бы розой — Вы краше всех роз… — Изора принимает эти слова за общее место и удивляется, откуда мог научиться куртуазии бедный рыцарь — (коммент. А.Блока — верстальщик).
За все заботы вы платите мне золотом Тулузы! — Золото Тулузы вошло в поговорку с языческих времен; оно означает богатство, приносящее беду — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Не верь безумию любви… — Песня, словами которой перекликаются Гаэтан и рыбак, записана виконтом de la Villemarqué в его собрании народных бретонских песен (Barzaz-Briez, Chants populaires de la Bretagne). История сохранила смутную память о каком-то городе V века, который назывался Хрис, или Кэр-Ис. Легенда рассказывает, что Кэр-Ис был столицей Арморики; им правил благочестивый король Граллон, который был дружен со святым Гвеннолэ, первым аббатом первого монастыря, построенного в Арморике; город Кэр-Ис стоял на берегу моря и был отделен от него громадным бассейном, который спасал от наводнений во время приливов; в плотине, отделявшей бассейн от города, была потайная дверь, а ключ от нее хранился у короля. Песня, написанная на корнваллийском диалекте, начинается словами:
Далее описывается, как старый король уснул после пира; он спал в пурпурной мантии, с золотой цепью на шее, его седины, белые, как снег, струились по плечам.
В это время коварная дочь Граллона, прекрасная Дагю (Dahu) проскользнула в его спальню, опустилась на колени, сняла с его шеи цепь и ключ вместе с цепью.
Она открыла потайную дверь, чтобы впустить своего любовника, чьи речи текли тихонько, как вода, ей в уши; океан хлынул и затопил город; только лесник слышал потом, как дикий конь Граллона, быстрый, как пламя, промчался в черную ночь; он видел, как водяница расчесывала на берегу под полуденным солнцем золотые волосы; она пела, и песни ее были печальны, как плеск волн; св. Гвеннолэ превратил коварную Дагю в сирену; рыбаки и поныне видят остатки стен и башен, выступающие из воды во время отлива, а в бурю слышат звон колоколов на дне морском.
Гаэтан — лишь один из слагателей легенды, источники которой восходят к легендам о гибели Содома — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Трауменек — Замок, о котором идет речь, в действительности назывался Troménec. Все имена деревень и местечек — исторические: Plougasnou, Plouézec и Plouguerneau — лежат на севере Бретани, в нынешнем департаменте Finistère. В книге брата Albert Le Grand, доминиканца XVÏ века (Les vies des saints de la Bretagne — Armorique. Brest et Paris, 1837, Imprimerie de P. Anner et fils; есть новое издание) есть глава, перепечатанная из «Истории церквей и часовен божьей матери, построенных в диоцезе св. Льва» (сочинение монаха Кирилла ле Пеннека — Morlaix, 1647). Здесь рассказывается следующее: близ Арморики виднеется приход Ландеда (Landeda); хоть он и не велик, однако ничем не уступает другим в отношении почитания Пресвятой Девы. Отсюда — спуск к порту Аберврак (Aber-Grac’h, Aber-Wrac’h), где существует преданный церкви монастырь «Notre-Dame des Anges», основанный в 1507 году (таким образом, во времена «Розы и Креста» монастыря еще не было, как нет его и теперь: в наше время он превращен в гостиницу, а уничтожен был во время Великой Революции). В том же приходе можно посетить капеллу божьей матери на красивой и приятной лужайке, по соседству с прекрасным источником; она принадлежит благородному дому Троменек; замок находится рядом с ней (в наши дни от этого замка осталось лишь несколько развалин, заросших плющом); построена она сеньером Троменека на память о поединке с молодым сеньером Карманом.
Аберврак лежит на самом берегу бухты, при устье речки, от которой он получил имя, и прямо против него — выход в океан, укрепленный в 50-х годах прошлого столетия небольшим фортом, который теперь оставлен. Прибрежная полоса, отделяющая бухту от океана, только и носит теперь имя Арморики (древнее имя Бретани); близ этого форта есть скалы и камни причудливых очертаний. Ландеда и развалины Троменека лежат на высотах над Абервраком, в виду океана. Со всего этого берега виден лежащий в море пустынный остров Девы (Ile Vierge), на котором воздвигнут величайший из французских маяков, указывающий вход в Ламанш — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Мы все туда на праздник ходим… — Рыбак разумеет les pardons — «прощеные дни», которые исстари празднуются по всей Бретани танцами, шествиями, ярмарками и т. д — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Из Арморики милой я родом… — Гаэтан называет свою родину Арморикой по-старинному. В его время она уже носила имя Бретани — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Это не ходячее мнение; в то время, хотя и близкое к объединению Франции, большинство думало иначе, и Алискан, говорящий о «чужой и дикой Бретани» (действие I, сц. 3), является характерным выразителем обывательских мнений — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Бертран поехал на север, по поручению графа, выехав сначала на Толозанскую дорогу (La via Tolosana) — обычный путь пилигримов в Santiago с севера; путь этот указан в одном «путеводителе пилигримов» (Codex Campostellanus XII века; здесь значатся: Nîmes, Saint-Gilles, Saint-Guilhem-du-Désert, Toulouse). В последние годы Bédier в своей книге (Les Légendes épiques, recherches sur la formation des chansons de geste, 2 volumes, Paris, 1908), следуя указаниям Chansons de geste, проследил этот путь за Nîmes на Париж через Clermonts-Ferrand. Монфор, выйдя из Лиона и направляясь к Тулузе, очевидно, вышел где-то южнее на Толозанскую дорогу; там-то Бертран и встретил его. Затем, исполняя поручение Изоры, Бертран свернул к северо-западу и достиг пределов Бретани — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Возле синего озера юная мать… — Весь монолог Гаэтана навеян романом «Lancelot du lac»; Ланселот был унесен из колыбели феей Вивианой на дно озера; она воспитала его; она учила его играть в шахматы, за обедом он сидел против нее в венке из роз даже в те месяцы, когда розы перестают цвести; когда же юный Ланселот стал тосковать и пожелал стать рыцарем, фея долго не хотела отпускать его, наконец научила его христианским заповедям рыцарства и сама отвезла ко двору короля Артура и прекрасной королевы Джиневры — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Войска его святейшества — Крестовый поход против альбигойцев был вдохновлен папой Иннокентием III — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Орифламма Монфора — Герб Симона III Монфортского — в Версали. Все гербы зала крестовых походов (чертежи и описания) — см. в шестом томе «Galeries historiques du Palais de Versailles» (Paris, 1840) — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Они теперь в Безье… — Событие относится в действительности к лету 1209 года. Знаменитые слова произнес папский легат Арнольд Амальрик; после этого, говорит хроника, в городе «не осталось ни одного живого существа»; Безье разграбили и сожгли — (коммент. А.Блока — верстальщик).
…Первый день весенний, вы знаете, он — первый года день… — «Апрель и май — ключ всего года» (старая французская поговорка) — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Подсыпь немного ивовой коры… — Salix alba — известное в средних веках слабительное — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Сегодня я встаю на ночную стражу… — В обряд посвящения в рыцари входило, кроме поста и очистительной ванны, стояние на ночной страже в ночь перед посвящением; это называлось — «veillée des armes» — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Многие места диалога Изоры и Алисы, особенно то место, где Алиса играет роль клерка, заимствованы мной из провансальского романа XII века Flamenca.
Им же навеян мне характер графа. Оттуда же взято имя графа Агсhambaut (Арчимбаут — транскрипция Е. В. Аничкова), имена Алисы (у châtelaine Фламенки две «damoiselles»: Алиса и Маргарита), Оттона и Клари. Наконец, из того же романа взяты мной некоторые отдельные образы и выражения в пьесе, например: волосы у графа, «как у черта на картинке»; «когда улыбается, скалит зубы по-собачьи»; «ярость любого дракона можно смягчить кротостию»; и др. (Срв. «Le roman de Flamenca», publié d’après le manuscrit unique de Carcassone, traduit et accompagné d'un glossaire par Paul Meyer, Paris-Béziers, 1865) — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Прекрасный, как святой Губерт — S. Hubert — «Apôtre des Ardennes» XII века, покровитель охотников — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Перекличка ночных сторожей — Ночные сторожа в Тулузе до сих пор кричат: «Minuit passé, dormez en paix!» — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Душистый кларет — смесь вина, меда, духов и пряностей — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Наука учтивой любви — куртуазия — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Сцена III Песня девушек взята мною из разных майских песен («trimouzettes»). Начало ее:
(Срв.: E. В. Аничков, «Весенняя обрядовая песня», часть I, глава 3, стр. 168 и сл.) — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Майское дерево — столб, украшенный цветами и лентами, — носили девушки в венках и с песнями или возили на телеге, запряженной волами — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Бароны и богатеи — постоянный титул провансальской знати: «rics oms e baros» — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Песня первого менестреля — свободный перевод трех строф (I, II и IV) знаменитой сирвенты Бертрана де Борн: «Be m platz lo dous temps de pascor»[35] (все чередования рифмы соблюдены) — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Песня второго менестреля — вольное переложение песенки дикарского трувера XIII века. Начало ее:
(см. Аничков, «Весенняя обрядовая песня», т. I, стр. 124 и сл.) — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Песня Гаэтана — принадлежит мне, но некоторые мотивы ее навеяны бретонской поэзией. В ней есть отголосок разговора ребенка с друидом, где друид говорит: «La Nécessité unique, Ankou, père de Douleur; rien avant, rien de plus»[36](cm. Villemarqué, Barzaz-Briez).
В припеве повторяется постоянный мотив: «La neige tombait, le vent soufflait»[37] (сравн. A. le Braz, «Vieilles Histoires du pays breton», Paris, 1905, «Nôel des Chouans»).
Что касается понимания песни Изорой, то оно зависит не только от ее собственного характера, но и от общего направления южного ума: италианский ученый Egidio Gozzi, говоря о провансальской поэзии, подчеркивает: «joi e poesia sono sinonimi, come pure sinonimi sono poesia e amore»[38] (Delie origini della poesia del medio evo, Torino, 1895). Суровый северный напев о Радости и Страданьи откликается в южном сердце как «Страданье — радость с милым». Joi на севере — высокое вдохновение, на юге — легкая весенняя радость — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Шутов сюда! — Показывать акробатические фокусы умели часто те самые жонглеры, которые умели петь. Слова моих жонглеров — заимствованы — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Крест на красном поле — герб Раймунда Тулузского, — см. «Galeries historiques de Versailles», t. VI — (коммент. А.Блока — верстальщик).
Крест над вьюгой — видение бретонских рыбаков — (коммент. А.Блока — верстальщик).
1. Планы поэмы (стр. 743). — Заметки расположены не в их хронологической последовательности, но в порядке перенумерованных самим Блоком листков, приложенных к черновику первой главы поэмы, — за исключением первой заметки (взятой из записной книжки 1911 г.) и последней (приложенной к черновику третьей главы).
С вечно смятой розой на груди… — цитата из Блока («Май жестокий с белыми ночами!..»).
Жандармы, рельсы, фонари… — цитата из третьей главы поэмы.
Стихи Уж Александр Второй в могиле. На троне — новый Александр — не были введены в поэму.
Катков М. Н. (1818–1887) — публицист, один из столпов дворянско-монархической реакции 70—80-х годов.
Профессор лучших времен Петербургского университета — Л. Н. Бекетов, дед Блока.
Гроб качается хрустальный — цитата из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» Пушкина.
«Кот Мурлыка» — литературный псевдоним Н. П. Вагнера, автора популярных в свое время детских сказок.
Топелиус Закрис (1818–1898) — шведско-финский писатель, автор сказок для детей.
Милютин Д. А. (1816–1912) — фельдмаршал, военный министр в 1861–1881 гг., пользовавшийся репутацией либерала и реформатора военного дела.
Страна под бременем обид… — цитата из третьей главы поэмы
2 и 3. Наброски продолжения второй главы. Наброски окончания третьей главы (стр. 747–753). — Листки, на которых сделаны эти наброски, остались после смерти Блока в его настольном бюваре в случайном порядке. Здесь наброски расположены в относительной последовательности — согласно с развитием сюжета поэмы, поскольку он ясен из замысла.
Крупп — немецкая фирма, снабжавшая оружием многие страны.
Бастыльник — сорная трава, бурьян.
Гимназия толстовская — по фамилии гр. Д. А. Толстого, реакционного министра народного просвещения (с 1866 по 1880 г.), поставившего во главу угла в гимназическом образовании изучение мертвых языков — древнегреческого и латинского.
Косые лучи заката… видение средневековой твердыни. — Ср. стихотворение «На небе зарево. Глухая ночь мертва…» (стр. 42 наст, тома) и примечание к нему.
1. Примечания к драме «Роза и Крест» (стр. 753). — Были помещены Блоком в первом издании его книги «Театр» (1916).
2. Записки Бертрана, написанные им за несколько часов до смерти (стр. 763). — Было написано после чтения драмы К. С. Станиславскому для «проверки» характера Бертрана.
3. «Роза и Крест» (к постановке в Художественном театре) (стр. 768). — Статья была напечатана Блоком в московской газете «Утро России» 3 апреля 1916 г.

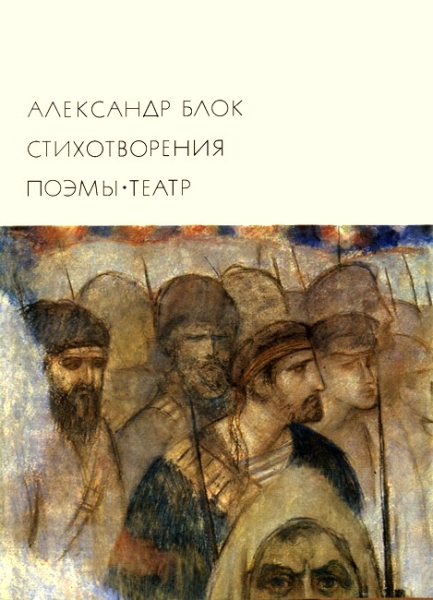

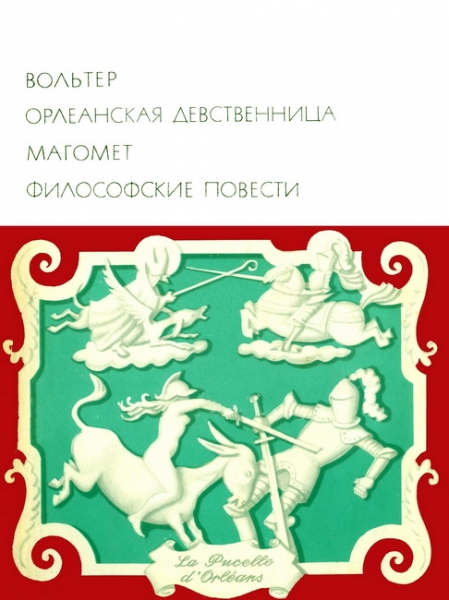
Комментарии к книге «Стихотворения. Поэмы. Театр», Александр Александрович Блок
Всего 0 комментариев