Дарина Григорова Русский Феникс. Между советским прошлым и евразийским будущим
Предисловие
25 ноября 2015 г. в Софии состоялась презентация важной и во многих смыслах удивительной и для Болгарии, и для России книги — «Империя-Феникс: между советским прошлым и евразийским будущим»[1]. Автор этой фундаментальной научной работы — доцент исторического факультета Софийского университета им. Климента Охридского, специалист по русской истории Дарина Григорова.
Чем же удивительна эта книга? Во-первых, официальная София и обслуживающие ее «научные» круги уже давно продали истину и историческую правду за тридцать сребреников европейских грантов и активно включились в набирающий обороты процесс по фальсификации как собственной, так и мировой истории. Выдавливание из науки, научной публицистики, медийной сферы специалистов, стремящихся к объективному анализу прошлого и настоящего, стало нормой для современной Болгарии.
Очередным актом зачистки экспертного поля стало закрытие в декабре 2015 г. программы «Деконструкция» на Болгарском национальном радио. Это была одна из немногих передач, ведущий которой П. Волгин и его гости, среди которых была и Д. Григорова, не боялись открыто критиковать власть и представлять альтернативную ЕСовской позиции точку зрения на многие проблемы мировой политики. Фактически, во всех ведущих вузах и СМИ действует запрет на профессию для тех, кто подвергает сомнению (даже самому мягкому) позицию ЕС и НАТО по самому широкому кругу современных проблем. Поэтому для болгарского автора анализ «двух ликов постсоветского орла — имперского и национального», «честной истории», которая рассматривается сквозь призму взаимоотношений власти и различных общественных групп относительно оценки давних и недавних исторических событий, а тем более «украинского Януса между Галицией и Малороссией» требует не только научной, но и гражданской смелости.
Весьма показательным является и следующий факт. 25 ноября 2015 г. в Софии в Центральном здании Болгарской академии наук состоялась еще одна презентация. Книгу премьер-министра Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития А. Давутоглу «Стратегическая глубина» с большой помпой представлял президент БАН С. Воденичаров.
Это мероприятие проходило на следующий день после неоправданного и жестокого акта агрессии Турции против России, когда в небе над Сирией был сбит бомбардировщик Су-24, а один из российских летчиков был расстрелян в момент катапультирования. Резкое осуждение со стороны России этого, по словам Президента РФ В.В. Путина, «удара в спину» словно подзадорило организаторов мероприятия. Из випов на нем присутствовали последний болгарский царь Симеон II (годы правления 1943–1946) и министр образовании и науки Болгарии Т. Танев. Профессиональный политолог как мог восхищался данным опусом, по сути отрицающим болгарскую государственность. И если для представителя Саксен-Кобург-Готской династии, который в принципе не ассоциирует себя с Болгарией, исторические фальсификации — политическая повседневность, то для руководителя всей научно-образовательной сферы в стране это недопустимо и непростительно. Впрочем, какой руководитель, такой и в современной Болгарии научный официоз. В таких условиях работа Д. Григоровой приобретает особую ценность и несет особую миссию.
Во-вторых, значение книги определено тем, что многие вопросы, поднятые в монографии, для целого ряда российских исследователей являются либо табуированными (например, понятия имперскости, соотношение русскости и российскости), либо утрированно политизированными — в этом ряду пальма первенства принадлежит украинскому кризису, изучению «лоскутности» современной Украины. Вопросы, поднятые в книге, как бы сказал Ульянов-Ленин, архиважные. Что из себя представляет самая большая страна мира: империя это или национальное государство? А может быть это феномен, рожденный наложением имперскости и русской державности? И вообще — оправдано ли противопоставление применительно к России понятий имперского и национального, российского и русского? С чем связаны взлеты и падения русской системы? Что является ее фундаментом? Чем определена двойственность украинской идентичности?
Опираясь на богатый теоретический и эмпирический материал, автор дает свои ответы на эти и многие другие вопросы; ответы, вскрывающие многие проблемы современного развития евразийского континента. Но самое главное, в отличие от ряда отечественных авторов, Д. Григорова как истинный ученый не стремится прикрывать исторические факты фиговым листом политкорректности и называет вещи своими именами. Отталкиваясь от русской истории и анализа российско-украинских отношений, она размышляет о фундаментальных основаниях и путях развития мироздания — о национальном сознании, о причинах дуализма идентификации, о политической и геополитической идентичности. Таким образом, книга имеет непреходящее значение и будет актуальна для следующих поколений пытливых исследователей.
И наконец, еще один аргумент, определивший особое внимание к данной работе, заключается в том, что взгляд на историю нашей страны и постсоветского пространства дан со стороны. Автора книги нельзя обвинить в ангажированности, в проплаченности позиции. Д. Григорова никаких грантов от российской стороны на проведение исследования не получала. Книга родилась исключительно как продукт интеллектуального поиска автора и высокой научной ответственности. Поскольку монография представляет несомненный научный и публицистический интерес, очень важно, что теперь она издана на русском языке.
Приглашая читателей в увлекательное интеллектуальное путешествие, отмечу, что особое значение данная книга имеет еще и потому, что это взгляд со стороны — о России, о постсоветском пространстве, о евразийской интеграции, о наших проблемах и бедах пишет болгарский исследователь. Однако это не просто кабинетный ученый, но человек, хорошо знающий как нарративные источники, так историю и структуры повседневности изучаемого предмета, прекрасно владеющий русским языком и тонко чувствующий русскую культуру. Ее встречи и контакты с представителями разных народов — башкирами, белорусами, казахстанцами, русскими, татарами, украинцами — позволили пропустить через себя многие наши проблемы, устремления и надежды. В этой связи вспоминаются слова Г.В. Плеханова: «Между наукой и жизнью существует теснейшая, неразрывная, ни для одной из них нимало не унизительная связь; чем более наука служит жизни, тем более жизнь обогащает науку».
Соединение фундаментальных знаний, культурного опыта и исследовательского азарта позволили автору посмотреть на многие исторические факты под новым углом зрения; «вскрыть» ментальные коды; увидеть сегодняшние и завтрашние проблемы евразийского континента сквозь призму длящегося прошлого.
Великий русский поэт, дипломат, ученый Ф.И. Тютчев в 1866 г. написал строки, ставшие своеобразной визитной карточкой нашей страны:
На самом деле все не так однозначно. Россию нельзя понять на западный буржуазный лад. У нее, как сказал другой великий русский — А.С. Пушкин, «своя формула истории», которую нужно не только знать, но проникнуться ее духом, прочувствовать. Именно этим — пониманием, проникновением и прочувствованием — отличается работа Д. Григоровой. И это настоящая победа автора, победа Ученого.
И еще один не маловажный момент. Книга «Империя-Феникс» глубоко оптимистична, поэтому российское издание называется «Русский Феникс», что в условиях геополитической тектоники имеет особый метафизический смысл. Автор вскрывает многие проблемы современности, указывает на многочисленные ошибки давнего и недавнего прошлого, выявляет причинно-следственные связи рванного цикла русской истории, но при всем этом она видит и предвосхищает грядущее возрождение России — ее евразийское будущее. Поживем — увидим, но в любом случае хочется пожелать Д. Григоровой новых свершений и провидческих работ.
Елена Пономарева
доктор политических наук,
профессор МГИМО
Введение Обе стороны постсоветского орла: имперское и национальное
Какова постсоветская Россия? Империя или национальное государство, или особый евразийский дуализм: имперско-русский? Следует ли противопоставлять «имперское» и «национальное» на русской почве или они могут сочетаться и дополняться, как и «российское» с «русским»?
Этот вопрос остается спорным на протяжении последней четверти века существования новой России и был одной из причин, побудивших меня исследовать постсоветский период России с точки зрения взаимоотношений власть — национальная идентичность. В России, независимо от исторического периода, именно власть несет ответственность за все, что происходит в государстве, и эта гипертрофия является естественной для обширных российских пространств.
Другим признаком русской власти является сакрализация государства и в некоторой степени ее персонализация с царем, императором, генеральным секретарем или президентом России. Личностный фактор и иррациональное отношение к государству (между двумя крайностями — обожествлением и демонизацией) являются частью российской идентичности и ее способности мобилизироваться в суровых исторических испытаниях.
Погрузившись в евразийскую тему историософского наследия ранних евразийцев в постбольшевистской эмиграции[2], я нашла свое объяснение архетипа «русская национальная идентичность», а именно — «нация-феникс», т. е. русский национально-образовательный процесс всегда будет открытым, незавершенным, приобщающим через русскую культуру, которая является европейской, и сохраняющим этническую суверенность каждого народа в рамках России. «Феникс» — поскольку она способна возрождаться после исторических катаклизмов (1812,1917,1941–1945,1991…), не переходя на колею европейского национализма, поскольку подобно тому, как российская колея советского времени шире европейских (вопрос национальной безопасности), так и на российской территории этнонациональный (завершенный) тип идентичности несовместим с русскими пространствами — он возможен только на ограниченных территориях и приводит к распаду.
Неслучайно Збигнев Бжезинский поддерживает тезис о противопоставлении «имперского» и «национального» в российском контексте — о постсоветской России как бывшей империи, которая должна превратиться в национальное государство. Бжезинский доходит до того, что определяет русскую аристократию имперского периода как балтийскую, немецкую, польскую и грузинскую элиту («вон это элита!»), которая «не становится никогда аутентично русской, несмотря на русскую религиозность [имеет в виду православие] и самоопределение». Отсутствие российской элиты, по его мнению, продолжается и в СССР, при большевиках «иностранцы у власти», было несколько русских, а после Ленина пришел грузин[3].
Если бы Сталин был просто грузином, то бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не снес бы его памятника в центре Гори после цветной революции роз, потому что именно сталинская политика является антиленинской и пророссийской (в национальном, а не в этническом смысле), направленная на возрождение русской идеи со второй половины 30-х годов до окончания войны[4]. Интерпретация Бжезинского — это выступление в стиле этноцентрического национализма, которое спекулятивно можно было бы применить ко многим странам с маргинальными националистами, в том числе и в США (можно подумать, что кто-то оспаривает американо-польский дуализм самого Бжезинского), но здесь интересна сама тенденция, которая внушается, а не ее академическая точность.
Постсоветской России, действительно, предстояло решение кризиса национальной идентичности и выход из дебата «спасение империи или строительство национального государства»[5] начала 90-х после исчезновения «советской» в 1991 г. В действительности, я не уверена в том, что советская «исчезает» — не с точки зрения живой психологии т. н. «совков»[6], а из-за самой важной характеристики советской нации как нации-победителя после 9 мая 1945 года, до тех пор существовали только советские граждане, а не национальная общность.
Пуповиной новой России с СССР является не геополитическое пространство, усеянное более 20 млн. русских, а День Победы, который до сих пор остается единственным праздником, объединяющим все слои российского общества, независимо от политических и других различий между ними. Именно поэтому геополитические противники России предлагают «мягкий» вариант обезличивания 9 мая массово навязываемым тезисом о тождественности нацизма и сталинизма (а мыслящие в категориях холодной войны добавляют и путинизм).
Идея Декларации Европейского парламента от 23 сентября 2008 г. провозгласить 23 августа днем памяти жертв сталинизма и нацизма принадлежит странам Балтии и Польше (последняя избирательно не помнит, что после Мюнхенской конференции 1938 г. по благословлению европейских великих сил вместе с Германией и Венгрией вторглась в Чехословакию; таким же образом и Россия «не помнит» 17-е сентября 1939 года, а также и то, что для СССР война становится Великой Отечественной после 22 июня 1941 года). «Битва за сердца людей», а иногда и за их умы, является неизменной частью истории человечества.
Витторио Страда сравнивает антикоммунизм с антифашизмом как «либеральный и демократический антитоталитаризм» и сожалеет, что в России не проводилось публичных дискуссий (или покаяния) о прошлом, «аналогичных дискуссиям в Германии»[7]. Юрий Пивоваров разделяет сходное видение, клеймя «советское» как «более широкое, глубокое, органичное, устойчивое и опасное, чем коммунистическое», как «насилие par excellence… насилие над «злом» и борьба со «злом» forever»[8]. Если Юрий Пивоваров рассуждает с либеральных позиций, то с ним единодушен по этому вопросу и консервативный Сергей Кортунов, для которого «отказ от больной советской идентичности» должен довести до «восстановления исторической российской идентичности»[9].
Эффект подобных сравнений на первый взгляд подобен упаковке общественных зданий художника Кристо — тонкая ткань покрывает каменное здание, не разрушает его, но делает его невидимым, а для того, чтобы пожелать убрать завесу — словесную, живописную, цифровую, необходимо помнить его.
Отсюда и первый объект моего исследования отношений власть — национальная идентичность: историческая память постсоветской России, понятие «честная история», судьба «архивной революции», концепция единого учебника истории России, национальные мифы, объясненные широкой аудитории — почему память нации является мифологической, школы создают ее, университеты ее разрушают (но только в рамках академического сообщества). Историческая память не может обойтись без «исторической цензуры», поэтому я их рассмотрела с четырех различных точек зрений: с точки зрения центральной власти, провинциальной, с одной стороны, и либеральной и неосталинистской общественной мысли в постсоветской России, с другой.
Вторым объектом монографии является влияние переходного периода в России на моделирование российской идентичности, с ее советскими, русскими и российскими чертами, сочетающимися в национальные праздники, государственную символику, понятийный аппарат власти, это первый срез. Вторым срезом является переходный период в России через ключевые личности: Гайдар (как представитель и власти, и либеральной постсоветской интеллигенции), братья Никита Михалков и Андрей Кончаловский — как лучший пример советско-русских режиссеров, каждый со своей концепцией новой России. Третий срез — это политическая идентичность постсоветской демократии, и четвертый — феномен «декабристов Болотной» 10 декабря 2012 г. как гражданская идентичность постсоветского общества.
Третьим центром отношений власть — национальная идентичность в постсоветской России, по моему мнению, является Украина — российская Македония. События после второго майдана 2013–2014 и последовавшая гражданская война (активная на Юго-Востоке и пассивная в остальной части Украины) показали, что русская национальная идентичность не может быть исследована в целом без украинской национальной идеи в ее обоих проектах XIX в: две империи (Россия и Австро-Венгрия) — две украинские нации (Малорусская и Галицкая). Если Россия не может быть понята без Украины, то Украина не может быть очерчена без Беларуси, ввиду чего особое внимание я обратила на белорусскую идентичность постсоветской Беларуси, которая является второй нацией после украинской, возникшей как дочерняя русской, и, которая имеет совсем другую судьбу после 1991 г.
Книга заканчивается рассмотрением евразийской геополитической идентичности новой России, где я пытаюсь показать, каковой она является: неосоветская или постсоветская и где место русской нации между советским прошлым и евразийским будущим. «Большая Европа» или «Большая Евразия»? Это вопрос не только о российской геополитической идентичности, но и о европейской, и о евразийской…
Новым в исследовании является подход при историческом срезе отношений власть — национальная идентичность — общественная мысль плюс зеркальные, но уже самостоятельные украинская и белорусская идентичности, как и типологизация не только постсоветской идентичности (национальной, политической, гражданской и геополитической), но и украинских идентичностей, как различных национальных моделей (малороссийская и галицийская XIX — нач. XX в., с одной стороны, и русинской XX — нач. XXI в., с другой).
До сих пор исследования постсоветской России, затрагивающие национальную идентичность, подходят с точки зрения:
• политической и партийной истории: история политических партий всего спектра, среди которых и националистический[10]; как «этнонационализм»[11]; как «посттоталитарная идентичность» с двумя опциями «демократической» и «имперской»[12]; как переход от «homo soveticus» к «homo sapiens»[13]; с точки зрения национальной идеи как политического консенсуса[14];
• с точки зрения внешнеполитической ориентации России: как сочетание двух идентичностей «цивилизационной» (европейской) и «геополитической» (евразийской)[15], как «нереволюционная идентичность»[16]; как «государственная идентичность» «советско-русская империя», получившая шанс стать российским государством, «просто» Россией[17], как «не-Западом»[18];
• в виде философского анализа: постсоветское как «антимодерн» и «постмодерн»[19]; с метафизической точки зрения как «неоплатонизм России» (лунное сознание) против «аристо-телианства Запада» (солнечное сознание)[20]; как «постмодернистская эстетика» с «эклектичным соединением трудносовместимых идентичностей: дооктябрьской, советской и новой, демократической»[21]; как социальная философия[22], как все еще утопический проект[23];
• как социологический анализ «посттоталитарного общества»[24]; как политологический анализ национальной политики РФ (1991–1996)[25]; как исследование федерализма и национальной политики в 90-е годы и взаимоотношения центр — периферия с точки зрения Татарстана[26];
• как «музыкальный национализм»[27];
• с лингвистической точки зрения на постсоветскую языковую идентичность — «вавилонская трансформация» общественного дискурса и связь с «экологией языка»[28];
• с точки зрения «этнополитологии»[29].
Болгарская историография современной России представлена Ниной Дюлгеровой, исследующей Россию в международных отношениях в евразийском пространстве, с точки зрения энергетической дипломатии[30]. Христина Мирчева анализирует политическую систему современной России с ее общественно-экономическими и внешнеполитическими закономерностями[31].
Хронологические границы постсоветской России (8 декабря 1991-16 марта 2014)
Авторская периодизация постсоветского периода, предложенная в этой книге: 8 декабря 1991 — 16 марта 2014 г. Нижний предел, который я считаю отправной точкой постсоветской России, красноречив — Беловежские соглашения, когда Россия, Украина и Беларусь денонсируют договор о создании СССР (другой вопрос, насколько легитимно, чтобы три республики решали судьбу федерации, однако, этот факт необратим). Остальные варианты датирования в историографии следующие:
• с внешнеполитической точки зрения, с 1989 года, падение Берлинской стены, но это все-таки советское, а не постсоветское время и очерчивает конец внешнеполитической доминации СССР в Восточной Европе, как и один из финалов холодной войны[32], но не финал государства;
• с внутриполитической точки зрения с 1990 г., когда 12 июня была провозглашена Декларация о государственном суверенитете РСФСР, с которой «закреплялся приоритет республиканских законов над союзными», что привело к «войне законов»[33] (российских против советских) между РСФСР и СССР, продлившейся до августа 1991 г. Дефакто после 12 июня 1990 г. уже установилось законное двоевластие (российско-советское) и наступила последняя фаза в борьбе между Ельциным и Горбачевым.
• Некоторые авторы не признают ни 12 июня 1990 г., ни август 1991 г., а также и декабрь 1991 г. началом новой России[34], а другие подчеркивают первые президентские выборы в РСФСР, на которых победил Ельцин 12 июня 1991 г. как ключевое событие в распаде СССР[35].
По поводу настроений сразу же после выборов «могильщика СССР» Леонид Радзиховский напомнил ключевую фразу из речи после инаугурации Ельцина: «Великая Россия поднимается с колен», которая для «многих тогда звучала как первая любовь». Л. Радзиховский отстаивал либеральную позицию, что «Российская Федерация выиграла от распада СССР»[36]. А консервативный политолог
Михаил Делягин принимает тезис о том, что распад продолжается на территории постсоветских республик[37].
Верхний предел постсоветской России является более флюидным в историографии и зависит от дефинирования понятия «постсоветская».
Для того, чтобы определить верхний предел, если это не просто юбилейное стремление к удобству — привычка историописцев, которые пользуются линейными отрезками времени легче, чем многомерными очертаниями, — необходимо фиксировать фактор, воздействующий как на внутреннюю, так и на внешнюю политику России, с одной стороны, и, с другой — с сильной исторической инерцией в последующие периоды (исторической в смысле присутствия — если ты не присутствуешь в историописании, то не существуешь).
Для постсоветской России, по моему мнению, самым сильным верхним пределом является вежливое воссоединение[38] Крыма 16 марта 2014 г., поскольку это не просто символический акт фактического восстановления позиций великой силы, утраченной Россией в 1991-м, но и событие, вызвавшее наиболее сильный резонанс в российском обществе в его новейшей истории как постсоветского государства. Крым будет отправной точкой не только конца постсоветской эры, но и начала евразийской, поскольку совпадает с интеграционными процессами, которые довели до января 2015 г., когда Евразийский экономический союз между Россией, Казахстаном и Беларусью стал фактом (впоследствии присоединилась Армения, ожидается и присоединение Киргизстана).
Владимир Путин в апреле 2012 г. в своем ежегодном отчете в качестве премьера перед Думой объявил, что наступил конец постсоветского периода[39] (1991–2012). Тогда, однако, скорее наступил конец его премьерства, которое плавно перешло вновь к президентству. Но совпадает ли «путинская эра», как называют Россию с 1999 г. до сих пор, с постсоветской эрой? Я бы не сказала, поскольку Путин является наследником и избранником Ельцина, который поставил начало президентской постсоветской российской республике в советском стиле — со стрельбой по парламенту (1993).
Если интеграционный экономический евразийский процесс начался в 2000 г., то геополитическая смена российской орбиты, из страны, «побежденной в Холодной войне»[40], в великую (хотя и региональную) силу, была официально объявлена Путиным в его Мюнхенской речи 2007 г. Не случайно на следующий год имела место первое прямое противостояние между Россией и США в Августовской войне 2008 г. (точнее называть ее «грузино-осетино-российской», а не только «грузино-российской», поскольку вовлечены три стороны).
Для некоторых исследователей еще в 2005 г. (после Оранжевой революции в Киеве, 2004) уже началась «новая Холодная война», признаки которой видны в убийствах журналистки Анны Политковской и бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко (2006)[41].
Второй внешний тест геополитической турбулентности России последовал после решения Путина баллотироваться на третий президентский срок в 2012 г., а на следующий год — но на сей раз в наиболее чувствительном месте на границе федерации-Украине, майдан 2013–2014. На украинской земле произошло столкновение двух интеграционных проектов — евразийского (регионального, России) и трансатлантического (глобального, США), который является заявкой на судьбу следующего столетия, и который является битвой за Старый континент, стоящий перед выбором между Трансатлантическим соглашением с США и «Большой Европой» от Лиссабона до Владивостока с Россией.
Если евразийский проект России является региональным (Европейский Союз плюс Россия и вновь созданный Евразийский экономический союз, на принципе многополярности в партнерстве с БРИКС и др.), то трансатлантический проект является глобальным (США плюс ЕС плюс Евразия после фрагментации России как богатейшего ресурсами региона, самого близкого к Азии, чей экономический подъем опережает Европу, по принципу корпоративной однополярности). Китай останется с победителем, чтобы пережить его.
Присоединение Крыма (март 2014) является историческим фактом, который не только отделяет постсоветскую от евразийской России, но и знаменует окончание «длинного XX века» и начало XXI, когда интеграционные проекты будут доминировать над национальными.
Постсоветская Россия имеет и свою внутреннюю периодизацию, которая также варьирует в зависимости от различных исследовательских подходов. Первый спор касается понятия — что происходит в 1991 г. — «переворот», «революция», «полураспад империи», «длительный процесс разложения советской тоталитарной системы», «геополитическая катастрофа», «перелом»?
Первую границу (1989–1993) предлагает Юрий Пивоваров как «комбинацию трех революций» («антиимперской, или антироссийской» — «преступной» — «демократической»)[42]. Самым популярным является понятие «демократическая революция» в отношении периода от Горбачева до создания президентской республики при Ельцине (1985–1993), причем различия определяются пониманием типа российской демократии: «либеральная»[43], «электоральная»[44] («репрезентативная»[45]), «догоняющая», «развивающаяся» и др.
Вторую границу определяет Лев Гудков (1990–1996), в которой 1991 г. рассмотрен лишь как «эпизод в борьбе за власть», а весь период является «трансформационным распадом российской экономики». Лев Гудков фиксирует следующий период (1997–2007) как «постепенное возвращение к централизованной практике государственного управления»[46] с двумя ключевыми годами. Первый год (1999) он связывает с началом преобладания «силовиков» («чекистов»), разделяя мнение Ольги Крыштановской[47], что с тех пор не менее двух третей руководства страны в погонах. Л. Гудков использует для этого периода и понятие «чекистская корпорация»[48], для которого вторая ключевая дата (2004) знаменует «ликвидацию» местного самоуправления.
Третья граница (1991–1993) является самой популярной, Алексей Вдовин и Андерс Аслунд категоризируют ее, прежде всего, как «капиталистическую революцию»[49]. Майкл Макфол определяет тот же период (1991–1993) как «первую российскую республику», а последовавший за ним период (1993-) как «вторую российскую республику»[50].
Четвертую границу очерчивает Борис Кагарлицкий (1990–1999), отрицая как термин «революция», так и термин «реформа», и дефинируя этот период нестандартно как «реставрацию», или «естественное завершение политического цикла, начавшегося в 1917 г.». Фактически охвачено президентство Ельцина с внутренними подпериодами: 1990–1991, 1992–1993 («период Гайдар-Хасбулатов»), 1994–1998 («период Черномырдин-Зюганов») и 1999–2000 («агония Ельцинской России»)[51].
Джеймс Биллингтон заменяет понятие «революция» относительно событий 1991 г. русским термином «перелом», проводя связь со сталинским «Годом великого перелома» (1929), когда началась коллективизация[52].
Марк Креймер доразвивает тезис Стивена Коэна[53] о том, что советская система могла быть реформирована, не доходя до коллапса СССР в стиле «ретроспективного детерминизма». Марк Креймер отметил, что Стивен Коэн фокусирует внимание только на внутриполитических и экономических реформах, тогда как радикальное изменение СССР, по мнению Креймера, иллюстрируется главным образом «трансформацией советской внешней политики Горбачева». Креймер делает различие между «советским государством» и «советской системой», но не считает, что первое может продолжить свое существование, если исчезнет вторая[54].
Ричард Пайпс еще более категоричен, и отвергает наличие какой-либо возможности изменения советской системы в 80-е годы, поскольку, она «не поддается реформированию», а 1991 г. оценивает как «освобождение России от бремени союзных республик и восточноевропейских стран». Более того, он предлагает России «освободиться» и от другого «бремени», как например, «малая Чечня» и «весь мусульманский Северный Кавказ[55] под предлогом, что она достаточно велика. Позиция Р. Пайпса совпадает с позицией постсоветских неолиберальных лидеров: Алексея Навального с его лозунгом «хватит кормить Кавказ».
Причины «распада» или «трансформации» СССР предстоит выяснять, какие факторы преобладают — экономические (тезис Егора Гайдара, часто повторяемый как припев современными российскими неолиберальными средами), политические (кризис элиты, или вопрос «трансляции власти и собственности»), этнодемографические или внешнеполитические (тезис об успешном американском проекте «мягкого» вмешательства во внутренние дела СССР, в программное обеспечение советской системы), внешний фактор, который предпочитают как современные российские консерваторы, так и левые в их разнообразном спектре, и над которым иронизируют либералы.
Другой подчеркиваемой причиной является «отчуждение между государством и русским народом» и «равнодушие народа к судьбе империи, утратившей способность защиты его национальных интересов и ценностей»[56].
На самом деле, нельзя недооценивать и иррациональное поведение россиян, что делает их непредсказуемыми, поскольку не следует забывать, что они сами пожелали распада без давления извне, и здесь Горбачев случайно или нет, выбирает подходящий для русской психологии лозунг «Так жить нельзя»[57], который всегда может стать актуальным и является своеобразной ахиллесовой пятой России.
Современная история дает возможность историку одновременно быть участником, источником и наблюдателем а ля Фукидид, насколько это возможно. Верно, что дистанция времени дает преимущество чисто академическим историкам, которые не имеют связи со своими героями, как это обстоит с осмелившимися писать современную историю. Мне кажется, однако, что исторические знания могут прояснить анализ новейшего времени, потому что каким бы разнообразным ни был инструментарий различных гуманитарных наук, скользящих по современной поверхности: социологи, политологи, антропологи, философы и др., только историк в состоянии «увидеть» тенденции, которые распознал из ушедших веков, поскольку связь с прошлым существует, а то, что мы ее не замечаем, не исключает ее, а делает нас не только симпатично инфантильными с различным диоптрием близорукости, но и уязвимыми.
В исследовании постсоветской России в поиске своей идентичности мне помогли живые контакты с российскими, казахскими, белорусскими и украинскими коллегами, друзьями, студентами. Это сокращение дистанции, или полевая работа, как ее назвали бы этнологи, имеет свое преимущество (книжные знания лишены этой окраски человеческого общения с источником).
Особенно ценным для меня было увидеть реакции студенческих аудиторий после лекций по теме книги в Москве — в МГИМО, перед воспитанниками проф. Елены Пономаревой, которую я особенно благодарю за доверие и интерес к точке зрения болгарского историка-русиста на российскую идентичность, представленной перед российскими студентами-международниками.
В России, как и в СССР, сохранилось нечто от дореволюционного воспитания и поведения академической утонченности, серьезности, глубины и особой бодрости, а также и нечто очень важное — преподаватели создают школы, открывают горизонты перед своими студентами, не работают ультра-индивидуалистически сами для себя (что иногда является неизбежным, поскольку процесс написания это и отшельнический труд), и это отражается на академической атмосфере — в коридорах, на переменах, в кабинетах разговоры ведутся об истории, книгах, выставках, как нечто естественное, как дыхание (без малейшего снобизма или показушности).
Безусловно, имеет место и строгая иерархия, чуждая нашему эгалитаристскому и анархистскому балканскому духу, но это империя, все в ней большое (и хорошее, и плохое).
Совсем различным был опыт с аудиторией казахстанских студентов Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева в Астане, где мне выдалась возможность провести целый курс лекций по истории евразийства благодаря коллегам с Кафедры евразийских исследований, за что выражаю им сердечную благодарность и, особенно, доц. Сагинтай Бердагуловой. Казахи имеют особое отношение к слову, вероятно благодаря их богатому эпосу и поздней письменной традиции. Стихи и песни компенсировали нехватку письменного слова и совершенствовали казахский музыкальный слух и память. Отношение к музыке и культ образования очень заметны. Студенты сохранили чисто детское любопытство одновременно с восточной почтительностью к преподавателю. Совсем не случаен тот факт, что национальное возрождение казахов связано с их поэтами: в XIX в. это был Абай (казахский Пушкин, создавший казахский литературный язык), а в XX в. это Олжас Сулейманов (писавший свои стихи на русском языке). Очень сильна и связь между поколениями у казахов, которой уже давно не хватает европейцам. Родовая память казахов («казах» означает «вольный») оберегает их от негативных тенденций глобализации, с одной стороны, а с другой, клановая психология/ поведение иногда мешает модернизации — все это вопрос баланса.
Глобализация в Казахстане чувствуется и в новой символике, не только в геометрии и архитектуре новой столицы (пирамида, Байтерек и прочие нестепные элементы), но и в дизайне национальной валюты — тенге. Первые банкноты после независимости в начале 90-х изображали лица казахских национальных героев и просветителей, на новых купюрах отсутствует национальный элемент, они стилизованы геометрическими фигурами, казахстанскими, а не казахскими. Понятие «казахстанец» равнозначно русскому «россиянин» как гражданская, а не национальная принадлежность.
Весьма интересным национально образующим элементом является язык. Студенты часто задавали мне вопрос: «На каком языке говорят болгары?», и очень удивлялись, когда я им отвечала «конечно, на болгарском». В Казахстане русификаторская советская политика 60-х гг. XX века довела до незнания казахского языка казахами. Казахи на Севере русскоязычные и высокообразованные, а казахи на Юге — казахоязычные и более близкие к традиционализму с точки зрения поведения.
Русский язык — особая точка пересечения казахской и русской культур. С одной стороны, русский язык и образование во времена Романовской империи, и особенно в СССР — проводник европейской культуры в степи. Казахстан европеизировался через Россию. Европеизация развивала просветительство. Казахский просветитель Чокан Валиханов, близкий друг Федора Достоевского, благодаря русской культуре стал «казахским европейцем», так же, как и Достоевский был «русским европейцем».
Европейская культура Валиханова и Достоевского оказала влияние на их национальные концепции: у Достоевского это русская идея, у Валиханова — можно сказать «казахская идея» национального возрождения через просветительство в сочетании с казахскими традициями. С другой стороны, при Хрущеве насильственная русификация привела к закрытию казахских школ и кафедр казахской литературы.
Однако чувство национальной принадлежности возродил именно на русском языке поэт и общественник Олжас Сулейманов, которого боготворят в Казахстане и до сих пор. На встрече Олжаса Сулейманова со студентами в Евразийском университете по озаренным лицам молодежи и преподавателей была видна духовная близость казахов к их поэту. Казахское отношение к поэзии роднит казахов с русскими и вызывает ассоциацию с поэтическими встречами в Москве 60-х годов, когда во Дворце спорта (в декабре 1962 г.) собирались 12 тысяч москвичей слушать поэзию!
У нас в начале перехода актер и певец с невероятно теплым и полным душевной добротой голосом Асен Кисимов посещал школы и читал болгарскую поэзию, и говорил о благодарной ученической публике, которой он овладевал мгновенно своим голосом, а был маленьким как воробушек. Его избили скинхеды из-за неарийской внешности…
Меня поразило доброжелательное отношение казахов к лагерникам различных народов во времена Сталина, когда Казахстан был одним из крупнейших центров ГУЛАГа. Человеческая жизнь ценна для казахов, это наследие кочевой жизни в степи, у них никогда не было смертного приговора, что исключительно показательно. Казахи помнят, и с благодарностью говорят о русских интеллигентах, ученых, которые работали на благо народа в лагерях в нечеловеческих условиях. В Карлаге (Карагандинский лагерь) создан очень интересный музей лагерной жизни, который подобен декорации к повести «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына.
В АЛЖИРе (Акмолинский лагерь жен изменников Родины) создан музей, оригинальный своей архитектурой и редкий своей человечностью к памяти советских женщин, пострадавших от режима. Этих лагерниц отправляли в степь из-за того, что отказывались отречься от своих супругов, оклеветанных «врагами народа». С фотографий в музее смотрят интеллигентные лица советских писательниц (Галина Серебрякова), актрис (Рахиль Плисецкая, Татьяна Окуневская), певиц (Лидия Русланова), врачей, учительниц и др. Образованные женщины, декабристки XX в. Казахи из соседних деревень кормили их «куртом» (соленый сушеный творог, очень питательный), вывалянным в земле и становившимся от этого подобным небольшим камням, который подбрасывали через забор, и благодаря этому женщины выживали.
Русский и советский ученый (не могу назвать его только советским, поскольку он вообще не вписывается в тогдашнюю парадигму) Лев Гумилев возродил интерес к тюркской культуре, к казахам, к степным народам Средней Азии. Лагерная судьба Льва Гумилева свела его в одной камере с отцом Олжаса Сулейманова — Омаром Сулеймановым. «История наша несколько вспышек в ночной степи» — пишет Олжас. Одна из этих вспышек — Лев Гумилев с его теорией пассионарного евразийства, которая на данный момент является государственной доктриной (более прагматичной, нежели идеологической) Казахстана.
«Это кажется мне — Аз и Я — Азия, ошибаюсь. Мы кочуем навстречу себе, узнаваясь в другом»…
Другой мой опыт с белорусами — особая благодарность д-ру Сергею Мусиенко за приглашение познакомиться с этой славяно-балтийской культурой. Дискуссия после лекции на Факультете журналистики в Белорусском государственном университете в Минске заставила меня всмотреться в асинхронность между белорусской и украинскими постсоветскими идентичностями, что стало частью исследования российской идентичности. Невозможно описать русскую идентичность без украинской и без белорусской нации.
Наиболее частыми являются мои специализации на Историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, с которым у нас давнее межфакультетное сотрудничество, с кафедрой истории России XIX — начала XX вв. и с проф. Николаем Цимбаевым, моим учителем, с которым я работаю со своих ранних докторантских лет и которому я больше всех обязана своим становлением русистом.
Не могу не упомянуть Веру Бокову, заведующую отделом XIX в. в Государственном историческом музее на Красной площади (ГИМ), которая часто была нашим лектором, и благодаря которой мы знакомимся не только с музейной культурой России, но и с удивительными уголками Москвы, своеобразной метро-археологией, которая уплотняет картину отношения России к себе и к миру.
Сердечная благодарность и команде молодых и талантливых русистов, с которыми мы создали Евразийский центр VIA EVRASIA с одноименным альманахом к нему, а также и за поддержку утвердившихся ученых — его неизменной части, одного из лучших русистов в Болгарии — Нины Дюлгеровой, за дружбу и поддержку, особенно Александру Сивилову за дружескую коллегиальность и чувство командной работы — с ним мы задумали создание центра как академической площадки для различных точек зрения, выражаемых со знанием, уважением к инакомыслящему и без политкорректной стерилизации.
На написание этой книги меня больше всех вдохновил проф. Андрей Пантев, историческим пером которого, гражданской смелостью и преподавательской добротой, способной раскрыть способности любого студента, я восхищаюсь.
И, наконец, благодарю, хотя уже и поздно, но больше всего мою мать, Венедикту Григорову, которой посвящаю эту книгу. (Благодарю — вовремя, и моего отца, Григора Григорова, с его небалканским терпением и глубинной историософской мыслью, вероятно потому, что он классик.) Моя мать внесла в наш дом Россию, Москву, МГУ, где она изучала русскую филологию до четвертого курса, а после этого из-за безрассудного для тех времен свободолюбия и наивности — описывала в письмах дискуссии в МГУ в 50-е годы после смерти Сталина, когда у нас все еще главенствовало провинциальное дыхание товарищеской сдержанности, из-за чего местная подруга и коллега «разоблачила» ее, и, соответственно, она была лишена права окончить сразу свое образование (свою дипломную работу она защитила в нашем университете).
Благодарю наших российских друзей, унаследованных, благодаря пребыванию моей матери в Московсом университете, в первую очередь — опять-таки поздно, Маргариту Ивановну (Риту), самого русского человека, без которого Москва не смогла бы стать моим домом, и я не заговорила бы по-русски, хотя и с неизбежными для нас ошибками в окончаниях, с исключительно сильным чувством социальной справедливости (когда Путин во время своего первого мандата назначил символическую прибавку пенсионерам, она отправила ему телеграмму с текстом: «Ни в чем себе не отказывайте!»), в сочетании с эстетским представлением о жизни, с абсолютным презрением к материальному, и с острым глазом художника-плакатиста.
Советская публицистика — опять-таки благодаря моей матери, когда во время перестройки в Болгарии журналы и газеты стоили копейки, а мы жаждали новую информацию. В известном смысле я человек XX века, нежели XXI, принадлежу поколению, выросшему с перестроечными изданиями: «Новый мир», «Нева», «Дружба народов», «Иностранная литература», «Юность», «Огонек» прошлого времени, и многими другими — эта удивительная русская культура «толстых журналов» еще с XIX в., возродившаяся в диссидентские времена СССР, также является частью российской идентичности. Впрочем, и сейчас, в постсоветской России, эта традиция продолжается: лучшим является «Новое литературное обозрение» (НЛО), снова «Новый мир», хотя и не с той же силой, и др.
Я позволила себе это отклонение, поскольку оно иллюстрирует историю моего интереса к России и мои связи с ее современными реалиями, без чего я бы не написала эту книгу, ставшую фактом и благодаря стипендии Университетского комплекса по гуманитаристике «АЛЬМА МАТЕР» при Софийском университете им Св. Климента Охридского — искренне благодарю коллег за доверие и поддержку.
Глава первая «Честная история»
1.1. «Честная история» — история и власть в постсоветской России
«Честная история — ключ к формированию доверительных отношений между народами»[58]…
К «честной истории» призывает правая рука президента России, наиболее осведомленный о будущих шагах Дмитрия Медведева, руководитель Администрации президента РФ Сергей Нарышкин.
Когда власть начинает применять морализаторские критерии к истории и к любой науке, будь то гуманитарная или нет, это симптом бессилия, напоминающего туфлю по столу Никиты Сергеевича. Если власть хочет влиять на общественную мысль, ее методы не должны быть назидательнобюрократическими.
15 мая 2009 г. указом № 549 Президент России создал «Комиссию при Президенте Российской
Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России»[59], руководителем которой стал С. Е. Нарышкин. Сама формулировка комиссии сразу же стала объектом общественной иронии — а что произойдет с фальсификациями, которые могут нанести вред России?
Власть в России не впервые пыталась создать политкорректную историю, самым показательным примером имперской России XIX в. является казенный патриотизм Николая I, а в советском прошлом — краткий курс истории ВКП (б) Сталина[60]. В своем докладе на VII конгрессе Коминтерна (2 августа 1935 г.) Георгий Димитров также протестовал против «добровольного предоставления» «фашистским фальсификаторам всего, что есть ценного в историческом прошлом нации, для одурачивания народных масс. Нет! Товарищи! Нас касается всякий важный вопрос не только настоящего и будущего, но и прошлого нашего собственного народа»[61]. Хрущев и Брежнев контролировали историческую память посредством специальных идеологических комиссий (1958–1966).
Новая идеология
Причины подобных инициатив всегда идеологические, а российская власть не проводит различия между историей и идеологией. В постсоветской России новая идеология, которой следуют последние два президента, это идеология государственного патриотизма, который наиболее успешно может заменить идеологический вакуум после 1991 г. Сакрализация государства в России не достаточна, необходима и идеологическая матрица.
Создание этой комиссии, однако, явилось, скорее, советским рефлексом бюрократии — риторика, преобладание чиновников над числом ученых в ее составе, ее цензурные функции.
Каждое государство хранит свою память, или свою идентичность — методы различны. Россия могла бы организовать экспертное мнение ученых, а не чиновников, и не упаковывать его в очередную комиссию с громким названием — академическое сообщество не нуждается в менторах в лице власти. Пропаганда является чувствительным инструментом, который для того, чтобы иметь долгосрочное действие, должен проявляться завуалированно, а не императивно.
Не случайно против комиссии выступили общественники, исповедующие различные политические взгляды — от апологета Кремля Михаила Леонтьева до крайнего либерала Леонида Радзиховского. М. В. Леонтьев согласен с понятием «фальсификация истории», но определяет комиссию как «вопиющее противоречие с концепцией развития образования»[62].
Л. А. Радзиховский видит в борьбе за «историческую безопасность» результат «оборонного сознания» российского общества, травмированного после 1991 г., которое «не может приспособиться к современному миру — и инстинктивно прячется в раковину прошлого»[63].
История — не политический заказ — подобные писания живут меньше бабочки-однодневки. История, безусловно, связана с идеологией государства, с коллективной памятью, с национальными символами, но они проектируются в массовом сознании в школе. Каждое государство имеет свои мифологемы, создающие незримое чувство общности. Университеты, однако, разрушают эти мифы — таково призвание науки. Эта комиссия затрагивает все уровни образования — от школьного до университетского, вводя регламентированную цензуру с весьма растяжимым для исторического повествования понятием «фальсификация».
Новая идеология связана со старыми тайнами — Сергей Нарышкин возглавил и комиссию по защите государственной тайны, что явилось симптоматичным, и было связано с проблемой рассекречивания архивов. Оправдаются ли надежды одного из членов комиссии — историка Николая Сванидзе, на раскрытие архивов, это вопрос, ответ на который скорее отрицательный, тем более что сам Н. К. Сванидзе считает равнозначными «интересы России» и «интересы исторической науки»[64].
Легитимация новой России: советское наследство
Российская Федерация является легитимной наследницей СССР. Советское наследство, однако, разделяет российское общество на две крайности — отрицание и ностальгию; и должна ли Россия нести ответственность за сталинский режим?
Для историка подобный вопрос излишен, «вина» в истории не присутствует как академическая оценка, а является политической категорией победителя. При ином развитии Второй мировой войны в Нюрнберге были бы другие подсудимые, осуждаемые с не меньшей яростью.
Для россиян ответ на этот вопрос важен. Отношение к Сталину и сталинизму является лакмусовой бумажкой общественной позиции. Сталин — вторая фигура в истории России после Петра I, которая разделила общественное мнение на всех уровнях. О Ленине почти нет дискуссий, он лежит забытый в мавзолее и привлекает туристов, а если изредка возникают споры, то только о том, следует ли его похоронить или нет.
Если отрицание Сталина и советского прошлого было модным во времена Ельцина, то во время второго мандата Путина и уже при Медведеве наметилась тенденция в противоположном направлении — оправдание его действий. Вводится новый политкорректный язык — вместо «тоталитарный режим» — «личный режим» Сталина, вместо «распад» СССР — «трансформация», вместо «двоевластие» Путин — Медведев — «тандем», вместо «Чеченская война» — «военно-политический кризис» и т. д.
В руководстве А. В. Филиппова для учителей средних школ, преподающих современную историю России, Сталин назван «эффективным менеджером», а после бурной общественной реакции — «рациональным управленцем». Репрессии определены как «кровавая ротация» и «жесткий отбор» бюрократии, и как «стремление обеспечить максимальную эффективность управленческого аппарата»[65] — нечто вроде качественного отбора.
Если трактовка Сталина разделяет россиян, то их оценка Великой Отечественной войны однозначна — это святая память для всех поколений. Не случайно после войны Сталину прощают репрессии 30-х годов, эйфория от победы порождает ожидание перемен к лучшему благодаря жертвам России в войне, что сильнее семейной памяти о репрессированных[66]. Ликование от победы общее, национальное, российское. Это чувство и сегодня объединяет всех россиян новой России.
И здесь, в сущности, главная причина создания этой комиссии — защита этой памяти. Если для россиян Великая Отечественная война и сталинизм — это различные вещи, то на Западе существует тенденция их слияния в одно целое в пользу отрицания. Поводом создания комиссии при президенте РФ явилось решение Европейского парламента от 23 сентября 2008 г. объявить 23 августа «днем памяти жертв сталинизма и нацизма»[67].3 июля 2009 г. в Вильнюсской декларации ОБСЕ подтвердила резолюцией решение Европейского парламента[68].
Отождествление сталинизма и нацизма с академической точки зрения не присутствует как спор — хотя и близкие по многим показателям, эти два явления достаточно разнородны, и не могут отождествляться. Академические среды, однако, далеко не влияют на общественное мнение, которое в большей степени подвластно политическим спекуляциям или невежеству.
Институции отвечают институционально — ответом России Европейскому парламенту явилась указанная комиссия. К сожалению, ответ России был не менее ограниченно-бюрократичным, чем декларация европейских парламентариев.
Высказывания некоторых членов комиссии (С. Е. Нарышкин, Н. А. Нарочницкая) напоминают брошюру 1948 г. «Фальсификаторы истории» в ответ на сборник Государственного департамента США о советско-германских взаимоотношениях (1939–1941) «Nazi-Soviet relations», 1939–1941. В брошюре говорится о «вероломной позиции» США, о «клеветнической кампании» против СССР, целью которой является «ослабление международного влияния»[69].
Наталья Нарочницкая, заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, определила цель комиссии как «задачу государственной политики», которая защищает не только «оскорбленную гордость великороссов», но и является ответом на «отрицание России как исторического явления». «Извращается смысл нашей победы. Ее постоянно игнорируют. Я не удивлюсь, если следующее западное поколение не будет знать вообще, кто с кем воевал. Будут думать, что демократические страны воевали против двух тоталитарных монстров, которые спорили за господство.»[70].
Н. А. Нарочницкая опасается, что если СССР будет объявлен преступным государством, то сомнению будут подложены все международные решения, в которых он принимал участие, что отразится на его правопреемнике — России[71].
Сергей Нарышкин видит главную функцию комиссии как «борьбу исторической справедливости»: «Сейчас фальсифицированная история проникает во многие кабинеты руководителей партийных групп и даже руководителей соседних государств, которые вместо налаживания нормального политического диалога с Россией, организации взаимовыгодного сотрудничества пытаются предъявить России всевозможные претензии: территориальные, политические, материальные. Мы, конечно, этого допустить не можем»[72].
Руководитель Администрации президента РФ говорит об «информационной войне», в которой «…устойчивое продвижение нашей страны не согласуется с планами известных мировых держав, желающими видеть Россию с ограниченной самостоятельностью» и полем, которым является история[73].
«Информационная война» существовала всегда, это вопрос пропаганды ценностей, проливающих свет на геополитические интересы каждого государства, история — это лишь часть информационного пространства этой войны или выражение влияния — культурно-политического. Вопрос, однако, в том, как ведется эта война — генеральное сражение с государственной комиссией против фальсификаций не самое эффективное средство — подобная тактика напоминает попытки Николая I провести генеральное сражение европейского типа в изрезанной горной местности Кавказа — результат оказался плачевным.
Под участниками «информационной войны» Сергей Нарышкин подразумевает главным образом Украину, Грузию, Прибалтийские страны и Польшу. После распада СССР начался и информационный разрыв вышеупомянутых стран с советским и российским сообществом, что является плодом национальных комплексов. Своими усилиями они напоминают современных македонцев, которые видят свои корни в Филиппе Македонском. Украинцы переводят Гоголя на украинский, в Эстонии сооружаются памятники нацистам — примеров много.
Россия является носителем великой, европейской культуры, и защищать свою память следует не путем демонстрации государственной или, скорее, чиновничьей мощи. Что бы ни делали украинские политкорректные историки, Киевская Русь — это часть истории России, и не может стать «Киевской Украиной», как и наша «Славяно-болгарская история» не может стать историей «славяномакедонской».
«Голодомор» не является национальным геноцидом против украинцев, а социальным геноцидом против советских крестьян — украинцев, русских, казахов и др., населявших плодородные районы СССР. Да, в Украине есть институт национальной памяти под эгидой президента Ющенко, который «творит» новые украинские мифы, но должна ли Россия отвечать подобным образом? Слава Богу, в Болгарии нет подобной комиссии по Македонии.
Существуют и более крайние взгляды на борьбу за «историческую справедливость» помимо взглядов комиссии — мнение министра чрезвычайных ситуаций и сопредседателя Верховного совета партии «Единая Россия» Сергея Шойгу, известного своими радикальными высказываниями. 4 февраля 2009 г. Шойгу предложил принять закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание победы СССР во Второй мировой войне: «Тогда бы президенты некоторых стран, отрицающие это, не смогли бы безнаказанно приезжать в нашу страну. А мэры некоторых городов, прежде чем сносить памятники, несколько раз подумают об этом»[74]. Шойгу поддержал генеральный прокурор России Юрий Чайка.
Дума отреагировала на предложение Шойгу и 6 мая 2009 г. рассмотрела закон «О противодействии реабилитации на территории независимых государств — бывших республик Союза ССР нацизма, нацистских преступников и их пособников».
Депутаты «Единой России», во главе со спикером Думы Борисом Грызловым, предложили внести изменения и дополнения в Уголовный кодекс введением новой статьи «Реабилитация нацизма», предусматривающей штраф в размере до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. В случае использования служебного положения или СМИ, размер штрафа предусматривается до 500 тыс., а срок — до 5 лет[75].
Если для 1948 г. — начала Холодной войны, подобная риторика является естественной, то в 2009 г. она неэффективна с точки зрения пропаганды.
Дата декларации Европейского парламента — 23 августа выбрана не случайно, она совпадает с днем заключения пакта Риббентропа — Молотова в 1939 г. Подобное совпадение было бы объективным, если не забывать о Мюнхене 1938 г., однако политическая память избирательна. В российском обществе тема Риббентроп — Молотов была объектом дискуссии, особенно во время перестройки, когда было оглашено секретное соглашение. Официально пакт был признан в декабре 1989 г., на втором съезде народных депутатов.
Реалистична точка зрения ректора МГИМО и академика РАН Анатолия Торкунова, который назвал Мюнхенское соглашение «позорной сделкой», а пакт Риббентропа — Молотова — «зловещей альтернативой союзу с Францией и Англией» и «сталинским грехом»[76].
Восстановление статуса великой силы является основным приоритетом власти новой России. Геополитическое противостояние после падения Железного занавеса не изменилось, и вновь возрождается словесный фон холодной войны. Отчасти это служит и для отвлечения внимания российского общества от наболевших вопросов кризиса. Образ врага, однако, не всегда является выигрышным пропагандистским шагом, даже и для временного объединения сообщества.
Официальные представители власти, незанятые непосредственно комиссией, реагируют различно на декларацию Европейского парламента. Сергей Миронов, председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ и партии «Справедливая Россия», призывает Россию «воспользоваться доступными нам международно-правовыми рычагами»: «Против нас действуют агрессивно, не церемонясь. Поэтому нужна продуманная и наступательная государственная политика по отношению к фальсификации истории, при которой каждый государственный орган, каждая политическая партия, общественная организация будут, говоря по-суворовски, знать свой маневр»[77].
Более прагматичным и близким к премьер-министру является министр иностранных дел Сергей Лавров, который тоже против навязывания «исторической вины» России и «информационных атак»[78] против истории России, но основной акцент его высказывания делается на призыве принять инициативу Медведева европейской безопасности как альтернативы НАТО.
Будучи премьер-министром России Владимир Путин во время своего посещения Польши (польский Сейм в своей резолюции обвинил СССР в геноциде в связи с расстрелом польских офицеров в Катыни в 1940 г.) заявил в Гданьске и об официальной позиции Кремля, которая далека от политического заклеймения: «…надо признать, что все предпринимавшиеся с 1934 года по 1939 год попытки умиротворить нацистов, заключая с ними различного рода соглашения и пакты, были с моральной точки зрения — неприемлемы, а с практической, политической точки зрения — бессмысленными, вредными и опасными. Именно совокупность всех этих действий и привела к этой трагедии, к началу Второй мировой войны.»[79].
Комиссия «по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России», или КППФИУИР (эту аббревиатуру скептики использовали в отношении ее деятельности), была распущена 14 февраля 2012 г. Существуют резонные предположения[80], что прямым результатом ее работы явился разработанный в феврале 2011 г. Федеральный образовательный стандарт среднего общего образования[81]. В официальном документе Министерства образования и науки РФ предлагалась дисциплина «Россия в мире», в которой необходимо «сформировать способности противостоять фальсификациям истории в ущерб национальным интересам России». То же повторяется и в разделе «История».
Сам предмет «Россия в мире» можно было бы заменить за счет увеличения часов по литературе и истории вместо того, чтобы создавать их поверхностную комбинацию, поскольку именно эти гуманитарные дисциплины наиболее профессионально развивают представление о России и о мире, однако, это часть вечного спора между чиновником и ученым, которая нередко завершается победой первого, т. е. бюрократии. Положительным в этих стандартах является то, что их применение зависит от индивидуальных качеств учителей по истории, которые имеют свободу преподавать шире чиновнические директивы.
Профессиональные академические среды встретили с облегчением роспуск Комиссии по противодействию фальсификациям — директор Эрмитажа, член-корреспондент РАН, д.и.н. Михаил Пиотровский счел этот факт «исправлением ошибки»: «Термин «фальсификация» неприемлем для профессиональной научной дискуссии и для нормального политического диалога. Он из разряда пропагандистски-публицистических. Без разных подходов и интерпретаций наука стоит на месте, и попытка «отрегулировать» взгляды на те, или иные исторические события была обречена на провал». Акад. Александр Чубарьян был более умерен, и дал положительную оценку работе комиссии, которая «способствовала облегчению доступа к архивам и инициировала рассекречивание документов… противодействовала искажениям различных исторических фактов»[82].
Россия не нуждается в бюрократах-защитниках и очередных комиссиях, достаточно того, чтобы российское государство вкладывало больше средств в русскую культуру, которая давно преодолела политические границы.
Государство, бесспорно, является носителем национальных ценностей — но его методы не должны быть ретробольшевистскими с директивными планами, оно должно быть хранителем высокой культуры. Если сила демократии зависит от разделения трех властей, то сила современного общества может быть гарантирована разделением на две власти — власть государства и власть рынка. Государство должно быть покровителем, а не ментором чистой науки — не прикладной, а теоретической, которая определяет будущее, а также культивировать вкус к высокой культуре.
«Дело историков», или об исторической цензуре в современной России
Символику национальной памяти трудно разграничить от мифологического образа прошлого, создававшегося в школах и разрушавшегося в университетах. Университетское образование, однако, — для избранных, тогда как школьное представление о национальном прошлом остается неизгладимым воспоминанием, объединяющим общество в национальное сообщество. С каждым политическим кризисом, который приводит к изменению системы или более того — государственных границ, меняется и обостряется общественный взгляд на историю в поиске новой идентичности.
Причинами болезненного отношения — и государства, и общества, именно к этому периоду советской истории являются:
• историческая травма после 1991 г., создавшая «фантомную боль» по отношению к советскому пространству — особенно сильную по отношению к самой родственной для россиян, но стремящейся любой ценой к эмансипации Украине;
• национальная проблема, впервые застигшая россиян (и столь знакомая балканским народам), а именно — несовпадение этнических границ с политическими (более 20 млн. русских за пределами Российской Федерации);
• разочарование в неолиберальных реформах Егора Гайдара, которое привело к разрастанию сталинизма как формы социального протеста;
• попытка некоторых постсоветских республик (особенно прибалтийских) односторонне подменить прошлое, воскрешая культ нацистов (особенно в Эстонии) или культ коллаборационистов (в Украине при президенте Ющенко Степан Бандера был объявлен национальным героем). Постсоветские республики клеймят Советский Союз, однако, безмолвно принимают свои советские границы (Литва получила от СССР свою столицу Вильнюс и свои южные территории, принадлежащие Польше, Украина — Крым, Грузия — Южную Осетию, и т. д.)
• решение Европейского парламента об объявлении 23 августа «днем памяти жертв сталинизма и нацизма», некорректно отождествляя эти два явления с конкретной ссылкой на 23 августа 1939 г. (пакт Риббентропа — Молотова), избирательно забывая о Мюнхене 1938 г.
Ответом российской власти на политическое искривление взгляда на Вторую мировую войну является описанная выше политика поиска и формулирование «честной истории» (май 2009 г. — февраль 2012 г.).
Своеобразная трансформация Холодной войны в «информационную войну» — неизбежную при современном геополитическом противостоянии, является основным аргументом российских властей в поиске «честной истории» — в сущности, сама формулировка сохраняет идеологический подход к истории, заменяя марксистскую току зрения патриотической и оставляя на заднем плане академическую.
Болезненная реакция российской власти и создание «Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России» привело к применению исторической цензуры в постсоветское время с юридическими последствиями для исследователей, т. н. «Дело историков», или «Архангельское дело».
В 2009 г. профессор Поморского государственного университета, доктор исторических наук, руководитель Кафедры отечественной истории, Михаил Супрун, участник совместного российско-немецкого научного проекта: «Этнические российские немцы, репрессированные в 40-е годы», продолженного как проект «Немецкие военнопленные на русском Севере 30-е — 50-е гг. XX в.», собирал анкетные данные местного архива о немецких спецпереселенцах на Севере, выселенных во время войны, подготавливая издание на русском и на немецком языках «Книги памяти» Архангельской области. Проект являлся частью договора 2007 г. между Немецким Красным крестом, Поморским государственным университетом им. М. В. Ломоносова (Архангельск), Историческим исследовательским обществом немцев в России (Нюрнберг) и Информационным центром УВД (Управление внутренних дел) по Архангельской области.
Очень скоро в Архангельске (13 сентября 2009 г.) российскому профессору было предъявлено обвинение по ст. 137 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение неприкосновенности частной жизни) и по части 4, ст. 33 и ст. 286 УК РФ (подстрекательство должностного лица к превышению должностных полномочий).
Кроме проф. Супруна обвиняемым по делу был и начальник информационного центра УВД Архангельской области, полковник Александр Дударев, которому было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий по ст. 286 УК РФ только за то, что он предоставлял архивные материалы исследователю[83]. В ходе следствия А. Дударев был вынужден уйти в отставку.
Если дело против Супруна и Дударева было возбуждено 13 сентября 2009 г., то 17 сентября того же года полковник Александр Дударев был награжден указом Президента, причем одной из заслуг была указана и его работа по созданию «Книг памяти»[84]. Это расхождение между центром и провинцией характерно для властных структур в России и, обычно, провинциальные власти более консервативны или, как в данном случае, — реакционны. В своем желании угодить тенденции, заложенной Кремлем созданием «Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России», архангельские власти применили регламентированную цензуру в отношении академических исторических исследований.
По мнению следствия, проф. Супрун «незаконно собрал сведения о пяти тысячах спецпоселенцев, составляющих их личную и семейную тайну, без их согласия и согласия родственников». А именно — «биографические данные, национальность, состав родственных связей, факты и основания перемещения с территории СССР и Германии, а также иные сведения о частной жизни указанных лиц»[85]. В ноябре 2009 г. после серии протестов историков и правозащитных организаций дело было передано в Следственный отдел Северо-Западного федерального округа в Санкт-Петербурге.
Еще 12 октября 2009 г. уполномоченная по архивам Штази Марианне Биртлер обратилась с открытым письмом к президенту Дмитрию Медведеву, в котором поделилась своими опасениями, что дело против проф. Супруна «позволяет запугать людей, проливающих свет на темные воспоминания периода сталинизма и помнящих об этих жертвах». М. Биртлер определила действия российских властей «анахронизмом» на фоне введенного в учебную программу в русских школах произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»[86]. Опасения по поводу политики «блокирования» исследований сталинизма российскими властями разделяет в то же время и The Guardian[87].
Перед формированием Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России «Книги памяти» издавались без проблем по совместным российско-немецким, российско-польским и др. проектам, ссылаясь на Закон о реабилитации жертв политических репрессий от 18 октября 1991 г. В Архангельске за период 1997–2007 в том же информационном центре при УВД были обработаны архивные данные о польских выселенцах и спецпереселенцах за 1940–1941 г. В Варшаве было издано семь томов (на русском и на польском языках) с данными о более 56 тыс. поляков[88].
Дело против проф. Супруна было возбуждено со ссылкой на Закон «О персональных данных» от 2006 г., но в параграфе 2 этого закона уточняется, что «Действие настоящего Федерального закона не распространяется на отношения, возникающие при: … использовании содержащих персональные данные документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов», а в ст. 6.6 четко прописано, что «согласие субъекта персональных данных… не требуется в… случаях», если «обработка персональных данных осуществляется в целях профессиональной деятельности журналиста, либо в целях научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных»[89].
Другим документом, на который ссылалось следствие против проф. Супрун, являлся приказ № 375/584/352 от 25 июля 2006 г. трех ведомств: Министерства культуры, Министерства внутренних дел и ФСБ. Пункт III. 17 приказа гласит, что «Пользователь обязан соблюдать режим конфиденциальности в отношении ставшей ему известной информации, использование и распространение которой ограничивается согласно законодательству Российской Федерации». По мнению журналиста Георгия Рамазашвили, приказ № 375/584/352 был издан, чтобы заблокировать Закон «О реабилитации жертв политических репрессий»[90].
Проблема обвинения заключалась в основном в отсутствии определения понятия «персональная и семейная тайна» в российском законодательстве, ввиду чего проф. Михаил Супрун был освобожден от уголовной ответственности за разглашение «персональной тайны» по истечении двухлетнего срока давности. Полк. Александр Дударев, однако, был приговорен к одному году условно за превышение должностных полномочий.
Историк Борис Соколов с основанием предположил, что Архангельское дело закроет для исследователей все дела после 1936 г. (ввиду 75-летнего срока защиты персональных данных) и, что основной причиной является не столько страх перед исками о компенсациях родственникам репрессированных, сколько введение цензуры в отношении истории[91].
«Дело историков» — это часть различного понимания исторической памяти в постсоветской России после 1991 г., в котором можно разграничить четыре основные точки зрения.
Точка зрения центральной власти двойственна.
Кремль, с одной стороны, создает «Комиссию при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России» (2009–2012) и провозглашает необходимость написания единого учебника по истории (2013 г.), сохраняя, таким образом, идеологический подход к истории, заменяя марксизм патриотической идеологией.
С другой стороны, по распоряжению президента Дмитрия Медведева после трагической и символической гибели польского президента Леха Качиньского по пути к мемориальному комплексу в Катыни (10 апреля 2010 г.) на официальном сайте российских архивов были размещены отсканированные документы по Катынскому делу, т. е. «Папка № 1» с решением Политбюро от 5 марта 1940 г. о расстреле польских офицеров (исключение было сделано только для списков прямых участников экзекуции), и, тем самым, Россия показала, что не только признает вину Сталина и Политбюро за случившееся (еще в 1993 г. Борис Ельцин во время посещения Польши официально попросил прощения), но и предоставила широкой общественности право ознакомиться с деталями события. Того же самого нельзя сказать о польской стороне, которая не извинилась за гибель российских военнопленных во время Российско-польской войны (1919–1921), умерших от голода. Польские историки, однако, совместно со своими российскими коллегами издали сборник с документами «Красноармейцы в польском плену в 1919–1922 г.г.» (2004 г.), продемонстрировав тем самым, что академические среды быстрее находят общий язык и не являются рабами стереотипного мышления.
Точка зрения провинциальной власти после официального поиска «честной истории» Кремля (2009 г.) реагирует Архангельским делом, или «Делом историков» (2009–2011), чем подтверждает правило консерватизма провинции в отношении центра, и ставит начало исторической цензуре вопреки Закону о реабилитации жертв политических репрессий (1991 г.)
Точка зрения либеральной постсоветской общественности также вносит свой вклад в историческую цензуру — на сей раз, как общественное, а не административное давление, в результате которого был запрещен учебник «Истории России 1917–2004» (изд. 2005,2008,2010) профессоров МГУ им. М. В. Ломоносова А. С. Барсенкова и А. И. Вдовина, обвиненных либеральными общественниками в «ксенофобии», «экстремизме» и разжигании национальной розни. Экспертная комиссия Учебного совета Исторического факультета МГУ обнаружила фактологические неточности, спорные трактовки и недостоверные источники в учебном пособии[92] и запретила его использование.
Точка зрения неосталинистской общественности на историческую память проявилась в руководстве по истории для средних школ А. В. Филиппова, определившего Сталина «эффективным менеджером»[93]. Писатель и публицист Александр Проханов, редактор «левой» газеты «Завтра» классифицирует российский народ как «народ-сталинист»[94]. 5 марта 2013 г. в связи с 60-летием со дня смерти Сталина в очередной раз среди российской общественности разгорелись дискуссии «за» и «против» сталинизма.
Другая сторона ресталинизации части российского общества в настоящее время, однако, является формой протеста против неолиберальной политики в России, разочарование в который лучше всего описано Даниилом Граниным: «Значительная часть — это протест против нынешнего беспорядка, против нынешнего криминала, нынешней коррупции, взяточничества, и прочего бардака, в котором мы живем. […] Как ни странно, у нас была какая-то красивая идея жизни; другое дело, что она обанкротилась, что ее извратили, но что-то было, что-то было во имя чего можно было страдать… А что сегодня? Сегодня мы стали в хвост капиталистическим странам… мы сейчас какая-то нищая, полудикая капиталистическая страна… это плоды безыдейной жизни…»[95].
Какая из четырех точек зрения об исторической памяти возьмет верх в постсоветской России, нам предстоит увидеть, но устремление взгляда в прошлое — это симптом неутихающего идейного кризиса в современном российском обществе, все еще пребывающем в поиске объединяющей идеи, которая направит его взгляд в будущее.
Единый учебник истории России: патриотическое образование или краткий курс истории ВКП(б)?
«Должна быть какая-то каноническая версия нашей истории. […] Если мы будем изучать на Востоке историю одну историю, на Урале вторую, в европейской части третью, это будет разрушать единое пространство нашей многонациональной нации»[96] (Владимир Путин, Ростов-на-Дону 29 марта 2013 г.)
Вряд ли президент России имел в виду создание нового канона, этого не удалось достичь и в советское время, несмотря на все приложенные усилия (в своих последующих высказываниях по этой теме Путин не использует эту лексику, если это, конечно, не было фрейдистским ляпсусом). Канон не допускает альтернативного видения вне себя, а история, как и все гуманитарные дисциплины, призвана воспитывать критическое мышление, а не политкорректное клакерство.
Интерес Путина к истории не спорадичен, он порожден его политической философией, проявившейся еще во время его первого президентского срока, и исповедующей максиму/мантру Александра Солженицына о «сбережении народа», или построении патриотической вместо советской идеологии. Забота о памяти нации становится неотъемлемой частью внутренней политики Россия именно при Путине, и выражается не только в периодическом контроле исторического образования, но и в создании новых национальных праздников, новых национальных героев[97], новой патриотической концепции, подход которой директивен.
Директивный подход к патриотизму — еще 16 февраля 2001 г. была опубликована первая государственная программа «Патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы». Программа предусматривает военно-патриотическую систему воспитания, причем в этом тексте упоминается еще о «противодействии искажению и фальсификации истории Отечества»[98].
После постановления правительства была создана концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации, опубликованная в 2003 г. с официализацией понятия «малая Родина»[99].
Каждую пятилетку принимается новая, дополненная патриотическая программа, при этом учреждается и памятная медаль «Патриот России»[100].
Помимо тонн бумаг с повторяющимися определениями результатом этого административного подхода к патриотизму является стимулирование краеведческих исследований, организация государственных межрегиональных конкурсов «малая Родина», посредством чего возрождается интерес к местной истории в провинциях Российской Федерации.
Если внутренней причиной особого внимания Путина к истории являлась разделенная философия Александра Солженицына, то внешнеполитическая представляет собой попытку подмены памяти о Победе 1945 года в официальной лексике Европейского Союза (особенно в бывших советских прибалтийских республиках, не скрывающих свои симпатии к нацизму, и в Польше, в постсоветском лагере — в Грузии при Михаиле Саакашвили, а также и в Украине). В последней, по мнению президента, находящегося у власти, при Викторе Ющенко коллаборационист Степан Бандера был объявлен национальным героем, тогда как Виктор Янукович низвергнул его с украинского пантеона.
В последние годы в России наблюдается последовательная внешнеполитическая зависимость в принятии политических решений об исторической памяти. Внешнее давление, распознаваемое российскими современными консерваторами (Сергей Нарышкин, Наталия Нарочницкая, Игорь Панарин и др.) как «информационная война», а также «сетевая война» (Александр Дугин), в сущности, представляет собой естественную трансформацию Холодной войны, и в настоящее время выражается в борьбе за культурно-политическое влияние далеко за пределами политических границ.
Таким образом, и поиск «канонической» истории во имя патриотического образования постсоветской России начался задолго до предложения Путина о создании единого учебника истории в 2013 г.
Вопрос о едином учебнике истории, однако, заключается в том, не воспримет ли российская бюрократия буквально слова президента о «канонической» истории, и в своем рвении выполнить очередную директиву, немногим отличится от местных властей в Пензе и других городах, покрывавших деревянные дома по пути олимпийского огня в 2014 г. полотном для декорации фасадов. Воссоздание мифических «потемкинских деревень» времен Екатерины Великой в конечном итоге превращается в архетип чиновнического поведения в России.
Единый или единственный учебник истории России?
Академическая общность скептически восприняла идею создания единого учебника истории России, несмотря на то, что речь шла о средней школе, а не об университетском уровне, что было бы уже идеологическим подходом. На уровне средних школ преподавание истории является частью неизбежного создания национальной мифологии, которое держит общество как одно целое — иррациональное, но целое, тогда, как роль университета — разрушение этих мифов, это, однако, является усовершенствованием знаний посвященных, т. е. историков и гуманитариев, которые далеко не составляют большинство нации.
В этом смысле идея единого учебника для средних школ не является ни еретической, ни мракобесной, каждое государство хранит свою память в зависимости от своих национальных интересов, создавая свой государственный историко-культурный стандарт. Не случайно, что первоначальная идея «единого учебника» плавно перешла к «единой концепции» учебников, а не учебника истории, на что особое внимание обратил акад. Александр Чубарьян[101]. Бывший директор Государственного архива Сергей Мироненко рассказал, что слово «единый» его «отталкивает», и его следовало бы заменить «базовым учебником, который рекомендуется как точка зрения государства на отечественную историю… но учитель должен иметь право выбора… и там должны найти свое место и архивы»[102]. Споры вокруг создания российского исторического стандарта школьного преподавания обрисовывают несколько разделительных линий в исторической общности — той, которая пишет учебники, и той, которая преподает в школах.
Идеологический подход
Первой разделительной линией является идеологический подход. Страх перед идеологизацией прошлого владеет той частью российского общества, которая жила и в Советском Союзе, несмотря на то, что по конституции Российской Федерации «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной»[103].
Этот страх основателен, поскольку высшие бюрократы с учительским опытом не скрывают своего одобрения идеологизации прошлого. Людмила Бокова, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам и развитию гражданского общества (2012–2017, мандат) на Круглом столе «Учебник истории — новое прочтение», организованном РИА Новости 13 июня 2013 г., прямо заявила: «учебник должен быть идеологизирован», оправдывая свой тезис опасностью «фальсификации истории», а наконец, в ответ на вопрос из зала завершила пожеланием: «Мы бы хотели в идеале, чтобы концепция перекочевала и в вузовские учебники»[104]!
Благие намерения в конкретном случае, по мнению Людмилы Боковой, направлены на «консолидацию общества», что является чиновничьим подход к патриотизму.
Сторонники идеологизированного подхода к истории объясняют это «своеобразной либеральной монополией в руководстве исторической наукой в России» и предлагают введение «государственнического идеологического концепта»[105] — государственническая идеология как противовес неолиберальной.
Отказывается ли, однако, Россия от неолиберализма, вопреки заявленной консервативной позиции в последней речи Путина перед Федеральным собранием в конце 2013 г.? Трудно сказать категорически, учитывая разрушительную реформу РАН, которая и ныне деградирует академическую науку, а не отстраивает ее…
Патриотизм является естественной заменой советской идеологии после 1991 г, но подход к нему не может быть административно-командным и идеологическим, поскольку это его обессмыслит и превратит в мертвое слово.
Оценка Сталина
Идеологическим, однако, является подход к прошлому и в самом российском обществе — односторонним в зависимости от своих либеральных или консервативных, или сталинистских ценностей. Либералы не терпимы к уравновешенной оценке Сталина, проф. Андрей Зубов (МГИМО) предлагает ввести «нравственный критерий», а советский режим заклеймить как нацистский в Германии[106]. Симпатизирующие Сталину историки называют его «эффективным менеджером» в руководстве для школьных учителей А. В. Филиппова (2007), вызвавшем этой своей трактовкой общественный скандал. И это вторая разделительная линия — оценка советского периода и, главным образом, Сталина.
Митрополит Иларион, который отвечает за международные отношения Русской православной церкви, (в свое время это входило в обязанности нынешнего патриарха Кирилла), и который принимает активное участие в телепередачах и популяризации позиции православной церкви по ряду общественных вопросов, использует понятие «православные сталинисты»[107], которое характеризует действительно существующий слой современного российского общества.
Идея о «нравственном критерии» не пользуется особой популярностью, поскольку рассматривать критически сталинскую преступную во многих отношениях политику по отношению к советским гражданам — это одно, а совсем другое заклеймить Сталина наравне с Гитлером и вселить комплекс неполноценности в российское сознание, которое, как бы ни воспринимало Иосифа Виссарионовича, не может исключить его из Победы 9 мая 1945 г.
Исторически место Сталина в этом пиковом для советской нации моменте (именно тогда она рождается — после этого катаклизма). Поставленный таким образом вопрос о Сталине — с нравственной точки зрения, не очень отличается от решения Европейского парламента об объявлении 23 августа днем памяти и отождествлении нацизма со сталинизмом, что является некорректным сравнением и подчиняется политическим пристрастиям, имеющим пропагандистский характер, а не характер академической оценки.
Во избежание напряжения между сталинистами и антисталинистами, в новой концепции единого учебника введено понятие «советский вариант модернизации», которое включает индустриализацию, коллективизацию, ГУЛАГ, упоминается о Катыни. Этот подход определяется как «дуализм» и является разумным, он отвергает название сталинского управления «сталинский социализм». Как восклицает акад. А. Чубарьян «Все-таки советская история — она же была…».
Александр Ципко использует понятие «сталинский социализм», но не одобряет того, что в стандарте не показаны «уроки его распада» в 80-е годы. Вообще, идея исторического шаблона ему не по душе, он определяет ее как «шестидесятническую» (из-за атеизма и равнодушия к крестьянству и православному духовенству), поскольку не видит, как могут сочетаться оба вида патриотизма — русский и советский: «Если для вас Россия — прежде всего православная христианская страна и все самое главное — национальные святыни, достижения национального духа, культуры — связано с православием, то для вас героями будут все те, кто, начиная от Сергия Радонежского и кончая участниками «белого похода», почитал Святую Русь и умирал за нее.
Но если для вас Россия — это прежде всего страна, которая совершила великую революцию 1917 года, которая якобы открыла человечеству новый, коммунистический путь развития, то ваш патриотизм уже будет советским и героями для вас будут, напротив, все те, кто разрушал старую царскую Россию и тем самым расчищал путь к светлому атеистическому будущему человечества.»[108].
Сочетание русского и советского патриотизма, однако, возможно — Путин доказал это совмещение 9 мая с новыми русскими героями имперского прошлого.
Александр Ципко идеализирует белых и демонизирует красных в Гражданской войне, предлагая разграничить в концепции белый и красный террор как принципиально различные: «Большевики убивали людей, прежде всего, за их классовую принадлежность, за возможные выступления против новой власти. Белые расстреливали людей за реально доказанное нарушение законов военного времени»[109]. А. Ципко забывает о еврейских погромах при белых и об их других цивильных жертвах. Его взгляд характерен для умеренных православных националистов-патриотов, которые склонны идеализировать Романовскую империю.
Любопытно решение в новой концепции о советской оккупации Прибалтики во время Второй мировой войны. Чтобы не употреблять термин «оккупация» используется английский «absorbton» («включение») одновременно с русским «вхождение», последний предполагает добровольность. Это напоминает об особой чувствительности русской историографии XIX века, которая вместо «колонизации» Кавказа или Средней Азия предпочитает термин «воссоединение».
Акад. Сергей Карпов считает «глубоко неправильным» определять Российскую империю колониальной: «Какая же это колониальная политика, когда мы вкладывали в присоединенные территории больше, чем получали? Россия давала образование, интеллектуальную среду, ресурсы, фактически была донором. А в отношении Европы — Россия была победительницей Наполеона и могла диктовать свою волю, но мы практически ничего не получили от этого. И это повторялось не один раз»[110].
На самом деле, сами прибалтийские республики, которые с остервенением демонизируют СССР, не испытывают никаких угрызений совести по поводу советских границ, которые им оставил Кремль, это касается в особенной мере Литвы, которая получила свою столицу Вильнюс, плюс всю свою южную территорию от Польши именно благодаря Советской армии. Это, однако, синдром, характерный для всех бывших советских республик.
Новый культурно-исторический стандарт 2013 г.[111] отвергает термин «пакт Риббентропа — Молотова» и заменяет его «договором о ненападении между СССР и Германией 1939 г.», что, даже являясь верным — не может стереть имен главных участников, однако, зависит, как будет разработан абзац в самих учебниках, которые будут представлены на конкурсе Российского исторического общества, после чего независимое жюри, в состав которого войдут ученые и общественники, проведут свою экспертизу.
Изменения терминологии и периодизация
Третьей разделительной линией являются изменения терминологии в новой культурно-исторической концепции 2013 г.
В периоде средневековой России самым интересным является удаление термина «Киевская Русь», который заменен академическим «Древняя Русь» и «Древнерусское государство». Любопытно, что на Украине, несмотря на национальные страсти, в учебниках истории «Киевская Русь» продолжает оставаться легитимным понятием.
Политкорректным объяснением «древнерусского государства» является, что это «не только славяне, но и кочевники, тюркский мир», как было признано акад. Александром Чубарьяном, это была идея казанского, т. е. татарского историка, который даже настаивал на введении термина «евразийское государство» применительно к этому периоду, но в качестве компромисса был принят новый термин «степной коридор»[112].
Действительно, не только славяне, но и тюрки являются представителями средневековой России, название «Киевская Русь» было введено как политический термин в XIX веке. С другой стороны, прямая связь «Древней/Киевской Руси» с христианством, которое является частью европейской культуры, не имеет ничего общего с тюрками в пределах России. Бесспорно, существует привнесенный татаро-монгольский элемент в русскую культуру и язык на бытовом уровне, но они не являются ведущими. Отказ от термина «Киевская Русь» — это политическое и идеологическое решение, которое не улучшит отношений с украинцами, и не удовлетворит амбиций татарских историков.
Другой термин, «татаро-монгольское иго» был заменен «системой зависимости русских земель от ордынских ханов». Цель заключалась не только в отказе от слова «иго», но и от этнической характеристики его носителей — татаро-монгол, во избежание неприятностей при интерпретации в Татарстане, что само по себе является, если не идеологическим, то чисто политическим подходом к истории, и вряд ли будет иметь ожидаемый результат.
Татарские общественные деятели не против идеологического подхода как государственнической рамки, а против доминирования «славянского», «русского» и «европейского» в истории России, которое они настаивают заменить на «евразийское». Рафаэль Хакимов, вице-президент Академии наук в Республике Татарстан: «Объективная история и экономическая потребность в рынках сбыта требуют признания евразийского характера России. Уже сегодня фактическое состояние исторического сознания среди регионов страны обнаруживает существенное расхождение в этом вопросе. Пока в российских учебниках славяне через Карпаты мигрируют в сторону Киева, а варяги спускаются по рекам в сторону Новгорода, в учебниках Татарстана уже расцветает Тюркский каганат. Все это нельзя оставить в качестве регионального компонента, поскольку задевает сущностные характеристики нынешнего государства»[113].
Желание татар в большой степени было исполнено. Новая концепция ввела определение «евразийский контекст» — «евразийское» и по отношению к средневековой истории, как и «Евразия» вместо «Россия»: «Внешняя политика русских земель в евразийском контексте, сер. XII — нач. XIII в.»; «Народы и государства Евразии в XIII и XIV вв.». В свое время «История СССР» начиналась с раннего средневековья, а не с 1922 г., сейчас в более мягком варианте и не ко всем периодам вводится история «Евразии», вместо «России».
Если до сих пор евразийская лексика была преимущественно частью геополитического словаря о векторах внешней политики России на Востоке, то с 2013 г. впервые это понятие официально было введено в периодизацию истории России, что означает его массовизирование.
До создания культурно-исторического стандарта евразийство присутствовало только в понятийном аппарате неоевразийцев из числа российских общественных деятелей — особенно у Александра Дугина, непопулярного вне консервативных сред, многозначительным является провал его партии «Евразия» (2001–2003), но показательно также и ее воскресение в 2012 г., как и намерение участвовать в парламентских выборах 2016 г. — вряд ли самостоятельно, но, вероятно, как часть Общероссийского народного фронта.
Евразийский след в новом историко-культурном стандарте, который будет служить навигатором для авторов единого учебника, заметен и в отсутствии классических определений управления Петра Великого: «вестернизация» и «европеизация», а это уже идеологическая автоцензура (я бы не назвала ее цензурой ввиду отсутствия таких указаний, очевидно, имеет место рефлексивное усердие в советском стиле).
Обход молчанием «европеизации» можно назвать даже академической неточностью, поскольку именно при Петре Россия европеизировалось в светском отношении, когда создавалось современное государство наряду с империей. В религиозном отношении Россия европеизировалась впервые при Владимире благодаря принятию христианства.
В отношении Петра I авторы стандарта использовали единственное понятие «модернизация», которую они определили как «жизненно важную национальную задачу». Вообще, для всех периодов характерно особое отношение к национальной политике.
Еще один удаленный из классической историографии термин — «Великая Октябрьская Революция», как и предшествовавший ему «Февральская» революция, обобщенный в термин «Великая Российская Революция» (1917). Здесь авторами руководит желание представить весь процесс, не рискуя спорить о том, является ли это «революцией» или «переворотом», или и обеими последовательно.
Сергей Мироненко категорически отверг новое понятие «Великая революция» и предложил назвать ее «Русская революция 1917 г.», поскольку не считает это событие «великим»[114]. Владимир Козлов, член-корреспондент РАН, выражаясь нейтрально, обрисовал пять подходов к изучению «революции 1917 г.», и также, как и Мироненко, прежде всего, акцентируя внимание на документальном подходе[115].
В отношении новой России в концепции также была предложена своя периодизация: 1991–1993, «постсоветская Россия»; 1993–2000 и 2000–2012. Ограничить «постсоветскую Россию» периодом Августовской республики (1991–1993), которая даже не присутствовала в виде термина, представляется весьма искусственным и необоснованным, как хронологически, так и тематически. Логика, согласно которой принятием новой конституции 1993 г. завершается постсоветский период, лишена аналитического комментария.
Второй верхней границей временных рамок «постсоветской России» является 2012 г., предложенный самим Путиным при его третьем вступлении в должность президента, что является более основательным.
Третьей верхней границей временных рамок «постсоветской России» я была склонна принять, 2018 г. (или 2024 г., если он выдвинет свою кандидатуру на следующих президентских выборах), поскольку личностный фактор в истории России всегда был очень сильным, а в данном случае фактор «Путин» является не менее важным. Сам он вряд ли может убежать от самого себя, а его поведение с просвещенным авторитаризмом в консервативном стиле и прагматичной внешней политикой невозможно определить иначе, кроме как «постсоветское». Но после присоединения Крыма считаю, что 16 марта 2014 г. является верхней границей временных рамок постсоветской России ввиду исключительного влияния этого факта, как во внешней, так и во внутренней политике России в дальнейшем.
Из политкорректных соображений в новом стандарте отсутствует определение «переворот» о событиях октября 1993 г., когда Ельцин стрелял танками по Белому дому и таким образом дал начало президентской республике. Навязывается понятие «трагические события в Москве», октябрь 1993 г., что само по себе может быть использовано в отношении многих эпизодов российской и советской истории, является безличным, и, по меньшей мере, неаналитическим, что, несомненно, не могло бы стимулировать мышление учеников.
Удаляется и получившее уже гражданственность понятие «Чеченская война» 1–2. Первая чеченская война при Ельцине (1994–1995) получает термин «военно-политический кризис», а вторая чеченская война (1999) — «военный конфликт».
Если сравнивать с Кавказской войной XIX века, действительно их с трудом можно назвать войнами, но причина избегания термина не столько в продолжительности, сколько в смысле слова «война», она легко может связаться с «национально-освободительной» или «сепаратистской», в зависимости от точки зрения, тогда как «конфликты» и «кризисы» существуют в любое время во всех странах.
Политическая или ежедневная история: государство или человек в истории?
Одним из способов, если не избежать разделительных линий, то, по крайней мере, тушировать их, являются дискуссии о методологическом подходе к российской истории. Всеобщую поддержку находит предложение избежать монополии политической истории, и обратить внимание на повседневную жизнь, и на примере человеческих судеб проиллюстрировать государственное развитие. Разнообразится политическая история культурологическим и антропологическим подходом, что является плюсом, и только обогатило бы учебник для средних школ, при этом сохраняется хронологический, или линейный подход, в отличие от англо-саксонской модели.
Споры ведутся главным образом о том, какое направление должно преобладать — государствен-ническое или культурологическое. Акад. Сергей Карпов защищает государственнический подход, понимая его как прагматический и зависимый от «вековых геополитических интересов России»: «Под геополитическими интересами России я подразумеваю не политику современного руководства, а основной вектор развития российской государственности, расширение территории на север, восток, запад и юг. Это были векторы развития, и надо понимать и объяснять, почему и в какие периоды они были именно такими. Поэтому нельзя уйти от того, чтобы мы четко и ясно говорили о социально-экономических процессах.»[116].
Принесет ли, однако, эффект единый учебник в формирование исторической грамотности российской молодежи? Самуил Шурухт, бывший учитель истории, не без грусти констатирует, что «наши дети учатся не для того, чтобы получать знания, а для того, чтобы сдать ЕГЭ. По недавно утвержденному федеральному госстандарту (ФГОС) история — предмет для сдачи «по выбору».
Самуил Шурухт прилагает и безжалостную статистику: «В 2013 году ЕГЭ сдавали 783 тысячи школьников, из них историю выбрала 141 тысяча -18 % от общего числа. […] А если добавить, что 12 % сдававших ЕГЭ по истории его с позором завалили, то становится не совсем понятно, каким образом учебно-методический комплекс повысит уровень исторического образования»[117].
Программируемый патриотизм
«Каноническая» история является частью программирования патриотизма как новой идеологии постсоветской России и является симптомом самой важной проблемы для россиян после 1991 г. — национальной. В XX веке, да и не только (1812), Россия показала, что ни одно государство или группа государств не в состоянии завладеть ею извне, но сама она может быть разрушена изнутри, если пожелает этого — так произошло и в 1917 г., и в 1991 г, и в обоих случаях национальный фактор был особенно сильным.
Идеология, однако, всегда умерщвляет патриотизм, независимо от своих аспектов — левых, правых центристских и пр. Неслучайно и современная идеология, воцарившаяся после окончания Холодной войны — глобализация, выступает против патриотизма и суверенитета национальной памяти, неолиберальный универсализм на рынке противопоставляется социальным функциям государственности.
Высокая культура престижна и может быть доступной для всех только благодаря государству, рынок ориентируется на массовый вкус, который далек от классики во всех отношениях. Государство поощряет теоретическую и фундаментальную науку (стратегия будущего), которая проигрывает на рынке, ориентированном на прикладную науку (тактика сегодняшнего дня).
На фоне этой новой битвы XXI века — битвы между рынком и государством, заменившей битву за разделение властей и демократии (с 1789-го до 1991-го), Россия выбрала для себя определение «социальное государство» (по конституции 1993-го), с одной стороны, а с другой — ориентировалась на патриотизм как защитный механизм от глобализации по западному образцу. Поскольку сама Россия предпочитает свою модель глобализации — евразийскую, которая прагматична, но и консервативна как идеология в противовес неолиберализму.
Евразийство, однако, может быть успешным только во внешнеполитическом плане, как российская версия глобализации, причем прагматичной, каковой она являлась до сих пор, а не идеологической, тогда как во внутриполитическом плане следует сделать ставку на восстановление понятия «русская» культура, а не «российская», следовательно, и на реабилитацию понятия «русский» наравне с понятием «россиянин»; первое должно остаться для отражения национальной принадлежности — русский это тот, кто является частью русской культуры, независимо от своих этнических корней, тогда как понятие «россиянин» останется для отражения гражданской/политической принадлежности.
Национальная идея постсоветской России, которая бы нейтрализовала национальный фактор дестабилизации государства, не может быть ни «евразийской», ни «российской», а только «русской», как часть русской культуры, которая является европейской!
Архивы в России после распада СССР: от «информационной революции» к засекречиванию
Распад СССР в 1991 г. вызвал потрясения, которые не обошли стороной и один из самых консервативных институтов — архивную систему. Начало 90-х определяется как «архивная революция»[118], «информационный взрыв», «археографический взрыв»[119] в «новом архивно-информационном пространстве». В 1997 г. появился и термин «архивная контрреволюция», или «великий перелом»[120].
Хронологически архивную революцию можно разделить на три основных периода — с конца 80-х годов до августа 1991 г., с августа 1991 до середины 90-х годов, и со второй половины 90-х до октября 2004 г., когда был принят закон об архивах в Российской Федерации (РФ). В первый период реформа проводилась по советскому образцу середины 50-х годов. Второй период является временем истинной архивной революции, когда преобладали проблемы, связанные с рассекречиванием документов. Третий период был посвящен главным образом выяснению нового понятийного аппарата и подготовке нового законодательства. Если для первых двух периодов характерно общественное и политическое давление, то в третьем налицо рутинное административное решение реформы в архивах.
Архивная революция имеет следующие аспекты:
• создание новых архивов;
• принятие нового архивного законодательства, установление критериев секретности;
• создание нового понятийного аппарата, который подчинен ее основным целям;
• рассекречивание документов с истекшим сроком давности;
• преодоление ведомственной монополии на архивы.
Архивная реформа началась с началом перестройки при Михаиле Горбачеве, когда правительство разделяло общественные настроения, направленные на «рассекречивание документов», как часть реабилитации жертв политических репрессий. Еще в конце 80-х годов были рассекречены документы по раскулачиванию, выселениям и переселениям — все они доступны с начала 90-х годов, однако доступ к ним затруднялся ввиду отсутствия описей, или «инфраструктуры»[121].
Еще одной проблемой с самого начала перестройки являлось наличие дел «ограниченного доступа», помимо засекреченных. Дела с «ограниченным доступом» являются важной частью практики ведомственного ограничения доступа к документам. Руководства министерств и ведомств, по согласованию с Главным архивом СССР, превратили документы в дела с «ограниченным доступом», учет которых не велся. Примерно к середине 80-х годов в 14 ведомствах существовало свыше 1 100 000 единиц хранения[122].
В 1986 г. Главный архив СССР ввел в действие «Инструкцию о работе государственных архивов с секретными документальными материалами», которая закрепила существование дел с «ограниченным доступом». Ведомственный контроль над доступом к документам облегчался и отсутствием юридической ответственности за неправильное присвоение грифа «совершенно секретно»[123].
Горбачев не затмил «хрущевскую оттепель» архивов, начало которой было положено 7 февраля 1956 г. постановлением Совета министров «О мерах по упорядочению режима хранения и лучшему использованию архивных материалов министерств и ведомств» и которая закончилась — согласно одному мнению — еще в 1961 г.[124] призывами начальника Главного архива СССР к «бдительности» при допуске исследователей к архивным документам и к «правильной политической оценке», а согласно другому — в 1966 г.[125] «Инструкцией о работе государственных архивов с секретными документальными материалами». Перестроечная волна затронула только государственные архивы, но не партийный архив КПСС, который оставался открытым только для избранных.
Подлинное рассекречивание архивов началось при драматических обстоятельствах: после осады Белого дома в августе 1991 г. по указам президента «Об архивах Комитета государственной безопасности СССР)» и «О партийных архивах». В октябре 1991 г. начала свою работу Комиссия при Верховном совете РСФСР во главе с председателем Дмитрием Волкогоновым, которая должна была организовать передачу и прием на государственное хранение документов КПСС и КГБ. Основные задачи комиссии следующие
• определить виды архивных документов, в том числе хранившихся в действующих подразделениях, подлежащих передаче на государственное хранение;
• подготовить и представить на утверждение Президиума Верховного совета РФ временный регламент использования в научных и практических целях архивных документов КПСС и КГБ;
• установить, что данные регламенты действуют до принятия закона РФ «О государственной тайне».
Осенью 1991 г. была предпринята безуспешная попытка историка Юрия Афанасьева создать международную комиссию специалистов в области советской истории для изучения новой архивной информации.
Массовое рассекречивание документов началось после указа президента от 14 января 1992 г. «О защите государственной тайны», установившего 50-летний срок давности, когда старые архивы уже были трансформированы в новые. Центральный партийный архив превратился в Российский Центр хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ), затем на основе 7-го сектора Общего отдела ЦК КПСС был создан Центр хранения современной документации (ЦХСД).
Неизвестный общественности и исследователям т. е. «Особый архив», или ЦГОА, был превращен в Центр хранения историко-документальных коллекций (ЦХИДК). О ЦГОА, или Особом архиве (сверхсекретное хранилище трофейных документов из 20 европейских стран) до перестройки не упоминалось ни в одном справочнике — до цикла «Пять дней в Особом архиве» журналистки Е. М. Максимовой[126].
Бывший Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР) вместе с Центральным государственным архивом РСФСР были объединены в Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). В настоящее время в ГАРФ хранится свыше 6 млн. дел, а длина полок достигает 80 км. Путеводитель по фондам Государственного архива составлялся в течение нескольких лет, и вместился в 6 томов. По своей структуре ГАРФ состоит из нескольких частей. В первой (1 млн. дел) содержатся материалы по истории Российской империи до 1917 г.: отчеты тайной политической полиции, доклады карательных органов, боровшихся с революционным движением, и папки Верховного уголовного суда, рассматривавшего дела декабристов, архивы российских императоров и великих князей — от Александра I до Николая II. Вторую часть составляют материалы государственной власти СССР. Третья состоит из полутора миллионов дел и документов РСФСР. Отдельно в ГАРФе — материалы по истории Белого движения и русской эмиграции.
К началу 1992 года в России насчитывалось 17 федеральных архивов.
Вне системы, однако, остались бывший архив Политбюро ЦК КПСС, который был превращен в президентский архив СССР, а впоследствии и в архив РФ, и архив КГБ, что явилось первым симптомом архивной контрреволюции!
К августу 1991 г. структура архивов КГБ имела два уровня — центральный архив и архивы областных управлений. Вне Центрального оперативного архива КГБ существует и отдельный архив — центральной службы разведки — бывшее Первое главное управление КГБ. При Центральном архиве и при региональных архивах КГБ всегда существовал и отдельный фонд дел исторического значения или представляющих оперативный интерес.
Документы архивов служб подразделяются на следующие группы:
1. Архивно-следственные дела с 1918 до 1991 г. Часть этих дел отражает репрессии против граждан СССР. Московский КГБ насчитывает около 100 000 архивных единиц хранения, из которых 67 тыс. — т. н. прекращенный фонд, т. е. дела, по которым вынесены решения о реабилитации, или обвинение снято по тем или иным причинам, например, обвиняемый признан невменяемым.
2. Фильтрационные дела. (Фильтрационные и трофейные материалы.) Все советские граждане, которые находились на оккупированных территориях, в лагерях для военнопленных или были угнаны или добровольно отправлялись на работу в Германию, по своему возвращению в СССР проходили проверку в проверочно-фильтрационных лагерях. На них составлялись опросные листы, а впоследствии во многих случаях к ним добавлялись какие-то материалы и, таким образом, в сущности, заводилось проверочно-фильтрационное дело. В Москве по таким делам насчитывается 55 тыс. архивных единиц хранения + 10 тыс. трофейных архивных единиц, т. е. персональных карточек и других учетных материалов, изъятых Советской армией из немецких лагерей. Эти анкеты (карточки) были расформированы и разосланы по областям, из которых человек уходил в армию, или по месту его рождения. Эти 10 тысяч единиц архивного хранения в Московской области не нашли своего применения, т. е. эти граждане не вернулись домой и проверочно-фильтрационные дела против них не были заведены.
3. Секретное делопроизводство. В секретное делопроизводство вошли материалы из городских и районных отделов КГБ. В Москве этот фонд содержит всего 19 375 единиц архивного хранения.
4. Личные дела сотрудников КГБ. Срок хранения не ограничен.
5. Оперативно-следственные дела — оперативные разработки, личные дела агентуры и т. д.
С 5-го сентября 1991 г. архивы КГБ были опечатаны. При мэрии Москвы была создана комиссия, которой надлежало регламентировать передачу архивов спецслужбам. Ситуация в связи с ревизированием фондов КГБ осложнялась неясностью: какие виды документов и до какого года подлежат изъятию из архивов КГБ и передаче на государственное хранение, а какие следует оставить в подразделениях КГБ.
Ведомственная политика КГБ по отношению к архивам не была направлена ни на благо истории, ни на благо архивистов. Ввиду специфики тайных служб, в КГБ бытовала практика не хранить для вечного пользования часть дел. Документация общего порядка в райотделе КГБ хранилась всего 20 лет, после чего уничтожалась. Хранились только описи дел. По этому принципу уничтожено дело академика Андрея Сахарова — более 300 томов, дело Александра Солженицына, Владимира Войновича.
Практика уничтожения архивов была распространена в НКВД в 30-е годы. Согласно переписке Бонч-Бруевича с Ягодой, Ежовым и Берия за период 1935–1939 г. сотрудники НКВД сжигали документы сразу же после ареста их владельцев — деятелей культуры, науки и др. Упоминается о ценных рукописях, уничтоженных противозаконно, в связи с чем Бонч-Бруевич наивно просил именно органы НКВД извлечь «необходимые организационные выводы», после чего был уволен с поста директора Литературного музея[127].
Кроме того, в этом ведомстве существовал свой типовой перечень-инструкция по документам и срокам их хранения. Предпоследний перечень, регламентировавший все делопроизводство КГБ, в декабре 1979 г. был утвержден Андроповым. Следующий перечень был утвержден Крючковым в ноябре 1991 г. Были значительно сокращены сроки хранения дел в архивах КГБ и сужена номенклатура дел, подлежащих передаче в архив, т. е. большая часть дел не попала в архив, а была уничтожена непосредственно в действующих подразделениях[128].
На основании президентского указа от 24 августа 1991 г. и решения Комиссии при Президиуме Верховного совета об организации передачи-приема архивов КПСС и КГБ от 23 января 1992 г. в Центральном оперативном архиве (ЦОА) подлежали рассекречиванию следующие категории дел: фильтрационно-проверочные дела советских граждан, попавших в плен в Германии, трофейные документы, архивно-следственные дела только реабилитированных и др. Не была реализована идея создания Российского центра хранения и изучения документов служб государственной безопасности как федерального архива на базе ЦОА. Решение комиссии осталось на бумаге.
Отсутствие нормативной базы, регулирующей деятельность ЦОА КГБ, создавало условия «архивного пиратства» (несанкционированная продажа документов за рубеж), что привело к политическим спекуляциям — «большая политика» постепенно поглотила идею свободы информации. Это напоминает ситуацию в Болгарии, когда неоднократные попытки «рассекречивания досье» привели к злоупотреблениям и компроматам, но не к доступу исследователей к ним.
Спекуляция архивными документами вызвала скандал в Украине, который омрачил и без того хрупкие российско-украинские отношения. В феврале 1992 г. газета «Литературная Украина» опубликовала материал «Выслать в отдаленные края Союза ССР всех украинцев…», представленный как приказ НКВД и НКО от 22 июня 1944 г. (несмотря на то, что в 1944 г. не существовало специальных отделов НКВД, а имелись отделы «СМЕРШ»). Автор воздержался цитировать последние строки документа: «Украинцы! Этот приказ находится в руках Германского Верховного Командования», т. е. речь шла о немецкой пропагандистской листовке, а не о плане депортации украинцев советской властью[129].
Первый документ, регламентирующий доступ исследователей к архивной информации, датирован 29 мая 1992 г., когда коллегия Комитета по вопросам архивов приняла Временное положение «О порядке доступа к архивным документам и правилах их использования». Впервые вводился 30-летний срок давности документов с грифом «совершенно секретно» и 75-летний срок давности в отношении документов, затрагивающих права личности. Через 50 лет документы могут быть рассекречены и комиссиями государственных архивов. 23 июня 1992 г. был опубликован президентский указ «О снятии ограничительных грифов с законодательных и иных актов, служивших основанием для массовых репрессий и посягательств на права человека».
В мае 1992 г. под руководством Михаила Полторанина была создана комиссия по архивам президента, которая должна была подготовить документы из архива КПСС по делам репрессированных для Конституционного суда. Коллекция комиссии, насчитывавшая около 6 тыс. документов, сгруппированных в 3613 дел, была передана на открытое хранение в ЦХСД. 30-летний срок давности некоторых дел не истек, другие не имеют отношения «к делу КПСС» — это один из немногих случаев, когда непрофессионалы-чиновники помогли будущим исследователям — административная оплошность в пользу истории!
В 1993 г. был принят первый закон («Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде») об архивном деле в России, имеющий демократическую основу. Он предусматривал свободный доступ к архивам для каждого гражданина РФ, а также и для иностранных исследователей. В России был введен не разрешительный, а регистрационный принцип доступа к архивам.
В тот же год был принят и закон «О государственной тайне». Документы с грифами «секретно», «совершенно секретно» и «совершенно секретно особой важности» должны храниться в специальных помещениях, куда никто не может заходить в одиночку, даже директор архива. Для работы с ними была создана внутриархивная комиссия из трех человек. По мнению бывшего директора ГАРФа, Сергея Мироненко, за последние 12 лет в архиве была проведена огромная работа по снятию «необоснованных грифов»[130].
В соответствии с законом о государственной тайне, через 30 лет все грифы утрачивают смысл. Процедура по рассекречиванию документа, однако, не установлена, из чего не становится ясно, что происходит с документами по истечении 30 лет. Закон допускает и продление срока давности. Закон не мешает чиновникам разработать дополнительную процедуру рассекречивания, которая бы препятствовала архивистам предоставлять документ исследователю. Другой стороной проблемы является то, что ряд все еще засекреченных документов не содержит государственной тайны. Партийное делопроизводство автоматически засекречивало каждую бумажку[131]. По мнению Сергея Мироненко, выходом является принятие закона о свободном доступе к информации, который разрушил бы «анекдотичную формулу» силовых ведомств: «публикация документа не является основанием для его рассекречивания»[132].
Один из позволенных законом способов рассекречивания дает такое право не только ведомству, создавшему документ, но и пользователю — исследователь может не согласится с решением ведомства и потребовать через суд рассекречивания интересующих его документов. Это пока что остается лишь теоретической возможностью, поскольку, по мнению Татьяны Павловой (Начальника Управления комплектования, организации услуг и архивных технологий Росархива), таких прецедентов нет[133]. Единственным исследователем, который борется за свои права в судебном порядке и пытается преодолеть чиновничью монополию на рассекречивание (в данном случае в ЦАМО), является Георгий Рамазашвили.
В перечень сведений, отнесенных к гостайне, в соответствии с законом о государственной тайне, попадают и сведения о кадровом составе ФСБ. Даже в советский период информация о сотрудниках КГБ была ведомственной, а не государственной тайной. Изменение статуса препятствует предать гласности имена всех палачей времен репрессий.
В 1992 г. Дума приняла закон «Об оперативнорозыскной деятельности», определенный Никитой Петровым «новаторским», поскольку впервые не ведомственная инструкция регламентировала оперативно-следственную деятельность, а общероссийский нормативный акт. В соответствии с этим законом человек, против которого КГБ проводил оперативную разработку (а зачастую разработка не завершалась только арестом), имеет право запросить эти материалы и получить их для ознакомления, хотя и без выявления источников информации. Именно это положение закона, однако, на слушаниях в Думе в 1995 г. было изменено. В соответствии с поправкой закон дает право запрашивать такую информацию только гражданину, против которого было возбуждено уголовное дело, и который был оправдан, или если прокурор отказался возбудить уголовное дело. То есть, только лицам, чья вина не была доказана в установленном законом порядке. Большая часть граждан, которые разрабатывались службами, уже не смогут получить материалы по своим делам[134].
25 августа 1993 г. Государственная архивная служба утвердила «Регламент доступа к материалам прекращенных уголовных и фильтрационно-проверочных дел в государственных и ведомственных архивах РФ» (речь идет об уголовных делах лиц, подвергшихся политическим репрессиям). Понятие «право на доступ» означает право на ознакомление, копирование и использование в научных, юридических и «других некоммерческих целях» и на публикацию.
Осенью 1993 г. Комиссия по рассекречиванию документов КПСС и КГБ под председательством Д. Волкогонова прекратила свое существование, не выполнив полностью указы президента от августа 1991 г. На государственное хранение были переданы только архивы КПСС, но не КГБ, которые остались у его преемника — ФСБ, и доступ к которым регламентируется сотрудниками спецслужб, а не законом. Архивы КГБ подверглись массированной чистке еще в середине 50-х годов, результаты которой не ясны и по сей день[135].
Конфликт между архивистами и бюрократами разрешился в пользу вторых, которые добились для себя права на ведомственное хранение исторических документов. Министерство обороны, Министерство иностранных дел и ФСБ получили право на депозитарное хранение, а в Президентском архиве (АПРФ) и архиве Министерства иностранных дел — и право на постоянное хранение. Сохранилась и система «информационных привилегий».
По отношению к первым проявлениям «архивной контрреволюции» существуют две точки зрения — Владимира Козлова о начале 1994 г., и Никиты Петрова о 1995 г. Наиболее подходящей датой, однако, является осень 1993 г. — поражение комиссии Дмитрия Волкогонова.
Следствием этого поражения является и парадоксальная ситуация, при которой копии документов с грифом «совершенно секретно», выдававшихся Волкогоновым, получившим полномочие от президента и передававшихся в архивные службы США, легче было прочитать в библиотеке Конгресса, нежели в архивах России[136].
В сентябре 1994 г. по распоряжению президента была создана Комиссия по рассекречиванию документов КПСС — структурное подразделение «Государственной технической комиссии при президенте РФ», которая была наделена и функцией защиты государственной тайны. В июне 2001 г. указом президента комиссия была распущена, а вместо нее создана Межведомственная комиссия по защите государственной тайны, которая приняла на себя функции по рассекречиванию. С одной стороны, со второй половины 1994 г. рассекречивание проводилось вдвое быстрее до 1996 г., когда комиссия прекратила свою работу и не была заменена другим органом. С другой стороны, однако, комиссия приняла «Правила рассекречивания документов, созданных КПСС», которые опирались на постановление Президиума Верховного совета РФ и вопреки Закону «О государственной тайне» продлевали установленный 30-летний срок еще на 18 лет (всего 48) документов «в области атомной науки и техники», а документов внешней разведки — на 50 лет от даты их издания. Был использован и термин «автоматическое рассекречивание» в негативном смысле — «не подлежат автоматическому рассекречиванию…».
По мнению директора Особого архива, Анатолия Прокопенко, в середине 90-х годов уже была возрождена «добрая» советская традиция тайно передавать отдельные документальные фонды из одних архивов в другие, для того, чтобы ввести в заблуждение российских и зарубежных исследователей[137].
Окончательной победой ведомств явилось соглашение между Государственной архивной службой и ФСБ в августе 1995 г., в котором не были указаны никакие сроки давности, несмотря на наличие Закона о государственной тайне. Был введен и новый термин — «целесообразность рассекречивания», что является лишь фразеологическим маркером бюрократического всевластия[138]. Навязывалась теория «сбалансированного рассекречивания», согласно которой недопустимо, чтобы рассекречивание больших комплексов документов в одном архиве опережало аналогичную работу в другом ведомстве, где хранятся схожие по составу и содержанию документы того же периода[139].
С Законом о государственной тайне не считалось и другое важное ведомство — Министерство обороны, которое ввело свои правила работы в своем архиве (ЦАМО). Правила работы в читательском зале ЦАМО и приказ министра обороны № 270 «Об утверждении наставления по архивному делу в вооруженных силах РФ» от 4 июля 1996 г. включали новые категории к принятым законом секретными. Для доступа исследователей была запрещена следующая документация: служебно-должностные характеристики; служебные аттестации; карточки с наложенными взысканиями, а также сведения о взысканиях; переписка по должностным назначениям, присвоение воинских званий, награждение; нереализованные наградные листы; политические доносы; разведсводки армии и Штаба ВВС Красной армии; протоколы допросов военнопленных; документы военной прокуратуры; учетные карточки осужденных военным трибуналом; советские листовки на немецком языке; трофейные немецкие каталоги советских военнопленных; трофейная документация Вермахта, а также имена убитых в бою или взятых в плен солдат и командиров противника.
Приказ № 270 злоупотреблял и неопределенными формулировками — говорится о «компрометирующих» сведениях, «затрагивающих охраняемые законом интересы, честь и достоинство лица», а Правила даже запрещают исследователям общаться друг с другом. Архивисты цензурируют записки исследователей — главным образом российских, которым запрещено использовать ноутбук — в отличие от зарубежных специалистов[140].
Ни Правила (как и 1991, так и 2004 г.), ни приказ № 270 не были согласованы с Федеральной архивной службой и не были зарегистрированы в Министерстве юстиции. Даже руководитель Федеральной архивной службы Владимир Козлов не мог принудить военное ведомство соблюдать законы.
Ситуация в ЦАМО в 2004 г. очень напоминает цензуру в отношении архивных документов 50-х годов, когда предоставление документов в читательском зале было возможно с разрешения начальника архива, а сделанные исследователями выписки архивных документов и их копии выдавались им лишь после просмотра[141].
В советский период цензура контролировалась т. н. Перечнями Главлита. Там было четко прописано, какие темы не подлежали публикации в открытой печати (сведения о боевом и численном составе вооруженных сил в годы войны, о потерях в личном составе и боевой технике не только за военный период, но даже в отдельных операциях, о численности военнопленных, сведения об их судьбах и многие другие).
Перелом произошел в 1987 г., когда было признано, что ряд засекреченных сведений в связи с давностью утратили актуальность. С тех пор началось издание ряда документальных публикаций о деятельности советских спецслужб в годы войны. Историкам стали доступны архивные материалы о планах СССР накануне войны, о причинах поражения советских войск в ее начальный период, о военнопленных, о немецкой системе организации власти на оккупированных территориях…[142].
В октябре 2004 г. министр обороны РФ издал приказ «О рассекречивании архивных документов, содержащих сведения о военнослужащих, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов»[143]. Приказ был издан во исполнение поручения Президента РФ от 23 апреля 2003 г. № Пр-698. От президентского поручения до приказа министра прошло полтора года. Начнет ли Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО) раскрывать тайны Второй мировой войны, как об этом указано в приказе конца 2004 г., предстоит увидеть.
Еще одной проблемой при рассекречивании является непреложное правило: рассекретить сведения может только тот орган или организация, которые их засекретили. Если этих организаций уже не существует, рассекречивание становится прерогативой специальной межведомственной комиссии по защите государственной тайны — МВК.
Руководитель Федерального архивного агентства В. Козлов не был включен в состав МВК, поскольку не имел права на засекречивание и рассекречивание!
В подчинении Федерального агентства находилось шестнадцать государственных архивов, но ни один из них не имеет права по собственной инициативе снять гриф с чужих материалов, доверенных им на хранение. Это можно было сделать только в установленном порядке — получив полномочия от органов и организаций, которые сами имели полномочия по отнесению сведений к государственной тайне.
Например, из архива МВД в государственный архив были переданы т. н. «Особые папки» Сталина, Берии и других руководителей СССР за 1944–1945 г., содержащие доклады, информацию от органов внутренних дел, которые позволяют судить о ситуации в стране на заключительном этапе войны. («Особая папка» — это тип документа, степень секретности. «Особая папка» существовала и в Политбюро, и в правительстве, и в министерствах. В протоколах заседаний Политбюро можно прочитать: «Слушали. Постановили. Решение — «особая папка». Даже для членов Политбюро эта была высшая степень секретности, ввиду чего материалы Политбюро хранились не в одном делопроизводстве, а в нескольких.[144])
МВК рассекречивало эти материалы, но где хранятся материалы «Особой папки» более раннего периода, до 1941 г., все еще не известно исследователям и архивистам! Руководитель Россархива Владимир Козлов предполагал, что они остались в ведомственном архиве ФСБ, который, однако, уже не в «епархии» Россархива[145].
В. Козлов предложил статистику рассекреченных документов: всего в стране в 1992 г. рассекречено 2 600 000 дел, в 1993 г. — 600 тысяч, 1994 г. — 800 тыс., 1995 г. — 663 тыс., 1996 г. — 450 тыс., 1997 г. — 450 тыс., 1998 г. — 685 тыс., 1999 г. — 643 тыс., 2000 г. — 921 тыс., 2001 г. — 562 тыс. Всего за 10 лет рассекречено 8 574 000 дел. Процент сохранившихся, по мнению Козлова, в пределах 2 миллионов. В основном это документы бывшей КПСС.
В 2002 г. В. Козлов прямо сказал, что не удовлетворен темпами рассекречивания документов КПСС: «Перечень документов, предназначенных для рассекречивания, был направлен своевременно в межведомственную комиссию по защите государственной тайны. Но ни одного документа из этого перечня рассекречено не было.»[146]
Более того, наблюдался процесс обратного засекречивания уже рассекреченных документов. Речь идет о документах ЦК КПСС. Оправданием, как считает Татьяна Павлова, послужило то, что была проведена экспертиза ценности[147]. С одной стороны, партийные документы являются и документами государства, что объясняет опасения архивистов по поводу того, чтобы не стал доступен документ, хранящий государственную тайну. С другой стороны, однако, требование проводить экспертизу каждого документа, подлежащего рассекречиванию, является абсурдным даже с точки зрения физического времени — только документы в архиве Министерства обороны насчитывают приблизительно 10 млн. дел. Это очередной пример, как закон может носить декларативный характер, а для вступления в силу должен преодолеть административную процедуру.
9 мая 2005 г. в России отмечалось 60-летие победы в Великой Отечественной войне. Интерес российской общественности к судьбе архивов был особенно высоким. Проводились обсуждения данных о жертвах войны, которая не обошла стороной ни одну советскую семью. Официальные данные менялись несколько раз, цифры исследователей различны. Неизвестно точное число погибших из заграждающих отрядов. По поручению президента РФ в ответ на общественный интерес и в связи с годовщиной следовало рассекретить еще документы военного периода. 27 апреля собрались представители силовых ведомств, которые решали, какое дело рассекретить, а какое оставить в тайне[148]. Не будет ли мешать гриф «совершенно секретно» специалистам по Второй мировой войне, все еще остается риторическим вопросом.
Утешением для исследователя служит тот факт, что самодержавная Россия также, как и советская, является государством с огромным бюрократическим аппаратом, с огромным делопроизводством: документы повторяются, проводятся по регистрам, существуют копии, которые тогда называли термином «отпуск», и т. д. Отсюда и практическая невозможность, по мнению Сергея Мироненко, уничтожения документов ввиду наличия описей, всегда есть по два-три экземпляра[149].
Помимо толкования Закона о государственной тайне, у архивистов и историков возникали проблемы, связанные с тайной личной жизни, о чем есть общее определение в Законе об архивах — не подлежат разглашению сведения о здоровье, личной жизни гражданина и его имуществе, доступ к которым ограничен на 75 лет. Проблема в том, что делать с партийными архивами, большую часть которых составляют партийные досье и дела. Другая проблема возникает и из информации, содержащейся в КПК (комиссия партийного контроля), занимающейся делами сугубо интимного характера. Если исследователь интересуется работой комиссии в целом — документы доступны, если он интересуется конкретной личностью, тогда нарушается «личная тайна». Ситуация парадоксальна, тем более, что речь идет об умерших людях. Отсутствуют четкие критерии в отношении этой информации.
Личные архивы всегда представляли особый интерес для властей, и порой архивистам приходится платить своей карьерой и свободой за добросовестное выполнение своей работы. Анатолий Прокопенко описал случай, имевший место во времена Брежнева. В 70-е годы «был брошен клич: соберем и сохраним для потомков личные архивы выдающихся советских людей.». Архивы начали пополняться грамотами героев социалистического труда и т. д. Архивист В. Соколов, однако, отыскал личные архивы государственных деятелей — бывших председателей КГБ Игнатьева и Серова, прокурора Вышинского и др. Для того, чтобы заставить его отказаться от этой деятельности, власти состряпали против него обвинение, связанное с филателией и международной контрабандой. Соколов шест лет просидел в тюрьме, после чего его оправдали, но на его деле осталась запись «осужден за другие деяния», а также и гриф «совершенно секретно»[150].
Отсутствие критериев личной тайны привело к опасной тенденции крайне расширенного и «творческого» толкования некоторыми архивистами тайны личной жизни, которая используется как основание для отказа в предоставлении документов. Излишнее засекречивание привело к «мифологизации документов»[151].
Наряду с процессом «мифологизации» протекал и процесс «демифологизации» исторических мифов — об агенте Сталине, например. Архивистка Зинаида Перегудова на основании документов Охранки и тайной полиции убедительно доказала, что Сталин не был секретным сотрудником охранного отделения в Баку, и ему не принадлежала кличка «Фикус». Исследовательница доказала и то, что известное «письмо Еремина», «уличающее» Сталина в связях с Департаментом полиции, является фальшивкой. Письмо было отправлено начальнику Енисейского охранного отделения, какового в 1913 г. не существовало. Исходящий номер письма — «2998», тогда как номера специальной корреспонденции Особого отдела начинались с № 93001, и т. д.[152]
Сергей Мироненко развенчал и миф об убийстве Сталина. Предстоит издание подробной четырехтомной документальной биографии Иосифа Виссарионовича под руководством акад. Александра Фурсенко, в которую войдут воспоминания охранников, находившихся на даче во время его смерти, воспоминания членов Политбюро, медицинские документы и др.[153]
Еще одной проблемой, связанной с рассекречиванием, являются критерии «интеллектуального доступа» к информации. Дело доходило до комических ситуаций — рассекречены и изданы решения Политбюро ВКП(б) конца 20-х — начала 30-х годов, связанные с коллективизацией и раскулачиванием, а документы середины 30-х годов остаются нерассекреченными…[154].
Отсутствуют и четкие критерии понятий «особо ценный документ» (ОЦД). Попытки терминологического определения ОЦД предпринимались в 80-х годах[155]. Определение стандартное — все документы, «потеря которых невосполнима» и имеющие государственное и научное значение. Различные архивы, однако, занимают различные позиции[156]. Некоторые архивоведы считают, что «уникальность» — это высшая степень «ценности», и применяют критерии экспертизы ценности[157]. Ведутся споры, и относительно критериев экспертизы документов.
Архивистика — это основное ремесло исторической профессии. Если работа историка видима, то работа архивиста остается в тени. Историк является интерпретатором своего видения истории, однако партитуры в большинстве случаев подготовлены архивистом. Без источников Клио бессильна. Безусловно, не все источники находятся под контролем архивистов, что и защищает историю от монополии на прошлое. Роль хранителя, который не только хранит, но и создает критерии подбора документов, дает архивисту прерогативы и ответственность, которые, однако, в России он разделяет с другими институтами власти, и остается зависимым от него. Отсюда для историков главной проблемой архивов в постсоветской России остается рассекречивание и преодоление максимы: «В России всё секрет и ничего не тайна».
Глава вторая Моделирование российской идентичности
2.1. Моделирование национального образа после 1991 г.: символика, праздники, психоистория
«В России не было счастливого настоящего, а только заменяющая его мечта о счастливом будущем»[158]. Этим обобщением относительно судьбы русской нации академик Дмитрий Лихачов оказался невольным последователем философии жизни Льва Толстого: «Есть только сейчас». После распада СССР Россия отказалась от мечты о «светлом коммунистическом будущем», дискредитированной советской системой, и занялась поисками этого «сейчас», или «счастливого настоящего».
Однако катаклизм 1991 г., равнозначный национальной катастрофе, — от геополитического до личностного масштаба — глубоко фрагментировал постсоветское общество. «Лихие 90-е» как называют сегодня годы правления Ельцина в 90-е годы — с шоковой терапией Гайдара, с приватизацией, разделившей общество на страшно богатых олигархов и очень бедный народ, с двумя чеченскими войнами и с нередко заставляющим испытывать стыд поведением первого Президента России, отнюдь не объединяли, а разъединяли общество новой России.
С наступлением эпохи Президента Путина престиж государства начал медленно возрождаться. Власть, следуя старым русским традициям, сакрализовалась, идеологический вакуум, возникший после 1991 г., начал заполняться идеологией патриотизма. «Сбережение народа» — важнейшая государственная цель, стоящая перед Россией, выдвинутая Александром Солженициным, стала частью национальной идеи в понимании Путина[159].
Каким, однако, будет патриотизм новой России: русским или российским, славянским или евразийским? Уже в начале правления Ельцина власть ввела в обращение понятие «россиянин» в качестве заменителя понятия «советский гражданин». Если национально-образующий принцип в русской империи был религиозный: чтобы считаться русским, достаточно было стать православным, а в стране
Советов — социальный, то в новой России он политический: «россиянин» означает гражданин Российской Федерации, независимо от этнической или национальной принадлежности.
Каким образом власть попытается превратить российское гражданство в российскую нацию? Новым политическим языком, новыми национальными праздниками, контролируемой национальной памятью, в которых, однако, придется сочетать советские традиции с постсоветскими российскими реалиями.
Политический язык президента, определяющий политкорректный фон «россиянизации» нации или русско-российский дуализм?
Каждая эпоха имеет свой политический словарь и понятийный аппарат. В силу своих традиционно сильных позиций власть в России исторически была ответственна за все, что происходило в государстве, что означало, что она является главным творцом будущего. Общество России все еще не обладает политическими рефлексами в духе западноевропейской гражданской активности и в большинстве случаев поддерживает власть. Между обществом и властью находится прослойка политически корректной русской интеллигенции, или, как ее красиво назвал Геннадий Хазанов, «звук совести», но она не является определяющим фактором политической жизни современной России, так как электорат у нее весьма скудный.
В политическом словаре Путина казенный патриотизм определяется как «общероссийский патриотизм», призванный быть «одним из самых существенных объединяющих факторов». В отличие от Медведева, избегающего употреблять понятие «идеология», Путин говорит об «идеологии согласия» как «самом надежном средстве создания устойчивого иммунитета против всех видов нетерпимости и сепаратизма»[160].
В политическом языке Путина присутствуют понятия, почерпнутые из словаря русского консерватизма XIX века. Православная миссия на Балканах заменена «цивилизаторской миссией евразийского континента», а Россию Путин объявляет «хранительницей истинных христианских ценностей» (что может предполагать наличие неистинных христианских ценностей вне России).
Не случайно Путин избрал в качестве идеолога возглавляемой им партии «Единая Россия» Ивана Ильина, одного из самых консервативных представителей белой русской эмиграции XX века. Само название «Единая Россия» взято из лозунга белых периода гражданской войны. С одной стороны, русский консерватизм всегда отстаивал идеи сильной централизованной власти, которой соответствовала президентская республика с конституцией 1993 года. С другой стороны, само понятие «консерватизм» в новой России не было дискредитировано — в отличие от «либерализма», который ассоциировался с обществом олигархии, с приватизацией, разграблением государственной собственности в начале 90-х годов.
В декабре 2012 г. Путин завуалированно объявил консерватизм главным государственным приоритетом, призывая поддержать институт традиционных ценностей, что было воспринято с определенным напряжением либеральными кругами российского общества, как возвращение идеологии (в данном случае консервативной), несмотря на то, что конституция 1993 г. запрещает наличие таковой. Сам Путин уточнил в своем в послании, что «Попытки государства вторгаться в сферу убеждений и взглядов людей — это, безусловно, проявление тоталитаризма. Это для нас абсолютно неприемлемо»[161].
Известный геополитический аналитик и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов назвал это высказывание Путина «консервативным поворотом», напоминая, что в 2000 г. Путин категорически заявил о том, что он «против восстановления в России государственной, официальной идеологии в любой форме»[162]. Сергей Кортунов определяет постсоветскую идеологию в России как: «просвещенный демократический патриотизм», который станет «идеологией российского возрождения»[163]. Борис Кагарлицкий считает, что консерватизм вытесняет неолиберализм с августа 1998 г., когда были навязаны «умеренный национализм, культ сильного государства, неистинной демократии и уже не столь скрытого авторитаризма». Дмитрий Тренин определяет идеологию Путина как «умеренный российский национализм»[164]. Споры о том, нуждается ли Россия в новой идеологии или нет, продолжает оставаться частью российской общественной мысли, но не частью государственной политики, т. е. не являются приоритетом власти, а части политического спектра в Думе — партия «Единая Россия» объявляет о своей официальной идеологии «российского консерватизма»[165], понимаемого как социальный консерватизм.
На фоне неолиберальной политики в Европе, близкой к стилю «Шарли Эбдо» с обезличением/ высмеиванием традиционных ценностей, Россия вернулась к имперской модели традиционалистской политики покровительства всем конфессиям, традиционной семье и прочему, воспринимаемым Западом как «архаичные» ценности. Восток России и ее партнеры в Азии живут в традиционных обществах, и поддерживают эту сбалансированную политику России, ошибочно считающуюся новой идеологией Путина, это, скорее, естественное имперское поведение, ничего более на данный момент.
Именно поэтому Путин и пользуется поддержкой Русской православной церкви. Митрополит Иларион (а он является правой рукой патриарха Кирилла и занимается вопросами международной политики церкви) высказывается официально в поддержку государственной политики: «…что происходит на Западе? Там наступила постхристианская эпоха. Религия стала феноменом прошлого.
25 лет назад страна, в которой мы жили, была атеистическим государством. А Европа напоминала нам о религиозных ценностях. Сейчас эти два мира поменялись местами.»[166].
Поскольку более значительная часть российского общества консервативна, то и выражение Путина, когда оно используется в обращениях к внутренней аудитории, консервативно — этого ждет от него публика, тогда как сам он, скорее, прагматик, и в некоторых отношениях неолиберал с точки зрения понимания — на деле чисто бизнес-поведение, поощрение неолиберальной реформы в науке и высшем образовании в стиле «Дянков». Неслучайно Дянков работал в России после того, как был уволен со своего поста в болгарском правительстве, что было пагубно для гуманитаристики; поддержка олигархического капитализма на бизнес-клановой основе[167] (пример с бывшим министром Анатолием Сердюковым и его своеобразным иммунитетом от судебного преследования); в Валдайском клубе, который, хотя и является площадкой всего политического спектра в России, преобладает присутствие либеральных западных и российских аналитиков, историков, журналистов и др. Если бы Путин был консерватором по убеждениям, то возглавил бы Изборский клуб, который представляет консервативно-патриотическую российскую бюрократию и активную общественность. Любопытное определение дает историк Алексей Вдовин постсоветским национально-патриотически настроенным кругам — он называет их «русофилами» и «диссидентами», в противоположность советским, которые были прозападными и либеральными[168] (здесь он забывает о том, что Александр Солженицын был диссидентом и патриотом-консерватором).
Путин, однако, говорит в духе консерватизма, поскольку представление о здоровом обществе в России является традиционным, элита может быть любой (по отношению к постсоветской элите применим термин советских времен «небожители»), народ по природе всегда консервативен в силу живого инстинкта самосохранения, притупленного в неоновых городах с цифровизированной повседневностью.
Консервативным элементом высказывания Путина является подчеркивание уникальности России, которая «всегда играла особую роль в строительстве отношений между Востоком и Западом». В отличие от просвещенного абсолютизма Екатерины II, объявившей русскую империю «европейской», в годы просвещенного авторитаризма Путина современная Россия получила иную ориентацию — «уникального евроазиатского государства».
Если государство является «евроазиатским», то какова по мнению президента нация? Ответ Путина: «европейская» и «российская».
В триаде Путина о национальной идее новой России «русское» отсутствует: «евроазиатское государство» — «европейская нация» — «евразийская» и «российская» культуры.
Если в отношении государства и нации можно принять, что они «евроазиатские» (как геополитический показатель) и «европейские» (как цивилизационная ориентация), то в отношении культуры определение «евразийская» или «российская» является искусственным, казенным. Культура России «русская», так же как и язык Пушкина «русский», а не «российский». Естественной реакцией на российскую политкорректность, проповедуемую государством, было неприятие этого нового понятия обществом России.
Отрицательное отношение к термину «россиянин» характерно не только для патриотических кругов начала 90-х годов: самым ярым его противником был Александр Солженицын, — неприятие его сохранилось и сегодня, то есть через 20 лет после рождения новой России. Показательным в отрицании идеи «российской нации» служит самоидентификация либерального политолога Дмитрия Орешкина: «По национальности я русский, по государственной принадлежности — россиянин. Это разница. […] А в том, что касается национальности, то это дело глубоко личное, интимное и культурное. И здесь не надо путать, подменять слово «русский» словом «российский». Меня нисколько не напрягает то, что я гражданин РФ, если угодно, россиянин, но при этом я хочу остаться русским… позвольте мне здесь остаться совершенно свободным в своем выборе»[169].
Выражением подобной двойственности начал: гражданское/российское и национальное/русское является интересное терминологическое противоречие в использовании Путина: речь идет о «российской многонациональной нации». В этом случае, возможно, был бы более удачным термин, предложенный акад. Валерием Тишковым: «многонародная нация», однако в констинуции РФ воспринято определение «многонациональная». Подобно Д.Б. Орешкину акад. В.А. Тишков предлагает создание двойной идентичности — «престижность русскости, и статус русских можно и нужно повышать не через отречение от российскости, а через утверждение двойной идентичности: русской и российской»[170].
В. Тишков отрицает понятие «национальное государство»[171], хотя он один из авторов первой национальной концепции постсоветской России с 30 июля 1992 г. Понятие «национальная политика» он определяет только в отношении внешней политики преследования государственных интересов, а термин «нация» определяет как «политический лозунг, средство мобилизации, а не научную категорию»[172].
15 июня 1996 г. Ельцин подписал указ «О концепции национальной политики», ориентированной на развитие федеративных отношений и право на национально-культурную автономию; «русский народ» был определен опорой «российской государственности» и межнациональных отношений[173].
В декабре 2012 г. Путин подписал стратегию государственной национальной политики[174], подтверждающую философию концепции Ельцина 1996 г. Единственным серьезным различием между этими двумя документами, по мнению руководителя рабочей группы по разработке Стратегии, специалиста по национальным и федеративным отношениям, Вячеслава Михайлова заключается в том, что «концепция 1996 г. ставила перед собой задачу гармонизации межнациональных отношений в условиях распада СССР»[175].
Понятие «российская нация» отсутствует в языке одного из самых надежных последователей Путина — ретроконсервативного кинорежиссера Никиты Михалкова. Верный своим консервативным убеждениям, Михалков написал политический манифест «Право и правда» (2010 г.), в котором определил нацию следующим образом: «по Божьей Воле сложившийся в России тысячелетний союз многочисленных народов и племен представляет собой уникальную русскую нацию». Михалков не отрицает «евразийских координат» «особого сверхимперского сознания» русских. В его понимании «Россия-Евразия» — это «не Европа и не Азия, и не механическое сочетание последних. Это самостоятельный культурно-исторический материк, органичное национальное единство, геополитический и сакральный центр мира». В языке Михалкова, однако, нация «русская», а государство — «российское»[176].
Медведев, в отличие от Путина, в определении российской нации использует выражения либерального толка. Медведев связывает российскую нацию с наличием демократии, то есть не с ее уникальностью, как Путин, а с уникальными либеральными ценностями: «национальная идея — это набор ценностей, которые в конкретной исторической ситуации разделяет большинство населения страны», «главный вопрос в том, чтобы совместить, сделать так, чтобы наши национальные традиции совместились с фундаментальным набором демократических ценностей […] Каковы это принципы? Как они видятся сегодня? Это, прежде всего, свобода и справедливость. Второе — это гражданское достоинство человека. Третье — его благополучие и социальная ответственность»[177]. В отличие от Путина Медведев говорит о «русской», а не о «российской» культуре, но только тогда, когда упоминает о русской интеллигенции XIX века.
Либеральный политический язык Медведева составляет часть различия образа президента от образа премьера Путина в их двуглавом «тандеме». Не случайно Медведева отождествляют с преемником Александра II, а 3 марта 2011 г. им было организовано торжественное чествование годовщины ликвидации крепостного права в России (1861 г.).: «Некоторые считают, что трагическая история нашей страны в XX веке явилась следствием неудачной прививки свободы, что были правы те скептики, которые считали, что великие реформы непригодны для народа нашей страны. Я придерживаюсь другой позиции. Александр II получил в наследство страну, основными политическими институтами которой были крепостничество и военнобюрократическая вертикаль власти. […] Причём хотел бы обратить внимание, что жизнеспособными оказались не фантазии об особом пути нашей страны и не советский эксперимент, а проект нормального, гуманного строя, который был задуман Александром II. И в конечном счёте в историческом масштабе прав оказался именно он, а не Николай I или Сталин»[178].
Однако двойственная идентичность присуща и языку Медведева, но у него она проявляется в виде подсознательного сопротивления политкорректному языку. При наличии готового текста Медведев называет «российскую» нацию, но когда он не читает текст, в его спонтанной речи «русское» побеждает «российское», он говорит о единстве «русского мира» и о том, что «многие воспитаны на русской культуре»[179]. Высказывания Медведева помещены в его личном блоге, печатный текст имеется не при всех видеообращениях, но там можно услышать спонтанную речь русского человека Медведева и сравнить ее с политкорректным языком президента Медведева.
Сознательное воздержание от употребления понятия «русское» в политическом языке представителей власти в какой-то мере объяснимо старыми страхами государства перед русским национализмом. И в этом причина того, что Кремль после 1991 г. не решился назвать нацию «русской». Однако понятие «российское» может означать только гражданскую принадлежность к Российской Федерации, не более: термин «российская» нация не может войти в политкорректный язык, да это и не нужно. «Русская» нация никогда не была этнической, быть русским означает принадлежать русской культуре, которая является европейской, независимо от этнического происхождения.
Попытки государства внедрить понятие «российская нация» окажутся тщетными, ибо вопреки гипертрофии власти для общества современной России свобода является внутренним состоянием, а не гражданской активностью. Объяснение находим в точном наблюдении акад. Дмитрия Лихачова: русская культура европейская так как в своей глубине она предана идеи свободы человека[180].
Как это ни парадоксально, но сакрализация государства воспитывает у русского человека культуру свободолюбия, которое обращено вовнутрь, в сторону личности, а не наружу, в сторону общества. Это порождает и тот особый индивидуализм и анархичность в мировоззрении русской (XIX век), советской (XX век) и постсоветской интеллигенции (XXI век).
В 2012 г. Путин определил национальную идентичность ведущей темой Валдайского дискуссионного клуба, уникального по своему формату (дискуссии между политиками, историками-русистами, политологами, общественными деятелями Запада и России с личным участием президента и правительственных чиновников высокого ранга, которые традиционно завершаются пресс-конференцией Путина).
Доклад дискуссионного клуба «Валдай» был подготовлен молодыми россиянами в возрасте до 30 лет, придерживающимися либеральных взглядов с примесью умеренного традиционализма — конкретно упоминается «приоритет человека и личного достоинства перед государством», а также категорически отвергается понятие «национальная идеология», а подход к «российской идее» порой звучит немного как бизнес-план, что является и взглядом поколения, это генерация перестройки: «Российская идея — это ставка на развитие человеческого капитала». Проглядывает и чисто русское отношение к понятию «справедливость», присущему всем поколениям и эпохам: «одна из важнейших черт национального характера — внутренний камертон справедливости. Справедливость, находящаяся гораздо выше закона» (последнее остается недоступным для понимания законопослушного среднестатистического жителя Западной и Центральной Европы). Совершенно точным является и вывод о том, что талант в России «на протяжении всей истории оказывался единственной приемлемой в обществе формой индивидуализма»[181].
Наиболее важным, как вывод национальной концепции России, является дополнение «русский» и «российский», а не их противопоставление (первое как национальная культурная принадлежность, второе как гражданская), что является отказом от попытки создания только российской нации и своевременным возрождением понятия «русский», которого долгое время избегал Кремль. Валдайский доклад подтвердил национальную концепцию как дуалистическую (русско-российскую), что является частью традиционного для России дуализма (национально-имперского).
Аналогичной, но не идентичной с Валдаем в любом отношении является официальная позиция по вопросу о национальной идентичности Русской православной церкви, которая в 2000 г. ввела понятие «христианский патриотизм»[182], all ноября 2014 г. приняла Декларацию русской идентичности. С точки зрения Церкви, национальная идентичность является «русской» ввиду «огромной роли православной веры», а гражданство — «российским». Слегка императивный тон для православия как «основы национальной духовной культуры», что должно быть «признано» каждым русским, пугает предпочитающих и живущих в светской русской культуре тоже русских, но православная церковь в России «русская», не «российская» и традиционализм является ее естественным состоянием и философией: «На основе программных тезисов настоящего документа, предлагается следующее определение русской идентичности: русский — это человек, считающий себя русским; не имеющий иных этнических предпочтений; говорящий и думающий на русском языке; признающий православное христианство основой национальной духовной культуры; ощущающий солидарность с судьбой русского народа»[183].
Растущее влияние Русской православной церкви в современной России вынуждает исследователей ввести термин «деприватизия религии в российском контексте»[184].
Для России, однако, важна точка зрения власти, а ее квинтэссенция выражена в Валдайском докладе. Путин, однако, солидарен с философией Декларации русской идентичности Русской православной церкви, когда пытается сотворить новый русский национальный миф, а именно — о роли Крыма и сакрализации Херсонеса как «русской Храмовой горы»[185]. Путин еще во время своего первого президентского мандата в 2001 г., когда освещал собор Святого Владимира в Крыму вместе с Кучмой, произнес это заклинание, т. е. эта идея возникла не после присоединения Крыма.
Крещение Владимира в Херсонесе является легендой (признанной российским патриархом Кириллом «историческим фактом»), тогда как Путин не только иррационально легитимирует российское присутствие в Крыму (Владимир вообще не задерживался в Херсонесе, т. е. часть города является русской с начала XI в. до Золотой орды и только с конца XVIII в. город окончательно вошел в состав Российской империи), но и пытается затмить, сознательно или нет (но, определенно, безуспешно), Киев, который был столицей Древней Руси и ее православным источником[186]. Диакон Андрей Кураев, известный своими либеральными взглядами в церковных кругах, и своей активной публицистикой, из-за которой был уволен из Московской духовной академии, в отличие от патриарха, поддерживающего Путина, комментировал отрицательно сакрализацию Крыма: «История — это не газопровод. Попытка провести историческую линию от Херсонеса до Москвы, тщательно обходя Киев, слишком уж фантастична»[187]. Андрей Кураев интересно интерпретировал и речь патриарха Кирилла перед Думой 22 января 2015 г. (это было первым выступлением русского патриарха в парламенте новой России. До этого патриарх Алексий выступал в Верховном совете СССР в 1990 г.). Кураев анализирует понятие «Святая Русь» в речи патриарха перед депутатами (изменение в концепции патриарха Кирилла от «географических координат — Россия, Украина, Беларусь — это все Святая Русь!» к идентификации только с Древней Русью, Византией и затем Российской империей), что диакон воспринимает как реакцию на украинский кризис, или «современная Украина более не Святая Русь»[188].
Подобная крайняя констатация может быть верной, только если православный собор Святой Софии в Киеве станет униатским (практика «захвата» церквей преимущественно в Западной Украине, но после второго майдана и за ее пределами — часто встречающееся постсоветское украинское явление), но даже тогда будет трудно разорвать связь между Русью, Киевом, Россией и Украиной. Безусловно, по политическим причинам может быть шизофренирована историческая идентификация князя Владимира подобно «македонизации» царя Самуила, но даже и в таком виде подобные конструкции обладают силой пенопласта, могут поразить несколько поколений, но не более.
Политические праздники российской нации
Перемена в официальном языке на уровне президентской администрации, бюрократии и масс-медий была недостаточной для того, чтобы прочно вошла в сознание общества «российская» нация.
Вторым элементом «россиянизации» нации, к которому прибегла власть, стало создание новых национальных праздников.
Злополучный выбор Ельцина пришелся на 12 июня: эта дата была объявлена Днем независимости[189] (при этом возникает естественный вопрос: независимость от кого, и сразу напрашивается ответ — от СССР, все равно, если бы Великобритания праздновала 4 июля). Этот праздник не объединил нацию, и до сегодняшнего дня воспринимается просто как обычный выходной, несмотря на то, что при Путине был переименован и стал называться Днем России.
Выбор Путина, избравшего в качестве объединительного «российского» национального праздника день 4 ноября, также неудачен, потому что в отличие от безразличного отношения общества ко дню 12 июня, дата 4 ноября вызвала резкую негативную реакцию, вследствие которой он из Дня народного единства превратился в День разъединения.
С одной стороны, день 4 ноября имеет религиозный — православный характер. До объявления его Днем народного единства это был церковный праздник: 4 ноября (по грегорианскому календарю) или 22 октября (по юлианскому календарю) отмечается праздник Казанской иконы Божьей Матери.
Казанская Божья Матерь занимала особое место в патриотизме русского народа не только во времена Смуты, но и в годы Великой Отечественной войны, когда церковные шествия с иконой Казанской Божьей матери обходили улицы Москвы и Ленинграда, чтобы на них не ступила вражеская нога. Поворот в отношении к православию при Сталине в первые дни войны и восстановление чина патриарха Русской православной церкви стало решающим объединительным шагом в деле защиты Родины. В годы Великой Отечественной войны русский патриотизм стал спасителем государства, в то время как послевоенные годы стали годами рождения советской нации — победа и ее дорогая цена способствовали превращению казенного, искусственного советского патриотизма в патриотизм национальный и подлинный.
Путин довольно осторожно использует православный элемент в понимании «общерусского патриотизма», поскольку не все граждане Российской Федерации православные, официальное мотивирование выбора в качестве Дня народного единства 4 ноября носит не религиозный, а политический характер: это «годовщина освобождения Москвы от польских интервентов и конец Смутного времени 1612 года». Не случайно при официальной переписи населения в 2010 г. вопрос о религиозной принадлежности был исключен вопреки недовольству РПЦ.
С другой стороны, праздник 4 ноября должен был затмить советский праздник 7 ноября (годовщину Октябрьской революции). В самом сердце Москвы, на Красной площади, находится памятник Минину и Пожарскому — готовый символ нового праздника. Однако официальная формулировка не вполне корректна: 4 ноября 1612 г. состоялось взятие Китай-города, а поляки отступили в Кремль — этот подлинный символ государственности был освобожден 5 ноября. Но даже и на эту дату не был положен конец Смуте (гражданской войне), она продолжалась еще целых шесть лет, до 1618 года. Трудно было бы назвать этот день символом народного единства, поскольку не все русские города признают роль ополчения Пожарского[190].
Но даже если бы данная формулировка была корректна, события 1612 г. не волнуют современное русское общество, а созданный в пропагандных целях фильм «1612» не имел успеха. Журналист Александр Минкин обобщил безразличие к празднику 4 ноября словами: «праздник фантастическая вещь, ее нету, а о ней столько говорят…пустое место»[191].
Однако 4 ноября не стал просто казенным праздником: при безразличном отношении к нему большей части общества им воспользовались националистические группировки современной России. Вместо Дня единения праздник стал днем шествий — маршей русских националистов, в ответ на которые проправительственное движение «Наши» организовало контрмарши.
Само название «Наши» не способствует консолидации, ибо предполагает наличие «ненаших», — это упущение президентской администрации, при которой было создано движение. В результате возникло напряжение на национальной почве, явление исключительно редкое и не типичное для русского общества. Согласно точным наблюдениям Максима Шевченко неправильная формулировка праздника 4 ноября ведет к «этнизации» русского общества: «сейчас происходит хаотический естественный процесс этнизации русских». Предложение М.Л. Шевченко в целях консолидации общества переименовать праздник, назвать его «Днем политической нации» или «Днем прав и свобод российских граждан»[192], звучит казенно и не способно привлечь общество России ни в эмоциональном, ни в историческом плане.
Националисты в России хорошо организованы, идеальным проводником в их деятельности стала социальная сеть и блогосфера. Доказательством эффективности их организованности стали события на Манежной площади в декабре 2010 г., когда они, воспользовавшись социальным протестом футбольных фанатов против коррупции, добились освобождения всех подозреваемых в убийстве одного из болельщиков — Егора Свиридова и превратили этот протест в националистический мятеж.
Ошибка Путина состояла в том, что он не вслушался в предложение сделать объединительным праздником торжественное чествование Бородинской битвы[193], которая является важной культурной традицией в жизни русского общества. Каждый со школьных лет знает «Бородино» Лермонтова, «Войну и мир» Толстого, каждый слушал торжественную увертюру Чайковского «1812 год». На самом Бородинском поле ежегодно в августе месяце воссоздается зрелищно это историческое событие, что увеличивает популярность истории. Там воздвигнуты памятники погибшим — и русским, и французам, то есть налицо элемент и примирения, и национальной гордости.
Если уж говорить о русской нации, то ее пробуждение начал ось после 1812 г., в то время как 1612 г. — это обыкновенное число, символизирующее начало завершения гражданской войны (Смуты), во время которой большая часть тогдашней русской знати была на стороне поляков. В этих событиях много полутеней, в отличие от войны 1812 г., в которой участвовали все — и простой народ, и аристократия. Получило бы осмысление и возрождение понятия «народ», задуманное для нового праздника 4 ноября.
Государственные символы постсоветской России
Советские символы:
а) с одной стороны, 9 мая (но с плотно упакованным мавзолеем, когда проводится торжественный парад на Красной площади, что является стилистическим показателем отсутствия реставраторских амбиций у власти, настроенной вполне прагматично);
б) с другой стороны, гимн на музыку Глинки при Ельцине был заменен советским гимном при Путине, третий текст которого написан опять-таки Сергеем Михалковым, но эта мелодия символизирует не столько тоталитарное прошлое, как ее попытались критиковать некоторые либеральные публицисты, а главным образом, 1943-й год, когда она была создана, Интернационал уже не исполнялся, а Советская армия перешла в наступление в большой степени благодаря национальному подъему воскрешенных Сталиным героев Святой Руси. Музыка советского гимна 1943 г. — это звук Победы — ассоциация, с которой даже «Патриотическая песня» Глинки не может идти в сравнение.
9 мая остался единственной неопороченной датой советской истории, которая естественным образом влилась в российскую, осталась частью и европейской (как 8 мая, хотя и с безличным определением «день Европы», нечто вроде «дня Земли» — ничего конкретного, каждому свое), но и частью болгарской, не будем забывать, что в первом параде победы 24 июня 1945 г. участвовал генерал Владимир Стойчев, командующий Первой болгарской армией Третьего украинского фронта.
Постсоветская Россия Путина (при Ельцине патриотизм не был приоритетом даже после Первой чеченской войны) добавила к своему образу 9 мая два символа: Бессмертный полк и Георгиевскую ленточку, возникшие как идея снизу, принадлежащая российским общественным деятелям, но грамотно и ловко огосударствленная Кремлем ввиду своей иррациональной силы. Св. Георгий Победоносец, который изображен на гербе Российской Федерации, прямая связь с Российской империей, откуда берет свое начало и ленточка, восстановленная в воинских наградах во время Второй мировой войны Сталиным, с одной стороны, и живые лица бессмертных победителей нацизма и фашизма в Европе, «шагающих» рядом со своими наследниками, с другой.
Подход к 9 мая продолжает оставаться:
• или мифологическим (официальный культ начинается лишь при Брежневе в связи с 20-й годовщиной Победы, с парада 9 мая 1965 г., поставившего начало традиции милитаристической эстетики в сочетании с прекрасными фильмами о войне, созданными в 60-х и 70-х годах, талантливо поэтизировавшими советские подвиги: «Отец солдата», «Иваново детство», «А зори здесь тихие», «Белорусский вокзал» и мн. др.);
• или сверхполитизированным (особенно сегодня с гибридным римейком Холодной войны — такова ситуация в России с мобилизационным тембром торжеств, такова ситуация и в Европе с нигилистическим 8 мая, фальцетным к «угрозе» Путина, пропагандистской кашей со смолотой политкорректной пищевой добавкой для неискушенных историческим знанием пользователей);
• только не историческим (таковым он является в академических кругах, но не для общественности, которая не воспитывается в критическом осмыслении, не готова к безболезненному восприятию различных точек зрения, предпочитает уют или сказочное воспоминания или убаюкивание потребителей вопросом «зачем тебе это?», или застывшей во времени: 10 ноября у нас (1989 г.), 25 декабря в России (1991 г.), 9 ноября в Европе (Берлинская стена, 1989 г.) вражеской категоризацией «свой-чужой».
• к этому можно добавить и подход политического китча, проиллюстрированный на параде 9 мая в Крыму прокурором Натальей Поклонской, которая шествовала в Бессмертном полку с иконой Николая II. Последний русский император канонизирован вместе со своей семьей как страстотерпцы, невинно погибшие христиане, верные Богу до своего последнего часа. Мученическая участь Николая II не отменяет его государственнической безответственности к России, которую он предал своей абдикацией, поскольку, если бы он погиб с короной, то представлял бы Россию до конца, как это подобает императору, а не гражданину Николаю Александровичу. При переписи населения Николай II написал о себе «хозяин земли русской», однако не вынес бремени этого призвания.
Безусловно, нельзя идеализировать не только Николая II, но и дворян, наследники которых сегодня являются активными монархистами, а в 1917 г. с легкостью предали императора. Александр Блок талантливо обрисовал предательство, как характеристику российских либералов через русское дворянство:
Жест Поклонской весьма показателен, без смешения имперского и советского, он выдает оживление серьезного раскола в российском обществе на белых и красных, между ними «православные сталинисты» а ля Проханов, но 9 мая все празднуют вместе, нет почитателей Власова — русская эклектика непостижима для европейского сознания. Лучше всего она описана Захаром Прилепиным: «Мы — со всеми своими грехами, со всей своей уставшей, покосившейся, сложной и диковатой страной, — на стороне добра. Всякий, кто разделяет с нами вкус и горечь, и счастье этой даты — наш брат […] Бессмертный полк — не карнавал, и не попытка быть гордым чужим стомиллионным подвигом — а явная демонстрация нынешнего нашего достоинства»[194].
9 мая стал лакмусовой бумажкой на определение совести и вызывает неистовую реакцию у современных неолибералов, евроатлантиков и вечных декоммунизаторов, большей частью происходящих из приличных коммунистических семей, но наиболее яростными являются именно российские либералы, русская русофобия в современной России это специфический феномен, ожидающий своего небрезгливого исследователя. Бессмертный полк был назван «массовым культом мертвых», что «приводит меня в ужас», и некорректно сравнивался с концлагерями: «фотографии погибших в Аушвице должны оставаться в стенах Аушвица». Однако, Бессмертный полк это полк тех, кто освобождал Аушвиц, а не жертв, память о победителе, освободителе, священном русском архетипе.
Аркадий Бабченко, в семье которого есть участники войны, пишет: «Я вот совершенно не могу представить, что должно заставить меня повесить фотографию моей уже умершей бабушки на дощечку и, выставляя её на всеобщие обозрение, пойти с ней по улицам. Зачем?.. Зачем всем остальным смотреть на фотографию моей бабушки или моего воевавшего еще на Халхин-Голе танкистом деда, и знать, что они уже мертвые?»[195]. Вопрос, однако, в том, за что они умерли, а это показывает и то, зачем они жили. Чингиз Айтматов ввел понятие «манкурт» об утративших свою родовую память, «Иваны Непомнящие родства», но после 1991 г. появился новый термин: «вырусь» — «выродившийся русский», русский, забывший о том, что он русский, и в результате патологически агрессивный к своим.
Любопытна была реакция Гейдара Джемаля в телевизионном интервью 12 мая 2015 г., отметившего, что Бессмертный полк это «другой тип религиозности… конституируется религия предков… огромная опасность для духовных путей народа… выпадает из контекста православия»[196].
По этой логике каждый памятник является «религией предков» и может быть связан с запретом изображения человеческих образов в исламской эстетике, но Гейдар Джемаль сознательно пытается противопоставить Церковь Бессмертному полку, хотя сам он в 2013 г. в эфире программы «Познер» заявил, что «Русь православная это некий стереотип»[197]. Гораздо более тревожным является празднование Рамадана в светском пространстве на улицах Москвы как политическая и показная демонстрация присутствия, которое может оказаться средой для потенциального конфликта, это вопрос политтехнологии. Причиной неприятия Бессмертного полка Гейдаром Джемалем, однако, является то, что это мероприятие представляет собой невидимую нить, ведущую к советскому прошлому через Победу, для большей части постсоветского пространства.
Характерная дихотомия российско-американского является привилегией не только патриотов Кремля, но и российских либералов, однако с обратным знаком. В этом году (2016) 9 мая, в пример был приведен американский День Поминовения (Memorial Day) с попыткой низкопоклоннического копирования.
В качестве примера «путинского большинства» представлены американские ветераны из фильма «Буря в пустыне», которые работают официантами или занимаются лайф-коучингом — тренингом «по жизненным мотивациям»[198]. Обывательское восхищение российского либерала (в данном случае Карины Орловой) не имеет предела, речь идет о «малом бизнесе» (как сладостно звучит — «бизнессс»), а то, что он является плодом большого бизнеса в разрушенном Ираке и не только, то это детали, не существует «бессмертной победы», не существует ценностей, есть цена, причем низкая, но американская, атлантическая, безошибочная.
По сути, день ветеранов в Донецке также был частью Бессмертного полка, но там были портреты и погибших в 2013–2014 гг., нового поколения бессмертных, убитых властью в Киеве… и здесь уже есть фотографии и детей… это, однако, остается вне поля зрения либералов.
В Донецке состоялся внушительный парад 9 мая, а ополченец Моторола уже стал генералом. Большинство «ополчев», сейчас уже военных из ДНР и ЛНР, простоваты, с криминально-уголовной эстетикой, примитивной лексикой, но крепким инстинктом самосохранения, безусловно, не безвозмездно. Война это не офицерский бал, а ее герои зачастую уродливы на первый взгляд. Таких идейных командиров, как Мозговой, отстреляли, дабы не мешали.
Еще с начала 90-х годов 9 мая мешал российским либералам, популяризировавшим идею, подхваченную сейчас Михаилом Ходорковским, чтобы Россия праздновала 8-е мая и забыла 9-е, и стала частью цивилизованного сообщества. А вместе с 9 мая забыла и Сталина. Здесь процветают споры о том, победил ли народ войну вопреки (либералы) или благодаря Сталину (патриоты).
Не оправдывая сталинских репрессий до и после войны, и с риском того, что это прозвучит кощунственно, невозможно умалчивать о том факте, что Бессмертный полк имеет и бессмертных полководцев, а также и бессмертного генералиссимуса (уничтожение памяти по-украински с разрушением памятников лишь усиливает болезненное воспоминание, тогда как историческая совесть распознает все нюансы), поскольку именно Сталин несет ответственность за работу Генерального штаба во время войны со всеми успехами и поражениями, с бесконечными жертвами, что в конечном итоге, увенчалось победой.
9 мая еще долго будет камнем преткновения десталинизации, которая в ходе хрущевской или горбачевской кампаний временно выдвигает эту личность советской истории, оценки которой эмоциональны на бессознательном уровне — невозможно спорить ни со сталинистом, ни с антисталинистом. (Впрочем, одна стилистическая деталь, на параде в 2016 г. М. Горбачев не прикрепил Георгиевскую ленточку к лацкану.)
Потребительская память смертна, она исчерпывается «потребительской корзиной», все, что находится вне ее — излишне. Кремль является не меньшим потребителем, чем российские либералы, однако пытается практиковать «суверенную глобализацию» (великолепный термин либерального публициста и главного редактора «Независимой газеты» Константина Ремчукова). В ответ на милитаристский пафос Кремля российские либералы минорным тоном сетуют на то, что 9 мая должен быть «днем памяти», без торжеств, военных «африканских парадов с Тополей М» (Виктор Шендерович), дома, в траурном молчании, с ломтем черного хлеба на стакане с водкой (Евгения Альбац). Победа, однако, военная, война — священная, потому что при ином финале славяне, евреи, цыгане и просто несогласные не имели бы права на существование.
Скорбящим 9 мая можно лишь напомнить, что скорбят побежденные, толерантные к Третьему рейху или к Четвертому, радуются и празднуют с благодарностью победители — нет золотой середины, 9 мая не из угля и стали смертных потребителей.
Что касается постсоветской символики, патриарх Кирилл, который во многих отношениях является политиком в отличие от предыдущего патриарха Алексия, занял позицию поддержки российско-советского сочетания: «у нас есть герб — двуглавый орел, он из той самой средневековой Руси, это символ Византии. У нас есть триколор, это Российская империя. У нас должен быть советский период, давайте оставим музыку. И у нас должна быть новая Россия, давайте возьмем современные слова[199]».
Русские (имперские) символы это: герб с двуглавым орлом и триколор — бело-сине-красный. Что касается российского флага, то и до наших дней ведутся дискуссии в части консервативного спектра. Националисты, шествовавшие в Русском марше 4 ноября, выбрали черно-желто-белое знамя, которое также является имперским. Ностальгирующие по монархии, не будучи националистами, также отдают предпочтение второму флагу. Сознательно распускаются ложные слухи о дискредитации официального флага, который называют «власовским» (т. е. знаменем предателя, нарицательным именем генерала Власова из-за коллаборационизма с Гитлером), что, однако, является манипулированием. То, что Власов выбрал этот триколор не означает, что он является его изобретателем или представителем. Более умеренным вариантом критики является «Деникинский флаг», но и этот выбор белой гвардии не нов для России. Действительно, в постсоветской России присутствует ностальгия по белому движению и определенная его идеализация, но это естественная реакция после его тотального заклеймения в советский период. От массовой аудитории умалчивается, чем создается очередной повод для разделения российского общества, тот факт, что оба флага являются символами России еще со времен Петра Великого. Бело-сине-красный триколор впервые был использован Петром. В Российской империи использовались два государственных флага, а российское общество не обращало внимания на этот дуализм до конца 70-х годов XIX в., когда начали возникать дискуссии о выборе единственного флага и в 80-е года на это обратил внимание и император Александр III, но лишь Николай II в 1896 г. окончательно утвердил бело-сине-красный вариант[200].
Память о Сталине
Национальная память современного российского общества несет отпечаток и другого воспоминания советского прошлого о Сталине и сталинизме, которое, однако, в отличие от объединяющего 9 мая, категорически разъединяет россиян на два непримиримых лагеря. Десталинизация является неизменной частью острых дискуссий в современном российском обществе.
Показательны языковые различия официальных заявлений Медведева и Путина в отношении этого болезненного вопроса.
Медведев категорически занимает антисталинскую позицию либеральной интеллигенции: «Я горжусь тем, что я потомок Пушкина, но мне противно осознавать себя потомком Сталина»[201].
Не менее категоричен Медведев и по вопросу о роли Сталина во Второй мировой войне: «Великую Отечественную войну выиграл наш народ, не Сталин и даже не военачальники при всей важности того, чем они занимались. Да, их роль была, безусловно, очень серьёзной, но в то же время войну выиграли люди ценой неимоверных усилий, ценой жизни огромного количества людей. […] Сталин совершил массу преступлений против своего народа. И, несмотря на то, что он много работал, несмотря на то, что под его руководством страна добивалась успехов, то, что было сделано в отношении собственного народа, не может быть прощено»[202].
Позиция Путина более сбалансирована, и совпадает с позицией большей части современного российского общества, в котором преобладают симпатии к Сталину, а не наоборот: «Очевидно, что с 1924 по 1953 годы страна, а страной тогда руководил Сталин, изменилась коренным образом. Она из аграрной превратилась в индустриальную. Правда, крестьянства не осталось… Но индустриализация действительно состоялась […] Мы выиграли Великую Отечественную войну. И кто бы и что бы ни говорил, победа была достигнута. Даже если мы будем возвращаться к потерям, вы знаете, никто сейчас не может бросить камень в тех, кто организовывал и стоял в главе этой победы, потому что если бы мы проиграли эту войну, последствия для нашей страны были бы гораздо более катастрофическими […] в этот период мы столкнулись не только с культом личности, а с массовыми преступлениями против собственного народа. Это тоже факт.»[203].
Одной из причин сохраняющейся симпатии к Сталину у преобладающей части российского общества является идентификация победы в Великой Отечественной войне с личностью Сталина. Сразу же после войны общество простило ему репрессии 30-х годов.
Влияние наследия сталинизма на значительную часть современного российского общества лучше всего описано писателем Даниилом Граниным: «Речь идет о страхе, мы доживаем сталинские страхи… страх прочно передается в семье… мы говорили шепотом, мы закрывали телефон подушкой, мы боялись слово поперек сказать… система страхов в которой мы живем тяжелейшее наследие… вторая система, которая нам досталась в тяжелейшее наследство, это система лжи — нам говорят одно, делают другое… Десталинизация должна идти через души людей, через сердца людей, это не только ум, не только статистика… мы пребываем еще в таком состоянии полурабства… мы не свободные люди, эти вещи не дают нам стать нормальными, свободными людьми»[204].
Самой сильной причиной ностальгии по Сталину остается разочарование в перестройке. Сталинизм в современной России это форма протеста.
Ощущение безыдейности жизни испытывает не только поколение, пережившее войну и всю советскую систему. Режиссер Павел Лунгин описывает такое же мироощущение: «У меня такое чувство, что страна в какой-то непонятности и в чувстве растерянности бешено гребет под себя какие-то мелкие материальные ценности. Мне кажется, что совершенно никто не занимается, или, мало занимается благотворительностью, мало занимается культурой, мало занимается тем, что делает из страны великую страну»[205].
Мемоформатирование — как психоисторический принцип «минного поля» истории
Историческая память и символика может быть «минным полем» для современности, почти по-Высоцкому:
Почему история может быть «минным полем»? Андрей Фурсов ввел в научный оборот термин «психоисторическая война», изобретенный фантастом Айзеком Азимовым, в романе которого есть очень характерная цитата: «Нет никакой нужды предсказывать будущее. Нужно просто выбрать подходящее будущее — приятное и полезное, и обнародовать предсказание».
Термин Азимова-Фурсова «психоисторическая война» — это вечная битва за форматирование образов будущего посредством контроля над прошлым, или историей. В фантастике существует и другое понятие — «терраформирование» (выбор планеты и создание в ней экосистемы по своему выбору).
Мне кажется, что «психоисторическая война» может быть дополнена другим термином: «мемоформатирование», причем здесь речь уже не идет о другой планете, а о другом поколении. Наиболее контрастным примером «мемоформатирования» является миф о Тибете, широко распространенный голливудский образ которого воплощен в Шамбале, райском месте, где царят доброта и нирвана под монотонную музыку тибетских монахов.
Мало кто знает, что до 1959 г. в Тибете существовало рабство, что крестьяне влачили скотское существование, что там наказывали отрезанием рук, ног, выкалыванием глаз, следовала мумификация конечностей, коллекция скальпов. Музыкальные инструменты тибетских буддистов сделаны из человеческой кожи, из черепа (барабан), из человеческой кости (флейта).
Нет, это не низкобюджетный триллер, Вы можете «прогуляться» в Google и обнаружить в сети ряд фотодокументов середины XX в., дело в том, что Вам и в голову не может прийти подобная идея.
Почему, однако, Тибетский миф «мемоформатирован» — потому, что им овладел не просто Китай, а коммунистический Китай, представляющий коммунистическую идеологию социального равенства, вследствие чего и было отменено рабство в Тибете. Впрочем, тибетские буддисты объясняют рабство крестьян «кармой», которую каждый из них заслужил в прошлых жизнях, и ни у кого нет права сопротивляться, надо принимать его как данность.
В западной неолиберальной парадигме коммунизм объявлен «идеологией ненависти» наравне с нацизмом, расизмом и т. д., из-за страха разрушения кастовой общественной модели идеей социального равенства. Здесь я вновь процитирую Андрея Фурсова: «Если у тебя нет такой ценности как социальная справедливость, ты легко приспосабливаешься к несправедливости».
После 1991 г. распад СССР дискредитировал социальную идею, и неолиберальная идеология осталась без конкуренции (политизация ислама в стиле исламизма не может быть заменой, поскольку он направлен на разрушение, а не на созидание). «Ме-моформатирование» России, Украины, Беларуси и др. постсоветских государств пошло своим самостоятельным путем и здесь, опять-таки, существует контраст: в Украине форматируется комплекс жертвы, в России, Беларуси, более мягко в Казахстане — комплекс победителя, сфокусированный на различной интерпретации дня Победы, 9 мая. В 70-ю годовщину Победы Россия показала свой пример «мемоформатирования» — Бессмертный полк, самое духовное проявление 9 мая, поразившее всех наблюдателей и парализовавшее даже самых яростных недоброжелателей.
Вряд ли только политкорректная и безличная «российская» идея может объединить нацию в современной России. Дуализм русско-российского (национально-имперского) имеет больший шанс возродить нацию. Вряд ли комиссии против «фальсификации истории» удастся уберечь национальную память. Именно государство должно привить уважение к национальным интересам, но не ценой политических процессов, каковым был процесс против Ходорковского, освобожденного, опять-таки, по политическим причинам.
В XIX в. для русского дворянства было вопросом чести служение государству и меценатство. В XXI в. российские нувориши вкладывают свои средства только в предметы роскоши, расходуют их на приобретение футбольных клубов, на бессмысленную показную богатую, но лишенную содержания жизнь.
Государство устанавливает нормы, критерии системы ценностей общества, и только оно в состоянии культивировать духовное развитие своих граждан, беспощадно подвергающихся глобальному давлению рынка и массовой «попкорновой» культуре. То, что может предпринять власть в России, которая несет главную ответственность за судьбу нации, это быть хранителем высокой культуры, чистой теоретической науки, и, следовательно, и своего будущего
2.2. Демократия по-русски, или по-евразийски
В начале 90-х годов XX века русский режиссер Андрей Кончаловский провел среди жителей волжской деревни Безводное, героев одного из его фильмов — «Курочка Ряба»[206] и запечатлел на пленке своеобразную социологическую анкету, включающую три вопроса: «Как сварить самогон?», «Кто такой Пушкин?» и «Что такое демократия?». Самым большим разнообразием и неординарностью отличались ответы на вопрос об исконно русском напитке, сопровождаемые богатым набором рецептов самогоноварения. Вопрос о Пушкине составил трудность для половины опрошенных, причем самым «экзотическим» был признан ответ: «Я с ним гуляла когда-то». Что же касается третьего вопроса, то наряду с преобладающими «Не знаю», «Черт его знает», «Мы люди неученые» от одного деревенского гармониста было получено самое типично русское определение демократии: «Это, когда свобода… да и вообще, когда всем хорошо».
До октября 1917 года в русской общественной мысли не существовало комплекса русифицирования формы демократии как таковой, данный комплекс проявился позднее, а в наши дни искусственно внушается, с одной стороны, в качестве образца для новой России западный образец, а с другой — образец, выпестованный нынешними русскими почвенниками. Русские либералы конца XIX — начала XX вв., из круга «Вестника Европы» (К.К. Арсеньев, Л.З. Слонимский, А.Н. Пыпин, К.Д. Кавелин и др.) как и кадеты, были чужды стремлению выделить в какую-либо особую модель демократию по-русски, для них русская демократия была тождественна европейской — согласно идеалам Манифеста 17 октября 1905 года. Но и до революции виден русский взгляд на мир — скорее иррациональный, в отличие от западноевропейского прагматизма.
Однако в 20-е и 30-е годы XX века представители русской эмиграции первой волны первыми стали искать русские образцы демократии, пытаясь отмежеваться от европейской модели. С одной стороны, причиной этих поисков стало их разочарование в европейском обществе, с другой — тот факт, что русские эмигранты утратили родину не только физически, но и исторически: Россия Романовых и Советская Россия — это были два совершенно разных государства. Поиски «русской» демократии были частью самосохранения национальной идентичности эмигрантов.
Философ права Павел Новгородцев отвергал самый термин «демократия» как дискредитированный мировым кризисом в нравственнорелигиозном отношении, или кризисом правосознания, свидетелем которого он был в июне 1923 года, когда была написана его статья «Восстановление святынь», опубликованная посмертно, и который, по его мнению, стал причиной «оскудения демократической идеи». П.И. Новгородцев предлагал ввести вместо понятия «демократия» понятие «агиократия, власть святых»[207].
Писатель Иван Шмелев также рассматривал понятие «демократия» с религиозной точки зрения, говоря о «духовной демократии», или о «возрождении жизни на основе религиозной, на основе нравственной»[208].
Русские эмигранты подвергали критике не только термин «демократия», но и понятие «общественный договор».
«Новоградец» С. Белозеров предлагал заменить его понятием «общее дело», однако данная дефиниция по смыслу не отличается от «contrat social»: «Мы понимаем государство и человеческое общество, как «общее дело»… и даем государству новое определение, основанное на философии общего дела: государство есть человеческое общество, объединенное общим делом, направленным к утверждению жизни на определенной территории и осуществляемым особенной государственной и общественной организацией, правительством и другими учреждениями. […] Общее дело определяет каждую из трех государственных стихий: и территорию, и народ, и правительство и объединяет их в органическое единство»[209].
Философ и монархист Иван Ильин предложил термин «демократическая диктатура», которую он определял как «национальную, патриотическую, отнюдь не тоталитарную, но авторитарную — воспитывающую и возрождающую диктатуру». И.А. Ильин признавал социальный характер «демократической диктатуры», исходя из религиозной точки зрения: «Мы, русские христиане, по-прежнему будем искать в России социальный строй. Однако на основе частной инициативы и частной собственности»[210].
Будущее устройство «демократической диктатуры», или корпоративного государства — это было заимствовано И.А. Ильиным у фашизма — по его мнению, выражалось в следующем:
а) диктатор, вождь или монарх — данное лицо не может быть иноземцем или иноверцем;
б) Совет Неприкосновенных, или Совет Старейшин из 30 человек — назначенных и избранных пожизненно (функции которого адекватны функциям Государственного Совета и Сената империи); государство разделено не на губернии, а на наместничества;
в) избирательное право не всеобщее, оно зависит от ранга, стажа и образовательного минимума. Имущественный ценз отсутствует, а для представителей иных вероисповеданий и национальностей — наличие процентной квоты. Голосование обязательное;
г) партийная принадлежность мешает политической карьере — ответственные посты можно занимать после выхода из партии;
д) политические права инородцев и иноверцев ограничены.
Политическая философия нового государства, по мнению И.А. Ильина, это «полновластие лица, оформляющего подлинно аристократический всенародный отбор людей: диктаториальная аристо-демократия»[211].
Религиозный философ Георгий Федотов предлагал свой вариант демократии, он называл его «неодемократией», которая должна быть надпартийной: «формой новой демократии призвана стать демократия корпоративная или синдикальная […] Профессиональная структура является единственным наследником, которому умирающая партийная демократия может передать свое наследство […] избранный не может принадлежать ни к какой партии или обязан выйти из партии в момент избрания»[212].
Публицист журналов «Новый град» и «Современные записки» И.И. Бунаков-Фондаминский определял в качестве самого подходящего для России термин «хозяйственная демократия»: это должно быть «плановое хозяйство с преобладающим государственным и общественным сектором»[213].
В последнее время особую популярность приобрело понятие «суверенная демократия», популяризируемое Владиславом Сурковым, сторонником правой либеральной прослойки в «Единой России», представителем которой является президент Дмитрий Медведев. «Суверенная демократия» В.Ю. Суркова персонифицирована президентским курсом В.В. Путина, так как она оправдывает «централизацию, концентрацию властных, интеллектуальных и материальных ресурсов»[214] России.
Централизация, персонификация и идеализация — таковы три компонента русской политической культуры, на которых базируется предложенный В.Ю. Сурковым термин «суверенная демократия». «Суверенная демократия» звучит странно, как и «советский либерализм». В.Ю. Сурков признает, что в русской традиции понятие «суверенитет» ассоциируется с армией и флотом и носит «военно-полицейский окрас»[215].
«Суверенную демократию» как идеологию национального достоинства воспринимает и публицист «Литературной газеты» Александр Ципко, который приукрашивает понятие «демократия» на русский лад по причине негативного смысла, приобретенного им во времена Ельцина, когда «демократ» и «либерал» стали ругательными словами, символизирующими разграбление государства. Цель «суверенной демократии», по мнению А.С. Ципко, — «стать открытым и демократическим обществом, не потеряв при этом свою российскую идентичность и традиционный суверенитет, чтобы демократические свободы не вели к ущемлению национального достоинства»[216].
Дмитрий Медведев еще в качестве вице-премьера возражал против понятия «суверенная демократия», он предлагал заменить его понятием «истинная демократия», которую, однако, толковал в качестве «демократии при наличии всеобъемлющего государственного суверенитета», тем самым он по существу не отмежевывался от тезиса, введенного В.Ю. Сурковым. Однако для Медведева суверенитет — понятие юридическое, а не экономическое.
Наследник Путина более категоричен в отвер-гании вытекающей из «суверенной демократии» идеи о «суверенной экономике», которая равнозначна государственной экономике, или плановой экономике времен социализма, или изоляционизму, который совершенно не нужен России. Государство, по мнению Медведева, не должно быть эффективным собственником и его участие в экономике должно быть ограничено стратегическими сферами, такими как оборонно-промышленный комплекс, трубопроводный транспорт, электрические сети, атомная энергетика[217].
Александр Солженицын также предлагает термин «истинная демократия», но он понимает его иначе, нежели Медведев, противопоставляя его «партийному парламентаризму». Писатель разочарован постсоветской демократией в России по причине отсутствия свободного местного самоуправления: «Мы восхищаемся демократией в западных странах потому, что у них местное самоуправление великолепно работает. Не было бы у них демократии без местного самоуправления, а мы строим демократию без местного самоуправления, нам не нужно»[218].
Близкое пониманию А.И. Солженицына и определение демократии, данное Андреем Кончаловским: «Демократия — это общество, в котором большинство граждан в состоянии влиять на действия парламента и правительства»[219], согласно которому главное условие демократии — это не сами выборы, а активность граждан до и после выборов.
Близок к восприятию понятия «суверенная демократия» неоевразиец Александр Дугин, который предлагает для России два варианта «национальной русской демократии»: «органическую» и «соборную»[220], которые он противопоставляет «либеральной демократии».
Противником «либеральной демократии» выступает и журналист Михаил Леонтьев, он предлагает в качестве самой подходящей для России «цензовую демократию», ограничивающую политические права определенного круга граждан[221].
Либеральный политолог Леонид Радзиховский по причине отсутствия русской политической элиты вводит термин «догоняющая демократия»[222], как более мягкий вариант «управляемой демократии», который напоминает термин «вертикальная демократия» Джованни Сартори.
«Управляемая демократия», однако, присуща странам «третьего мира», от которых Россия категорически отличается. Политический режим в России нельзя назвать авторитарным, а эта характеристика — один из ключевых факторов «управляемой демократии».
Гражданские свободы в России — это факт. Даже если есть избирательно арестованные олигархи, такие как Михаил Ходорковский, главным образом по причине непомерных политических амбиций, то закон при этом был соблюден: и Ал Капоне был обвинен в неуплате налогов.
Действительно, задержание под арестом Гарри Каспарова было проявлением политической близорукости — его участие в президентских выборах только бы легитимировало их — подобное поведение властей является отголоском советских порядков, но оно не дает основания для крайних выводов о том, что в России нет демократии.
Российские СМИ свободны более всего в зоне сети интернет, но они зависят от своих собственников не меньше, чем от власти. Убийство Анны Политковской, которое первоначально некоторыми оппозиционными организациями связывалось с личностью Путина, произошло в момент, когда главная тема журналистки — война в Чечне, была уже не актуальна и не представляла угрозы для официальной пропаганды по кавказскому вопросу. Это убийство — явно не дело люмпенов, это заказной «глухарь», но связывать его с президентом более чем несерьезно, скорее это часть антирусской кампании, начатой убийством А. Литвиненко, который как потерпевший крах, разорившийся бывший агент КГБ выплыл из реки забвения только благодаря своей трагической смерти. Убийство Бориса Немцова тоже в таком ключе — политически интересен как жертва, чем как потерявший харизматичность 90-х гг. либерал, а также и место убийство выбрано драмматургически — вид на Кремль как место поклонения гораздо сильнее воздействует на аудиторию на Западе при напоминании о «путинократии» и прочая пропагандистская риторика.
Какие бы определения ни давались демократии по-русски: «суверенная», «органическая», «соборная», «духовная», «догоняющая», «управляемая» и т. д., самой специфической чертой русской политической культуры является роль власти в качестве творца политических образов и идеологем новой России.
Русская власть всегда была инициатором реформ, этим предопределяется и ее ответственность за все, что происходит в России. Одной из причин Октября 1917 года было то, что все слои русского общества ненавидели государство, десакрализо-ванное Николаем II даже и в его глазах — он не боролся за свой трон. Для русского человека важно гордиться своим государством (не чиновниками). В советский период десакрализация власти началась плавно при Хрущеве, достигла кульминации при Горбачеве. Сакральная функция русского государства была воскрешена правлением Путина, который восстановил имунную систему государства. Путин предложил русский вариант демократии, демонстрированный при последних президентских выборах, когда власть/государство предложило обществу политического лидера через партию власти — «Единую Россию», сформированную чиновничьим ресурсом и расцвеченную известными спортсменами, актерами и другими популярными личностями.
Общество в свой черед не имеет потенциала и даже потребности предложить свои кандидатуры, способные составить конкуренцию помазаннику Кремля. Электорат КПРФ Геннадия Зюганова и ЛДПР Владимира Жириновского все больше уменьшается, их риторика обветшала: первый застыл в позе стареющего номенклатурщика, в то время как второй делает ставку на политическое шоу. Правые — СПС — существуют лишь благодаря кремлевской администрации, поддерживающей разнообразие политической гаммы, а не в силу реальной общественной поддержки.
Между государством — сакральной властью, и демократией — инициативой снизу, инициативой народа, российское общество выбирает первое, откликнувшись на предложенную Путиным кандидатуру его заместителя. Институции в России всегда были сильнее общества. Борьба за власть в русской политической культуре выражается в виде конкуренции институций, а не партий. Партии обслуживают институции, а не общество (властовые проекты чиновничьих партий были еще при Черномырдине).
Общественный договор в русской понятийной политической системе отсутствует со времен империи: нет договора, есть вера. Этот образ мышления сохранился по сей день для большинства российских граждан. Не случайно на своей пресс-конференции 14 февраля 2007 года на вопрос, почему он выдвинул кандидатуру Медведева, Путин ответил: «Есть личная химия, я ему доверяю!».
Демократия становится частью политической жизни постсоветской России как результат сверху — по воле власти, а не по инициативе народа. Отсюда и русская специфика восприятия этой новой для России политической культуры, которую можно назвать имперской (или евразийской) демократией, или демократией по-русски, которую характеризуют следующие черты:
Имперскую/евразийскую демократию можно охарактеризовать как сочетание сакральной власти государства, выраженной в сильной централизации, и гражданских и политических свобод, гарантированных конституцией и соблюдаемых не только формально, но всеми — включая и Путиным, не принявшим никаких мер для обеспечения себе третьего президентского мандата, несмотря на свою огромную популярность.
Имперская/евразийская демократия означает отказ России имитировать буквально западноевропейскую демократию по причине отсутствия традиций местного самоуправления, с одной стороны, и огромных пространств, неизбежно вызывающих потребность в сильной власти, доминирующей над обществом.
Имперская/евразийская демократия означает демократию по-русски, при которой общество в силу исторических рефлексов прошлого склонно перекладывать ответственность за реформы на государство, а не инициировать их снизу.
Отношения государство/общество в России скорее личные, эмоционально обусловленные, чем прагматично договорные как в Западной Европе, но это не делает русских менее европейцами или «неспособными» воспринимать «западную демократию». Личное и отношение русских к демократии, из чего вытекают и все общественные дискуссии по поводу рассматриваемого термина со всеми его вариантами, представляющими собой лишь попытку его обрусения.
Россия — страна контрастов, русская демократия — тоже; имперский ореол власти совместим со свободами современной демократии. Будет ли сохранен впредь хрупкий баланс между властью и обществом, не доходя до поглощения зарождающегося гражданского общества государством — это вопрос будущего, или испытание имперской демократии.
Определить политическую систему постсоветской России Путина сложно, но нам ближе всего определение «просвещенный авторитаризм с евразийской демократией», которая полностью унаследована от Ельцина.
2.3. Егор Гайдар: демонизированный образ постсоветской России
Историческая память хаотично избирательна и трудно можно вывести закон маркировки символов времени. Чем более драматичным является событие, тем в большей степени эмоциональное перевешивает аналитическое в воспоминаниях современников.
Спустя двадцать пять лет после распада СССР современное российское общество все еще переживает травму от трансформации империи и ищет ответственных за эту национальную катастрофу.
Одним из маркеров общественной памяти о тяжести перестройки в начале 90-х, который довел до массового обеднения большую часть российских граждан и до сверхобогащения небольшой процент населения, является Егор Гайдар.
Внук советских писателей Аркадия Гайдара и Павла Бажова, сын военного корреспондента и контр-адмирала Тимура Гайдара, является представителем наиболее образованной части «золотой молодежи» советской номенклатуры. Ученый-интеллектуал с международной репутацией и перестроечный публицист, заведующий отделом экономической политики в журнале «Коммунист» с 1987 г., а впоследствии и в газете «Правда», Гайдар стал радикальным реформатором и автором «шоковой терапии» в постсоветской России, за что снискал себе лютую ненависть у большинства российского общества, живущих и по сей день.
Гайдар и российское общество
Кинорежиссер Станислав Говорухин, депутат Государственной думы от КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации), выразил наиболее распространенное мнение о Гайдаре в массовом сознании общества. Говорухин воспринимал Гайдара как «мерзавца», являющегося главным виновником поляризации богатых и бедных в новой России: «Я считаю, что тех, кто погубил миллионы, — их необходимо судить. И каждый раз, к сожалению, мы судим судом истории. А есть ведь сегодня живущие люди. Вот тот Гайдар, погубивший миллионы стариков и детей, погубивший, уничтоживший — разве он не заслуживает суда истории?»[223]
Другой известный советский кинорежиссер — Сергей Соловьев, гораздо менее политизированный, чем Говорухин, также не воспринял экономическую политику Гайдара, которая привела, по его мнению, к разрушению национального кинематографа в «зловонных водах коммерческой галиматьи, которыми заполнен коммерческий экран». Когда Сергей Соловьев обратился к Гайдару с просьбой о государственной поддержке российской кинематографии, последовал отрицательный ответ: «Мне тогда умный и благородный Гайдар ответил почти как Ленин: «Сегодня ещё рано». «А когда будет в самый раз?» — полюбопытствовал я. «Вот когда они всем миром насмотрятся Голливуда, тут-то вы и подтянетесь со своим «Сталкером». Гайдар, конечно, никакой не злодей, он, в сущности, хороший. Но, как и Ленин, он всё-таки кремлёвский мечтатель, теоретик космонавтики»[224]
Демонизированному образу Гайдара постсоветские либеральные круги противопоставляют глянцевый портрет «спасителя» России.
Крайности в отношении к Гайдару проявляются и институционально — точки зрения Думы и президента расходятся. В декабре 2009 г. Дума отказалась почтить память Гайдара. Предложение «Справедливой России» было отклонено «Единой Россией» и КПРФ. В мае 2010 г. Дмитрий Медведев подписал указ «об увековечении памяти» Гайдара за его «вклад в становление российской государственности и проведение экономических реформ»[225].
Обе точки зрения являются крайними, и не дают ответа на вопрос, почему именно Гайдар, а не Ельцин, который пригласил его в свою команду, считается ответственным за тотальное обнищание интеллигенции и советского среднего класса (общественная память забывает о том, что закон о приватизации был принят до Гайдара); почему отрицание направлено только на Гайдара, а не и на Анатолия Чубайса[226], который остался при Ельцине и после отставки Гайдара, а в настоящий момент также находится у власти как законопослушный олигарх. В общественной памяти все еще живы слухи о том, что Гайдар разбогател за счет государства, тогда как в действительности он оставался порядочным и не злоупотреблял своим служебным положением.
Возможно, российское общество не ожидало, что именно потомок Аркадия Гайдара разрушит все советское, и восприняло это как личное предательство. Легендарный дед Егора Тимуровича был не только писателем, но и добровольцем в Гражданской, а впоследствии и в Великой Отечественной войне, с которой не вернулся, он является символом советских добродетелей, в которой воспитывались многие поколения в духе романтизма.
Сам Гайдар утверждал, что стал «по-настоящему не советским»[227] впервые послед событий в Праге 1968 года: «Уютный привычный мир моего детства, где было все так хорошо и понятно, где были прекрасная добрая идея, красивая страна, ясные цели, вдруг дал трещину и начал рушиться. Детство неожиданно кончилось»[228].
Пражская весна 1968 года считается началом диссидентства в СССР (несмотря на более ранние проявления диссидентства) и является хорошим ориентиром XX века, особенно при написании автобиографии. Эта дата скорее может быть воспринята как часть личной мифологии Гайдара. Действительно, в то время он жил в Югославии, вдали от Москвы, и ему было всего 12 лет. Более вероятным антисоветским импульсом явилась война в Афганистане 1979 г., когда Гайдару было 23 года, и он уже был аспирантом МГУ (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова).
Егор Гайдар активно включился в перестройку, и быстро завоевал доверие Горбачева: «В 1989–1990 г. я неоднократно встречался с Горбачевым на широких, узких и совсем келейных совещаниях, помогал ему в работе над разнообразными документами»[229]. В 1990 г. Михаил Сергеевич создал специально для Гайдара Институт экономической политики при Академии народного хозяйства СССР.
Трансформация Гайдара из кабинетного ученого в радикального реформатора, из последователя Горбачева в союзника Ельцина, произошла в последние годы СССР (1990–1991), когда конфликт между Ельциным и Горбачевым трансформировался в конфликт «Россия против СССР». 12 июня 1991 г. Ельцин был избран президентом и его популярность нарастала с той же силой, с которой падал рейтинг Горбачева.
Начало 90-х годов было отмечено тремя ключевыми событиями — августовским путчем 1991 года, Беловежской пущей и октябрьским переворотом 1993 года. Участником всех этих трех событий был Гайдар.
Дата, когда Гайдар включился в политику, символизирует начало конца СССР — 19 августа 1991 г. Августовский путч был причиной перехода Гайдара из команды Горбачева в команду Ельцина. Театральная попытка ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) защитить референдум о сохранении СССР от 17 марта 1991 г. закончилась предрешенным провалом, и предоставила прекрасную возможность Ельцину повести открытую борьбу с союзными властями, олицетворяемыми Горбачевым. Гайдар уже сформировал свою концепцию либерализации цен, или «шоковую терапию» (хотя сам он отрицал этот термин[230]) и, естественно, встал на сторону сильного, на сторону того, кто мог ее реализовать — Ельцина. Гайдара отличает от всех реформаторов новой российской истории следование не личным интересам (он не извлек материальной выгоды), а научным.
Будучи талантливым исследователем, поглощенным своей теорией, Гайдар был готов любой ценой претворить ее из кабинетного творения в реальную политику. Этот особый фанатизм был следствием и идеализма Гайдара, унаследованного от советского воспитания.
Патриотическое чувство Гайдара, которое не оспаривается даже его противниками, гипертрофировалось у него в мессианский комплекс, которым он оправдывал свою финансовую политику. Гайдар верил в то, что спасение России зависело только от его экономической программы. В одном из своих последних интервью 2009 г. на деликатный вопрос Владимира Познера, как он принимает «свою непопулярность» в России, Гайдар ответил: «Сказать, что это приятно — нельзя. Но за все приходится платить. В том числе, и за спасение России»[231]. Мессианский комплекс у Гайдара был особенно сильным.
Гайдар принимает активное участие в политике новой России в наиболее драматические годы с начала перестройки и Августовской республики (август 1991 — декабрь 1993).
Гайдар использовал понятие революция в отношении событий 1991–1993 г. и разграничивал его от термина «смута»: «Важная характерная черта, которая отличает смуты в аграрных обществах от революций, состоит в том, что смуты заканчиваются восстановлением традиционных институтов, а в ходе революций укореняются новые, изменяются основы общественного устройства»[232]
Противники Гайдара — мэры Москвы (Гавриил Попов, доктор экономических наук, профессор, декан Экономического факультета МГУ во время учебы Гайдара, и Юрий Лужков), определили предшествующий период (1989–1991) как «Великую антисоциалистическую революцию»[233].
Александр Солженицын также является одним из отрицателей Гайдара и, несмотря на то, что он восторженно воспринял 1991 г., назвав его «Великой Преображенской революцией»[234], впоследствии быстро разочаровался и обобщил 90-е годы ельциновской власти как «безответственность перед народной жизнью… в безоглядной поспешности скорей установить частную собственность вместо государственной — Ельцин разнуздал в России массовое, многомиллиардное ограбление национальных достояний»[235]. В знак протеста в 1998 г. Солженицын не принял награду от Ельцина — орден Святого Андрея Первозванного, который Медведев вручил Горбачеву по случаю его 80-летия в 2010 году.
Ностальгирующий по СССР политический аналитик Сергей Кургинян, который обвинял Гайдара в том, что тот превратил страну в «тяжелейшего инсультного больного», категорически отвергает понятие революция в отношении к началу 90-х годов: «никакой буржуазной или иной революции при Ельцине (Гайдаре и других) не было. И реформ не было. Было же — политическое и иное выживание через регресс»[236]
Более близким термином для определения событий 1991 г., по моему мнению, является революция сверху. Натан Эйдельман ввел это понятие применительно к Великим реформам Александра II второй половины XIX века. «Революция сверху», однако, является подходящим определением и для распада СССР. Власть, а не общество, является основным инициатором коллапса СССР в Российской Федерации.
Каково участие Гайдара в «революции сверху»?
Почему Ельцин выбрал Гайдара?
Егор Тимурович объяснял это тем, что никто кроме него не хотел брать на себя ответственность. Министр экономики в правительстве Гайдара Андрей Нечаев защищал ту же позицию в отношении кабинета Гайдара, получившую в журналистских кругах прозвище «правительство камикадзе»: «Гайдар, впоследствии вспоминая те коллизии вокруг формирования правительства, часто шутил, что власть была тогда, как горячая картошка. Ее все перебрасывали с руки на руку, и никто не хотел оставить у себя надолго. Реально все серьезные политики и экономисты понимали, что страна неудержимо катится к глубокому кризису, выйти из которого можно, только пойдя на радикальные, жесткие, а потому заведомо непопулярные меры»[237].
Советник по экономическим вопросам премьер-министра Виктора Черномырдина и президента Путина (2000–2005), президент Института экономического анализа в Москве, Андрей Иларионов опровергал версию Гайдара: «Готовы были (и очень хотели) взять власть многие — и Юрий Скоков, и Олег Лобов, и Святослав Федоров, и Евгений Сабуров. Но власть им не предлагалась. Предложено было двоим — Григорию Явлинскому и Егору Гайдару»[238].
Григорий Явлинский также утверждает, что Ельцин предложил сначала ему пост Гайдара при посредничестве государственного секретаря президента Геннадия Бурбулиса, известного как «крестный отец» правительства Гайдара.
Явлинский защищал идею трансформации СССР в Экономический союз суверенных республик, и поэтому участвовал в создании экономической программы «400 дней», переименованной позднее в «500 дней»[239] (1990 г.). Сегодня этот проект реализуется в другой форме — Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс) с 2000 г. и Таможенный союз между Россией, Беларусью и Казахстаном (в силе с 2010 г.).
В отличие от Гайдара, Явлинский выступал против либерализации цен, и предлагал приватизацию мелких и средних предприятий: «Либерализация цен — это ведь и есть одна из мер финансовой стабилизации. Она устраняет дисбалансы и диспропорции, если есть частные производители и есть конкуренция. В России, как известно, в начале 1992 года ничего этого не было». Явлинский утверждает, что отклонил предложение Ельцина, поскольку было принято решение: «Россия пойдет одна»[240].
Геннадий Бурбулис, который знал Ельцина с 1989 г., когда возглавлял его предвыборную кампанию в Свердловске, а впоследствии и в Москве, отрицал тот факт, что Ельцин предлагал Явлинскому пост Гайдара: «Это было не так. Я прекрасно знаю тогдашнее отношение Ельцина к Грише. Он бы его даже рассматривать не стал».
Бурбулис считал себя «серым кардиналом», каковым он был известен в прессе начала 90-х годов, однако Ельцин был далек от влияния этой фигуры, и, выбирая своего вице-президента, остановился на Александре Руцком, не на Бурбулисе.
Бурбулис признавал, однако, что уже с ноября 1990 г. Ельцин взял курс на эмансипацию России от СССР: «Мы начали строить предпосылки двухстороннего регулирования наших отношений»[241], т. е. судьба Союза была предрешена задолго до назначения Гайдара.
Ельцин не пишет о своих колебаниях между Гайдаром и Явлинским, которого описывает следующим образом: «Измученный борьбой за свою программу, он приобрел некоторую болезненность реакций». Естественно, что Ельцин предпочел Гайдара, который был против сохранения СССР в какой бы то ни было форме, Явлинскому, выступавшему за союзную власть, т. е. за Горбачева.
Даже если абстрагироваться от экономических различий в программах Явлинского и Гайдара, остается политический фактор, который всегда был ведущим в России: «Экономика все-таки идет вслед за политикой»[242]. Ельцин жаждал власти даже ценой Союза.
В своих записках Ельцин описывает свое первое впечатление от Гайдара: «Гайдар прежде всего поразил своей уверенностью… Это просто очень независимый человек с огромным внутренним, непоказным чувством собственного достоинства. […] И знаете, что любопытно — на меня не могла не подействовать магия имени. Аркадий Гайдар — с этим именем выросли целые поколения советских детей. И я в том числе. И мои дочери».
6 ноября 1991 г. Ельцин назначил Гайдара вице-премьером и министром экономики и финансов: «Научная концепция Гайдара совпадала с моей внутренней решимостью пройти болезненной участок пути быстро. […] Я понимал, что в российский бизнес, помимо тертых советских дельцов, обязательно придет такая вот — простите меня — «нахальная» молодежь. И мне страшно захотелось с ними попробовать, увидеть их в реальности. Короче говоря, было очень заманчиво взять на этот пост человека «другой породы».[243]
Одним из качеств Ельцина было его безошибочное чутье на настроение людей и готовность экспериментировать, но в меру. Борис Николаевич очень быстро сориентировался на предмет тяжелых последствий реформы Гайдара, отразившейся и на президентской репутации, и заменил его Черномырдиным, который был «из его породы».
Гайдар и Беловежская пуща
Беловежская пуща 8 декабря 1991 года — это, прежде всего, политический успех Ельцина, который подвел итог битве за власть с Горбачевым.
В общественной памяти, однако, виновником денонсирования договора о СССР является Гайдар. Гавриил Попов и Юрий Лужков спекулировали демонизированным образом Гайдара, и в популистском стиле обвиняли его: «Гайдар активно работал над всеми документами Беловежья. И он несет полную ответственность за принятый там вариант выхода»[244]. Первый мэр Москвы, Г. Попов, приверженец Горбачева, был убежден в том, что Союз можно было сохранить без прибалтийских и закавказских республик.
Гайдар действительно работал в команде Ельцина в Беловежской пуще, однако предпочел хранить молчание или дать скудную информацию: «Суть того, о чем договорились 8 декабря в Беловежской пуще, а потом 21 декабря в Алма-Ате, проста: мы признаем факт распада Советского Союза, не предъявляем друг другу территориальных претензий, ядерное оружие будет вывезено на территорию России. Остальное — детали»[245]
В своих книгах Гайдар уделил больше места причинам краха СССР, и определил начальной датой 13 сентября 1985 г.: «Это день, когда министр нефти Саудовской Аравии Ямани сказал, что Саудовская Аравия прекращает политику сдерживания добычи нефти, и начинает восстанавливать свою долю на рынке нефти. После чего, на протяжении следующих 6 месяцев, добыча нефти Саудовской Аравией увеличилась в 3,5 раза. После чего цены рухнули. Ну. Там можно смотреть по месяцам — в 6,1 раза»[246]. Гайдар даже намекнул на то, что ознакомлен с планами СССР военного вмешательства в Персидский залив, что побудило Саудовскую Аравию ориентироваться на США. Было ли это пропуском советской разведки или успехом американской — предстоит узнать, официальные документы пока что не опубликованы.
В своем желании избежать вопроса о Беловежской пуще, Гайдар пустился в экономическую историю СССР, чтобы доказать, что 8 декабря 1991 года — это всего лишь символический акт. Цены на нефть, однако, никогда не являются постоянной величиной, и не могут быть решающим фактором распада империи. Зависимость российской экономики от экспорта нефти и газа не изменилась со времени обнаружения первого месторождения в Западной Сибири в 60-х годах, а в последние десять лет оно обеспечивает Российской Федерации бесспорную геополитическую стабилизацию.
Ответственным за Беловежскую пущу является только президент России. Леонид Кравчук поддержал его, поскольку Ельцин не оспаривал передачу Крыма Украине Хрущевым. Была заключена сделка «Крым за Кремль» — более точные слова публициста газеты «Литературная газета» Александра Ципко.
Гайдар защищал национальную политику Ельцина в 1991 г., олицетворявшуюся лозунгом президента: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить!», и реализованную в Беловежской пуще.
В желании мотивировать свои политические решения, Гайдар часто сравнивал события 1991 г. с событиями 1917 г.: «Важнейшим решением, принятым Россией осенью 1991 года было то, что она не может и не хочет силой сохранять контроль над постсоветским пространством. Российское руководство прагматично повторяло ленинский тезис о праве наций на самоопределение вплоть до отделения, пыталось при этом сформировать институты государственности самой России, сохранить ее целостность. Все это напоминает то, что делали большевики в 1918 году»[247].
В отличие от Ельцина, который изменил свою позицию по национальному вопросу во время первой чеченской войны 1994 г., Гайдар остался последовательным либералом и открыто выступил против президента, организовав оппозиционные митинги, но без особой поддержки. Гайдар не был политиком, он был идеалистом. Действительно, в 1996 г. созданная им партия «Демократический выбор России» поддерживала президентскую кампанию Ельцина, но альтернатива была абсолютно неприемлемой для Гайдара — КПРФ Зюганова. Для победы Ельцина, однако, решающей была финансовая поддержка олигархов, организованная на встрече в Давосе Чубайсом[248].
Национальные убеждения Егора Тимуровича воспринимались большей частью российского общества как национальное предательство, отсюда и очередная причина болезненной нетерпимости к внуку Аркадия Гайдара.
Мифологизация «шоковой терапии»
«Шоковая терапия» Гайдара началась в январе 1992 г. и по его признанию, либерализация цен была неизбежным шагом к «политическому самоубийству»[249].
Гайдар был убежден, что только таким образом будет предотвращена «продовольственная катастрофа и полномасштабная гражданская война»: «Мы хотели предотвратить голод, который был абсолютной реальностью, и мы хотели предотвратить гражданскую войну. С этими задачами мы справились»[250].
Продовольственный кризис в ноябре-декабре 1991 г., однако, явился результатом объявления в конце октября либерализации цен правительством. До 2 января 1992 г. товары спекулятивно исчезли.
Гайдар сам признавался в том, что решается на либерализацию, поскольку верит в теорию, а не потому, что знает, откуда появятся товары: «Вопрос о том, появятся ли товары после того, как мы разморозим цены, для меня был одним из самых сложных. Потому что мне бесконечное количество людей, очень умных и информированных, резонно говорили, что если товаров нет — и вдруг вы разморозите цены — откуда же они появятся? Вот все, что знаю про переходные экономики, подсказывало мне, что они появятся — просто появятся»[251]. Товары появились, но вместе с ними появилась и гиперинфляция, которая поглотила все сбережения населения.
Андрей Илларионов аргументировано демифологизирует тезис Гайдара об угрозе массового голода и ожидании гражданской войны в конце 1991 г.[252]
Лауреат Нобелевской премии по экономике (2001) Джозеф Стиглиц также систематизировал ошибки «шоковой терапии»[253]. Джеффри Сакс, профессор Колумбийского университета, советник Гайдара, определил «шоковую терапию» как «злостную, предумышленную, хорошо продуманную акцию, имеющую своей целью широкомасштабное перераспределение богатства в интересах узкого круга людей»[254]. До России Дж. Сакс участвовал в проведении «шоковой терапии» в Боливии и в Польше — странах, опыт которых весьма отличается от российского.
Присутствие американских советников при Гайдаре для разработки программы «шоковой терапии» внесло свой вклад в формирование негативного образа правительства, и воспринималось как вмешательство во внутренние дела России. Обратный вариант присутствия российских советников в США — немыслим.
Помимо американских советников в Россию проникли бесчисленные неправительственные организации преимущественно из США, Англии, Германии и др., которые оказывали «помощь демократии» [democracy assistance]. В плане американского посольства в России на период 2000–2002 гг. было определено, что «консолидация демократических институтов и ценностей в России в течение продолжительного периода представляет собой жизненно важный интерес для американской безопасности»[255]. Неправительственные организации были строго организованны в «транснациональную демократическую сеть» [transnational democracy networks] во всех посткоммунистических обществах[256].
Если американские советники Гайдара присутствовали в течение ограниченного срока — от двух до трех лет, то американские неправительственные организации[257] транснациональной сети на протяжении долгих лет беспрепятственно существовали в России, пока в 2012 г. российская Дума не приняла закон об «иностранных агентах»[258], имитируя американское законодательство с большим опозданием.
Единственной причиной того, что Ельцин терпел американских советников, было ожидание кредита из США, который он так и не получил. Отсюда и главное обвинение против Гайдара в том, что он допустил разрушение военно-промышленного комплекса, который не может быть приватизирован, а это было на руку США.
Ожидание кредитов с Запада было связано и с другой проблемой, возникшей перед правительством Гайдара — валютными резервами, которые в ноябре 1991 г. составляли всего 26 млн. долларов. В 2009 г. резервы составляли 383 млрд, долларов. Куда исчезли валютные резервы СССР во время Горбачева, никто не знает — по крайней мере, до сих пор официально никто не привлечен к ответственности за это. В феврале 1992 г. Гайдар даже пригласил американскую фирму «Кролл», раскрывшую тайные счета Саддама Хусейна, для отслеживания пути советского золота. Трехмесячным контрактом предусматривался гонорар в 900 тыс. долларов. Гайдар жаловался на невозможность продления контракта, поскольку Министерство безопасности не сотрудничало с ним, но это естественно с точки зрения национальной безопасности[259].
По признанию автора программы приватизации Чубайса, «шоковая терапия» создала массовое недовольство: «представление о справедливости у народа мы сломали ваучерной приватизацией»[260]. В декабре 1992 г. Гайдар был вынужден уйти в отставку. Оценки приватизации были полярными, также как и оценки деятельности Гайдара. Некоторые исследователи называли ее просто «пиратской»[261], другие определяли ее как «одно из немногих положительных моментов после 1991 г.»[262] или «служащей интересам всех российских граждан», а ошибку Гайдара видели в его вере в то, что институты рыночной экономики появятся сами собой[263], третьи обнаруживали следы приватизации в политической и в социальной жизни России[264], т. е. во всех аспектах.
Реформаторам в России никогда не было легко и здесь особенно точным является взгляд Ельцина: «Россия сопротивлялась экспериментам, поскольку в России очень сложно что-либо создать, но еще сложнее в ней что-либо развалить»[265]. Гораздо труднее, однако, пришлось российскому народу, за счет которого проводились реформы Гайдара.
Гайдар и октябрьский переворот 1993 г.
Ельцин принял отставку Гайдара, однако их продолжал связывать общий политически противник — Съезд народных депутатов[266], в котором преобладало военно-промышленное лобби. Путь Ельцина к власти начался с Беловежской пущи, но в период Августовской республики ему предстояла другая схватка: президент — парламент, или традиционная в России борьба между политическими институтами.
Ситуация двоевластия (Съезд народных депутатов и президент) была порождена и конституционным кризисом. После 1991 г. в РФ продолжала действовать Брежневская конституция 1977 года, в которую до лета 1993 г. было внесено 320 поправок. Каждая поправка, вносимая президентом, встречала яростное сопротивление Съезда. Ельцин был убежден в неэффективности работы законодательного органа: «Страна у нас, конечно, большая. И все-таки полторы тысячи человек — это уже не парламент, не сенат, а какое-то народное вече. Тут уже кто кого перекричит. Тихим голосом говорить бесполезно — начинают действовать законы большого пространства, психологические факторы общения с толпой (в данном случае с толпой народных избранников)»[267].
22 марта Ельцин запланировал на 25 апреля 1993 г. проведение референдума по принятию новой конституции, нового избирательного закона о Думе, о доверии президенту, о проведении досрочных выборов президента и в парламент. При положительном голосовании Верховный совет и Съезд автоматически лишались своих полномочий.
Конституционный суд признал предложения президента нелегитимными, и созвал внеочередной съезд, на котором была предложена процедура импичмента, но вместо необходимых 689 голосов, оппозиция получила 617.
Неуспех Съезда был обусловлен и тем, что Ельцин безошибочно чувствовал психологию россиян. Президент не случайно выбрал Кремлевский Дворец для голосования депутатов: «Есть все-таки какая-то магия места, воздуха истории. Подсознательно включаются у человека защитные механизмы. Механизмы генетической памяти — ведь это Кремль, это Россия, это моя страна. Эти-то механизмы и подавили агрессивный импульс, на который рассчитывали мои противники».
Опасения Ельцина по поводу процедуры импичмента также показывают, насколько хорошо ему были известны общественные настроения в России: «Чем, собственно, страшно это слово?.. Всенародно избранный президент не может быть отстранен от власти съездом… Но слово произнесено. А для нашего народа именно слово имеет мистическое значение. Такая у нас, у русских, психология. (Не пишет «у россиян»!). Не импичмента я боялся, а именно простого русского глагола — «сняли». Скинули. Или еще как-нибудь похлеще. […] Скинули, значит, власти нет, все разрешено»[268].
В своих записках Ельцин признается, что в начале сентября 1993 г. он уже решил распустить Верховный совет. 18 сентября он назначил Гайдара вице-премьером, а 21 сентября издал Указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в РФ». Верховный совет и Съезд народных депутатов были распущены, и до новых выборов страна управлялась президентскими указами и постановлениями правительства. Президент присвоил и право назначать главного прокурора. Конституционному суду было «предложено» не созывать заседания до выборов, назначенных на 11–12 декабря 1993 года. Ельцин ввел президентское управление.
Белый дом превратился в осажденную крепость — он был заблокирован информационно, были отключены телефоны, электричество, вода, а с 25 сентября и частями полиции (милицией и ОМОНом) — там находился Президиум Верховного совета, а также депутаты во главе с вице-президентом Александром Руцким. Телевидение цензурировалось президентом.
Конституционный суд объявил указ № 1400 про-тивоконституционным. Верховный совет охарактеризовал действия Ельцина как государственный переворот, и передал президентские полномочия Руцкому.
4 октября Ельцин штурмовал танками Белый дом. Октябрьский переворот 1993 года интерпретируется по-разному в литературе. Американский русист и посол США в России Майкл Макфол чаще всего предпочитает безличное «октябрьские события», или «трагические события октября 1993», реже — «трагические военные столкновения между двумя группами», и не становится ясно, кто нарушает конституцию, используя насилие, чтобы захватить власть, а слово «переворот» не используется, лишь иногда встречается «бомбардировка парламента в октябре 1993-го»[269], что опять-таки не указывает на ответственного за это событие. Ричард Саква предпочитает термин «кризис 3–4 октября 1993-го»[270].
А где же был противник насилия, гражданской войны, демократ Егор Гайдар? Гайдар раздавал автоматы и безапелляционно поддерживал недемократические действия Ельцина, которые привели к созданию президентской республики в России с конституцией 1993 г. Гайдар называл события октября 1993 г. «краткосрочной гражданской войной»[271]. Впрочем, и руководитель КПРФ Геннадий Зюганов не помешал Ельцину в октябре 1993 г., а остался лояльным к нему[272] (как позднее и к Путину, что в определенной степени объясняет его политическое долголетие).
Новые российские либералы не реагировали на насилие, даже оправдывали его. Чубайс представил «расстрел Белого дома» как «разгром вооруженного мятежа коммунистов, поддержанных фашистами и бандитами»[273].
Гайдар объяснял свою поддержку Ельцина неизбежностью «силового противостояния» между правительством и Верховным советом: «Компромисс мало вероятен. Ядерная держава не могла жить в условиях безвластия, это опасно для мира»[274]. Гайдар оправдывал Ельцина как защитника апрельского референдума 1993 г. Его подход, однако, был весьма избирательным, поскольку ГКЧП 19 августа защищал народную волю — референдум 17 марта 1991 г. за сохранение СССР.
Если до 4 октября действия Гайдара имели идеалистический характер, и могут быть оправданы его офицерской порядочностью, то после ельцинского путча его демократический образ остается декларативно книжным. К сожалению, методы российских демократов постсоветской действительности ничем не отличаются от большевистских. «Расстрел Белого дома» ликвидировал двоевластие, но расстрелял российскую демократию.
«Для меня Егор Гайдар — это символ всего передового, того, что пока еще не осуществилось в России»[275]. Этой оценкой Гайдара журналист Владимир Познер обобщает мечту о демократической и европейской России.
Мечта Гайдара о сильной и свободной России, однако, является чистым продуктом неолиберализма, идеализирующего рынок, а результатом его дела является «олигархический капитализм». Не случайно, в январе 1996 г. в Давосе именно олигархи решили поддержать Ельцина на президентских выборах[276].
2.4. Никита Михалков и Андрей Кончаловский: режиссерский взгляд на новую Россию
Отношения между интеллигенцией и властью в России — будь то имперской или советской, или постсоветской, имеют особый характер — личный, эмоциональный, всегда с противоречивыми крайностями — придворными или оппозиционными, в большинстве случаев. Интеллигенция — типично русское явление, основным призванием которого является быть «звуком совести»[277], не изменилось с XIX века до сих пор.
Братья, кинорежиссер Никита Михалков и театральный и кинорежиссер Андрей Кончаловский, сыновья автора советского и российского гимна — поэта Сергея Михалкова, с одной стороны, имеют старинные дворянские корни, а с другой, являются частью придворной советской интеллигенции, покровительствуемой властью. При управлении Сталина Сергей Михалков мог свободно посещать церковь и крестить своих сыновей.
Едва ли Иосиф Виссарионович питал слабость к Сергею Михалкову из-за стихотворения «Светлана», опубликованного в газете «Правда» в 1936 г., или из-за совпадения художественного вкуса. Сталин любил роль покровителя — не только Сергея Михалкова, но и Михаила Булгакова, это является частью традиции российской власти (Николай I был личным цензором Пушкина).
Сергей Михалков оставался одним из любимцев власти до распада СССР и после президентских выборов, на которых победил Владимир Путин.
Конкуренция между братьями, особенно если они творят в одной области, явление нормальное. В поиске своей индивидуальности Андрей Кончаловский выбрал фамилию своей матери. В 80-е годы он и географически вышел из-под влияния своего отца и популярности своего брата, уже известного советского режиссера, и уехал в США (не как эмигрант, а как супруг француженки). Кончаловский не любит, когда его сравнивают с Михалковым: «Я говорю, почему не сравниваете с Бертолуччи, с которым я дружу уже 30 лет?»
Братья, однако, имеют общие философские пристрастия. А. Кончаловский приоткрывает своего дальнего родственника Дмитрия Кончаловского, автора книги «Пути России», изданной в эмиграции после его смерти (Париж, 1969). Д. Кончаловский был последователем Николая Бердяева, чьи идеи о России позже были восприняты и А. Кончаловским, и Н. Михалковым.
Оба брата проявляют интерес к белой эмиграции, но Михалков ориентируется главным образом на консервативную мысль Ивана Ильина, не случайно воспринятую и Путиным как идеология партии власти «Единая Россия». Сам лозунг «Единая Россия» принадлежит белым времен Гражданской войны.
С одной стороны, русский консерватизм всегда защищал идеи сильной централизованной власти, что отвечает духу президентской республике с конституцией 1993 г. С другой стороны, понятие «консерватизм» не дискредитировано в новой России — в отличие от «либерализма», который ассоциируется обществом с олигархией, приватизацией и разграблением государственной собственности в начале 90-х годов.
В отличие от Дмитрия Медведева, который избегает использовать понятие «идеология», Путин говорит об «идеологии согласия»[278]. Н. Михалков также часто использует термин «идеология», тогда как А. Кончаловский относится к нему негативно.
Кончаловский и Михалков определяют себя консерваторами: «С гордостью могу себя назвать, что я не реакционер, что я консерватор»[279], — делится Кончаловский. Михалков предпочитает термин «просвещенный консерватор» и издает свой Манифест «Право и Правда» (2010). Консерватизм Михалкова в стиле «ретро», в стиле идей Константина Победоносцева и самого консервативного российского императора Александра III, которому он неоднократно выражал свое почтение
Если Михалков проявляет особый интерес к русским консерваторам второй половины XIX в., то Кончаловский интересуется авторитарными диктаторами XX в. Он даже снимает документальный фильм о Гейдаре Алиеве.
Общей является позиция братьев в отношении миссии государства. В своем Манифесте Михалков предлагает термин «гарантийное государство», не давая никакого нового определения, однако предусматривает наличие всего трех политических партий в России: консервативной, либеральной и радикальной. Кончаловский рассматривает государство как сдерживающий человеческие крайности фактор: «Бердяев замечательно сказал — что государство строилось не для того, чтобы привести людей в рай, а для того, чтобы удержать их от падения в ад. Собственно, государство — это и есть то, что должно заставлять людей быть людьми»[280].
Оба брата симпатизируют российскому государственному деятелю Петру Столыпину. Кончаловский видит в нем олицетворение реформаторских способностей сильной власти: «… либеральные реформы в России можно проводить только при ужесточении режима, ибо любое послабление в системе ассоциируется у русского со слабостью власти»[281]. Михалков воспринимает Столыпина как сочетание «просвещенного консерватизма и вооруженной эволюции»: «… он понимал, что единственная серьезная мощь и опора государства — это человек на земле»[282].
Если консерватизм Кончаловского является скорее культурологическим, то консерватизм Михалкова, прежде всего, политический. Несмотря на то, что они являются последователями консервативной идеи, Кончаловский и Михалков имеют свои видения ее реализации в России.
Братья отличаются и своим отношением к власти. Никита Михалков продолжает традицию своего отца, тогда как Андрей Кончаловский после возвращения из США в 1991 г. предпочитает держаться подальше от Кремля. Ельцин не простил Н. Михалкову его дружбу с Александром Руцким после переворота 1993 г., однако не мешал его общественной деятельности.
Н. Михалков не скрывает симпатий Путину, и участвует в сборе подписей в поддержку третьего президентского мандата. Сакрализация власти при Путине является частью и политической философии Н. Михалкова, с одной стороны, а с другой, ему присуще характерное для россиян личное отношение к власти: «… я мечтаю любить тех, кто руководит моей страны и от кого зависит жизнь моих детей и внуков, но у меня не получается… но если у меня есть возможность так относиться, почему я должен это скрывать, я испытываю наслаждение от того, что мне не стыдно за того человека, который представляет мою страну».
Если поведение Ельцина во время его второго мандата будило чувство стыда у россиян, то Путин вернул престиж главе государства. Для россиян очень важно гордиться своим государством. После речи Путина в Мюнхене (2007) Михалков поделился: «Я испытал физиологическое наслаждение от собственного достоинства, от достоинства того, кто представляет моей страны […] который не боится, что он не будет принят»[283].
Михалков не скрывает своего предпочтения Путина перед Медведевым. На вопрос, за кого из них двоих он будет голосовать, если они явятся на выборы в 2012 г., его ответ был однозначным — «за Путина». Путин «реально ощутил пальцами огромность нашей страны и ее проблем», тогда как Сколково[284] Медведева — это не Россия: «…инновации правильное дела, но если не учитывать миллионы гектар земли, которые не ухожены»[285].
Кончаловский не занимает категорической позиции ни к одному из представителей тандема, но признается: «Да, это правительство делает ошибки. Но все равно в стране появилась хоть какая-то стабильность»[286].
Различна и общественная активность братьев. Михалков является председателем Союза кинематографистов, где вводит авторитарное управление и в 2008 г. часть кинодеятелей демонстративно вышли из Союза. Первоначально Кончаловский оставался в стороне от общественной деятельности, интересовался только своим творчеством, и даже не брал студентов. Более десяти лет он был формальным членом Союза кинематографистов, но в 2010 г. заплатил всю сумму членских взносов, чтобы включиться в его деятельность.
Кончаловский является противником политики Михалкова как руководителя Союза: «Художников нельзя сплотить, особенно молодое поколение, под каким-то знаменем идеологии. Нет, нельзя. Особенно, я повторяю, если речь идет о том, что стали делиться фильмы и люди, оценка такая «Вот, мы защищаем российское искусство, российскую культуру, а вот есть люди, которые ее пытаются разрушить»»[287]. Кончаловский против существования двух киноакадемий — «Ника» (с 1987 г.) и «Золотой орёл» (с 2002 г.) — и призывает к объединению гильдии.
Различно отношение братьев и к интеллигенции. Михалков не согласен, чтобы его причисляли к ней. В его представлении русский интеллигент «должен быть все время в оппозиции, пить водку, помереть под забором от туберкулеза, и вот тогда это настоящий русский художник, это же бред»[288]. Михалков определяет себя «летучим аристократом»[289] и противопоставляет интеллигенцию аристократии, к которой причисляет и Пушкина, Достоевского, Толстого, Ильина.
«Летучий аристократ» Михалков, однако, не отказался от синего проблескового маячка на своем джипе, на котором выезжал на встречную полосу московских улиц, за что получил прозвище «Мигалков». Под давлением общественного мнения в мае 2011 г. Министерство обороны лишило Михалкова «мигалки», которую он получил, будучи председателем Общественного совета при министерстве. В ответ Никита Сергеевич сразу же ушел в отставку и остро раскритиковал парад Победы 9 мая 2011 г.
Кончаловский уважает главную роль русской интеллигенции: быть оппозицией власти: «Эта прослойка всегда должна быть в оппозиции к власти, попирающей индивидуальность. В отличие от интеллектуала, который вовсе не обязательно находится в оппозиции. Таких интеллектуалов сегодня на Западе полно. Они запросто могут жить в буржуазной стране и преспокойно поддерживают власть. Что настоящим интеллигентам категорически противопоказано»[290]. Но оппозиции в России часто приходится расплачиваться, и Кончаловский считает абсолютно верным наблюдение из личного опыта Варлама Шаламова о русской интеллигенции: «Русская интеллигенция без тюремного опыта — не вполне русская интеллигенция»[291].
И Кончаловский, и Михалков ищут национальную идею, которая бы заполнила идеологический вакуум после 1991 г. Михалков предлагает идею «просвещенного национализма»: «полиэтнического и поликультурного. Это свободный, творческий, в настоящем смысле слова созидательный национализм. В нем нет комплекса инородства»[292]. Результатом этого просвещенного национализма является создание «национального иммунитета»[293], Михалков часто использует и понятие «национальный код», характерное для консервативной лексики. Андрей Кончаловский предпочитает термин «культурный код», который он понимает как «этический»[294].
Михалков существенно отличается от своего кумира Ивана Ильина, в политической схеме которого инородцы не имеют равных прав с остальными гражданами России. Никита Сергеевич не разделяет безоговорочно и идей Путина по вопросу о «русском» и «российском», когда нужно определять нацию. На языке Путина нация является «российской», тогда как Михалков не принимает эту политкорректную форму, и в своем Манифесте защищает «уникальную русскую нацию». «Российское» Михалков использует, говоря о государстве, или о гражданской принадлежности.
С другой стороны, Михалков согласен с Путиным по вопросу «евразийских координат» «особого сверхимперского сознания» русских. Кончаловский занимает еще более крайнюю позицию — он не считает русских европейцами, по своей ментальности и поведению они являются азиатами.
Кончаловский призывает к преодолению комплекса неполноценности по отношению к Западу: «У нас все-таки с Петра I-я убежден в этом — начался комплекс неполноценности перед Западом. Те люди, которые накрылись этим тонким плащом европейской цивилизации их потомки — дворяне, все — они страшно хотели быть похожими на то. Но похожими внешне, по форме, а не по содержанию. И сегодня это, увы, превратилось, особенно сейчас, в очень странные, я бы сказал, экстравагантные формы. «Литтл Итали» — поселок, «Люксембург» — поселок, «Хайвей», «Фиш-хауз». Я даже видел магазин, который назывался «Ткани. Энтропия». Клянусь, но красивое слово»[295].
Различны, однако, их видения реализации нового национального сознания. Кончаловский рассчитывает на создание среднего класса и на трансформацию сельского сознания в буржуазное, как образ мышления — эмансипацию от государства. В этом отношении Кончаловский либерал, тогда как Михалков остается консерватором и призывает не к переменам, а к сохранению русского менталитета, или «корневой системы». Если Кончаловский рассчитывает на национальное сознание буржуазии, то Михалков делает ставку на аристократию, имея в виду не статус, а поведение.
Объединяет Кончаловского и Михалкова то, что они не воспринимают неолиберальную идею как часть будущего России: «…либеральная мысль потерпела очень серьезный философский удар, во-первых, с пропагандой демократии в отсталых странах и […] когда Уолл-стрит рухнул, и выяснилось, что там все большие люди в красивых костюмах и с солидными лицами оказались жуликами. […] Сегодня цель — стать богатым. Разрушительна»[296]. Михалков видит решение в «социальной рыночной экономике»[297].
Советская система надолго дискредитировала социальную идею, а сейчас глобальное давление рынка дискредитирует и идею либерализма. Никита Михалков и Андрей Кончаловский являются частью общего фона разочарования русской интеллигенции перестройки, протеста против безыдейной жизни, породившей «криэйтора» (из романа Виктора Пелевина «Генерация «П»») и уничтожающей творца. «В мире не хватает ирациональная вера в добро»[298]…
2.5. Есть ли декабристы постсоветской России?
Исторические аналогии редко бывают в состоянии помочь найти адекватное объяснение событиям современности, что невольно заставляет вспомнить образное определение человеческого опыта, данное Конфуцием: фонарь, который освещает пройденный путь, но не проливает свет на горизонт впереди нас. События, которые в России между парламентскими и президентскими выборами (4 декабря 2011 г. — 4 марта 2012 г.), пробудили в обществе исторические воспоминания, с одной стороны, о феврале 1917 г., а с другой — о 14 декабря 1825 г.
Ключевым событием, уникальным для социальной жизни России, стал митинг на Болотной площади 10 декабря 2011 г., на котором российское общество впервые продемонстрировало свое гражданское поведение вполне спонтанно[299], безотносительно от политических лидеров, объединенное идеей требования честных, справедливых выборов, т. е. соблюдения закона, трактуемого как высшая форма уважения власти к каждому отдельному человеку в России.
Уважение к закону было характерно и для декабристов, которые решились поднять восстание до принятия присяги на верность новому императору, ибо, дав клятву, они не смогли бы ее нарушить, верность ей была для них делом чести. Для декабристов сакральной была присяга на верность императору, а для граждан, митинговавших на Болотной, священной являлась Конституция Российской Федерации.
Сравнение исключительно высокой гражданской активности, характерной для обеих столиц и части других более крупных городов с событиями февраля 1917 г. и ожидание их продолжения в виде нового Октября, не корректно: Февральская революция произошла с запозданием, поэтому за ней и последовал большевистский Октябрь.
Декабристы в 1825 г. на Сенатской площади выступили со своими требованиями своевременно, в ту пору, когда Россия могла бы предпринять реформирование, — после подъема, вызванного победой над Наполеоном (1812 г.). Беда декабристов состояла в том, что в своих взглядах они предвосхищали власть, которая в России всегда выступала инициатором перемен ввиду ответственности, которую она несла за исторические судьбы государства.
Гражданские требования Болотной также были своевременны: Россия находится на пути модернизации и создания новых для исторической реальности страны традиций демократического общества. Беда митингующих на Болотной площади состояла в том, что политиками, которые попытались воспользоваться этим новым для России гражданским поведением, оказались маргинализованные постсоветские лидеры с большевистскими замашками, часть которых — такие как Михаил Касьянов, Владимир Рыжков, Борис Немцов — уже побывала в Кремле, причем весьма безуспешно. Ошибка власти состояла в том, что она отказала им в регистрации партий: Рыжкову — Республиканской партии, а Касьянову — «Партии народной свободы» (Парнас), обе эти партии вместе взятые не набрали бы и двух процентов. (Регистрация Республиканской партии была восстановлена 5 мая 2012 г. — после 2007 г., когда она была лишена регистрации, в то время как Парнас до сих пор еще пребывает в стане так называемой «несистемной» оппозиции)[300].
В то время как у декабристов в XIX веке, наоборот, были яркие лидеры, создатели собственной политической философии, но у них не было последователей в обществе за исключением офицерского корпуса, их взгляды на будущее России были слишком передовыми. Что же касается современной России, то ее политики в основном отстают от многих своих граждан, поскольку над ними все еще довлеют страхи 90-х годов, порожденные комплексом распада СССР.
Несравнимы и настроения российского общества в феврале 1917 г. и постсоветских граждан России в декабре 2011 г. — в начале прошлого века большая часть интеллигенции грезила революцией, в то время как в настоящий момент большая часть так называемого «креативного класса», или постсоветской интинтеллигенции и покамест еще хрупкого среднего класса, категорически открещивается от революции и выступает за конституционный способ общения с властью. По этой причине сценарии типа «арабской весны» и разного рода «цветных революций» в современной России немыслимы.
Единственным прямым намеком на «оранжевую революцию» был митинг 4 февраля 2012 г. на проспекте Сахарова, организованный Валерией Новодворской и Константином Боровым. У обоих были оранжевые шарфы с надписями в поддержку Витора Ющенко — как артефакт украинских событий на майдане. Призывы Алексея Навального и несистемной оппозиции делигитимировать президентские выборы и назначить новые парламентские выборы по украинскому сценарию не получили поддержки в обществе, а новообразованная «Лига избирателей» участием своих членов в качестве наблюдателей на выборах также способствовала тому, что президентские выборы были легитимированы.
Из всех участников разномастного политического спектра, — за исключением Эдуарда Лимонова (прославившегося своими крайне экстравагантными прореволюционными выходками и воспринимаемого обществом скорее как явление экзотическое) и блогера Алексея Навального, не удержавшегося от искушения обратиться к митингующим на Болотной с призывом штурмовать Кремль, но не встретившего поддержки, — никому оказались не нужны сотрясения русского бунта. Сергей Удальцов в настоящий момент в основном занимает позицию декларативного революционера крайне левых убеждений, за что и сел в отличии от Навального, власть боится больше левых, чем националистов.
Декабристы, выступившие в 1825 г., также не были сторонниками революции французского образца, сопутствуемой гражданской войной, им был более близок испанский вариант революции: через военный переворот, без вовлечения всего общества — во имя избежания ненужных жертв. Многие декабристы были люди глубоко религиозные, меньшинство — деисты, норму их поведения составляла христианская нравственность, что сказывалось на принимаемых ими политических решениях.
И для декабристов и для граждан, митингующих на Болотной, главным событием, нарушившим гражданскую летаргию, стало междуцаствие. В 1825 году после смерти Александра I появилось ранее необъявленное завещание в пользу третьего (младшего) брата — Николая. А в 2011 г. начало «междуцарствию» положил съезд партии «Единая Россия» 24 сентября 2011 г., на котором Дмитрий Медведев выдвинул Владимира Путина на участие в выборах в качестве кандидата на пост президента страны.
Это не могло не вызвать по ассоциации одну из знаменитых фраз Виктора Черномырдина: «Какую бы организацию мы не создавали — получается КПСС». Именно такое впечатление произвел данный съезд «Единой России», и это породило в обществе разочарование тем, что все заранее предрешено.
По своему характеру требования декабристов и требования участников митинга на Болотной были различны: первые выступали за изменение политической системы — превращение абсолютной монархии в монархию конституционную и даже в республику, в то время как требования вторых носили исключительно гражданский характер — они отстаивали право на честные выборы. Некоторые постсоветские либералы (Михаил Горбачев, Евгения Албац, Михаил Дмитриев и др.) попытались представить происходящее как политический и конституционный кризис и предлагали провести дебаты по вопросу превращения России в парламентскую республику, но они оказались меньшинством в меньшинстве.
Протестные выступления, последовавшие за митингом на Болотной, — на проспекте Сахарова (25 декабря 2011 г.), на Якиманке (4 февраля 2012 г.) и др. утратили этот уникальный гражданский заряд, политизировались, лозунги превратились в антипутинские в большой степени как реакция на выступление премьера на пресс-конференции 15 декабря, вызванная двумя-тремя неосторожными репликами (сравнение белых ленточек участников митинга с презервативами, слова о том, что молодые люди пришли на площадь за плату, а также сравнение их с «бандерлогами» из «Маугли» Р. Киплинга, что в свою очередь привело к сравнению премьера с питоном Каа из «Книги джунглей») — эти реплики были восприняты как знак неуважения ко всем участникам митинга.
Власть ответила контрмитингами, участниками которых были в основном сторонники премьера Путина, прибывшие из других городов, (большинству это оплачивалось, как участие в мероприятии: см. репортаж, помещенный в журнале «Большой город», на который канал НТВ ответил фильмом «Анатомия протеста», толкуя гражданскую спонтанность митинга от 10 декабря как «платную пропаганду» с «оранжевыми целями»), — на Поклонной горе (25 декабря 2011 г.), на стадионе «Лужники» (25 февраля 2012 г.), на Манежной площади (4 марта 2012 г.) и др., что превратило президентскую гонку в своего рода политическое шоу и заставило премьера Путина принять в нем активное участие (речь на стадионе «Лужники»), а не дистанцироваться, как во время предыдущих предвыборных кампаний, когда он не покидал Кремлевского Олимпа.
Главной темой политического сезона (2011–2012 гг.) был патриотизм и национальный вопрос, где тоже можно провести ряд параллелей с движением декабристов начала XIX века. Патриотизм декабристов после Отечественной войны 1812 г. формировался, как комплекс чувств победителей, в то время как постсоветское общество было поражено комплексом неполноценности — после распада СССР в 1991 года.
Общей для всех декабристов платформой являлась либеральная философия, испытывавшая влияние идей Просвещения, однако среди предводителей движения имелись и последователи идей русского национализма. Глава «Ордена русских рыцарей» М.А. Дмитриев-Мамонов и члены ордена придерживались шовинистических взглядов: ими проповедовалось изгнание, вплоть до физического уничтожения, всех иностранцев, занимающих государственные посты (при этом иностранцами считались потомки до четвертого колена, даже если они были православными); война с «иноверцами»; овладение прусской и австрийской частями Польши и ликвидирование польского государства при тотальной русификации; присоединение к России всех славянских государств, плюс Венгрию и Норвегию; изгнание турок из Европы и поход на Индию[301]. А в «Русской правде» Павла Пестеля предвиделась депортация русских евреев в Малую Азию[302].
Большинство участников митинга на Болотной в этом отношении было настроено либерально, и только блогер Алексей Навальный, воспринимаемый в социальной сети как неформальный лидер движения протеста, принимая участие в «Русском марше» 4 ноября 2011 г., вместе с националистами выкрикивал лозунг: «Хватит кормить Кавказ!» Алексею Навальному пришлось выйти из либеральной партии «Яблоко» именно из-за своих националистических взглядов, которые он пытался тушевать в интервью после митинга на Болотной, однако его дела говорят о нем красноречивее слов.
Национальную карту в качестве козырной в ходе предвыборной кампании попытался разыграть и Геннадий Зюганов, предложивший восстановить в паспорте так называемый «5-й пункт». Национальный вопрос был в числе ключевых и в предвыборных статьях Владимира Путина, который попытался быть на гребне национальной волны и в своей статье «Россия: национальный вопрос» отказался от политкорректного слова «россиянин» в пользу слова «русский»[303]. Такая последовательность в официальных выступлениях Владимира Владимировича наблюдалась впервые. Видимо не случайно руководителем предвыборного штаба премьера стал режиссер Станислав Говорухин, близкий по взглядам к консервативно настроенному Александру Солженицыну, создатель известного фильма «Россия, которую мы потеряли» (1992 г.).
Ответом власти декабристам была карательная, изоляционная политика Николая I. В ответе Кремля первоначально производило впечатление применение зеркальной стратегии. (Протестным акциям противопоставлялись пропутинские, которые либеральные масс-медии презрительно обозвали «путингами»[304] — Поклонная гора — проспекту Сахарова, автомобильному шествию с белыми ленточками — ночная пропутинская автодемонстрация в Москве и пр.).
В шахматах зеркальная стратегия проигрышна для повторяющего ходы противника, но Путин в определенный момент проявил инициативу.
1. Во-первых, это беспрецедентная практика установления на избирательных участках вебкамер, что обеспечивало Инернет-наблюдение (своеобразный «Биг Бразер») за всеми избирательными участками.
2. Во-вторых, широкий доступ наблюдателей в том числе и от «Лиги избирателей», самыми главными из которых были представители партии «Яблоко», известные своим грамотным поведением на выборах.
3. В-третьих, Путин, не допустивший участия Григория Явлинского в борьбе за победу в президентских выборах, сделал реверанс перед Михаилом Прохоровым, способным консолидировать либеральный вотум и протестный вотум «против всех», с тем, чтобы дать возможность молодому олигарху создать свою партию, которая бы возглавила движение граждански осознанного активного населения обеих столиц. Кремлю легко удалось лишить молодого олигарха партии «Правое дело», что показало его политическую неопытность по части «дворцовых» интриг, но ему был теперь предоставлен новый шанс проявить себя в качестве политика, чтобы легитимировать новое присутствие либеральной идеи в политическом спектре России и поставить крест на постсоветских либералах образца 1991–1992 гг., таких как Михаил Касьянов, Владимир Рыжков, Борис Немцов.
Широким привлечением наблюдателей со стороны гражданского общества Путин легитимировал выборы. Но в результате роста гражданской активности в обществе сохранялось разъединение, противопоставление Москвы и Петербурга провинции, которое стимулировалось как либеральной оппозицией, так и властью.
Постсоветские либералы презрительно обзывали сторонников Путина «холопами», «быдлом», «рабами» (Юлия Латинина), монополизировав для себя понятие «креативный класс», в то же время настроенные пропутински общественные деятели в этом отношении не уступали им, называя участников митинга на Болотной «оранжевой чумой» (Сергей Кургинян), «болотными людьми», «идиотами и предателями», «безмозглым меньшинством», «оранжевой болотной слизью» (Михаил Леонтьев)[305], «жирными котами»[306] (Станислав Говорухин).
Постсоветская интеллигенция также оказалась разъединенной на про- и антипутинскую. Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Владимир Спиваков, Александр Калягин поддержали премьера, в то время как Виктор Ерофеев, Борис Акунин, Дмитрий Быков, Светлана Улицкая, Лия Ахеджакова выступили на стороне оппозиции.
Реакция обеих сторон была эмоциональной: одни «верят», другие — «не верят» Путину, не желая вслушиваться ни в какие аргументы, игнорируя законы логики.
(А что власти вообще не стоит верить, — это уже другой вопрос!). В результате общество разделилось на «буржуев» и остальных, от чего выиграла власть, а общество оказалось в проигрыше.
Риторика Путина в ходе президентской кампании была рассчитана также и на образ врага, в частности, в Лужниках, процитировав Лермонтова, премьер заявил, что битва за Россию продолжается. Битва — с кем?
Премьер Путин проявил недоверие к гражданам, собравшимся на Болотной, подобно Николаю I, обвинявшему декабристов в том, что они принесли себя в жертву западной заразе. Владимир Владимирович обвинил за события, которые произошли в России после парламентских выборов, Госдепартамент США. В самом деле, американцы не упускают попыток использовать в своих интересах осла-бдение России, такое случалось не раз, но в данном случае движущей силой митинга 10 декабря 2011 г. были прекрасные молодые люди, готовые к новым отношениям с властью — отношениям на равных, а не отношениям между отцом-батюшкой и неразумными детьми, которые не способны принимать решения.
Что касается понимания протеста митингующих на Болотной, прав оказался Алексей Венедиктов, который определил его как «этический»[307], с ним согласился и режиссер Андрей Звягинцев: «Говорить о политическом несогласии как политическом жесте, не знаю, возможно, кто-то с Болотной или, там, с Сахарова, или из других мест, кто туда выходил, считает, что это политическая борьба и есть какие-то внятные политические лозунги. Мне кажется, что это такой этический и эстетический, что ли, жест. Несогласие с долей, которая отпущена человеку в этом пространстве, где нет перспектив, где нет будущего, где ты так, со страхом смотришь в завтрашний день…»[308].
Власть, однако, быстро внесла коррективы в свое поведение и откликнулась на гражданскую активность, чем опровергла рассуждения о застое либеральных публицистов — Леонида Парфенова и некоторых других. Медведев среагировал, как юрист, внеся в Государственную думу проекты законов, которые должны были вступить в силу до 7 мая и которые в значительной степени облегчат регистрацию кандидатов для участия в следующих выборах президента, как и возможность создания партий. Премьер Путин среагировал, как политик, сосредоточив внимание в частности на национальном вопросе.
Общество России среагировало на президентские выборы по-своему, новым для российской действительности способом. Майский резонанс на общественные события показал, что протест может трансформироваться в двух вариантах.
В мирное — полухиппи-, полуарт-интеллигент-ское присутствие на улицах столицы, своего рода «народное гулянье» (спонтанно возникший лагерь «Оккупай Абай» у памятника казахскому поэту Абаю Конанбаеву на Чистых прудах с 7 по 16 мая 2012 г., «Контрольная прогулка» писателей по московским бульварам 13 мая 2012 г., передвижной лагерь «Лето свободы» на Баррикадной), участники которого изъявляют готовность сотрудничать с властью и далеки от каких бы то ни было помыслов о революции. Протестное движение молодежи и представителей среднего класса, который — об этом не следует забывать — есть плод финансовой политики Алексея Кудрина при Путине в течение последних десяти лет, готово превратиться в моду. Преобладающий отправной заряд этого движения, которое вобрало большую часть протестующих, носит этический характер.
Радикализованное и люмпенизованное движение, сплоченное вокруг крайне левых приверженцев Сергея Удальцова (программа его «Левого фронта» предусматривает возвращение Советов, ликвидацию частной собственности, интернационализм и другие политические атрибуты советского периода) или вокруг националистов, симпатизирующее Алексею Навальному (их объединяют лозунги типа: «Хватит кормить Кавказ», «Россия для русских», «Москва — русский город»). Оба эти маргинальные политические течения не склонны к диалогу с властью, готовы к борьбе за Кремль, преобладающий отправной заряд здесь политический.
Алексей Навальный и Сергей Удальцов восполь-зовалились провокациями во время шествия к Болотной площади 6 мая 2012 г. (за день до инаугурации), а власти, в духе советского рефлекса, задержали обоих на две недели в следственном изоляторе, вследствие этого оба обрели ореол героев с политической биографией, а это в свою очередь привело к тому, что Amnesty International поспешила объявить обоих «узниками совести», безосновательно приравняв их к Солженицину и Сахарову.
Стала ли Россия другой после Болотной площади?
После выступления декабристов, несмотря на его провал, Россия стала другой. Другой стала Россия и теперь, после Болотной, — вернее, она может стать другой, это зависит от власти, на которой лежит ответственность за будущее государства и народа.
Николай I проиграл исторический шанс вслушаться в идеи декабристов, а использует ли Путин уникальную возможность, представившуюся ему после 10 декабря 2011 г. откликнуться на чаяния своего общества… станет ясно, или как говорят русские: «Посмотрим».
Безусловно, второй майдан в Украине с последовавшей гражданской войной в Донбассе создали очень негативную аналогию с белыми ленточками на Болотной и цветными революциями по американскому рецепту, какими были оба украинских майдана (2004, 2013), и грузинская революция роз (2008) и мн. др. Отсюда и консервация власти, как реакция общественной активности и на практике параллельное существование либеральной интеллигенции и остальной России. Сама позиция наиболее отъявленных российских либеральных политиков и публицистов по украинскому вопросу после 2013-го и по вопросу о присоединении Крыма (март 2014-го), а также по проекту «Новороссия» является абсолютно антикремлевской, которая воспринимается как антигосударственненная и мобилизует сильное противодействие со стороны консервативной общественности, с одной стороны, а с другой — представителей леворадикальных движений в обществе.
Любопытной новой деталью политического профиля представителей современной русской либеральной оппозиции (наиболее яркие из которых Алексей Навальный и Михаил Ходорковский) является их комбинация с крайними националистами (нечто испытанное на украинском майдане). Старые постсоветские либералы всегда отгораживались от националистов. Егор Гайдар даже протестовал против Первой чеченской военной кампании в декабре 1994 г. А Григорий Явлинский исключил из рядов партии «Яблоко» Алексея Навального из-за его националистических симпатий и личного участия в ноябрьском Русском марше. Писатель Борис Акунин, известный своей активной либеральной позицией независимого интеллектуала, также отгородился от Навального из-за его национализма и даже вступил с ним в очень интересную публичную переписку по этому поводу[309].
Радикализация либералов и их гибридизация (либерально-националистическая) является новым политическим форматом оппозиционной битвы с Кремлем, рассчитывающим и на потенциальную силовую активность. Одной из причин дискредитации движения на Болотной площади было присутствие агиток националистов, которым Навальный с ораторским пылом кричал: «Мы здесь власть!». При посещении Михаила Ходорковского майдана в 2013 г. толпа встречала его возгласами: «Россия, вставай!» — новый тренд, систематически популяризировавшийся посредством изображений, карикатур, плакатов и других суггестивных техник по-литтехнологии, является экспорт майдана в форме «освобождения» россиян от «путинизма».
И Ходорковский, и Навальный идентифицируют себя с националистами и не случайно они единодушны по двум основным темам: антикавказской[310]и промайданской. Антикавказская тема, скорее, антикадыровская, поскольку Северный Кавказ при Рамзане Кадырове пророссийский и пропутинский — о себе чеченский лидер говорит: «Я русский человек чеченской национальности». Ценой этой лояльности является десекуляризация чеченского общества, но для Кремля традиционный ислам никогда не являлся противником, в отличие от салафизма Саудовской Аравии или еще более крайнего исламизма т. е. Исламского государства[311]. Кадыров прочистил Северный Кавказ от салафитов, благодаря чему и восстановил российское влияние в этом невралгическом для Российской Федерации регионе, и искоренил сепаратизм. Национализм а ля Навальный и Ходорковский представляет собой попытку «национализировать» российское государство, отказавшись от имперского/российского.
В 2012 г. Ходорковский попытался совместить либерализм с национализмом в одной из своих программных лекций, заявляя, что «истинный национализм должен быть либеральным», что это не «этническая доктрина», целью которой является «построение по-настоящему демократического, т. е. истинного национального государства», повторяя, таким образом, тезис Бжезинского о том, что Россия из империи неизбежно трансформируется в национальное государство. «Время империй прошло, а время наций — нет»[312] — утверждение Ходорковского в глобализирующемся мире выживания в интеграционных региональных межнациональных проектах звучала бы наивно, если бы не имело геополитической цели — фрагментации (распада) России, до которой неминуемо приведет отказ от дуализма имперского/национального в пользу последнего. Поэтому русская нация (как культурная, а не этническая принадлежность) может уцелеть только в имперском/российском дуалистическом формате. В этом смысле Ходорковский, хотя и был освобожден в декабре, не является декабристом, какую бы идеалистическую картину о нем ни представляла часть современных либеральных общественных деятелей. Однако с точки зрения битвы за власть, он логично сориентировался на ахиллесову пяту России.
С 2012 г. Кремль отказывается от попытки навязать концепцию «российской» нации вместо «русской», претерпевшей провал за четверть века постсоветской России. Первым сигналом явилась предвыборная статья Путина по национальному вопросу, вторым — Валдайский доклад (2014 г.), определяющий национальный курс в создании русско/российской идентичности в равноправной монаде (национально/имперской). Только русско-российский дуализм выведет Россию из постсоветского национального кризиса, тогда как нарушение этого баланса не только углубит его, но и приведет к очередной геополитической катастрофе.
Глава третья Украинский янус между галицией и малороссией: формирование национального облика на фоне геополитической тектоники
3.1. Две империи — две украинские нации (XIX в. — нач. XX в.)
Почему украинский Янус? Украинская двойственность еще в XIX веке была объектом самореф-лексии украинцев и исследования «со стороны» с точки зрения того или иного исторического наратива сообразно с собственной национальной конструкцией и геополитической идентификацией — русской, польской, немецкой или австрийской.
Национальное сознание — вещь хрупкая, в большей мере поддающееся влиянию иррациональных объединительных факторов, сопротивляющихся массированной политической инвазии, и наоборот — реагирующих на нано-импульсы в духе известного речения Паисия Хилендарского: «О, неразумный юроде, почто стыдишься ты назваться болгарином!», на заклинания поэта такого масштаба как наш Христо Ботев (который в свое время был непопулярным, в отличие от обладателя однодневного поэтического таланта Стефана Стамбо-лова, однако навечно закодировал дух болгарского возрождения) или такой сакральной личности как Басил Левеки, верный иррациональному поведению[313] целью которого было самому разжечь пламя борьбы за освобождение Болгарии, в то время как настроение множества болгар было отнюдь не революционным. Массовые настроения болгар лучше всего обрисовал в своих «Записках» Захари Стоянов, показав, как мужчины города Панагюриште реагировали на призыв Бенковского присоединиться к Апрельскому восстанию (1876 г.): в ответ на его призыв открылись и тут же захлопнулись открывшиеся двери и ставни — тем дело и кончилось[314], однако именно охрипший голос Венковского стал составной частью нашей национальной идентичности, а не сытое мещанское примирение со статус-кво.
Наша историческая судьба, к счастью, уберегла нас от болезненной дуалистичности сознания, какое в известной степени характерно для современных македонцев (они, может, и не признают этого, но забыть свои болгарские корни не в состоянии, даже когда уничтожают артефакты средневековой болгарской государственности на ныненшних македонских землях), и каковым является национальное самосознание украинцев с самого начала их возрождения в XIX веке.
Украинский дуализм, с одной стороны, украинско-русский, а с другой, галицийско-малорусский. Ярким примером русско-украинской двойственности служит семья русского философа Николая Бердяева, в которой два родных брата представляли две нации — русскую и украинскую. Сергей Бердяев признавал себя украинцем, в то время как Николай Бердяев всегда считал себя русским[315]. И это не было спецификой конца XIX века или постсоветских эмигрантских лет XX века, когда Георгий Вернадский, преподававший в г. Йейль историю России с введенной им евразийской периодизацией, считал себя одновременно украинцем и русским[316]. Данный феномен — нечто естественное и для современной России: так, работающая на радио журналистка Анастасия Оношко избрала для себя русскую идентичность, а ее сестра — украинскую, и это не порождает никаких разногласий или комплексов: это вопрос выбора и самоощущения. Русско-украинский дуализм проявляется на литературном поле в качестве «русско-украинской интертекстуальности»[317], использующей оба языка и сохраняющей двойственную идентичность.
Украинский Янус не столь русско-украинский, сколь галицийско-малорусский.
Украинская идентичность по образцу Галиции [западных украинских земель, которые от середины XIV века до начала Второй мировой войны (1939) перестали быть русскими], — этноцентричной, зафиксированной на русофобии, антисемитизме и антиполонизме, до 1991 года униатской, а в настоящее время составляющей часть православной Украины (с УПЦ КП), ее язык как в XIX веке, так и в начале XX века был заполнен полонизмами и германизмами — в результате политики австрийского государства.
Во время Первой мировой войны в австрийские концлагеря Терезин и Талергоф были заточены и погибли там русофильски настроенные галичане-русины, именовавшие себя в XIX веке москвофилами, потомки которых в наши дни составляют меньшинство населения Западной Украины и не решаются о себе заявлять. Русины, проживающие в Закарпатье под защитой гор на не представляющей интереса периферии Украины, сохранились как народность, идентичность которых, из этнической в XIX веке, трансформировалась в национальную — русинскую, этнодуалистичную (воспринимающую родственную близость с русской культурой, считая ее самой близкой и в то же время эмансипированной ею).
Антисемитизм украинского этноцентричного образца нашел выражение в XX веке первоначально в виде еврейских погромов во время гражданской войны, когда вояки Симона Петлюры — украинского социалиста и националиста, систематически занимались уничтожением еврейского населения Украины. Петлюра был убит в Париже (1926), его убийца, еврей по национальности, таким образом, отомстил за погромы, и французский суд оправдал мстителя.
Сам Петлюра отрицал свою причастность к еврейским погромам на Украине и обвинял в этом большевиков[318], таким же образом сегодня президент Украины Петро Порошенко не признает причастности киевской армии и национальной гвардии к убийству мирных жителей Донбасса, не взирая на свидетельства представителей ОБСЕ по поводу массовых захоронений в местах дислокации киевских национальных батальонов, в которых были обнаружены трупы замученных женщин, стариков, трупы, из которых изъяты внутренние органы на предмет сбыта на черном рынке — подобно тому, чем занималась косовская мафия в период войны против армии Милошевича.
Украинская идентичность по модели Малороссии (Киев и Восточная Украина) представляла собой составную часть Российской империи и в XIX веке переживала возрождение на базе переоценки украинской культуры, которая родственна русской, православной (в настоящее время в большей своей части — под эгидой УПЦ МП), язык ее — певучий украинский, модель — этнодуалистическая, люди себя чувствовали и русскими, и украинцами, антирусских настроений не было до момента грубого административного вмешательства имперских властей в царствование Александра II — после польского восстания (1863), когда украинофилы были приравнены к польским агентам, и украинская культурная деятельность в любых ее проявлениях была запрещена (Емский указ, 1876), что не только отдалило их от русских корней, но и заставило предпочесть Киев Львову (Галиция), где ими были заложены основы созидания современной украинской нации по галицийскому образцу.
После распада Австро-Венгерской и Российской империй после Первой мировой войны Западная Украина снова стала польской окраиной, в то время как Восточная, вместе с Новороссией, по воле
Ленина, сознательного украинизатора по причине патологической ненависти ко всему русскому, зажила как советский проект, к которому во время Второй мировой войны (1939) была присоединена и Галиция.
Отношение к войне — Второй мировой для галицийской модели и Великой Отечественной для малороссийской, является главной разграничительной гранью между двумя украинскими нациями: галицийская («западенская») считает своими героями коллаборационистов Степана Бандеру и Романа Шухевича, возведенных в культ, и не скрывает своих симпатий к нацизму, в то время как восточные украинцы, 6 млн. которых сражались в рядах Советской Армии, дошедшей до Берлина, свято чтут день 9 мая и остаются верны дуалистической украинско-русской модели малорусского образца.
Этноцентрическая модель по-галицийски воспроизводилась во время Второй мировой войны не просто как коллаборационизм, сотрудничество с нацистской Германией, но и как этнические чистки поляков и евреев, проживавших в Галиции, которые совершали украинские националисты УПА и ОУН (сотрудничество ОУН с немецкой разведкой Абвер началось еще в конце 30-х годов XX века). Жестокая расправа с евреями в Киеве и Львове, зверское показательное массовое убийство этнических поляков на Волыни (Волынская резня, 1943) не случайно сравнивают с политикой холокоста и признаны геноцидом (в апреле 1943 года тридцатилетний Микола Лебед, член ОУН Бандеры предложил «очистить всю революционную территорию польского населения»). Украинцев, добровольно вступивших в Ваффен СС, из которых была сформирована дивизия «Галичина», было 80 тысяч[319].
Нациоцентричная модель галицийского образца после распада СССР стала главенствующей в новой Украине, началось переформатирование исторической памяти, фиксирование образа врага в лице России. Эта специфическая политика была точно определена Георгием Касьяновым, внедрившим термин «национализация истории». Г. Касьянов называет два периода «национализации» украинской истории (первый относится к середине XIX века, он был завершен Михайлом Грушевским и просуществовал до конца Второй мировой войны, а второй начался в конце 80-х годов XX века и продолжается до сих пор, при этом в обоих случаях создается исторический канон)[320].
Представляет интерес еще один термин, предложенный Георгием Касьяновым касательно современной украинской историографии: он называет ее «нормативной историографией», не подверженной влиянию «силового поля» «официальной историографии», следующей за политической конъюнктурой «патриотического экстаза»[321].
Конкретными масштабами «национализации» истории Украины после 1991 года и в частности после создания, по польскому образцу, Института национальной памяти (2006) стали: глорификация УПА и ОУН: (в 2008 году президент Виктор Ющенко объявил Степана Бандеру национальным героем, что было отменено при Викторе Януковиче), интерпретация «голодомора» как геноцида украинской нации[322].
Политика советской власти в период коллективизации (1932–1933), которая привела к массовому голоду на Украине, в Казахстане, на Кавказе, в Поволжье, может быть определена как геноцид, но геноцид не национального, а социального характера — направленный против населения советской деревни, жертвами которого стали разные национальности, населявшие хлебородные районы СССР.
За 23 года независимости украинской нации галицийского образца не удалось переломить восточных украинцев, но большая часть молодого поколения была поражена, некоторые его представители с улыбкой бросали бутылки с «коктейлем Молотова» и без зазрения совести поджигали живых соотечественников только потому, что те носили георгиевские ленточки, как это было в Одессе (2 мая 2014 года, Одесская Хатынь). Попытка навязать этноцентрическую модель галицийского образца привела к началу частичной необъявленной гражданской войне на Донбассе в 2014 году.
Андреас Каппелер отмечает, что власти Украины допустили ошибку, когда в первую очередь после Оранжевой революции (2004 г.) возвели в культ Степана Бандеру и таких персонажей как Петлюра или Мазепа, которые не могут играть объединительную роль для всей Украины, страны мультиэтничной. По мнению А. Каппелера, самым подходящим историческим героем был бы Богдан Хмельницкий — таким образом, мог бы быть расширен «узкий моно-этнонациональный подход» к мультиэтничной украинской истории[323].
Основу другого подхода к украинской истории и идентичности составляет «транснациональная история», попытка избегнуть «национальных рамок историографии», в последнее время он приобрел большую популярность — как часть преформатирования исторической науки по критериям глобализации. Дефиниция, которую дает «транснациональной истории» Филипп Тер, — это прежде всего исследование транскультурных связей, а не дипломатия или интернационализм[324]. Это своеобразное продолжение подхода «культурного трансфера» или «трансфера истории», который был реализован во Франции в 80-е годы[325].
Подобные теоретические конструкции представляют особый интерес для сравнительной
истории, но в случаях наличия в национальной идентичности болезненного дуализма с исторической обремененностью (наследство двух империй — габсбургской и российской), каковым является дуализм украинский, вряд ли могут открыть секрет примирения и созидания общей или, по крайней мере, необремененной саморазрушительной враждой идентичности.
«Центральноевропейская» — «восточноевропейская» — «постсоветская» украинская идентичность
Канадский историк украинского происхождения Джон-Поль Химка пришел к выводу, что современных украинских идентичностей две — «центральноевропейская» и «постсоветская», их разделяет географический и языковой принцип: «Центральноевропейская идентичность укроиноязычна и доминирует на западе, постсоветская идентичность русскоязычна и почти повсеместна на Украине; сердцевиной «центральноевропейской» украинской идентичности является Галиция, а пространство «постсоветской» украинской идентичности — советская Украина в границах до 1939 года (до присоединения Галиции Сталином). Что же касается Киева, то Химка различает в нем зарождение «евро-украинской» идентичности, представляемой элитой, которая имеет характер «общеукраинской» идентичности, но процесс этот все еще не завершен[326].
В постсоветской Украине язык, однако, не является национальнообразующим фактором — таковым, скорее, служит фактор политический, используемый различными региональными силами в целях электоральной победы. Второй майдан наглядно продемонстрировал наличие феномена рус-скоговорящих без характерного акцента с глухим «г», но с украинским этноцентричным сознанием граждан юго-востока — результат политики «национализации истории», форсируемой после Оранжевой революции, начало которой было положено уже в первые годы независимости Украины. В то же время некоторые украинские граждане, сохраняющие приверженность этнодуалистической модели Малороссии, говорят по-русски с акцентом.
Химка приводит примеры реконструирования «центральноевропейской» украинской идентичности после 1991 года посредством украинской диаспоры Канады и США, представленной преимущественно выходцами из западных областей и потомками коллаборационистов из УПА и ОУН. Ученый отмечает также особую роль грекокатолической церкви Украины, которая была возрождена в 1989 году и митрополитом которой в Львове стал украинец американского происхождения подобно выходцам из эмигрантских кругов, ректорам Львовской духовной академии (будущего Украинского католического университета). Это характерно и для круга представителей «оранжевой» власти, в частности министром правосудия стал американец украинского происхождения. После 2004 года ключевые позиции были заняты множеством неправительственных организаций, представляющих украинскую диаспору Канады[327].
Химка ополчился против глорификации УПА и ОУН после 1991 года и канонизации роли коллаборационистов, служивших Гитлеру во время Второй мировой войны в качестве «ключевой украинской идентичности», чем вызвал гнев современных украинских националистов, обвинивших его в предательстве. Химка самоидентифицируется как украинец, разговаривает в семье на украинском языке, так же воспитывает своих детей в Канаде. А в 2010 году он написал своему другу, что проиграл битву и что «быть украинцем сегодня, означает принять их [УПА] наследство»[328].
Объектом агрессивной критики за инакомыслие стал не только Джон-Поль Химка, но и более умеренные и даже относящиеся с симпатией к галицийской модели, такие историки как Марк фон Хаген подвергаются нападкам со стороны украинской цензуры в ответ на политкорректное приглушение и малейшее отклонение от канона интерпретации украинской идентичности. Фон Хаген делился, что его обзывали «русским империалистическим волком»[329].
В целях формирования украинизации по галицийскому образцу на юго-востоке Украины, в частности — на Донбассе, введен термин «галицизация»[330]. «Галицийский импорт» проявляется и в символике независимой Украины, воспринявшей цвета флага и герб Украинской народной республики периода распада империи Романовых (1917). Желто-синее знамя представляется украинскими националистами как преемственность Киевской Руси и запорожского казачества, что составляет часть национальной мифологии, разработанной польскими хронистами и их наследником — Михаилом Грушевским и представляющей Киевскую Русь государством украинским, а Россию — татарским. Этот флаг впервые появился во Львове (1848), который в то время находился под властью Австрии, а в Донбассе ненадолго был утвержден украинскими националистами (1918), принявшими сторону Германии в Первой мировой войне и разрушившими Донецко-Криворожскую республику[331].
Сергей Плохий различает две «восточноевропейские идентичности»: Украина и Малороссия, используя и понятие «Казацкая нация»[332], а в отношении постсоветского периода Украины он отмечает тенденцию «ориентирования национальной культуры на Запад и подчеркивания ее отличия от русской культуры и традиции». Однако Плохий представляет современную русскую национальную идею элементарно: как «чисто антизападную ориентировку» и проявление «панрусизма»[333].
Марк фон Хаген в статье с провокационным заглавием «Есть ли у Украины история?» не заострял внимания только на «центрально-европейской» или только на «восточно-европейской» идентичности Украины, он отмечает, что украинцы представляют собой «часть большой дилеммы для Восточной и Центральной Европы». Другое дело, что положительный ответ фон Хагена состоит в том, что у Украины будет история только если она порвет с Россией, отказавшись от своего постсоветского прошлого, при этом он допускает возможность торжества «догмы интегрального национализма» в качестве «триумфа украинской нации»[334]. Марк фон Хаген признает состояние дилеммы и двойственность украинской идентичности только в отношении прошлого, в то время как это является фактором и в настоящем.
Алексей Миллер также отдает предпочтение понятию «восточнославянская идентичность», которая пребывала в процессе формирования «по разным сценариям»[335] в XVII и XIX веках.
Другие понятия, фиксирующие дуализм украинской идентичности сводятся к разделению на «коммунистов» и «националистов» (в какой-то мере это повторение типологии Джона-Поля Химки). Украинские коммунисты — это часть «искусственной советской культуры», в то время как первостепенную важность для национального строительства имеет стратегическое партнерство между Украиной и США, цитируется мнение Збигнева Бжезинского (1996) о том, что гарант Украины — это США и что она «не будет интегрироваться в Российскую империю»[336]. Бжезинский отводит Украине роль территории, ограничивающей русское влияние, гаранта безопасности Польши, Румынии и даже Турции[337]. Украинское государство в силу своей территориальной обширности по европейским нормам выступает в качестве ключевого звена в проекте «Восточное партнерство», цель которого — создание санитарного кордона из бывших советских республик между Российской Федерацией и Европейским Союзом.
Бжезинский, не скрывающий наличия приоритетных стратегических интересов США на Украине, определяет геополитическую идентичность Украины как единую и «центрально-европейскую».
Взгляд на Украину, как на антироссийский геополитический барьер, далеко не новый, еще в начале XX века Симон Петлюра активно пропагандировал перед украинскими националистами тезис о русской угрозе Европе и о том, что миссия украинского государства состоит в «окончательном и бесповоротном разделе» России[338]. Петлюра выдвинул украинской эмиграции в изгнании крайнюю цель: разрушение России. Что же касается Польши, то здесь Петлюра категоричен: «поляки — неважные колонизаторы», и весной 1920 года был склонен к сотрудничеству в борьбе против «исторического и вечного общего врага» — «Московщины с ее больной культурой с большими контрастами»[339].
Польша не менее заинтересована в подобном сотрудничестве и после 1991 года расширила контакты с независимой Украиной в качестве своеобразного посредника в ее связях с ЕС и НАТО. По словам Марка фон Хагена, бывшие польские президенты Лех Валенса и Александр Квашневский «соревновались в старании быть адвокатами Украины по ее присоединению к ЕС и НАТО». Польские университеты активно развивают деятельность по украинским исследованиям, массово переводятся произведения украинских авторов, взгляды которых по национальному вопросу затем становятся объектом публичных дискуссии[340], — эта постоянная и последовательная политическая линия проводится в Польше с 1991 года, в отличие от России, которая пренебрегала участием в украинском культурном пространстве, а еще меньше популяризировала его у себя дома.
Чаще всего украинская двойственность объясняется повторением исторического наратива украинских националистов XIX века, согласно которому «украинский дихотомный характер» является результатом «столкновения нации и империи». Последователи этой версии рассматривают украинцев как единую нацию, которой по ошибке свойственна «региональная малорусская идентичность», сочетаемая с «имперской русской идентичностью», Россия же не имеет ничего общего с Русью, с Киевом, а отсюда — и с украинцами[341] (что является повторением тезиса польской историографии с начала XVI века до наших дней).
Исследователи, которые считают связь между Киевской Русью и Россией условной, более того — воспринимают ее как часть русских исторических описаний, применяют в отношении средневеков-ного русского государства понятие «средневеков-ное восточнославянское государство», а этническую идентичность Руси считают «неопределимой»[342].
Две империи — две украинские нации (XIX век)
Под влиянием европейского романтизма XIX век не случайно превратился в «инкубатор» национализма. В России зарождение русской национальной идеи связано с Отечественной войной 1812 года, когда все слои общества включились в оборонительную, а затем — в победоносную кампанию. После 1812 года государство начало последовательно проводить политику по созданию национальной общности при соблюдении имперского принципа (каждый православный считался русским вне зависимости от этнических корней), однако с прибавлением (русский — значит, европеец по принадлежности к русской культуре и языку, созданному Пушкиным). Аристократы овладевали письмом на русском языке наряду с французским (позднее всего русский язык был внедрен в ведение документации министерства иностранных дел при Александре III, до того времени ведущим языком был французский).
В царствование Александра I не только была опубликована целая серия трудов по истории русского государства Николая Карамзина, но и всячески поощрялось и финансировалось создание монументальной скульптуры и живописи на русскую историческую тематику. Разумеется, не обходилось и без крайних проявлений чиновничьего бюрократизма в духе уваровской триады (православие — самодержавие — народность), что было неизбежно для имперского организма, подобного российскому, но общая тенденция покровительства исследованию и обсуждению вопросов русской истории и культуры способствовала созданию надежного климата для европейской культурной идентичности русской нации.
Отечественная война 1812 года, воспетая Михаилом Лермонтовым («Бородино»), Львом Толстым («Война и мир»), Петром Чайковским (Увертюра «1812 год») стала неотъемлемой частью души русской нации на все времена[343].
В XIX веке формировалась и украинская нация с двумя лицами Януса — малорусского (этнодуалистичного в пределах Российской империи) и галицийского (этноцентричного — в пределах габсбургской империи). Две империи — две украинские нации, культурный дуализм, несовместимость которых неоспоримый факт и в наши дни.
Романтическое украинофильство в России: «украинцы», «малороссы» или «южные русские»
Первая половина XIX века воспринимается как романтический период формирования украинской нации в рамках Российской империи. Интерес к украинскому языку и культуре зародился в славистических кругах и первоначально не имел политического характера. Как правило, постепенное возрождение, а затем и политическое оформление народа в нацию объясняется исследованиями в области этнографии и фольклора, которые пролили свет на наличие украинцев в Российской империи.
Бесспорно, важную роль в национальнообразовательном процессе украинцев сыграло издание сборников песен и поговорок, а затем и поиски специфической, эмансипированной от русских исторических описаний, исторической трактовки прошлого.
Не меньшее и даже равноценное, если не более сильное влияние оказало на будущих украинцев русское и польское революционное движение. Без русских демократов и социалистов, или народников — как они называли себя сами, украинская нация не возродилась бы так бурно в XIX веке, чтобы быть завершенной проводимой большевиками политикой «коренизации» в УССР в 20-е годы.
Верно то, что демократ Виссарион Белинский (подобно Пушкину во время Польского восстания 1831 года) занял проимперскую позицию, характеризующуюся отрицанием малейшего проявления сепаратизма, в то время как Александр Герцен (либеральный западник, основоположник русского социализма), как и Михаил Бакунин (военный революционер-практик, анархист в душе и по жизни) и их последователи из среды русской демократической интеллигенции твердо выступили в поддержку стремления к культурной и политической автономии не только поляков, но и украинцев в рамках славянской федерации.
Идеологами украинофильства в XIX веке, создателями двух противоположных точек зрения на украинскую нацию были Михаил Драгоманов и Михайло Грушевский — демократы, социалисты, пользующиеся поддержкой русских демократических и социалистических кругов, а М.С. Грушевский — даже большевистских и советских. Причиной подобного сподвижничества были наличие общего врага — самодержавия и вера в победу мировой революции социалистов, а также свойственный демократам идеализм по поводу создания мира без национальной, религиозной, социальной и любой другой ненависти. Если Михаил Драгоманов продолжал оставаться демократом и отсюда — скорее космополитом, нежели патриотом, то Михайло Грушевский эволюционировал из социалиста в украинского националиста.
«Малороссия» vs «Украина»: борьба за украинские национальные понятия
Политическое проектирование украинской нации и борьба за термины, которые должны ее обслуживать, впервые официально проявились в деятельности просветительского Кирилло-Мефодиевского братства (общества) в 1847 году[344]. Устав братства проникнут либерально-демократическими идеалами создания славянской федерации, которые вынашивала часть русской интеллигенции, под сильное влияние которой попали и украинофилы (Николай Костомаров, Пантелеймон Кулиш, Тарас Шевченко и др.), не обошлось и без влияния польских революционных идей и лексики.
Политическую цель братства составляло «духовное и политическое объединение славян в христианскую федерацию, при этом каждый славянский народ должен был иметь «свою Речь Посполиту» (республику) с культурной и общественной автономией. Сознательно предвиделось создание «христианской», а не «православной» федерации по причине существования конфессиональных различий не столько между поляками и русскими, сколько между православными малороссами в России и униатами русинами в Галиции (принадлежавшей Австрии с конца XVIII века — после разделов Польши при Екатерине II).
Демократический элемент Устава, касающийся положения о «всеобщем равенстве и свободе, никакие различия сословий», был отголоском весны народов Европы (1848), в этом отношении русские украинофилы были не одиноки, наоборот, это было звено общеевропейской тенденции XIX века.
Русский эмигрант, историк Н.И. Ульянов предложил версию масонской преемственности политических идей о создании федерации, и Кирилло-Мефодиевское братство унаследовало программу масонов-декабристов Киевской ложи (1818), именовавшуюся «Соединенные славяне» и составленную под силным польским влиянием. Декабристу Кондратию Рылееву принадлежат поэмы, провозглашавшие культ казачества, тем самым было положено начало его мифологизации[345].
Самым любопытным в тексте Устава является то, что он положил начало борьбе терминов, которая сохранилась в определениях украинской нации до наших дней. Кирилло-Мефодиевское братство стало инициатором политики обезличивания понятий «Малороссия», «малоросс», замены последнего термином «украинец», который до конца XIX века не был популярен ни в России, ни даже в Галиции, где славянское население называло себя «русинами» и только часть интеллигенции, полонизированной по причине векового сожительства и подчинения польской шляхте, постепенно пришла к открытию, что она «украинская». Другая часть русинской интеллигенции идентифицировала для себя понятия «Русь» и «Россия». Если в России борьба за определение национальности велась между сторонниками терминов «малоросс» и теми, кто отстаивал понятие «украинец», то в Галиции (Австрия) противопоставлялись «русин» и «украинец» и окончательная победа осталась за украинскими националистами, поддержку которым оказывали австрийские и немецкие власти.
Понятийный аппарат, сложившийся в процессе украинской истории, сыграл базисную роль в форматировании национального сознания, поскольку если никто не отрицал существования русинского народа в Галиции, как и малорусского в России, то истина, что технология формирования нации зависит от образования, орфографии, языка и названия, была известна украинофилам, которые на протяжении всего XIX века методически переосмысливали значение понятия «Украина», которое из «окраины» (российской, польской или австрийской) превратилось в понятие национального значения (национальное сознание иррационально, оно оперирует не рациональными дефинициями, а символами (образами).
В Уставе Кирилло-Мефодиевского братства сознательно не упоминались термины «Малороссия» и «малороссы» (из-за России) и «русины» (из-за Галиции и памяти о Галичском княжестве, которое оказалось оторванным от Киевской Руси в результате татаро-монгольского нашествия и просуществовало после этого полтора века до присоединения к Польше и последовавшего за этим провозглашения Унии), в нем говорится об «украинцах» или «южнороссах».
Оценка Кирилло-Мефодиевского братства как начала «культурной трансформации украино-фильства в националистическую идеологию»[346], принадлежащая Алексею Миллеру, была в какой-то мере категорична, она была бы верна, если бы все публикации «братьев» придерживались устава. Н.И. Костомаров и П.А. Кулиш скорее представляли украинофильскую, а не националистическую точку зрения. Вне устава, в личной корреспонденции, как и в своих публикациях, члены Кирилло-Мефодиевского братства использовали термин «Малороссия», поскольку понятие «Украина» до конца XIX века носило книжный характер с ограниченным влиянием.
Тарас Шевченко (украинский Пушкин — более как национальная святыня, нежели поэтический талант) на допросе по поводу его участия в «братстве», говоря об аудитории для своих стихотворений, употреблял термин «малороссияне», ни разу не упомянув слова, «украинцы»[347].
Пантелеймон Кулиш не обезличивал понятие «Малороссия», как это делали украинские националисты, он активно пользовался им в качестве собирательного образа «малорусского» сознания (как синонима «украинского», которое стремится перерасти «великорусское»). В то же время он признавал непопулярность украинофильства в Малороссии и питал надежду на молодое поколение, увлеченное демократическими идеями[348]. Упоминая
Галицию, П.А. Кулиш называл ее «Галицкая Русь», а не «Галицкая Украина»[349], себя считал «малороссиянином», что для него было синонимом понятия «украинец», о галичанах отзывался нелестно: «Хотя он и галичанин, но честный человек, что между галичанами весьма редко»[350].
Частично национальная эмансипация украино-филов посредством борьбы терминов имела целью обезличить «русских» (национальная идентичность времен империи, мог употребляться термин «россиянин», введенный Феофаном Прокоповичем при Петре I или «русско-подданный», который был популярен в XIX веке, но при этом имелся в виду православный подданный, без указания на этническое происхождение), или же «великороссиянин» (характеристика народностная, не национальная) и «москаль»[351].
Характерной особенностью украинофильской политической теории будущего, которая нашла отражение в уставе Кирилло-Мефодиевского братства, был комплекс жертвы в сочетании с чувством мессианства[352]. Украина представлялась жертвой, распятой и растерзанной Польшей и Россией. В XX веке образ жертвы сохранился, но речь шла уже о Германии и СССР, а после 1991 года и в особенности после второго майдана (2013) — о США и Российской Федерации.
Михайло Грушевский, в комплексе жертвы дошел до того, что обвинил в еврейских погромах поляков и не допускал участия в этом черном деле украинцев[353]. Своеобразная логика: если случается нечто худое, то в этом виноваты или Польша, Россия, или Германия.
Чувством мессианства украинцев, считавших себя носителями свободы народам Российской империи, ее избавителями от гнета самодержавия, были пронизаны все украинские исторические описания XIX — начала XX века. Михайло Грушевский был убежден, что «прогрессивная украинская интеллигенция освободит Россию от бюрократического абсолютизма и централизма»[354].
В декабре 1991 года, после того как Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич в Беловежской пуще объявили о денонсации СССР, стало утверждаться положение о ключевой роли украинского президента в освобождении советских народов от власти СССР, а после последовавших затем двух майданах — более слабо на оранжевом (2004) и крайне безапелляционно на втором (2013–2014) стала тиражироваться версия, согласно которой Украина является «освободителем» русского народа от «путинизации».
Когда Михаил Ходорковский приехал на майдан после свержения Виктора Януковича, толпа не случайно встретила его возгласами: «Россия, вставай!», — а в мирную фазу майдана очень часто можно было увидеть лозунг: «Мы любим русских, но не любим Путина», — так в XIX веке господствовали заявления о любви к великороссам и ненависти к царскому самодержавию.
Данная «освободительная» проекция, как часть украинской национальной мифологии, была заложена еще в XIX веке противопоставлением вольнолюбивого казацкого духа рабскому крепостному менталитету русских.
Разумеется, факт существования русских казаков, в частности на Дону, не имевших ничего общего с запорожскими казаками, не комментируется украинскими идеологами, поскольку для них важен отнюдь не исторический факт, а миф о запорожцах, как одна из точек опоры эмансипированной украинской истории. Не обращается внимания и на то, что в Галиции никогда не было казаков, и этот факт — не помеха для творцов национальной украинской мифологии именно потому, что сама нация живет отнюдь не в реальном, а в мифологическом времени. И потому попытка развенчивания национального мифа рациональными аргументами — напрасная потеря времени и усилий, миф может быть побежден только мифом.
По этой причине во время майдана русские медии во весь голос заговорили о возрождении образа фашизма, которому, безусловно, симпатизировали приверженцы неонацизма в большинстве украинских националистических группировок, которые, к сожалению, из вооруженной охраны майдана превратились в национальную гвардию и в часть органов безопасности новой киевской власти; но отнюдь не только неонацизмом можно объяснить феномен украинского майдана, как и технологию переворота рецептом цветной революции. Логика здесь не нужна, важен символ: в отличие от среднестатистического европейца, не привыкшего жертвовать своим благополучием во имя чего бы то ни было, имеющего более прагматичное и земное отношение к жизни, для русского человека фашизм представляет собой абсолютное зло, над которым он одержал победу 9 мая 1945 года и с которым он в любой момент готов опять сразиться, так как чувство жертвенности составляет неотъемлемую часть русской национальной идеи и поведения.
«Южнорусская» vs «северно-русская» идентичность
Украинофил Николай Костомаров предлагал строить украинскую национальную идентификацию на дуализме «южного» vs «северного» русского народа, при этом украинский, по его мнению, представляет собой «южнорусскую» идентичность. Н.И. Костомаров не избегал употребления термина «малорусский», он отождествлял его с понятием «южно-русский», а «великорусский» — с «северно-русским». Южнорусское начало он считал федеративным, а северно-русское — самодержавным[355].
Понятия «Украина», «Малороссия», «Гетманщина» Н.И. Костомаров воспринимает как архаизм XVIII века, в то время как термин «южноруссы» считает книжным новшеством XIX века[356].
Индивидуализм и стремление к личной свободе южноруссов противопоставляются коллективизму и общинности северноруссов. Федеративизм и демократизм южноруссов, так называемая южно-русская «громада» — «миру» (общине) северноруссов[357].
Русский либерал, публицист журнала «Вестник Европы» Александр Пыпин был единодушен с Н.И. Костомаровым, совмещал «южнорусский» культурный тип с «юго-западно-русским», сформировавшимся под влиянием казачества в «патриархальнодемократическом духе»; как славист обнаружил в периоде формирования «южнорусского сознания» черты «славянского возрождения»[358].
Не случайно либеральный круг «Вестника Европы» подкреплял украинофилов и стимулировал ознакомление с украинской/малорусской культурой. Михаил Драгоманов, имевший привычку всех критиковать, отзывался о «Вестнике Европы» положительно, хотя и с точки зрения «малорусского» патриотизма. К идеологизации «малоруссов» («идеализм и твердость») по сравнению с «великорусами» («утилитаризм и распущенность») подключился и Иван Тургенев, чрезвычайно уважаемый украинофилами за теплый отзыв об украинской культуре и народности. На его похоронах Михаил Драгоманов возложил венок с надписью «от украинской печати»[359].
Николай Костомаров выразил мнение и об украинском православии, назвав его «гораздо духовнее, жизненнее и внутренно сильнее»[360] северно-русского, которое сводится только к обрядности.
Велись поиски «истинно» православных — во многих отношениях русские и украинцы были неотличимы, а нужно было создавать новую нацию, к тому же и религия у них была общей, поэтому следовало отделять «истинно» верующих — южно-руссов, от формалистов великоруссов. Эту особенность — «истинность» — украинского православия по сравнению с русским после Н.И. Костомарова взяли на вооружение как украинофилы, так и украинские националисты. А после 1990 года вопрос был решен капитально — отделением УПЦ Киевского патриархата от УПЦ Московского патриархата[361], что было шагом к политической независимости, а в настоящее время создает большие проблемы для украинских прихожан и отнюдь не ведет к примирению двух украинских наций.
Николай Костомаров не представлял себе пребывания малороссов (южноруссов) и великороссов (северноруссов) в отдельных государствах, несмотря на различия между ними и не отрицал их родства[362], как это делают украинские националисты вслед за Михайлом Грушевским.
Сходную с костомаровской позицию занимали академический круг общественных деятелей при журнале «Киевская старина» (1882–1906), в лексике которых понятия «Малороссия» и «Южная Россия» синонимичны, а названия «малорусский народ» и «украинский народ» используются равноценно.
Официальная академическая русская позиция, изложенная в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, также рассматривает южноруссов (или малоруссов) отдельной народностью, которая, однако, является составной частью трех русских народностей (вместе с белорусами и великороссами). Галиция с Волынью причисляется к «Малой Руси»[363].
Юрий Венелин, русин с малорусской идентичностью, также разделял мнение о разграничении «южнорусской» и «севернорусской» народностей. Ю.И. Венелин рассматривал понятия «русин», «русак», «русский» и «россиянин» как синонимы. Особое внимание он уделял спорам между «южанами» и «северянами» по поводу их «русизма» (россизма), которые ведутся в простонародье, где люди делятся на «бритоголовых усачей» (южане) и «бородачей» (северяне)[364].
Однако Юрий Венелин упоминает и о «третьем русском племени, восточном или волжском», которым он считает «болгар» из-за их языка — «наречия, на котором молится вся Россия»[365].
Фактически интерес Ю. Венелина к нам, болгарам, вызван не чисто славистскими и академическими побуждениями, а его собственной инициативой поисков русских корней вне России (или, как выражается он сам по поводу работы историка, — исследования «исторического скелета», в данном случае имеется в виду Древняя Русь), что объясняется тем, что по происхождению он русин. Юрий Венелин занимался поисками русских, а нашел болгар. Любопытным является тот факт, что Ю.И. Венелин признает свой вывод по поводу идентифицирования болгар с «третьим русским племенем» намного позднее издания труда «Древние и нынешние болгаре» (1829), в котором болгары определены просто как славяне[366], — в одной рецензии, опубликованной спустя 17 лет (1847).
Космополитизм» и «европеизм» vs «национализм»: украинофильство Михаила Драгоманова
Михаил Драгоманов развивал взгляды Николая Костомарова, с которым его связывала принадлежность к романтически настроенному украи-нофильству. Демократ по духу, М.П. Драгоманов категорически отмежевывался от украинских националистов из-за их агрессивной риторики по адресу русских и поляков. Просветитель украинофильского толка сосредоточивал внимание в первую очередь на изучении и популяризировании украинской словесности и фольклора — на «политической истории украинского народа, рассказанной им самим»[367].
Представление Михаила Драгоманова об украинском национальном сознании было дуалистично (украинско-русское) и демократично. М.П. Драгоманов был убежден, что украинское национальное сознание в Галиции может быть сформировано только при воздействии демократических идей русской литературы[368].
Как и Н.И. Костомаров, М.П. Драгоманов отвергал идею создания национального государства за счет «европеизма» и «космополитизма», «общечеловеческого начала в культуре» и преобладание «социального» над «поверхностным национализмом»[369]. М.П. Драгоманов критиковал и украинофилов, называл их «культурниками», которые изолируются от «новоевропейской культуры» и ищут поддержку церкви (клерикализм) — сам же он был атеистом.
Космополитический демократизм М.П. Драгоманова не устраивал ни русские власти, они обвинили его в сепаратизме (он якобы желал присоединения Малороссии к Польше) и вынудили покинуть Россию, ни националистов, ни радикалов. Если русские консерваторы обвиняли его в «сепаратизме», то украинские националисты считали его «русификатором» и «заграничным агентом русского правительства».
Михаил Драгоманов называл свою работу «литературно-политической», а себя — «социалистом по идеалам» и федералистом. Интересно то, что при развитии своих социалистических идей он сознательно пользовался украинским языком, а либеральные взгляды и идеи федерализма излагал по-русски — в зависимости от аудитории.
Политическое кредо Александра Герцена восхищало М.П. Драгоманова, исповедующего демократизм, но позицию по национальному вопросу он критиковал и называл Герцена «московским славянофилом» и «великорусофилом». Но в основном идеал у них был общий: «социальнодемократическое федеративное всеславянство»[370]. М.П. Драгоманов обвинял русских социалистов в «якобинском централизме»[371] за их выпады в адрес украинской нации. В русском либеральном лагере самым близким по взглядам на украинский вопрос, по признанию М.П. Драгоманова, был Александр Пыпин.
Украинский национализм: Михаиле Грушевский и Иван Лысяк-Рудницкий
Михайло Грушевский как идеолог украинского национализма был главным оппонентом Михаила Драгоманова, которого обвинял в «культурничестве». М.С. Грушевский расширял федерализм укра-инофилов идеей о «национально-территориальной автономии»[372].
Польская версия украденного этнонима популярна и в наши дни: суть ее в том, что русские (московцы) присвоили название «Русь», отобрав его у исконных наследников — украинцев (настоящих русских), была подробно интерпретирована Михаилом Грушевским[373]. М.С. Грушевский унаследовал и продолжал развивать линию обезличивания понятия «Малороссия» и его замены понятием «Украина»[374]. Согласно М.С. Грушевскому, украинская территория простирается от Карпат до Кавказа[375], и в этих рамках он видит будущую национально-территориальную автономию, отрицая многонациональность этих географических широт и объявляя их «этнически украинскими»[376]. Налицо этноцентрический подход.
Иван Лысяк-Рудницкий — украинский историк, эмигрант, завершил конструкцию украинского национализма М.С. Грушевского, причем он не только отвергал понятие «Малороссия», но воспринимал его употребление как «руссификацию» («малоруссизацию»), а УССР называл «нео-Малороссией»[377]. Он заявлял, что Россия и Украина несовместимы, первая является «евразийской» (наследницей «мира евразийских кочевников»), вторая — «европейской» (преемницей «византийской культурной традиции»). И.П. Лысяк-Рудницкий использует термин «протоукраинцы», подчеркивая автохтонность данного населения, в отличие от русских — пришельцев с кочевнических степей. Он тоже воспроизводит тему украденного этнонима, но делает это не так элементарно, как М.С. Грушевский, а определяя Киевскую Русь как государство «восточноевропейское», а не «русское», что было воспринято современной нерусской историографией об Украине. Во избежание употребления понятия «Русь» он называет Киевскую Русь «Киевской федерацией», или «объединенным Киевским княжеством»; более того, он использует понятие «Русь-Украина», считая нормальным «применение современного национального понятия, «Украина» к прежним эпохам…. когда термин не существовал»[378].
Иван Лысяк-Рудницкий не признавал наличия двух украинских наций, он считал, что никакого дуализма нет, наоборот, согласно его концепции, галицийская нация победила малорусскую. Русинов он называл «галицийскими украинцами», а их «москвофильство» объяснял русским «очарованием» и «сиянием»[379].
Эмансипация украинской нации не могла обойтись без предложенной украинскими народниками в XIX веке периодизации истории, а именно: княжеский литовско-польский, казацкий периоды и период национального возрождения. Иван Лысяк-Рудницкий не скрывал уязвимости «казацкого периода», поскольку «казаки» имелись и в России, и в Польше, уязвим был и «княжеский период», и поэтому, чтобы придать большую убедительность европейской принадлежности Украины, он предпочел иное деление: на Античность, Средневековье и Новое время, которое, однако, не отменяло необходимости во внутренней периодизации, присущей каждому европейскому государству. Иван Лысяк-Рудницкий предложил для XIX века периоды народничества (1840–1880) и модернизма (1880–1914), что по сути означало соблюдение русской историографии.
Фадей Рыльский: трансформация сознания польского шляхтича в украинского народника
На фоне формирования украинскими националистами отрицательного образа украинской идентичности (неизменный враг — Россия, остальные — по ситуации: Польша, Германия) Фадей Рыльский служит удивительным примером человека, сформулировавшего положительный образ украинской идентичности на Правобережье (причем не только на теории, умозрительно, на интеллигентский манер — в сладком раздумье за чашкой чая, а образом жизни со всеми вытекающими последствиями).
Превращение польского шляхтича в украинского народника было не редким явлением в 60-е годы XIX века, когда молодая интеллигенция Правобережья испытывала воспламеняющее влияние революционных идей русских и польских народников (так образовывался сплав демократических идей и романтических порывов национального возрождения). Народничество (идейное течение, включающее социалистов и демократов, без различия по национальной принадлежности и вероисповеданию) воспринималось многими современниками Фадея Рыльского как «освободительная эпоха» с одной стороны, освобождения от самодержавия, а с другой — избавление от имперских национальных рамок — русских или польских. Народники 60-х годов составляли часть украинофильских кругов, которые считали их «глубоко искренними и идеально честными»[380].
Фадей Рыльский, подобно многим его сокурсникам по историко-филологическому факультету Киевского университета, несмотря на то, что он по происхождению был польским шляхтичем, сблизился со студентами малороссами и стал членом украинской «громады», и это определило «его духовное перерождение» из поляка в украинского народника. Узнав об этом, его отец был потрясен («хлопскими идеями и чувствами сына»), однако надеялся, что этот очередной бунт детей против отцов пройдет и даже решил перевести его в Санкт-Петербургский университет, но вскоре отказался от этого намерения, так как столичная университетская молодежь — с 60-х годов и до конца XIX века — сочувствовала украинскому возрождению. В 60-е годы в Санкт-Петербурге украинофилы («холопоманы») создали свой печатный орган — журнал «Основа», в котором печатался и Фадей Рыльский[381]. После подавления польского восстания (1863) Фадея Рыльского ожидала высылка в Казань, но все обошлось. После возврата к национальным украинским корням (в его представлении польское дворянство с правого берега Днепра «есть не что иное, как ополячившиеся украинцы»[382]) Фадей Рыльский не отказался от своей просветительской миссии.
Он жил, как настоящий народник: был католиком и в то же время состоял попечителем православной сельской школы, в которой наравне со священником преподавал закон божий. Местные представители польской шляхты строчили на него доносы, обвиняя его в том, что он женился на крестьянке и «слишком хорошо живет с крестьянами», которых поддерживает в поземельных исках против шляхты.
Народническое поведение Фадея Рыльского, на деле доказавшего, что католики и православные одной нации могут жить в мире и согласии, стало на практике образцом положительной национальной идентичности (которая находит объединительные силы в поисках врага, а принимает существующие различия как данность, которая способствует обогащению). Первопричиной столь благородного просветительского порыва Фадея Рыльского посвятить себя делу национального возрождения послужила уникальная судьба его прадеда Ромуальда.
Семейное предание о событиях Колиивщины — резни польского населения Правого берега Днепра казаками — «гайдамаками» (1768), оказало сильное влияние на формирование личности Фадея Рыльского в XIX веке. Прадед Фадея по имени Ромуальд был учеником гимназии г. Умань, когда в город вторглись казацко-гайдамакские орды. Перед тем как приступить к массовой казни поляков и евреев, гайдамаки привязали к столбу и 14-летнего Ромуальда. Перед началом расстрела он запел мало-русский народный псалм «Пресвятая Диво, мати руського краю». Голос у него был звучный, натренированный на литургических песнопениях в униатской церкви Умани. Это тронуло атамана, и он всем обреченным на смерть даровал жизнь. Затем последовало подавление восстания русскими войсками и длинная вереница событий с проявлением повседневной жестокости проявляемых враждующими между собой поляками и казаками, и религиозной нетерпимости, жертвой которой Ромуальд не стал благодаря знанию русского языка, которым он владел так же свободно, как и польским. Благодаря этому он смог благополучно вернуться в родную семью[383].
История Фадея Рыльского служит одним из примеров развенчания «казацкого мифа» украинской национальной идеи, опоэтизированного Кондратием Рылеевым и Тарасом Шевченко, сакрализи-рованного в картинной прозе Николая Гоголя и в конечном счете — в историографических трудах Михаила Грушевского. Пантелеймон Кулиш — соратник (хотя и не всегда единомышленник) Николая Костомарова по Кирилло-Мефодиевскому братству, был одним из немногих украинофилов, которые создавали адекватный (не приукрашенный) образ казачества основываясь на исторических документах. П.А. Кулиш разграничивает «великорусских» и «малорусских» казаков, но обоим типам дает обобщенное название «украинских пиратов», которые показушно исповедуют христианство, а ведут себя как «темные язычники», по этой причине П.А. Кулиш называет их «религиантами»[384]. П.А. Кулишу даже принадлежит применение термина «башибузук»[385]. Колиивщина (Резня, 1768) — лишь одно из потверждений неоднозначности казацких нравов, что, однако, не мешает живучести «казацкого мифа» — он жив и сегодня.
Третье лицо украинского Януса: русины
Если порождением XIX века были две украинские нации (малорусская по модели М.П. Драгоманова и галицийская — по этноцентричной модели М.С. Грушевского), которые в XX веке были обречены оказаться в одном государстве (1939) и сожительствовать как одна политическая нация (с 1991 до второго майдана, 2013), то XX век дал жизнь третьей украинской нации — русинской, причем не как региональной идентичности, а именно как идентичности национальной; этот процесс продолжается до сих пор, и в этом смысле красивое наименование «славянская Атлантида»[386], которое дал русинской нации один из современных исследователей Кирилл Шевченко, является неточным: скорее всего этой новой нации подошло бы название «славянская Аврора», поскольку ее звезда официально взошла 7 марта 2007 года, когда Закарпатская областная рада легитимировала национальность «русины»[387].
Украинский историк из Канады Джон-Поль Химка признал существование «локальной русинской идентичности»[388] в Карпатах. Но она могла быть определена как локальная только в XIX — начале XX века. Русины имеют свою диаспору (отдельную от украинской) в Канаде и США, к этому следует прибавить Чехию, Словакию, Венгрию — все они в конце XX века[389] отстаивали понятие «русин» как национальную, а не региональную идентичность. Ее центром в настоящее время являются Карпаты, однако фактически русинская нация есть наследник русинов Галиции XIX века — той их части, которая считала себя «москвофильской» и в культурном отношении ориентированной на Россию. Галичане не называли себя украинцами, а русинами, и даже украинофил Пантелеймон Кулиш, говоря о Галиции, использует понятие «Галицкая Русь», а не «Галицкая Украина»[390]. П.А. Кулиш отзывается о галичанах нелестно: («Он хотя и галичанин, но честный человек, что между галичанами весьма редко»).
Русинская нация является естественной реакцией на украинизаторскую политику этноцентрично настроенных украинских националистов галицийского образца второй половины XIX века — до конца
Первой мировой войны. Галицийская модель была образована в XIX в. на основе русофобской, анти-польской и антиеврейской идентичности, при этом после этнических чисток в отношении польского и еврейского населения Галиции (1941–1943), доминирующей стала русофобия, а образ России стал определяться как образ врага номер один. Русины, как потомки населения Галицко-Волынского княжества, уцелевшего и просуществовавшего полтора века после татарского нашествия на земли Древней Руси, но затем подчиненное Польшей и вынужденное частично принять греко-католическую веру, в XIX веке стали осознавать себя отличающейся русской, но родственной с ней народностью, в течение всего XX века испытывающей глубокое русофильское чувство любви к своей «исторической родине»[391].
Русинская нация была также реакцией на полонизаторскую образовательную политику, проводимую в Галиции, которую продолжила Австрия, а затем и Австро-Венгрия. После Польского восстания (1863) многие польские революционеры бежали из России в Галицию и стали работать там преимущественно преподавателями. Один из них, Паулин Стахурский-Свеницкий, ратовал за «казацкую республиканскую Украину» и ввел понятие «украинец» вместо «малоросс» или «русин» — это был очередной этап борьбы национальных понятий[392].
П. Свеницкий был назначен галицийскими властями учителем малорусского языка в академическую гимназию Львова[393]. В Галиции вводится написание «украино-русьский» или «украино-руский» (ради отличия от написания «русский», — так ведут себя и нынешние македонцы, которые на письме избегают написания «ъ», но не имеют возможности забыть его произносить; подобная технология конструирования различия стара и эффективна: опять-таки по причине иррационального момента тот или иной символ (образ) имеет силу, которая тяжелей тонн академических изданий.
Польские преподаватели Львовского университета, с одной стороны, поощряли украинскую национальную версию отрыва от русского культурного пространства и всячески препятствовали попыткам русинов издать свою грамматику, близкую к русскому (великорусскому) языку, а с другой — редко допускали малороссов в свою среду, и эта политическая линия проходит через весь XIX век.
Русская политика в отношении русинов была противоположна польской: она заключалась в частичной поддержке, которая, однако, из-за непоследовательности не имела эффекта. В царствование Александра II (1876) Россия финансировала русофильский печатный орган русинов Галиции «Слово», но субсидирование продолжалось только до сентября 1880 года, когда по распоряжению тогдашнего министра внутренних дел М. Лорис-Меликова субсидии были прекращены[394].
В 1901 году Львовское научное общество имени Тараса Шевченко обратилось к австрийским властям с петицией об учреждении «малорусского университета»[395]. Профессора называли себя «представителями малорусской науки» и жаловались на то, что Львовский университет носит польский отпечаток и что в нем редко допускается чтение лекций на малорусском языке[396]. Русины назначались преподавателями в университет только при условии соответствия «gente Ruthenus, natione Polonus», если же нужно было при назначении сделать выбор между поляком и русином, то выбор падал на первого, при этом научный потенциал кандидатов не принимался во внимание. Очень серьезное внимание уделялось проблеме языка: так, декан философского факультета Львовского университета лишил слова проф. Михаила Грушевского на академическом собрании только за то, что выступающий говорил не по-польски, а по-украински[397].
В начале XX века понятия «малороссы», «украинцы» и «русины» уже употреблялись в Галиции как полноценные синонимы. В некоторых текстах на темы просветительского антагонизма во Львове украинские националисты наряду с названием «малорусский университет» применяли и название «русино-украинский университет».
Полонизированных русинов называли «твердыми», к ним относились как к национальным предателям, которые «рабски отреклись от своих украинских прав». А в то же время украинские националисты в Галиции не признавали русинской идентичности и с презрением повторяли издевательское выражение поляков: «вчерашний поляк — сегодняшний русин»[398]. Для сравнения: в Словакии русины выдвинули лозунг: «Быть русином — не позор, а честь!» (2009), а во время переписи населения (2001) цитировали русинского народного просветителя XIX века А. Духновича. В современной Украине возрождение русинской нации воспринимается болезненно, современные украинцы с не меньшим высокомерием, нежели поляки заявляют, что «карпатские русины — не национальность и не национальное меньшинство и даже не этническая группа, — это профессия», под которой подразумевается «пятая колонна — от Кремля»[399].
Явно к пятой колонне следует отнести и американского сенатора Джона Маккейна, который по настоянию русинской диаспоры США убедил в 2007 году президента Украины В. Ющенко не препятствовать провозглашению в Закарпатье национальности «русины». Маккейн лишь выполнял роль вестоносца, однако же проявленный американцами интерес к этой молодой нации не случаен: им было важно знать, будет ли она дуалистической, основываясь на признания исторических связей с Россией, занимающей русофильскую позицию в сочетании с собственной русинской, идентификацией — или же наоборот, при равнодушии русских властей сформируется в еще одну восточно-славянскую русофобскую нацию — вот в чем заключался вопрос.
Возрождение русинов иррационально и в стиле мифологической направленности национального сознания. Битва национальных понятий проходит с переменным успехом при отсутствии неизменного победителя: попытка замены «малорусского» «украинским» провалилась, как и элиминирование «русинского» в силу краткосрочности политического воздействия с точки зрения исторической вечности, в то время как культурные ростки национальных архитипов в состоянии воскреснуть от какого-нибудь одного образа, одного слова, одной песни — и привести к пробуждению целой общности.
Заключение: многоликий украинский Янус
Рациональные факторы, способствовавшие образованию двух украинских наций в двух империях (Австро-Венгерской и Российской) в XIX веке, были следующие:
• демократический радикализм польской, русской и украинской интеллигенции; ставлю его на первое место, потому что без поддержки польских и большинства русских демократов и социалистов, вплоть до большевиков, украинофилы XIX века обоих течений (этнодуалистического толка, во главе с Михаилом Драгомановым, и этноцентричного толка, во главе с Михаилом Грушевским), не смогли бы широко развернуть свою деятельность и остались бы в сфере кружочного обсуждения;
• недальновидная политика русских властей после подавления польского восстания (1863), подвергших репрессиям малейшее проявление культурной жизни украинской нации, что оттолкнуло ее от России в сторону Галиции, которая в силу либерализма политической жизни в Австрии сыграла роль лаборатории украинского национализма по созданию модели галицийского образца;
• славистский интерес к фольклору славянских народностей в рамках трех империй (российской, габсбургской и османской);
• геополитическая тектоника во время Первой мировой войны, которая катализировала украинский национально-образовательный процесс превращения просветительского проекта по созданию федеративной автономии в политический проект по созданию национального суверенитета.
Иррациональные факторы формирования украинского дуализма находятся в сфере национальной мифологии;
• «казацкий» миф, монополизировавший «казацкую» идентичность (создатели и приверженцы которого забывают о существовании казаков как в Польше, так и в России), а также идеализация свободолюбия казацких старшин (упускающая из виду разбойнический характер их действий).
• миф об «истинном» преемнике Древней Руси. При этноцентрической галицийской идентичности «истинными» русами являются украинцы, в то время как русские/россияне, или москали, — татары, финны и отчасти славяне, но отнюдь не русы; при этнодуалистической малорусской идентичности «Русь» заключает в себе общую историю трех самостоятельных наций: русской, малорусской и белорусской, которые совмещают родство с сохранением собственной специфики, накопленной опытом самостоятельного существования в разных государственных и политических образованиях; этой точки зрения придерживаются и русины (третья, более молодая, украинская нация), в то время как русские до 1917 года придерживались имперского наратива: Киевская Русь — Москва — Петербург, три народа (малорусы, великорусы и белорусы) — одна нация (общерусская, русская, российская). В современной России этот имперский взгляд разделяют только крайние консерваторы и часть националистов, первый красный разделительный рубеж появился после Второй мировой войны / Великой Отечественной войны, когда возникли новые пласты мифов, усугубившие культурную несовместимость галицийской и мало-русской моделей, сюда относятся все аспекты «национализации» истории после 1991 года и в особенности после Оранжевой революции (2004).
• второй красный рубеж возник после условного окончания холодной войны (1991) во время второго майдана (2013–2014), породившего новых героев и анти-героев защитников майдана из так называемой «Небесной сотни», ликвидированной снайперами (полноценное расследование этого преступления не было проведено), с одной стороны, «Небесная сотня» была канонизирована Киевом, а с другой стороны, «Беркут» (спецназовцы, которым была вверена защита государственности в лице Януковича, часть которых стала жертвой «коктейля Молотова») и жертвы Одессы («Одесской Хатыни») от 2 мая 2014 года — ее жители, которых сожгли живьем после применения пыток, преследуемые за антимайдановскую позицию и за то, что у них на лацканах были приколоты георгиевские ленточки — символ, несовместимый с тризубцем, — это показательная расправа в стиле зверств нацистов, жертвами которого в Одессе стали тысячи одесситов (евреи, коммунисты просто те, кто был несогласен с режимом, установленным в городе оккупационными немецкими и румынскими войсками (1941–1944), в очередной раз провела кровавую грань между двумя украинскими нациями.
Существует рациональный пример идеального варианта положительной национальной идентичности (совместного существования двух украинских наций с добавлением русинской нации) — такова жизнь Фадея Рыльского, жителя правого берега Днепра: католика и дворянина (шляхтича) с народническим мировоззрением, сочетавшего просветительство с деятельностью попечителя православного учебного заведения, женатого на крестьянке. Согласно этому варианту, все люди равны и уважаемы вне зависимости от религиозной или иной принадлежности.
Но судьбоносную иррациональную роль в этом примере сыграло событие страшных времен Колиивщины (Резни, 1768), случай, когда подросток католического вероисповедания из польской семьи по имени Ромуальд (который приходился Фадею прадедом), привязанный к столбу православными казаками-гайдамаками (разбойниками по поведению) запел на малорусском языке «Пречистая Дево, Маты руського краю» и этим поступком спас от расправы всех местных поляков и евреев.
Напоминаю лишний раз эту историю, поскольку жизнь не только отдельных людей, но и целых народов, в сущности, представляет собой цепь подобных иррациональных моментов (30 таковых составляют полминуты вечности). И это отнюдь не лирика, история позволяет это только в виде исключений, а не массовых явлений.
Трудно, однако, дать оценку алхимическому балансу рациональных и иррациональных факторов украинской дуалистической идентичности. Это напоминает компьютер, который при каждом вхождении в сеть меняет айпи адрес, оставляя новый виртуальный след, и при этом способен преподнести сюрприз в виде токового удара. Украинские события наглядно демонстрируют инфантильность вопроса, «как может случиться такое в XXI веке?», по календарю майя год и век другие, по летоисчислению евреев — тоже; развитие человека в известной мере является иллюзией.
Согласно замечательной максиме Леонида Радзиховского, «древние греки не знали, что они древние». Это касается и наций, и мифологического мышления в сочетании с хай-тек технологиями, результатом которых может стать появления восторженного «урки» с «айфоном», или ренессансного поколения, не защищенного, однако от примитивизма быта, но и одни, и другой повторяют «миф о вечном возвращении» (Мирча Эллиаде), так как человеческая жизнь ограничена во времени и нет никакой гарантии, что накопленные опыт, знания, внутреннее развитие будут переданы дальше. В этом смысле каждое новое поколение готово изобрести свою мифологию — национальную или какую-либо иную (формы общности меняются) — ибо каждая нация (если перефразировать Михаила Булгакова) смертна, но это еще полбеды, она внезапно смертна… однако внезапно может пробудиться.
3.2. Беларусь vs Украина: дуализм vs этноцентризм. Две модели постсоветской идентичности
Процесс глобализации, начавшийся после распада СССР в 1991 г. и исчезновения двуполярного мира времен «холодной войны», привел к постепенному размыванию границ национальной идентичности. Этому в некоторой степени способствовало искусственное вмешательство транснациональных корпораций, которые использовали свои неограниченные рыночные возможности, чтобы разрушить государственность как последнее препятствие на пути к новой глобализации с основополагающим принципом «бизнес и ничего личного». Иными словами, все национальные особенности, любая идентичность, традиции многих поколений должны были исчезнуть, все должно стать одинаковым и безличным.
Россия, Беларусь и Украина, движимые общей идеей отмежеваться от советского прошлого и советской идентичности, стали по-разному трансформировать свою историческую память. Все три нации берут начало в одной средневековой цивилизации — Киевской Руси. Это Древнерусское государство принадлежало к православной церкви и соотносилось с европейской культурой посредством болгарской системы письменности. Кириллица была изобретена Климентом Охридским, который распространил христианство на Руси на славянском языке задолго до того, как протестанты объявили войну засилью латинского. Татаро-монгольское нашествие раздробило государственное единство Древней Руси, предопределив развитие славянских народов в разных направлениях. Несмотря на то что упомянутые события относятся к далекому прошлому, они оставили свой след в развитии национальной идентичности славян.
Что произошло с советским гражданином на Украине и в Беларуси?
Развитие Украины и Беларуси после их выхода из СССР и обретения ими независимости стало предметом невольного сравнения. С одной стороны, сравнивались политические модели этих восточноевропейских государств, с другой — в объективе внимания было их национальное самоопределение. Историческая память не вышла бы за пределы академических исследований, если бы раз за разом не реконструировалась в угоду вновь пришедшей власти. Кроме того, противопоставление западными экспертами Украины и Беларуси осуществляется в духе «холодной войны». В 1991 г. понятие «советский гражданин» вышло из употребления вместе с исчезновением советского народа — нации, рожденной после Великой Победы 9 мая 1945 г.
В эпоху Ельцина на смену «советскому гражданину» пришел безликий «россиянин». Под россиянами понималось гражданское общество, а не новая нация. Сложившаяся после 1991 г. ситуация, при которой 25 млн. россиян продолжали оставаться за пределами Российской Федерации, нанесла огромный урон государству. Впервые стало ощущаться несовпадение этнической и политической карт (схожая болезненная ситуация на протяжении многих лет наблюдается в странах Балканского полуострова).
В отличие от русских белорусам и украинцам было уже знакомо такое историческое явление, как несовпадение этнических и политических границ — после распада Киевской Руси на землях этих стран происходили имперские войны, в результате которых произошло смещение границ (польской, литовской, русской и австрийской). Такая ситуация сложилась к тому времени, когда большинство советских республик успело окончательно сформироваться и получить административную суверенность (в частности, к началу Второй мировой войны), и продолжалась даже после 1991 г.
«Лихие 90-е» стали периодом исторического безвременья для России, когда она временно потеряла свой статус великой державы и не могла влиять на страны Восточной Европы. Это в некоторой степени определило независимый политический курс украинского и белорусского государств, которые в геополитическом плане находятся на стыке Востока и Запада.
Именно в данном контексте начинают сравнивать, а точнее — противопоставлять два направления развития — украинское и белорусское. Однако через призму Майдана оба государства предстают в новом свете. С 2013 г. ситуация на Украине изменилась в худшую сторону — страна прошла точку невозврата. Вместе с тем она помогла взглянуть на политику Беларуси под новым углом.
Национальная vs советская идентичность
Национальное единство является одним из преимуществ Беларуси (вне зависимости от религиозной принадлежности). На Украине единое гражданское сообщество с 1991 по 2013 г. образовывали две нации, сформировавшиеся в XIX в., когда территория страны была поделена между Австро-Венгерской и Российской империями.
Белорусы относятся к своему советскому прошлому не столь болезненно, как украинцы, и не акцентируют внимание на исключительно негативных сторонах советской власти. Как раз наоборот, символы белорусского государства отражают победу советского народа во Второй мировой войне, а День Независимости празднуется 3 июля — в День освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, а не 27 июля, когда Беларусь была провозглашена суверенным государством. Именно поэтому критики А. Г. Лукашенко противопоставляют Минск (как советский символ) Вильнюсу (как анти-российскому символу)[400]. Дело в том, что Вильнюс является центром белорусских националистов, так же как Львов — центром украинских националистов, однако степень крайних русофобских настроений последних гораздо выше.
Главным аргументом выступающих против национальной политики Александра Лукашенко является надуманное предположение, что Президент Беларуси способствует становлению советского, а не белорусского менталитета. Галина Тумилович, последовательница Валерии Новодворской и резкий критик Лукашенко, ввела концепт «уязвленной белорусскости»[401]. Г. Тумилович утверждает, что становление белорусской нации в постсоветский период происходило в неверном направлении, поскольку советское наследие не позволило народу воспринять систему так называемых европейских ценностей.
Сегодня в Беларуси два государственных языка — белорусский и русский, которые не противоречат, а, скорее, дополняют друг друга.
Выбранные в качестве национальных символы свидетельствуют об еще одном существенном различии между народами Беларуси и Украины. Беларусь единственная изо всех постсоветских республик, кто в выборе национального флага обратился к советской символике (1995)[402]. Украина, напротив, с приходом к власти Кравчука выбрала антисоветскую символику Западной Украины (Галиции) в качестве национальной.
В Беларуси нет социального класса «русскоговорящих националистов» (или он представляет изолированную группу), но встречаются молодые образованные люди на юго-востоке Украины, которые называют себя «русскоговорящими украинскими националистами», при этом, не причисляя себя к русским. Таким образом, они прямо не говорят, что не являются украинцами, но в то же время не могут полностью соотнести себя с русскими. С такими людьми с зомбированным сознанием невозможно вести диалог, это националисты наполовину, которые болезненно воспринимают противоположную точку зрения.
В Беларуси А. Г. Лукашенко провел дальновидную политику официального двуязычия, отвергнув идеи «русинизации» и «белорусизации» как националистические, влекущие к национальной розни. Обращаясь к народу и Национальному собранию 22 апреля 2014 г., Президент сказал: «Если мы перестанем разговаривать по-русски, мы потеряем разум. Если мы разучимся разговаривать по-белорусски — мы перестанем быть нацией». Более того, после событий на Майдане в апреле 2014 г. А. Г. Лукашенко обратился к тому факту, что русский язык является частью общего культурного поля белорусов, украинцев и русских: «Русский язык — это общее достояние прежде всего трех братских народов: украинцев, белорусов, россиян. Да и других народов, с которыми мы жили в одной стране. Этим самым еще раз хочу подчеркнуть для тех, кто пытается «приватизировать» русский язык. Он наш. Он не российский и не украинский. Он наш. Это живое достояние, в том числе и белорусов»[403].
Брошенный белорусам упрек в том, что они сохранили советский менталитет в гораздо большей степени, чем другие постсоветские народы, на самом деле подтверждает как раз обратное: продолжение советского опыта является для белорусского народа спасением, так как это способствует развитию нации без потрясений, например таких, которые сейчас происходят на Украине.
Центральноевропейская vs восточноевропейская идентичность
Еще одним отличием украинцев (в основном галицийцев) от белорусов является их центральноевропейская идентичность, определяемая как готовность страны к «интеграции в Европейский Союз». Белорусам, напротив, из-за их нежелания разорвать отношения с Россией вменяется «слабо-выраженная национальная идентичность»[404].
«Центральная Европа» и «Восточная Европа» являются геополитическими понятиями и зависят от сфер влияния, сложившихся в конкретный исторический период. Первое понятие охватывает Западную Европу и опосредованно, через Польшу, включает белорусские и украинские земли.
Второе понятие относится к периоду СССР до 1991 г. «Центральноевропейская идентичность» и «восточноевропейская идентичность» являются конфликтующими понятиями ввиду того, что последнее имеет пророссийский подтекст. Белорусские националисты пытаются навязать идею, что экономический союз России и Беларуси превратит последнюю в «банановую республику»[405], чего не произойдет с ориентированной на Европу Украиной. Отметим, что реальная ситуация свидетельствует как раз об обратном: олигархическая постсоветская модель украинского государства превратила богатейшую советскую республику в обедневшую колонию, находящуюся в практически полной зависимости от России. Беларусь, напротив, переживает устойчивый экономический рост, который происходит благодаря интеграции национальной экономики в российский рынок (а после образования Таможенного союза и ЕАЭС — в евразийский).
Связь с Россией и так называемым русским миром не ослабляет белорусскую идентичность, а, наоборот, укрепляет ее, учитывая, что Россия продолжает придерживаться идеологии об общем культурном поле без националистических или имперских замашек.
Европейская демократия vs беларуский авторитаризм
Критики Лукашенко до начала второго майдана на Украине называли его режим «восточноевропейский» или «авторитарный султанизм», которому противопоставляли идеал «европейской демократии». Причина на самом деле в отказе Лукашенко от приватизации по-русски (по-гайдаровски), от шоковой терапии и т. д., т. е. позиции государства остались сильнее рынка. Отсюда и упреки, что в Беларуси нет демократии и следовательно нет «легитимной постсоветской нации и государства»[406].
Критики Лукашенко не допускают даже вариант успешной беларуской нации без их идола: «либеральной демократии»[407] (отношение к ней у них весьма идеологическое и квазирелигиозное).
Если в Минске нет рыночной экономики, значит, нет нации, а «слабая беларуская идентичность» из-за «султанизма» Лукашенко и все это делает Беларуси ближе к Азии, чем к Европе[408]. Наоборот, Украина представлена как антипод Беларуси и как европейское государство и нация из-за тотального отрицания советского прошлого. Вывод идеологический и архи-политкорректный. Азиатскому «султану» Лукашенко противопоставляется европейский гетман на Украине. Лукашенко на Западе до 2013 г. не столь демонизирован как Путин, скорее, его иронически описывают в стиле северокорейского чучхе или Чаушеску, а Беларусь называют «европейской Кубой»[409].
А Лукашенко прагматик как Путин и далек от всяких идеологий, лишь бы был конкретный результат для государства. Беларусь, так же как и Украина, так же как и Россия находится между Востоком и Западом и дает свой пример сообщества двух традиций на фоне славяно-балтийского синтеза.
Славяно-балтийская европейская культура, евразийский авторитаризм и советская символика и память о Победе — память победителя, не побежденного как галицийские украинцы и их герои, — все это создает беларусскую нацию как стабильную и без всяких фрустраций. Однако ее целостность зависит от союза с Россией, а не от партнерства с Европой.
Заключение
Евразийский союз: неосоветская или постсоветская геополитическая идентичность?
После распада СССР (1991) в России возник вакуум национальной идентичности, вместо советской нации, объединявшей граждан по социальному принципу (все они были гражданами Страны Советов) родилось понятие «россиянин». Оно отражает исключительно политическую и гражданскую общность, игнорируя общность национальную в отношении государства.
На первый взгляд, вопрос о русской нации и её переформировании в российскую остается открытым до настоящего времени, поскольку функционирование термина симптоматично для политкорректного языка. При этом важно учитывать такую специфику употребления понятия: русское национальное самосознание неуклонно пребывает в состоянии «самооткрытия»: процесс развития нации — процесс открытый, как процесс «имперский» он не может быть финализированным (быть «русским» означает вне зависимости от национальной принадлежности иметь отношение к русской культуре, которая по своей сути является европейской).
Если российские рамки — это рамки политические (они касаются всех граждан в пределах Российской Федерации), то русские означают национальную и европейскую идентичность постсоветской России. Однако, помимо европейской культуры, для России характерны ещё два измерения, а именно: евразийская (восточная) государственность и православная духовность (абсолютная гармония с остальными традиционными вероисповеданиями в её постсоветских границах). С другой стороны, после 1991 г. вакуум образовался и в отношении геополитической идентичности постсоветской России, который начал быстро преодолеваться введением понятия «Евразия», официально воскрешённым Н.А. Назарбаевым в его выступлении в МГУ им. М.В. Ломоносова (1994). Евразийская идея президента Казахстана не случайно нашла отклик в Кремле и привела к разработке на её основе нового варианта региональной интеграции для части постсоветского пространства, прежде всего на Востоке, который, однако, не чужд идеи Большой Европы, от Лиссабона до Владивостока.
Ещё в 20-е годы XX в. русская эмиграция ввела в оборот, придав им статус официального геополитического и историософского термина, понятия «евразийство» и «Россия — Евразия» в знак «реабилитации» Востока в русской истории и культуре, утвердив отказ от европоцентричной модели и новоимперский (вненациональный) проект. Так, историк, евразиец Георгий Вернадский разработал новую периодизацию русской истории, отказавшись от европоцентричной модели, включающей Киевский — Московский — Петербургский периоды, и предложил евразийскую периодизацию: скифы — гунны — монголы — русская империя — СССР[410], которая, однако, отличалась недооценкой значения европейского начала в истории России. Другой известный идеолог евразийства, лингвист Николай Трубецкой в стремлении эмансипироваться от Европы отрёкся от славянской идеи как части русской национальной идентичности и попытался ввести миф о «туранском элементе»[411].
Подобное стремление к переформатированию понятия «европейское» в «евразийское» присутствует в новой терминологии проекта единого учебника истории России. Ощутимость евразийского следа в новом историко-культурном стандарте[412] создаётся отсутствием классических определений периода правления Петра Великого — «вестернизации» и «европеизации», что представляет собой идеологическую автоцензуру (назвать это цензурой я не решаюсь, поскольку такие указания неизвестны, скорее всего, мы имеем дело с пере-усердствованием в духе советской рефлексии). Замалчивание «европеизации» нельзя назвать академической неточностью, так как именно при Петре I Россия европеизировалась в светском отношении, когда в рамках старой империи создавалось модернизированное государство. А в религиозном отношении Россия впервые была европеизирована при князе Владимире с принятием христианства. Что же касается Петра I, то авторы стандарта находят нужным использовать единственно понятие «модернизация», которое определяют как «жизненно важную задачу».
Ещё одним термином, исключённым из новой концепции, стало понятие «татаро-монгольское иго», взамен которого вводится «зависимость русских земель от ордынских ханов». Здесь прослеживается цель — устранить не только понятие «иго», но и упоминание об этнической принадлежности его носителей, «татаро-монголов», во избежание неприятностей при интерпретации в Татарстане, что само по себе представляет если не идеологический, то чисто политический подход к истории, и результат вряд ли будет ожидаемым. Татарские общественные деятели не имеют ничего против идеологического подхода в качестве государственных рамок, однако они возражают против доминирования в истории России «славянского», «русского» и «европейского» начал и предлагают ввести взамен данных понятие «евразийское»[413]. И их пожелание в большой степени исполняется. Новая концепция вводит определение «евразийский контекст», при этом «евразийское» применяется даже для истории средневековья, а «Россия» заменяется «Евразией».
Интересно следующее. Если до сих пор евразийская лексика преимущественно составляла часть геополитического словаря для характеристики векторов русской внешней политики на Востоке, то с 2013 г. это понятие было официально введено в периодизацию истории России, что означало попытку придать ему характер массового употребления, что едва ли представляется плодотворным.
Идея В.В. Путина поддержать единый «канон»[414]преподавания истории ошибочна: канон не допускает альтернативных взглядов, а история, как и другие гуманитарные дисциплины, призвана формировать критическое мышление, а не политкорректное клакерство, скорее всего, предложение останется частью административной экзотики постсоветской России. Даже директивный патриотизм в постсоветской России, все концепции патриотического воспитания с 2001 г. до наших дней[415] рискуют остаться только на бумаге, несмотря на стремление Владимира Путина быть последователем политической философии Александра Солженицына, направленной на «сбережение народа», но ведь народ этот — русский народ — не евразийский, а европейский.
Не случайно понятие «евразиец» естественно лишь для жителей Казахстана[416], в отличие от России и Беларуси. Без русского культурного влияния, которое ещё с XIX в. европеизировало Восток и было главной миссией России, Казахстан оставался бы Азией и не был бы Евразией, в то время как Беларусь, с её славяно-балтийской культурой, служившая медиатором между Россией и Европой, разграничению «Восток — Запад» предпочитает «Север — Юг», отсюда и понятие «Северная Евразия».
Если для России и Беларуси «евразийское» начало всего лишь внешнеполитический вектор или геополитическая идентичность, то для Казахстана это одновременно как геополитическая, так и национальная идентичность. Постсоветская модель евразийской интеграции имеет, прежде всего, прагматический и геоэкономический характер, допуская различие в партнёрах, которые не только равнозначны в рамках ЕЭС (Евразийского экономического союза), но и проводят самостоятельную внешнюю политику. Именно поэтому было бы неправильно называть ЕЭС неосоветским образованием, это своего рода постсоветский вариант глобализации по-русски, или по-евразийски.
Модель глобализации по-английски убедительнее всего нарисовал Герберт Уэллс в своей брошюре «Новый мировой порядок», которая была написана в самом начале Второй мировой войны (1940). Выдающийся фантаст представляет новый мировой порядок как «практическую унификацию», «конец исторического периода суверенных государств», «эпоху перестройки» и «фундаментальной необходимости в революционной реконструкции». «Революция» для Уэллса — явление, не столько овеянное ореолом романтической идеализации, сколько неизбежность перемен в виде «глубочайшей социальной революции, даже более глубокой, чем революция коммунистов в России» (последняя, по его мнению, провалилась из-за «нетерпения, насилия… интеллектуальной недостаточности»), «космополитической революции мирового коллективизма, как единственной альтернативы хаоса» и с «декларацией прав человека»[417].
Но для Герберта Уэллса «коллективизм» синонимичен «глобализму», глобализму по-английски. Сквозь красивые конструкции нового мирового порядка, стоящего на страже прав человека, проступает новое перераспределение земных богатств или очередная реколонизация, которую мы наблюдаем и сейчас, в эпоху «глобализации». Сам Уэллс в книге «Россия во мгле», написанной им на основе личных впечатлений о большевистской революции, признаёт и так объясняет причину разочарования на Западе Октябрём 1917 г.: «Крах цивилизации в России и её замена деревенским варварством на долгие годы отрежет Европу от богатых недр России, от её сырья, зерна, льна и т. д. Страны Запада вряд ли смогут обходиться без этих товаров. Их отсутствие неизбежно приведет к всеобщему обеднению Западной Европы»[418].
Колониально-потребительское отношение Запада к Востоку (России-Евразии) не изменилось и после окончания холодной фазы Холодной войны (использую термин «фаза», так как Холодная война никогда не прекращалась, после 1991 г. она просто была трансформирована в геополитическое противопоставление и конкуренцию, это явление неизбежно для истории международных отношений, оно может делиться на фазы, но не имеет финала). Евразийский проект постсоветской России — это реакция на сохранившийся стереотип колониально-потребительского интереса к Востоку и ответ на глобализацию по-английски (по-американски), с одной стороны, а с другой — своеобразная евразийская (ЕЭС) редакция глобализации по-европейски (ЕС).
Восприятие Евразийского экономического союза (ЕЭС) в качестве неосоветского проекта — это, с одной стороны, плод «русского комплекса» Запада (Россия огромна, загадочна, непредсказуема), а с другой, вопрос конкуренции, экономической и геополитической, в борьбе за ресурсы богатейшего региона — Евразии. Герберт Уэллс описывал этот комплекс британцев как «хроническую русофобию, порождённую их огромными приобретениями на Востоке»[419].
В России, в свою очередь, начиная с XVIII в., с периода её европеизации и модернизации при Петре I, существует зеркальный «европейский комплекс». Европа — прежде всего как понятие культурное — всегда служила ориентиром для национальной идентификации русской общественной мысли как с положительным (западники-либералы), так и с отрицательным (славянофилы, консерваторы-почвеники, западники-социалисты) знаком. Эта своеобразная интеллектуальная шизофрения борьбы «восточного» и «европейского» в национальном самосознании русской интеллигенции составляет неотъемлемую часть и современной России.
Евразийская геополитическая идентификация России связана и с реакцией на неолиберальную стихию обезличивания наций, традиционного семейного уклада как нормы поведения. В этом отношении Восток, будучи важным составляющим компонентом России и консервативным хранителем патриархальных устоев общества, даже после её модернизации за годы Советской власти в стиле «Белого солнца пустыни», не в состоянии воспринять подобную неолиберальную попытку разрушить национальную идентичность и переформатировать её в идентичность корпоративную, как и обезличивание семьи в атомизированном обществе «эльфов», «кончит» и др. подобных им персонажей, типичных в Евразии только для шоу-бизнеса и чуждых существующим общественным нормам.
Евразийский проект геополитической идентичности является также реакцией на дехристианизацию Европейского Союза в смягчённом варианте. Христианская цивилизация и культура — основа основ Европы, однако же, Европейский Союз отказался придать официальный статус этому фундаментальному принципу и перешёл к мягкой политике постепенной маргинализации христианских ценностей путём внедрения неолиберальной модели мультикультуризма и отказа от его христианской модели. Если эта тенденция не изменится, то дехристианизация Европы неизбежно приведёт к деевропеизации Старого континента, поскольку высокая европейская культура представляет собой симбиоз Античности и Христианства (об этом говорят сюжеты живописи, музыки, архитектуры и т. п.). Евразийский проект — это также и реакция на дехристианизацию Ближнего Востока (в её жёстком и, к сожалению, необратимом варианте, сопряжённом с физическим уничтожением памятников древних христианских культур).
Евразийский проект — это реакция и на исламизм в его салафитском виде, в частности, на нынешнее террористическое Исламское квазигосударство[420], которое составляет часть стратегии дискредитации ислама как традиционной религии, его политизации и обезличивания. Так, «интернационал» исламистов на Ближнем Востоке за несколько месяцев 2014 г. стёр с лица земли суфитские гробницы, мечети (не только шиитские, но и суннитские) — всё то, что связано с древней арабской культурой, за исключением чёрного флага; все остальные следы цивилизации, согласно официальной идеологии исламистов и политике геноцида в отношении ассирийцев и других древних народов, населявших эти земли, подвергаются уничтожению.
Подобные тенденции представляют опасность, прежде всего для России и Казахстана. В России объектом салафитского интереса является молодёжь Татарстана; в последние годы совершён ряд убийств умеренных имамов с их заменой более радикальными духовными лицами; молодые люди из разных мест обучаются в Каире и других зарубежных религиозных центрах, где приобретают специфические представления об исламе, далёком от его умеренного вида, исповедуемого в Татарстане. Чтобы остановить этот наплыв неофитов, политические действия которых непредсказуемы, Россия в дальнейшем намерена создавать исламские образовательные центры, но для этого нужно время. А для Казахстана представляет угрозу исламизм его южного соседа — Узбекистана.
Представляет интерес и вопрос о месте советской идентичности в постсоветской Евразии. Для России, Беларуси и Казахстана свойственны три различных взгляда, однако с позиций постсоветской идентичности, у них общая советская история. Россия, с одной стороны, сохранила мелодию советского гимна 1943 г.: это музыка Победы. 9 мая — священный праздник для всех россиян, независимо от их национальной принадлежности, социального положения и всего спектра политических приверженностей. Но, с другой стороны, Россия относится с опаской к своему советскому прошлому — за исключением Великой Отечественной войны — и больше не празднует 7 ноября. Этот праздник неудачно заменен отмечаемым 4 ноября Днём народного единства (единство из-за Русских маршей превращалось в свою противоположность). Этот полный отказ от 7 ноября напрасен (в новой концепции учебника истории России даже отсутствует название «Великая Октябрьская революция», которой предшествовала «Февральская революция», обе они обобщённо названы «Великой Российской революцией»).
Дата 7 ноября стала началом рождения новой общности людей, которая после 9 мая 1945 г. окончательно состоялась как советская нация, сознававшая себя нацией победителей. Поэтому отношение к 7 ноября неотделимо от отношения к 9 мая. Образ Советского Союза приобрёл привлекательность для людей Запада: советская пропаганда была очень активной и грамотной. Во многом благодаря существованию Советского Союза Западная Европа постепенно восприняла политику социального государства, но не с целью имитации, а с тем, чтобы европейцы не захотели бы иметь свой Советский Союз. Это гуманизировало Европу. Отказ, о котором идёт речь, — очередной пример чаадаевского отношения к собственной истории — сверхкритического, до крайности, до самоотречения.
Что касается Беларуси, то она в целом положительно относится к советскому прошлому: память о Второй мировой войне священна, празднуется день Октябрьской революции, а день освобождения Минска от фашистских захватчиков (3 июля) — национальный праздник.
Казахстан занимает самую умеренную позицию: пиетет к СССР, свойственный Беларуси, здесь отсутствует, но праздник 9 мая отмечается, и в то же время в Казахстане не дают угасать исторической памяти о лагерях периода сталинских репрессий. Это создание замечательных музеев, но, в отличие от Украины, Казахстану чужд комплекс жертвы: Голодомор здесь не считают геноцидом казахского народа, а рассматривают его как результат политики властей, пагубной для всех народов СССР, очутившихся в горниле коллективизации. Казахстан хорошо помнит и 16 декабря 1986 г., когда по приказу Михаила Горбачева спецназ и войска МВД жестоко расправились с многолюдным митингом казахской интеллигенции в тогдашней столице Казахстана, которая выступила против назначения первым секретарём Компартии республики ставленника Москвы, Геннадия Колбина. Не случайно день 16 декабря стал в Казахстане Днём независимости. В то же время для Назарбаева СССР — «наша бывшая общая страна»[421].
Какое место занимает Восток в постсоветской идентичности России?
Восток входит в геополитическую идентичность России, которая является евразийской, как собственный проект региональной интеграции и даже глобализации в части постсоветского пространства (прежде всего, восточной). Но, с другой стороны, геополитический вектор России обращён и на Запад, крайняя цель которого — Большая Европа от Лиссабона до Владивостока. Это пространство могло бы называться и «Большой Евразией», но в постсоветской геополитической лексике до сих пор фигурирует термин «Большая Европа», поскольку русская культурная принадлежность является европейской. В этом отношении понятие «европейская идентичность» является важным, так как после 1991 г. появился тренд, смысл которого — наличие «восточноевропейской идентичности» как вторичной по сравнению с идентичностью «центральноевропейской» или «западноевропейской».
Понятие «Восточная Европа» чисто геополитическое, связанное с советской сферой влияния в станах Восточного блока периода после Второй мировой войны вплоть до 1991 г. Не менее политизировано и понятие «Центральная Европа», которое часто транслируется в целях отрыва от «Востока» (России) белорусов и украинцев, но до настоящего времени это не прививается в отношении первых и происходит крайне болезненно для вторых. Культура — или европейская, или нет, любое другое определение с применением слов: западная, восточная, центральная и т. д. — является определением геополитическим. Что касается России, то Восток присутствует в русской культуре только в европеизированном виде (в этом отношении Восток — неиссякаемый источник обогащения русской, а через неё и европейской культуры).
Восток — консервативная составная часть русской национальной идентичности, религиозной (православная духовность в гармоничном бытовании с остальными традиционными религиями России) и традиционной (как модель семьи) и даже в большой части патриархальной, в качестве норм поведения.
Восток присутствует и в евразийской государственности России (сверхцентрализация, неизбежная по причине огромных размеров страны), и в сакрализации государства как части русской идентичности. Государство должно быть поводом для гордости: в противном случае русские могут сами его разрушить. История России XIX и XX вв. показала, что завладеть Россией, разрушить её никакой внешний враг не в состоянии (1812,1941–1945), но Россия может саморазрушиться, если пожелает этого сама (1917, 1991). Нельзя забывать, однако, что если Запад никогда не побеждал Россию, то Восток уже разрушал ее (Древняя Русь и татаро-монголы).
Парадокс в том, что Европа может лучше сохраниться в России и в Беларусь через Евразийский союз, нежели в Европейском Союзе. Брюссель дехристианизирует и отсюда деевропеизирует Европу. Без России от Европы останется только имя, как у мифической Атлантиды. Без Европы, однако, и Россия не будет прежней.
Транснациональные корпорации постепенно пожирают государственный суверенитет, антиэтатизм и антитеизм — цель глобализации. Болшевистский глобализм интернационализма не преуспел, Сталин вернул державность. Либеральный глобализм — корпоративный, транснациональный, пока не имеет никакого противостояния на идеологическом, метафизическом и духовном уровне кроме как в России. Насколько это осознанная русская политика — геополитический инстинкт или неосознанная русская духовная глубина («он с беспредельным жаждет слиться!») — не видно, главное — есть альтернатива либертарианского конца истории — русский путь.
Только соблюдение баланса между Востоком и Западом в постсоветской России способно предотвратить угрозу очередного автоиммунного кризиса по причине недостаточного осознания национальной идентичности. Баланс имперского и национального (российского и русского) в России — это русский дуализм и русская тайна существования одновременно, Империя-Феникс.
Официальные документы
Декларация русской идентичности, 11 ноября 2014 г.
Инструкция о выявлении, учете, описании и хранении особо ценных документов / Главархив СССР. М, 1980;
Положение о создании и организации страхового фонда особо ценных документов государственных архивов. — В: Главархив СССР. М., 1980.
История современной России. Документы и материалы (1985–1999). Т. 1–2, М., 2011.
Конституция Российской Федерации.
Глава 1. Основы конституционного строя, http:// -3.htm
Концепция государственной национальной политики Российской Федерации, 15 июня 1996. На сайта на Съвета за сигурност на РФ . gov.ru/documents/27.html
Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории — Коммерсант, № 175 (5206), 26 сентября 2013. http://www. kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf (26.09.2013).
Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации http:// gospatriotprogramma.ru/index.php
Медведев, Д. А. Выдержки из выступлений Д.А. Медведева. — Вестник Российской нации, http:// (13.11.10).
Медведев, Д. А. «Нам не надо стесняться рассказывать правду о войне — ту правду, которую мы выстрадали». Интервью взял Виталий Абрамов. Известия. / (8.05.2010).
Медведев, Д. А. О национальной идее. Главы из книги Николая и Марины Сванидзе, http:// medvedev.kremlin.ru/book (15.03.11).
Медведев, Д. А. Великие реформы Александра II: по сути, мы все продолжаем тот курс. . kremlin.ru/post/150/transcript (13.03.11).
Медведев, Д. А. Интервью первого вице-премьера правительства России Дмитрия Медведева главному редактору журнала «Эксперт» Валерию Фадееву. / interview_medvedev/ (18.04.2008).
Методические рекомендации по работе с особо ценными документами в государственных архивах. — В: Главархив СССР, ВНИИДАД- М., 1983.
Методические рекомендации по выявлению, учету, хранению особо ценных кино-фото-фоно-документов государственных архивов и созданию на них страхового фонда. — В: ВНИИДАД. М., 1986.
Назарбаев, Н. Выступление Нурсултана Назарбаева в МГУ им. М.В. Ломоносова. 1994. http:// yeurasia.org/nazarbaev_msu_1994/
Национальная идентичность и будущее России. Доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай». Москва, февраль 2014 г. valdaiclub.com
О приеме партархивов в ведение государственных архивных органов в августе 1991 года. — Портал «Архивы России», /
Основа социальной концепции Русской Православной Церкви, 13–16 августа 2000 г.
«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 19 декабря 2012 г. / news/17165
Положение о порядке рассекречивания документов, созданных КПСС. — Федеральное архивное агентство, 14 июля 2001 г.
Положение о Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Утв. Указом Президента РФ от 15 мая 2009 г. № 549. -Федеральное архивное агентство,
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2001 г. № 122. «Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы». -Российская газета, / postan_rf/122_l.shtm (24.02.11).
Путин В. В. Постсоветский период в жизни России завершен, впереди новый этап развития страны. — ИТАР-ТАСС, 11 апреля 2012 г. -tass. com/arhiv/542941
Путин В. В. Послание Президента Федеральному Собранию, 12 декабря 2012 г. Стенограма. http://
Путин В. В. Обращение президента Российской Федерации перед депутатами Государственной Думы, членами федерации, руководителями регионов России и представителями гражданского общества, 18 марта 2014 г. (Крымская речь).
Путин, В. В. Путин выступил на состоявшейся в Гданьске церемонии, посвященной 70-ой годовщине начала Второй мировой войны. . gov.ru/visits/world/130/3541.html (22.09.09).
Путин о Сталине: Индустриализация и победа в войне против массовых репрессий и уничтожения крестьянства. ИА REGNUM. /// news/1231560.html (17.03.11).
Приказ от 23 октября 2004 г. № 328 О рассекречивании архивных документов, содержащих сведения о военнослужащих, погибших и пропавших безвести в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, / online. cgi?req=doc;base=EXP;n=375424
Програмный документ партии «Единая Россия»: «Россия: сохраним и приумножим!». XI Съезд Партии, 21 ноября 2009 г., СПб. — . er.ru/party/ProgrammnyjdokumentPartii/
Распад СССР. Документы. М., 2006.
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 19 декабря 2012 г. На сайта на Съвета за сигурност на РФ.
Указ Президента Российской Федерации. Вопросы Межведомственной комиссии по защите государственной тайны, 2 июня 2001 г.
Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»,
Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2009 г. № 549 «О Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России». — Федеральное архивное агентство.
Указ об увековечении памяти Егора Гайдара. 17 мая 2010 г. — Президент России, http://www. kremlin.ru/acts/7772 (към 4.04.11).
Фальсификаторы истории. М.: ОГИЗ, Госполи-тиздат, 1948.
Федеральный закон Российской Федерации от 20 июля 2012 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции инностранного агента». — Российская газета, 23 июля 2012 г. — Федеральный выпуск № 5839. / nko-dok.html
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. Проект (доработка 15 февраля 2011 года). -Российская газета, 17 февраля 2011 г. http://www. rg.ru/2011/02/17/shkola-standart-site-dok.html
Дневники, интервью, письма
Анатомия протеста. НТВ. 15 март 2012 г. http:// (20.03.12).
Бурбулис, Г.Г. «Ельцин служил нам!» Петр Авен и Альфред Кох ищут правду о 1990-х. Интервью с «крестным отцом» правительства Гайдара Геннадием Бурбулисом. — Форбс, 22 июля 2010.
Видеорепортаж на журнал «Большой город» за организирането на масовката за митинга на Путин на 4 март 2012 г. (8.03.12).
Гайдар, Е. Т. Дни поражений и побед. М., 1997.
Гайдар, Е. Т. Почему рухнула советская империя? — Полный Альбац. Эхо Москвы, 2 юли 2006 г., http:// (02.04.11).
Гайдар, Е. Т. Хотят ли русские реформ? — Дым отечества. Эхо Москвы, 26.07.2009, . msk.ru/programs/smoke/607166-echo/ (23.12.09).
Гранин, Д. А. Прощай, сталинизм! Открытая студия от 5 март 2011 г. Пятый канал, -tv.ru/video/506208/ (05.03.2011).
Каковкин, Г. Интервью с Егором Гайдаром (Третий путь ведет только в третий мир), . ec/b/172605/read (5.04.11).
Димитров, Г. Об идеологической борьбе против фашизма. — Наступление фашизма и задачи Коммунистического интернационала в борьбе за единство рабочего класса, против фашизма. Доклад на VII всемирном конгрессе Коммунистического интернационала 2 августа 1935 г. — В: VII конгресс Коммунистического интернационала и борьба против фашизма и войны. Сборник документов, М., 1975, с. 179.
Ельцин, Б. Н. Записки президента. М., 1994.
Интервюта на Владимир Познер с Александър Проханов, 4 март 2013 г.; с Егор Гайдар, 2 март 2009 г.; с Михаил Горбачев, 29 юни 2009 г.; с Павел Лунгин, 9 ноември 2009 г.; с Генадий Хазанов, 25 ноември 2008 г.; с Андрей Кончаловски, 17 март 2009 г.; с Никита Михалков, 25 януари 2010 г.; с Дмитрий Медведев, 3 юни 2012 г.; с Макс Кантор, 20 май 2013 г.
Козырев, А. В. Лекция в цикъла «Гибель империи» — видео и стенограма, 12 април 2012 г. http:// lectures.gaidarfund.ru/articles/1170
Лукашенко А. Г. «Русские в Белоруссии сами себя притесняют» / 22.04.14 / Балтия. — . ru/baltia/494897.html
Лужков, Ю., Г. Попов. Еще одно слово о Гайдаре. — Московский комсомолец, 21 января 2010.
Патриарх Кирилл. Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла телеканалу «Россия». 7 января 2015 г. / text/3914070.html
Пивоваров, Ю. профессор, директор Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН. Лекция 2, «Традиции русской государственности и современност». Канал «Культура», ACADEMIA, 1 июня 2010 г.
/ video_id/l 56639/viewtype/
Солженицын, А. И. «Написано кровью». Российский писатель Александр Солженицын о трагической истории своей страны, о неудачах реформаторов Горбачева и Ельцина, о разочаровании в политике Запада и об отношении к жизни и смерти. Интервью, Der Spiegel, 2007, . ru/upload/text/Solzhenitsyn_A.I._Napisano_krovju. pdf (4.04. И).
Сталин, И.В. Историческая идеология в СССР в 1920-1950-е годы: Переписка с историками, статьи и заметки по истории, стенограммы выступлений. Сборник документов и материалов. Ч. 1. 1920-1930-е годы. Сост. М.В. Зеленов, СПб., 2006.
Толстая, Т. Куда делся «совок», когда исчез Союз. Лекция в цикле «Гибель империи», Фонд Егора Гайдара, 20 апреля 2012 г. / articles/1168
Ходорковский, М. 17 часов на свободе. Интервью Евгении Альбац, The New Times с Михаилом Ходорковским, 21 декабря 2013 г. . com/watch?v=jbWOamVuXNM
Цикл лекций «Гибель империи». Фонд Егора Гайдара и лекторий Политехнического музея, http:// lectures.gaidarfund.ru/
Черняев, А. Дневник помощника Президента СССР. М., 1997.
Declaration of the European Parliament on the proclamation of 2 3 August as European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and N azism. http://www. europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?reference=P6_ TA(2008)0439&language=EN (21.09.09).
Full transcript of President Obama’s commencement address at West Point. — Washington Post, May 28 2014.
University of California TV, Institute of International Studies, Conversation with History: Yegor Gaidar, November 20,1996.
Struggle for Russia: Power and Change in the Democratic Revolution. Khasbulatov, Ruslan, Sakwa, Richard. Routledge, 1993.
Vladimir Putin. A Plea for Caution From Russia. -The New York Times, September 11,2013.
Vilnius declaration. Resolution on divided Europe reunited: promoting human rights and civil liberties in the osce region in the 21st century, p. 10, p. 48. (01.10.09) /
Zbigniew Brzezinski on Russia and Ukraine, Center for Strategic and International Studies, CSIS, December 19, 2014. -brzezinski-russia-and-ukraine
По украинской тематике от XIX в. о корнях украинской национальной идентичности
А.И. Герцен и его отношение к польско-украинскому вопросу. — Киевская старина, 1906, № 1,1-35.
Венелин, Ю.И. Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к россиянам. Т. 1, М., 1829.
Вернадский, Г. Георгий Вернадский: «считаю себя украинцем и русским одновременно». — Ab Imperio, 2006,4, 347–369.
Грушевский, М. Освобождение России и Украинский вопрос. Статьи и заметки. Спб., 1907.
Грушевский, М. Украинство в России, его запросы и нужды. Спб., 1906.
Допрос Т.Г. Шевченка в 1847 г. (Из рукописных заметок Н.А. Ригельмана). — Киевская старина, 1902, № 2,181–187.
Драгоманов, М. П. Автобиография. — Былое, 1906, № 6,182–213.
Д. Ч. Юрий Венелин. О споре между южанами и северянами на счет их россизма. — В: Чтения в императорском обществе истории и древностей Российской при Московском университете. Заседание 29-го ноября, 1847 года. Год третий. № 4. М., 1847, 1-16.
Ефремов, С. В борьбе за просвящение. — Киевская старина, 1902, № 2, 313–346.
Из дневника, веденного Ю.Ф. Самариным в Киеве в 1850 году. — Русский архив, 1877, 6,229–232.
Из истории «Общества св. Кирилла и Мефодия». Устав и правила. Прокламации. — Былое, 1906, № 2, 66–68.
История русов или Малой Россш. Сочинение Георгия Конискаго, архиепископа беларусского. М., 1846.
Из Львовского университета. — Киевская старина, 1902, № 5,111–115.
Костомаров, Н. И. Мысли о федеративном начале в древней Руси. — Основа, 1861, № 1,121–158.
Костомаров, Н.И. Две русские народности. — В: Исторические монографии и исследования. Кн. 1, СПб., 1913, 33–65.
Костомаров, Н. И. Мысли Южнорусса. О преподавании на южнорусском языке. — Основа, 1862, 5, 1–6.
Кулиш, П. Козаки по отношению к государству и обществу. — Русский архив, 1877, № 6,113–135.
Лысяк-Рудницкий, И.П. Между историей и политикой: (сборник статей). М., 2007.
М. Бакунин и русские прогрессисты 60-х гг. в вопросе о польско-украинских отношениях. — Киевская старина, 1906, № 4, 320–367.
О.Л. Фадей Розеславович Рыльский. Некролог. — Киевская старина, 1902, № 11,335–349.
Отношения Тургенева к украинской литературе. — Киевская старина, 1902, № 4,21–22.
Петиция Львовского ученого общества имени Шевченка австрийскому рейтсрату об учреждении самостоятельного малорусского университета в Львове. 21 ноября (4 декабря) 1901 г. — Киевская старина, 1902, № 1,1–4.
Петлюра, С. Главный атаман в плену несбытычных надежд. М.-СПб., 2008.
Письмо П.А. Кулиша к Г.П. Галагану. — Киевская старина, 1902, № 1,4–6.
Письма П.А. Кулиша с А.Ф. Кистяковскому. — Киевская старина, 1902, № 2–3,298–312,518-531.
Письма А.С. Хомякова к графине Антонине Дмитриевне Блудовой. — Русский архив, 1979, № 3, 372–376.
Письма Н.В. Закревского к протоиерею П.Г. Лебединову. — Киевская старина, 1902, № 7, 77–94.
Пыпин, А.Н., Спасович, В.Д. История славянских литератур. Т. 1, СПб., 1879.
Рыльский, Ф.Р. Разсказ современника о приключениях с ним во время «Колиивщины». — Киевская старина, 1887, № 1, 51–64.
Ульянов, Н.И. Происхождения украинского сепаратизма. М., 2007.
Использованная литература
Абдуллин, Р.З. Российская национальная идея: от утопии к реальности. СПб, 2010.
Альбац, Е., Цуканова, Л. Единый учебник для разорванного общества. Нужна ли нам единая история? Александр Чубарян vs Андрей Зубов. — The New Times, № 39 (306) от 25 ноября 2013. . ru/articles/detail/74548
Акунин, Б. Разговор с политиком. — Блог Бориса Акунина, 03 января 2012 r.. livejournal.com/49763.html
Архивные документы военного времени будут рассекречены. «-new/msg.html?s=l 1 &mid=5754599«
Багдасарян В.Э., Абдулаев Э.Н., Клычников В.М., Ларионов А.Э., Морозов А.Ю., Орлов КБ., Строганова С.М. Школьный учебник истории и государственная политика. М., 2009.
Бокова, В.М. Эпоха тайных обществ. Русские общественные объединения первой трети XIX в. М., 2003.
Бондарева, Т.И. Росархивагентство в контексте административной реформы. — Отечественные архивы, 2004, № 4.
Венедиктов, А. В предаването «Перехват». — Эхо Москвы, 10 декември 2011 г. / programs/interception/837746-echo/(10.12.11).
Вдовин, А.И. Русские в XX веке. Трагедии и триумфы великого народа. М., 2013.
Вдовин, А.И., Зорин В.Ю., Никонов, А.В. Русский народ в национальной политике XX век. М., 1998.
Гайдар, Е. Т. Власть и собственность. Смуты и институты. Государство и эволюция. СПб., 2009.
Говорухин, С. С. Интервью. — Эхо Москвы, 17 май 2001 г.,
. phtml (към 4.04.11).
Говорухин, С. С. Сбережение народа. — Литературная газета, № 36,10 сентября 2008.
Говорухин, С. С. Интервю на канал «Россия 24» от 3 февруари 2012 rhttp://glavcom.ua/video/2427.html (3.03.12).
Голубовский, А. КППФИУИР больше нет с нами. 20 март 2012 г. — ЭхоМосквы, / blog/agolubovsky/870454-echo/
Горяева Т. Архивная политика в развивающейся России. 1991–2001 гг. — Индекс, 2001, № 14.
Гудков, Л. Абортивная модернизация. М., 2011.
Гудков, Л. Перерождение коммунистической номенклатуры. — В: Россия на рубеже веков, 1991–2011. Ред. и сост. А. Зубов и В. Страда. М., 2011,116–130.
Делягин, М. Распад СССР еще не завершен. 07.12.2009. Новости. Гуляй-Поле. Украинороссийский портал. / news/13900.html
День Победы в уголовном кодексе. — Газета, 6 мая 2009 г.
Дзермант, А. Концепт Севера в метаполитической перспективе. — Сивер, 2013, № 1, 39–57.
Дударев, А. Этапы большого «дела историков». — Cogito.ru / arhangelskoe-delo-professora-supruna/etapy-bolshogo-abdela-istorikovbb (13.03.2013).
Дугин, А. Г. «России нужна собственная соборная демократия», . asp?id=B3D64C065B274A218F95EA9A7DF2C9B0 (18.04.2008).
Дюлгерова, Н. Граничите в Кавказ (геополитически и международноправен дискурс). С., 2007.
Дюлгерова, Н. Кавказки гамбит (вектори на си-гурността и енергетиката). С., 2009.
Ельпатьевский, А. В. О рассекречивании архивных документов. — В: Отечественные архивы, 1992, № 5,15–20.
Елпатьевский А. В. Из истории формирования основных нормативно-методических документов отечественного архивного дела (1918–1990 гг.). -Отечественные архивы, 1998, № 4,19–20.
Елпатьевский А.В., Н.И. Химина. К вопросу о состоянии особо ценными документами государственных архивов РФ. — Отечественные архивы, 2004, № 3,16–24.
Западные окраины Российской империи. М., 2007.
Звягинцев, А. В предаването «Дифирамб». — Эхо Москвы, 4 март 2012 г. / programs/dithyramb/864147-echo/#element-text (12.03.12).
Зубов, А. Б. Послекоммунистическое двадцатилетие: разрушение «нового человека». — В: Россия на рубеже веков, 1991–2011. Ред. и сост. А. Зубов и В. Страда. М., 2011, 22–36.
Из книги Андрея Нечаева «Россия на переломе. Откровенные записки первого министра экономики». — Газета. ру, 16 декабря 2010.
Илларионов, А. Н. Трудный путь к свободе. — Континент, 2010, № 145.
Илизаров Б.С. Источниковедческие проблемы архивоведения: Методы измерения объемов письменной информации. М., 1981.
Кантор, Ю. Без фальсификаций. «Историческая комиссия при президенте распущена. — Московские новости, 19 марта 2012 г.
Карпов, С. И. «Без всякого самоуничтожения». Концепция нового школьного учебника практически готова. — Взгляд, 12 октомври 2013.
Касьянов, Г. Современное состояние украинской историографии: методологические и институциональные аспекты. Ab Imperio: Теория и история национальностей и национализма в постсоветском пространстве. № 2,2003.
Касьянов, Г., А. Миллер. Россия — Украина. Как пишется история. М., 2011.
Козлов, В. Октябрь без тайн. Интервю на Елена Новоселова. — Росийская газета, № 4511 от 7 ноября 2007 г.
Козлов В. П. Проблема доступа — это проблема инфраструктуры. — Индекс, 2001, № 14.
Козлов В.П. Российские архивы в условиях административной реформы — Отечественные архивы, 2005, № 1.
Козлова, О. В. Национальная политика Российской Федерации в 90-е гг. XX века: исторический аспект. Автореферат кандидат исторических наук. Казан, 2004.
Козлов В. П. Теоретические основы археографии с позиций современности. — Отечественные архивы, 2001, № 1.
Козлов, В., О. Локтева. «Архивная революция» в России (1991–1996). — Свободная мысль, 1997, № 1–2.
Козлов В. П. «200-летие образования единой системы органов исполнительной власти России». Интернет-конференция. / conf/rosarch/20020910/index-02.htm
Кончаловский, А.С. «ДЕМОКРАТИЯ?.. Как это «по-русски»? . php?razdel=7&id=27 (18.04. 2008).
Кончаловский, А.С. От Андропова к Горбачеву. «Российская газета» — Федеральный выпуск № 5442 (66), 30 март 2011 г.
Кончаловский, А.С. Свобода слова не создает шедевров. — Невское время, 14 януари 2010 г.
Кончаловский, А. С. Будущее Союза кинематографистов. Предаването «Культурный шок», Эхо Москвы от 1 май 2010 г.
Кончаловский, А. С. Цель жизни — жить. — Российская газета, 11 января 2011 г., № 5377.
Кортунов, С. В. Становление национальной идентичности: Какая Россия нужна миру. Учебное пособие для студентов. М., 2009.
Косинова, Т. Архангельское дело. Как разворачивается первое уголовное преследование составителей книг памяти. — АНАЛИТИКА, / analytics/2010/12/16/arhangelsk.html (25.12.2010).
Котенко, А.Л., Мартынюк, О.В., Миллер, А.И. Малоросс. — Понятия о России. М., 2012, 392–443.
Коэн, С. Вопрос вопросов. Почему не стало Советского союза? М., 2011.
Крыштановская, О. Анатомия российской элиты. М., 2005.
Кто и как будет защищать национальные интересы России в европейской истории? http://
(19.09.09).
Кураев, А. Патриархальное послание. — The New Times, № 2 (353) от 26 января 2015 г.
Кураев, А. Св. Владимир, Путин и Херсонес. — Росбалт, 9 декабря 2014 г.
Кургинян, С.Е. Кризис и другие. -Завтра, 18февр. 2009.
Лавров, С. В. История реальная и мнимая, http:// viperson.ru/data/200908/Lavrov.pdf (22.09.09).
Лельчук, В. С. Апогей и крах сталинизма. Страницы российской истории. М., 1998.
Леонтьев, М. В. Нельзя демонтировать историю России,
(18.09.09).
Леонтьев, М. Демократия по-русски. — Завтра, № 39, 26 сентября 2007.
Лихачев, Д. С. О национальном характере русских. — Вопросы философии, 1990, № 4, 3–6.
Лукьянов, Ф. А. Консервативный поворот. — Россия в глобальной политике, 19 декабря 2013 г.
Лукьянов, Ф. А. Европа, которую мы потеряли. — Российская газета,05.11.2014. Федеральный выпуск № 6523 (251).
Максимова Э. М. Пять дней в Особом архиве. — Известия, № 49–53/17-22 февр.,1990; Пак там: Архивный детектив. — Известия, № 177/25 июня 1989 г.
Малинова, О. Ю. Россия и «Запад» в XX веке. Трансформация дискурса о коллективной идентичности. М., 2009.
Минкин, А. В. О Дне народного единства, http:// (15.03.11).
Мироненко, С. В. Интервю на Сергей Мироненко в тв програма на митрополит Иларион «Церковь и мир», 21 декемри 2013 г. Вести. ру
Мироненко С. В. Агентом охранки Сталин не был. — Журнал Вестник, № 13 (350)/23 юни 2004.
Мироненко С. В. Документы в национальном архиве уничтожить невозможно. — Российские Вести. Федеральный Еженедельник, № 4 (1759)/8 февраля 2005 г.
Миронов, С.М. Фальсификация истории, угроза современности. / data/200908/Mironov.pdf (22.09.09).
Мирчева,Х. Руската федерация в динамичния свят на найновото време (сторико-политологическо изследване). С., 2010.
Митрополит Иларион, тв предаване «Церковь и мир», 21 декември 2013 г.
Михайлов, В. Концепция национальной политики РФ 1996 года стала «документом согласия». -IAREX, 15 ноября 2012 г.
Михалков, Н. С. Михалков, Н. С. Право и Правда. Манифест Просвещенного Консерватизма. Москва. ММХ -echo/(29.10.10).
Михалков, Н. С. отговаря на въпроси на зрители за проекта «Имя Россия» от 2008 г. http://www. nameofrussia.ru/interview.html?id=140 (20.05.11).
Михалков, Н. С. У меня есть верный зритель. Ему и служу. Интервю с писателя Сергей Шаргунов. — Свобоная пресса, 26 декабря 2014 г.
Мончаловский, О. А. О названиях «Украина», «украинский». — В: «Украинская» болезнь русской нации. М., 2004,187–188.
Мосунова, Н. А., Корнев, Г. П. Нациопонимание: поиск объективных оснований и социальное конструирование. М., 2012.
Назаров, В. Д. Что будут праздновать в России 4 ноября 2005 года? — Отечественные записки, № 5, 2004.
Нарочницкая, Н. А. Спецкомиссия по фальсификациям «нужна давно». . ru/cgi-bin/main.cgi?item=lr300r090519221000
(21.09.09).
Нарышкин, С. Е. Честная история — ключ к формированию доверительных отношений между народами, с. 1. / data/200908/naryshkin.pdf (19.09.09).
Нельзя воевать после войны. Руководитель Росархива Владимир Козлов — о тайнах, которые хранят. — Российская газета, 8 февраля 2005 г.
Не все тайное становится явным. Владимир Козлов остается главным архивистом России. — Российская газета, 17 марта 2004 г.
Никонов, В. А. Консервативный манифест, август-сентябрь 1994 г. — В: Эпоха перемен: Россия 90-х глазами консерватора. М., 1999,11–29.
Никонов, В. А. Эпоха перемен: Россия 90-х глазами консерватора. М., 1999.
Новости федерации, / news/2216131/ (21.09.09).
Нужен ли единый учебник по истории — дискуссия в «Воскресном вечере» В. Соловьева. — Православие и мир, 4 март 2013.
Нужна ли новая национальность «россиянин»? — Эхо Москвы от 08 февруари 2010 г. . msk.ru/programs/klinch/748227-echo.phtml (9.02.11)
Павлова, Т. Доступна ли нам собственная история? — Радиостанция ЭХО МОСКВЫ, 29 мая 2004 г. ««
Пайпс, Р. Россия в борьбе со своим прошлым. — В: Россия на рубеже веков, 1991–2011. Ред. и сост. А. Зубов и В. Страда. М., 2011, 37–47.
Пестова, А. Дело без новостей. — Cogitalru. -delo-professora-supruna/delo-bez-novostei (27.11.10).
Петров Н. Десятилетие архивных реформ в России. — Индекс, 2001, № 14.
Перегудова, 3. Был ли Сталин агентом охранки? — В: Жандармы России. М., 2002,456–474.
Пивоваров, Ю. С. Советская посткомунистическая Россия. — В: Россия на рубеже веков, 1991–2011. Ред. и сост. А. Зубов и В. Страда. М., 2011,48–65.
Познер, В. В. Символ всего передового, что пока не осуществилось. — Радио Свобода, 16 декември 2009.
Пономарева, Е. Г. Политические институты и политические отношения в современной России. М., 2007.
Прокопенко А. Тайны СССР остаются за семью печатями. — Известия, № 35/27 сентября 1997 г.
Радзиховский, Л. А. Догоняющая демократия. «Российская газета» — Федеральный выпуск № 3709 от 1 марта 2005 г. / demokratia.html (18.04.2008.).
Радзиховский, Л. А. Любовь и разлука. Российская газета, 15.06.2011. Федеральный выпуск № 5502 (126).
Радзиховский, Л. А. Оруел отдыхает. — Взгляд. 25 мая 2009 г.
Рамазашвили Г. Р. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации: проблема доступа к документам. — Отечественные архивы, 2004, № 2, 70–75.
Рамазашвили, Г. Р. Дело Дударева — Супруна: истоки, судебные перспективы, последствия. — Индекс /Досье на цензуру/, № 30,2009 . ru/journal/30/13-ramazashvili.html (12.03.2013)
РИА-Новости. Круглый стол: Учебник истории: новое прочтение. 13.06.13 — В: Историки России, (01.09.2013).
Рогозин, Д. О. Мы вернем себе Россию. М., 2003.
Россия в XX веке: проблемы политической, экономической и социальной истории. СПбГУ, 2008.
Россия на рубеже веков, 1991–2011. Ред. и сост. А. Зубов и В. Страда. М., 2011.
Савин В. А. Феномен документа: к постановке проблемы. — В: Архивистика на рубеже веков: XX–XXI (Труды ИАИ. Т. 35).
Савинов, Л. В. Этнополитика в региональном измерении. Новосибирск, 2012.
Сванидзе, Н. К. Ложь или не ложь. — Радио Свобода, 20.07.2009 г. / backgrounderfullpage/1767924.html (20.09.09).
Секретные материалы на полках истории. — АиФ Москва, № 29 (575)/21.07.2004.
Смирнов, С. Минюст восстановил регистрацию Республиканской партии Рыжкова. — Ведомости, 10 май 2012 г.
Соболева, Н. А. Очерки истории российской символики. От тамги до символов государственного суверенитета. М., 2006.
Соколов, Б. История со сроком давности. — Гранину 08.12.2011. / m.l93824.html (15.03.13).
Соловьев, С. А. Граф Толстой не жаловал гламура. — Литературная Газета, № 10 (6314), 23 марта 2011
Солженицын, А. И. Демократия не приходит сверху. — «Российская газета» — Федеральный выпуск № 3789 от 7 июня 2005 г.
Сорокин, А.К Зачем России единый учебник истории? / history.html (09.01.13).
Сталин: жизнь после смерти. Интервю със Сергей Мироненко,
Старостин Е. В., Т. И. Хорхордина. Декрет об архивном деле 1918 года. — Вопросы истории, 1991, № 7–8.
Старостин Е. В. Источниковедение и архивоведение: грани взаимодействия. — В: Архивистика на рубеже веков: XX–XXI (Труды ИАИ. Т. 35).
Страда, В. Настоящее как история. — В: Россия на рубеже веков, 1991–2011. Ред. и сост. А. Зубов и В. Страда. М.,2011,11–21.
Сурков, В.Ю. Русская политическая культура. Взгляд из утопии.
= 121456 (18.04.2008).
Сурков, В. Ю. Концепция суверенной демократии апеллирует к достоинству российской нации, http:// (18.04.2008).
Тарасова, ЕЛ. Съезд народных депутатов РСФСР-РФ — орган государственной власти эпохи перелома (1990–1993 гг.). — В: Россия в XX веке: проблемы политической, экономической и социальной истории. СПбГУ, 2008,194–207.
Тишков, В.А. Концептуальная эволюция национальной политики в России. — В: Тишков, В.А., Сахаров, А.Н., Дьяков, Ю.Л. и др. У всякого народа есть Родина, но только у нас — Россия. Проблема единения народов России в экстремальные пероды истории как цивилизационный феномен российской государственности. Исследования и документы. М., 2012,13–32.
Тишков, В.А., Сахаров, А.Н., Дьяков, Ю.Л. и др. У всякого народа есть Родина, но только у нас — Россия. Проблема единения народов России в экстремальные пероды истории как цивилизационный феномен российской государственности. Исследования и документы. М., 2012.
Тишков, В.А., Шабаев, Ю.П. Этнополитология: политические функции этничности. Учебник для вузов. М., 2011.
Тишков, В. А. Нация и национальная идентичность в России. — Вестник Российской нации, http:// (13.11.10).
Тишков, В. А. — Эхо Москвы. Передача «Мы» от 2 ноември 2010 г. / we/723287-echo.phtml (15.03.11).
Торкунов, А. В. Предвоенные уроки нашего времени. (22.09.09).
Тренин, Д. Интеграция и идентичность. Россия как «новый Запад». М., 2006.
Тумилович, Г. Белорусская идентичность. Ключевые факторы и спорные моменты. — . net/2013/03/10/галина-тумилович-белорусская-иденти/
Уэллс, Г. Россия во мгле. — В: Собрание сочинений в 15-ти томах. Том 15. Москва, 1964.
«Украинская» болезнь русской нации. М., 2004.
Федорин, Вл. Реформаторы приходят к власти: Григорий Явлинский. Интервю. — Форбс, 4 март 2010.
Филиппов А. В. Новейшая история России, 1945–2006 гг.: кн. для учителя. М.: Просвещение, 2007.
Фролов, К. Украина: выбор веры, выбор судьбы. Двадцать лет независимости Украины, двадцать лет борьбы за единство Русской Церкви. Спб., 2011.
Фонд изучения наследия П.А. Столыпина, http:// -fonda/izdaniya-fonda/ (10.01.13).
Хакимов, Р. С. «Учебник истории не должен сеять вражду среди казанцев». — -gazeta.ru/ article/89374/(12.10.2013).
Ходорковский, М. Между империей и национальным государством. Национализм и социальный либерализм. — Новая газета, № 65,15 июня 2012 г.
Хранить вечно. Сегодня вступает в силу Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации». — Российская газета, 27 октября 2004 г.
Ципко, А. С. Надо ли бояться иновластия? Ещё раз о суверенной демократии. — Литературная газета, 2007, № 2.
Ципко, А. О шестидесятничестве и русском патриотизме. — Независимая газета, 18.11.2013.
Черноусова, Е.А. Русский народ в системе межнациональных отношений Российской Федерации. Автореферат кандидат политических наук. М., 1999.
Что «хранить вечно»? — Российская газета, 16 сентября 2004 г.
Чубайс, А. Петр Авен и Альфред Кох ищут правду о 1990-х. Интервью с Анатолием Чубайсом. — Форбс, 27 август 2010.
Шевцова, Л. Одинокая держава: Почему Россия нестала Западом и почему России трудно с Западом. М., 2010.
Шевченко, К. В. Славянская Атлантида: Карпатская Русь и русины в XIX — первой половине XX вв. М., 2011.
Шевченко, М. Л. Особое мнение. — Эхо Москвы от 4 ноември 2010 г. /
Шубин, А.В. Распад СССР: объективные причины и субъективный фактор. — В: Распад СССР. Документы. М., 2006, 3-42.
Шурухт, С. Единый учебник истории как исторический момент. — Санкт-Петербургские Ведомости, № 171 от 06.09.2013
Экспертная комиссия: Учебник Вдовина-
Барсенкова может быть использован в обучении только после исправления недостатков. — Православие и мир. 23.11.2010. / ekspertnaya-komissiya-uchebnik/ (27.11.2010).
Юрганов, А.Л. Русское национальное государство. Жизненный мир историков эпохи сталинизма. М., 2011.
Alexei Miller. Ukrainian Question: Russian
Nationalism in the 19th Century. CEU Press, 2003.
Ambrosio, Thomas. Authoritarian Backlash: Russian Resistance to Democratization in the former Soviet Union. Ashgate Publishing Ltd, 2008.
Anatoly M. Khazanov. Ethnic Nationalism in the Russian Federation. Daedalus, Vol. 126, 3 (Summer, 1997), pp. 121–142.
Andreas Kappeler. From an Ethnonational to a Multiethnic to a Transnational Ukrainian History. Laboratory of Transnational History: Ukraine and Recent Ukrainian Historiography. Edited by Kasianov, Georgiy, Ther, Philipp. Central European University Press, Budapest-New York, 2009, pp. 51–80.
Andrew Wilson. The Donbas between Ukraine and Russia: The Use of History in Political Disputes. Journal of Contemporary History, Vol. 30, No. 2 (Apr., 1995), pp. 265–289.
Angus Roxburgh. Strongman: Vladimir Putin and the Struggle for Russia. I.B. Tauris, 2011.
Anders Aslund. Russia’s Capitalist Revolution: Why Market Reform Succeeded and Democracy Failed. Peterson Institute for International Economics, 2007.
Bilenky, Serhiy. Romantic Nationalism in Eastern Europe: Russian, Polish, and Ukrainian Political Imaginations. Stanford University Press, 2012.
Boris Kagarlitsky. Russia under Yeltsin and Putin: Neo-Liberal Autocracy. Pluto Press, 2002.
«Cold war murder»: Angus Roxburgh. Strongman: Vladimir Putin and the Struggle for Russia. I.B. Tauris, 2011.
David R. Marples. Heroes and Villains. Creating National History in Contemporary Ukraine. Central University Press, Budapest, 2007.
David R. Marples Europe’s Last Dictatorship: The Roots and Perspectives of Authoritarianism in ‘White Russia’ Europe-Asia Studies, Vol. 57, No. 6 (Sep., 2005), pp.895–908.
Dmitri Trenin. Post-Imperium: A Eurasian Story. Carnegie Endowment for international Peace. 2011.
Donald J. Raleigh. Doing Soviet History: The Impact of the Archival Revolution. Russian Review, Vol. 61, N 1 (Jan., 2002), pp. 16–24.
Donald Murray. A Democracy of Despots. McGill University Press, 1995.
Dunlop, John B. Rise of Russia and the Fall of the Soviet Empire. Princeton University Press, 1995.
Georgiy Kasianov. «Nationalized» History: Past Continuous, Present Perfect, Future… Laboratory of Transnational History: Ukraine and Recent Ukrainian Historiography. Edited by Kasianov, Georgiy, Ther, Philipp. Central European University Press, Budapest-New York, 2009, pp. 7-23.
Georgiy Kasianov. The «Nationalization» of History in Ukraine. — The Convolution of Historical Politics. Edited by Alexei Liller and Maria Lipman. Central European University Press. Budapest-New York, 2012, pp. 141–176.
Glen Chafets. The Struggle for a National Identity in Post-Soviet Russia. Political Science Quarterly, Vol. 111,4 (Winter, 1996–1997), pp. 661–688.
Graeme P. Herd. Russia and the Politics of‘Putinism’. Journal of Peace Research, Vol. 38, 1 (Ian., 2001), pp. 107–112.
Graeme P. Herd. Russia: Systematic Transformation or Federal Collapse? Journal of Peace Research, Vol., 36, N 3 (May, 1999), pp. 259–269.
Grigory Ioffe Understanding Belarus: Belarusian Identity Europe-Asia Studies,Vol. 55, No. 8 (Dec., 2003), pp.1241–1272.
Goldman, Marshall I. Petrostate: Putin, Power, and the New Russia. Oxford University Press, 2008.
James H. Billington. The Search for a Modern Russian Identity. Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences, Vol. 45,4 (Jan., 1992), pp. 31–44.
Martin Daughtry. Russia’s New Anthem and the Negotiation of National Identity. Ethnomusicology, Vol. 47,1 (Winter, 2003), pp. 42–67.
John-Paul Himka. The Basic Historical Identity Formations in Ukraine: A Typology. Harvard Ukrainian
Studies;Vol.28,No.l/4,RUS’WRITLARGE: LANGUAGES, HISTORIES, CULTURES: Essays Presented in Honor of Michael S. Flier on His Sixty-FifthBirthday (2006), pp. 483–500.
John-Paul Himka. Challenging the Myths of Twentieth-Century Ukrainian History. — The Convolution of Historical Politics. Edited by Alexei Liller and Maria Lipman. Central European University Press. Budapest-New York, 2012, pp.212–236.
John-Paul Himka to Alan Rutkowski, April 29,2010. John-Paul Himka. Challenging the Myths of Twentieth-Century Ukrainian History. — The Convolution of Historical Politics. Edited by Alexei Liller and Maria Lipman. Central European University Press. Budapest-New York, 2012.
Judith Devlin. Slavophils & Commissars: Enemies of Democracy in Modern Russia. Palgrave Macmillan, 1999.
H.G. Wells. The New World Order, 1940.
Kathy Rousselet. L’Eglise orthodoxe russe entre patriotisme et individualisme. Vingtieme Siecle. Revue d’histoire, No. 66, Numero special: Religions d’Europe (Apr. -Jun., 2000), pp. 13–24.
Laboratory of Transnational History: Ukraine and Recent Ukrainian Historiography. Edited by Kasianov, Georgiy, Ther, Philipp. Central European University Press, Budapest-New York, 2009.
Luke Harding. Russian historian arrested in clampdown on Stalin era. — The Guardian, 15 October 2009. / russia-gulag-historian-arrested. (27.11.2010).
Marian Broda and E.M. Swiderski. Russia and the West: The Root of the Problem of Mutual Understanding. Studies in East European Thought, Vol. 54, 1/2, Polish Studies on Russian Thought (Mar., 2002), pp. 7-24.
Marshall I. Goldman. The Piratization of Russia: Russian Reform Goes Awry. Taylor & Francis e-Library, 2005.
Mark Bassin. Russia between Europe and Asia: The Ideological Construction of Geographical Space. Slavic Review, Vol. 50, N 1 (Spring, 1991), pp. 1-17.
Marc Garcelon. Revolutionary Passage: From Soviet to Post-Soviet Russia, 1985–2000. Temple University Press, 2005.
Mark Kramer. The Reform of the Soviet Union and the Demise of the Soviet State. Slavic Review, Vol. 63,3 (Autumn, 2004), pp. 505–512.
Marc von Hagen. Revisiting the Histories of Ukraine. Laboratory of Transnational History: Ukraine and Recent Ukrainian Historiography. Edited by Kasianov, Georgiy, Ther, Philipp. Central European University Press, Budapest-New York, 2009, pp. 25–50.
Mark von Hagen. Does Ukraine Have a History? Slavic Review, Ы. 54, No. 3 (Autumn, 1995), pp. 658–673.
Michael S. Gorham. Natsiia ili snikerizatsia? Identity and Perversion in the Language Debates of Late-and Post-Soviet Russia. Russian Review, Vol. 59, 4 (Okt., 2000), pp. 614–629.
Michael McFaul. Getting Russia Right. Foreign Policy, N 117 (Winter, 1999–2000), pp. 58–73.
Michael McFaul. Lessons from Russia’s Protracted Transition from Communist Rule. Political Science Ouaterly, Vol. 114,1 (Spring, 1999), pp. 103–130.
Michael McFaul. State Power, Institutional Change, and the Politics of Privitization in Russia. World Politics, Vol. 47, N 2 (Jan., 1995), pp. 210–243.
Michael McFaul, Nikolai Petrov, and Andrei Ryabov. Between dictatorship and democracy. Carnegie Endowment for International Peace, 2004.
Mikhail A. Molchanov. Borders of Identity: Ukraine’s Political and Cultural Significance for Russia. Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des Slavistes, Vol. 38, No. 1/2 (MARCH-JUNE 1996), pp. 177–193.
Nelly Bekus. European Belarus versus State Ideology: Construction of the Nation in the Belarusian Political Discourses Polish Sociological Review, No. 163 (2008), pp. 263–283.
Oleg Latyszonek and Jerzyna Slomczynska. Belarusian Nationalism and the Clash of Civilizations International Journal of Sociology,Vol. 31, No. 3, Belarus: Between the East and theWest (I) (Fall, 2001), pp. 62–77.
Orest Subtelny. Ukraine: the search for a national identity. Edited by Sharon L. Wolchik and Volodymyr Zviglyanich, Rowman&Littlefield publishers, Ins. 2000,1–7.
Paradorn Rangsimaporn. Interpretations of Eurasianism: Justifying Russia’s Role in East Asia. Europe-Asia Studies, Vol. 58, N 3 (May, 2006), pp. 371–389.
Peter Ruthland. Privatisation in Russia: One Step forward: Two Steps Back? Europe-Asia Studies, Vol. 46, No. 7 (1994), pp. 1109–1131.
Philipp Ther. The Transnational Paradigm of Historiography and Its Potential for Ukrainian History. -
Laboratory of Transnational History: Ukraine and Recent Ukrainian Historiography. Edited by Kasianov, Georgiy, Ther, Philipp. Central European University Press, Budapest-New York, 2009, pp. 81-114.
Richard Sakwa. The Russian Elections of December 1993. Europe-Asia Studies, Vol. 47, No. 2 (Mar., 1995), pp. 195–227.
Richard Sakwa. The Struggle for the Constitution in Russia and the Triumph of Ethical Individualism. Studies in East European Thought, Vol. 48, No. 2/4, Conceptions of Legality and Ethics in Nineteenth-Century and Twentieth-Century Russian Thought (Sep., 1996), pp. 115–157.
Rogers Brubaker. Nationhood and the National Question in the Soviet Union and Post-Soviet Eurasia: An Institutionalist Account. Theory and Society, Vol. 23, N 1 (Feb., 1994), pp. 47–78.
Sarah E. Mendelson. Democracy and Political Transition in Russia: Between Success and Failure. International Security, Vol. 25, N 4 (Spring, 2001), pp. 68-106.
Sarah E. Mendelson and John K. Glenn, eds., The Power and Limits of NGO’s. A Critical Look at Building Democracy in Eastern Europe and Eurasia. Columbia University Press, 2002.
Serhii Plokhy. The Origins of the Slavic Nations. Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus. Cambridge University Press, 2006.
Serhii Plokhy. The Ghosts of Pereyaslav: Russo-Ukrainian Historical Debates in the Post-Soviet Era. Europe-Asia Studies,Nol. 53, No. 3 (May, 2001), pp. 489–505.
Shakandrij M. Russia and Ukraine: Literature and the Discourse of Empire from Napoleonic to Postcolonial Times. McGill-Oueen’s University Press, 2001.
Stephen R. Burant. Foreign Policy and National Identity: A Comparison of Ukraine and Belarus. Europe-Asia Studies, Vol. 47, N 7 (Nov., 1995), pp. 1125–1144.
Stephen F. Cohen. Was the Soviet System Reformable? Slavic Review, Vol. 63, 3 (Autumn, 2004), pp.459–488.
Steven M. Eke and Taras Kuzio. Sultanism in Eastern Europe: The Socio-Political Roots of Authoritarian Populism in Belarus Europe-Asia Studies, Vol. 52, No. 3 (May, 2000), pp. 523–547.
Stiglitz, J. Russian people paid the price for shock therapy. - / oecd/02-06-22atim.htm (04.04.11).
Svetlana Boym. From the Russian Soul to Post-Communist Nostalgia. Representations, N 49, Special Issue: Identifying Histories: Eastern Europe Before and After 1989 (Winter, 1995), pp. 133–166.
The Convolution of Historical Politics. Edited by Alexei Liller and Maria Lipman. Central European University Press. Budapest-New York, 2012.
Timothy J. Colton and Нашу E. Hale. The Putin Vote: Presidential Electorates in a Hybrid Regime. Slavic Review, Vol. 68, N 3 (Fall, 2009), pp. 473–530.
Timothy Snyder. Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999. Yale University Press, 2003.
Tom Bjorkman. Russia’s Road to Deeper Democracy. Brooking Institution Press, 2003.
Trenin, Dmitry V. Post-Imperium: A Eurasian Story. Carnegie Endowment for International Peace, 2011.
Vadim Skuratovskij. Pour une typologie des relations culturelles russo-ukrainiennes. Cahiers du Monde russe, Vol. 36, No. 4, L’Ukraine ancienne et nouvelle, Reflexions sur le passe culturel et le present politique de l’Ukraine (Oct.-Dec., 1995), pp. 407–410.
Valery Tishkov. Ethnicity, Nationalism and Conflict in and after the Soviet Union: The Mind Aflame. SAGE Publications Ltd. (UK), 1996.
Vladimir Baranovsky. Russia — A Part of Europe or Apart from Europe? International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 76, 3, (Jul., 2000), pp. 443–458.
Vladimir Shlapentokh. Early Feudalism. The Best Parallel for Contemporary Russia. Europe-Asia Studies, Vol. 48, No. 3 (May, 1996), pp. 393–411.
Yegor Gaidar. Collapse of an Empire. Lessons for modern Russia. Brooking Institution Press, 2007.
ZbigniewBrzezin: ski.Ukraiine: the search'foranational identity. Edited by Sharon L. Wolchik and Volodymyr Zviglyanich, Rowman&Littlefield publishers, Ins. 2000.
Zbigniew Brzezinski. Ukraine’s Critical Role in the Post-Soviet.HarvardUkrainianStudies,,Vol.20,UKRAINE IN THE WORLD: Studies in thelnternational Relations and Security Structure of a Newly Independent State (1996), pp. 3–8.
ZENON E. KOHUT. The Development of a Little Russian Identity and Ukrainian Nationbuilding. Harvard Ukrainian Studies, Vol. 10, No. 3/4, Concepts of Nationhood in Early Modem Eastern Europe (December 1986), pp. 559–576.
Zoe Knox. The Symphonic Ideal: The Moscow Patriarchate’s Post-Soviet Leadership. Europe-Asia Studies, Vol. 55, N 4 (lun., 2003), pp. 575–596.
Summary Russian phoenix: two faces of post-soviet eagle (imperial-national dualism)
What is post-Soviet Russia? An empire, or a national state, or a specific Eurasian dualism — imperial-Russian? Should ‘imperial’ and ‘national’ on Russian soil be opposed or could they be combined and complemented as ‘Rossiyan’ with ‘Russian’?
This issue has been disputable throughout the last quarter of the existence of new Russia and was one of the reasons, which made me study the post-Soviet Russian period in terms of power-national identity relations. In Russia, regardless of the historical period, it is namely the incumbents that are responsible for everything happening in the state and that hypertrophy is natural for the huge Russian areas.
The other Russian sign of power is the sacralization of the state and its identification — to a certain extent — with the King, the Emperor, the Secretary General or the President of Russia. The personal factor and the irrational attitude towards the state (between the two extremes — worship and demonization) form a part of the Russian identity and of its capability to mobilize its resources in time of severe historical trials.
Our modern history allows the historian to be simultaneously a participant, a source and an observer, like Tukididis, as far as possible. It is true that the distance of time gives advantage to the purely academic historians that are not related to their heroes, like the people having dared to write modern history. I think, however, that historical knowledge can throw a light on the analysis of modern times, because however diverse the set of instruments of the representatives of different humanitarian sciences — social analysts, political scientists, anthropologists, philosophers, etc. — for the study of the contemporary environment could be, only the historian is capable to ‘see’ tendencies, which he has detected in past centuries. This is so, because there is a relation to the past. The fact that we do not perceive it does not make it non-existent but makes us attractively infantile having a different dioptre for short-sightedness. Yet, it also makes us vulnerable.
When I immersed into the Eurasian topic of the his-toriosophical heritage of the early Eurasians[422] within the post-Bolshevik emigration, I found an explanation for the archetype of ‘Russian national identity’, namely, ‘phoenix-nation’, i.e. the Russian national education process will always be open, unfinished, integrating through the Russian culture, being European, and preserving the ethnic sovereignty of each people within Russia. It is a ‘phoenix’ because it is capable of recovering after historical cataclysms (1812, 1917, 1941–1945, 1991…) without elapsing into the track of European nationalism. Similarly to the Soviet-time Russian rail tracks that are broader than the European ones (a matter of national security), the ethno-nation-al (completed) type of identity within Russian territory is incompatible with the Russian areas. It is possible to develop only within limited territories and leads to disintegration.
It is not a mere chance that Zbigniew Brzezinski maintains the theory of opposing the ‘imperial’ to the ‘national’ in Russian context in relation to post-Soviet Russia as a former empire, which should become a national state. Brzezinski goes as far as defining the Russian aristocracy of the imperial period as Baltic, German, Polish and Georgian elite (‘That was elite!’), which ‘had never became authentically Russian regardless of the Russian piety [he refers to the Eastern Orthodox religion] and self-identification’. In his opinion, the absence of a Russian elite persists within USSR. Under the Bolsheviks, it were ‘foreigners that were in power’ although there were few Russians among them and Lenin was succeeded by a Georgian[423].
If Stalin was only Georgian, former Georgian President Mikheil Saakashvili would not demolish his monument in the centre of Gori after the Colour Revolution of Roses. It is namely Stalin’s policy that was anti-Lenin and pro-Russian (in national rather than in ethnic terms) for revival of the Russian idea from the second half of the 1930s to the end of the war[424]. Brzezinski provides an interpretation in the spirit of ethnocentric nationalism, which could speculatively be applied to a high number of countries with marginal nationalities, including USA (it is as if someone would challenge the American-Polish dualism of Brzezinski himself). The curious thing in this case is the tendency that is imposed and not its academic precision.
Post-Soviet Russia is indeed faced with the task of solving the crisis of the national identity and emerging from the debate of‘saving the empire or construction of a national state’[425] as of the beginning of the 1990s.
This was prompted by the disappearance of the ‘Soviet’ one in 1991. Actually, I am not sure of the ‘disappearance’ of the Soviet identity — not from the point of view of the live psychology of the so-called ‘sovki’ but because of the most important characteristic feature of the Soviet nation as a winner-nation after 9 May 1945. Until then, there were only Soviet citizens but not a national community.
The navel string between new Russia and USSR is not the geopolitical space including over 20 million Russians but the Victory Day, which so far has been the only holiday uniting all layers of the Russian society regardless of their political or other differences. It is namely for this reason that Russia’s geopolitical opponents propose a ‘mild’ version of depreciation of 9 May with the theory about identity between Nazism and Stalinism being imposed on a large scale (the ones that are still confined to the thinking of the Cold War period would also add Putinism).
The idea about the European Parliament decision as of 23 September 2008 to proclaim 23 August an European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism came from the Baltic countries and Poland (the latter quite forgetting the fact that after the 1938 Munich Conference, with the approval of the European Great Powers, Hungary, along with Germany invaded Czechoslovakia. Likewise, Russia ‘does not remember’ 17 September 1939, as well as the fact that the war became Great Patriotic for USSR only after 22 June 1941). ‘The fight for people’s hearts’ and, sometimes, their minds is an invariable part of human history.
The effect of such comparisons is at first glance like the wrapping of public buildings by artist Christo: the thin cloth covers the stone building and, although it does not destroy it, it makes it invisible. You should remember it so as to wish to remove the curtain, whether word, pictorial or digital.
Periodization of post-Soviet Russia
The author’s periodization, offered in this book, is from 8 December 1991 to 16 March 2014. The starting point of post-Soviet Russia, which I have accepted is eloquent — the Belovezha Accords, whereby Russia, Ukraine and Belarus denounced the agreement on the establishment of USSR (it is quite another issue whether the three republics had a legitimate power to determine the fate of the federation but the fact is irreversible).
In order to determine an end date, if it is not just a jubilee aspiration towards convenience — a habit of history writers, who handle linear sections of time easier than multidimensional outlines — it should be related to a factor influencing both the domestic and the foreign policy of Russia, on the one hand, and, on the other, having strong historical momentum during the following periods (historical in the meaning of presence — if it is not depicted by history, it does not exit).
In my opinion, the most meaningful end point for post-Soviet Russia is the polite accession[426] of Crimea on 16 March 2014 because it is not just a symbolic act of actual restoration of the position of a Great Power, lost by Russia in 1991, but an event with a strong resonance in the Russian society in its post-Soviet history. Crimea will be a starting point not only of the end of the post-Soviet area but will also set the beginning of the Eurasian one because it coincides with the integration processes having resulted in the formation of the Eurasian Economic Union of Russia, Kazakhstan and Belarus in January 2015 (later joined by Armenia, likely to be followed by Kyrgyzstan).
In his annual report before the Duma in April 2012, Vladimir Putin said that the end of the post-Soviet period has come[427] (1991–2012). It was rather an end of his premiership and smooth transition to the presidency. However, does the ‘Putin era’, as they call Russia as of 1999, coincide with the post-Soviet era? I would not agree because Putin is a successor and a select of Yeltsin, who set the beginning of the presidential post-Soviet Russian republic in a Soviet style — by shooting at Parliament (1993).
While the process of Eurasian economic integration began in 2000, the geopolitical change in the Russian orbit — from a country ‘defeated in the Cold War’[428] to a Great (although regional) Power — was formally announced by Putin in his Munich speech in 2007. It was not a mere chance that the first direct confrontation between Russia and USA occurred in the next year — during the August war of 2008 (it would be more precise to call it ‘Georgian-Ossetin-Russian’ war and not just ‘Georgian-Russia’ as there were three parties involved).
The second external test for geopolitical turbulence emerged in Russia after Putin’s decision to run for a third term as President in 2012. It occurred again in the following year but this time at the most sensitive place on the Federation’s border, in Ukraine — the Ma-jdan in 2013–2014. Two integration projects clashed on Ukrainian land: the Eurasian one (regional, of Russia) and the trans-Atlantic one (global, of USA). It is to determine the situation in the next century and is a fight for the Old Continent, faced with a choice between a Trans-Atlantic agreement with USA and a ‘Big Europe’, from Vladivostok to Lisbon, with Russia.
While Russia’s Eurasian project is regional (the European Union plus the newly-established Eurasian Economic Union on the principle of multipolarity, in partnership with BRICS, etc.), the Trans-Atlantic project is global (USA plus EU, plus Eurasia, after the fragmentation of Russia, being the wealthiest region in terms of resources and closest to Asia, with faster economic growth than Europe, on the principle of corporate monopolarity). China will stay with the winner in order to outlive it.
The accession of Crimea (March 2014) is a historical fact, which not only separates post-Soviet from Eurasian Russia but also marks the end of the Tong 20th century’ and the beginning of the 21st one, when the integration projects will dominate over the national one.
Geopolitical-Eurasian identity of post-Soviet Russia: Big Europe or Big Eurasia?
In his brochure The New World Order (1940), Herbert Wells says that before 1914 his generation imagined that the Franco-German War (1870–1871) and the Russo-Turkish War (1877–1878) were the ‘final conflicts between Great Powers’ and that a ‘balance of power’ had been established[429]. In 1940, at the beginning of WWII, Wells called it ‘the Chamberlain-Hitler war’[430], and the League of Nations, which failed to prevent the conflict, ‘the opiate of liberal thought in the world’.
How did the English fiction writer see the world order: as ‘practical unification’, ‘the end of the period of the sovereign states’, ‘an age of transition’ and a ‘fundamental need of revolutionary reconstruction’[431]. For Wells, the concept of ‘revolution; is not so much romantically idealized but rather perceived as an inevitable change for a ‘profound social revolution, profounder event than the revolution attempted by the Communists in Russia’ (for him, the latter has failed due to ‘impatience, violence […] intellectual insufficiency’); ‘The cosmopolitan revolution to a world collectivism, which is the only alternative to chaos’ with a declaration for human rights[432].
For Herbert Wells, however, ‘collectivism’ is synonymous with ‘globalism’ This is an English-styled globalism. New redistribution of the wealth of the Earth transpire behind the beautiful outlines of a new world order protecting the human rights. This is the consecutive re-colonization that we now witness in the epoch of ‘globalism’. In his book Russia in the Shadows, H.G. Wells shares his personal impressions from the Bolshevik revolution. He points out the reason for the West’s disappointment from the October 1917 events: ‘The collapse of the civilized system in Russia into peasant barbarianism means that Europe will be cut off for many years from the mineral wealth of Russia, and from any supply of raw products from this area, from its corn, flax, and the like. It is an open question whether the Western Powers can get along without these supplies. Their cessation certainly means a general impoverishment of Western Europe.’[433].
The colonial attitude of the West to the East (Rus-sia-Eurasia) did not change even after the cold phase of the Cold War (I use the term ‘phase’ because, after 1991, the Cold War did not end but was transformed as geopolitical confrontation and competition, which is inevitable in the history of international relations and can be divided into phases but not finalized). The Eurasian project of post-Soviet Russia is a reaction to this reserved stereotype of colonial interest to the East. It is a response to the English (American)-styled globalization, on the one hand, and, on the other, it is a specific Eurasian version (EEU) of the European-styled globalization (EU).
The perception of EEU (Eurasian Economic Union) as a neo-Soviet project is a fruit of the ‘Russian complex’ of the West (Russia is huge, mysterious and unpredictable), on the one hand, and, on the other, a matter of competition — economic and geopolitical — for the resources of the wealthiest region of Eurasia. Herbert Wells defines this complex with the British as ‘chronic Russophobia with regard to their vast apportions in the East’[434].
From Russian perspective, there is the mirror ‘European complex’, which is to be traced back in the 18th century during the Europeanization and modernization under Peter I. Europe mostly as a cultural concept. It has always been a benchmark of national identification for the Russian social thinkers, whether positive (Western-oriented Liberals) or negative (Slavophils, Pochveniks-Conservatives and Western-oriented Socialists). This specific intellectual schizophrenia of the ‘Eastern’ and the ‘European’ in the Russian national self-awareness among the intellectuals has persisted in modern Russia as well.
Russia’s Eurasian geopolitical identification is also related to the reaction of the neo-liberal wave of depersonalization of nations and the traditional family as a norm of conduct. The East, as an important component of Russia and a conservative guardian of the patriarchal society, even after its modernization by the Soviet authority in the style of the White Sun of the Desert, can in no way accept this neoliberal attempt for destruction of the national identity and its transformation into a corporate one, nor the depersonalization of the traditional family in an automated society of elfs, Conchitas and other images, close not only to the show business in Eurasia but not to the public norms. Conservatism, however, is not an ideology either of Russia or of any of the EU member states, i.e. this is the other major difference with the USSR as there is no ideological doctrine.
The Eurasian project of the geopolitical identity is also a reaction to the mild de-Christianization of the European Union. Europe is a Christian civilization and culture but the European Union denied to make this fundamental principle formal but rather began a mild policy of gradual marginalization of the Christian values through the neo-liberal model multicultur-alism, giving up the Christian model of multicultural-ism. Europe’s de-Christianization will inevitably lead to de-Europeanization of the Old Continent because the European high culture is a symbiosis of Antiquity and Christianity (the topics in painting, music, architecture, etc.) unless this tendency is changed. The Eurasian project is also a reaction to the de-Christianiza-tion in the Middle East (in a hard and, unfortunately, irreversible version through the physical destruction of ancient Christian cultures).
The Eurasian project is a reaction to the Salafi Islam, particularly regarding the current quasi-terrorist Islamic State. It is a part of the strategy of discrediting the Islam as a traditional religion, its polititicization and depersonalization (within a few month in 2014, the international Islamic formation destroyed Sufi cemeteries, mosques (not only Shia but Sunni as well) and everything, related to the Arab culture. The only thing they accept is the black flag. Any other trace of civilization is subject to destruction in their formal ideology and a policy of genocide against Yazidis,
Assyrians and other ancient nationalities on these lands.
The danger from this tendency affects mostly Russia and Kazakhstan. The Tatarstan youth in Russia are an object to Salafi interest. In the recent years there have been targeted murders of moderate Imams and their replacement with radical ones. The local youth receive their training in Cairo and other religious centres, from which they return having acquired a specific idea about Islam, which is quite remote from its moderate version in Tatarstan; Russia will only now try to set up its own educational Islamic centres in order to stop this wave of neophytes with unpredictable political actions but this would take time. Kazakhstan, on its part, is jeopardized by the Islamism of its southern neighbour, Uzbekistan.
It is interesting to see the place of Soviet identity in post-Soviet Eurasia. In Russia, Kazakhstan and Belarus, there are three different views of the Soviet history in terms of post-Soviet identity. Russia, on the one hand, has kept the melody of the Soviet anthem of 1943 because this is the music of victory, 9 May, a sacral holiday for all Russians and Rossiyans, irrespective of their national identity, social differences, from the whole political spectrum. On the other hand, however, Russia is afraid of the Soviet past outside the Great Patriotic War and does not observe 7 November any longer. It was unsuccessfully replaced with 4 November (which, although meant as a Day of Unity, has acquired the opposite connotation due to the Russian marches). This escape from 7 November is pointless (even in the new concept of the textbook of Russian history the term ‘Great October Revolution’ and the preceding ‘February Revolution’ are removed and summarized as ‘Great Russiyan Revolution’).
The date, 7 November, marks the birth of a new community, which — after 9 May 1945 — evolved into a Soviet nation with the awareness of a winner-nation. The Soviet Union has an attractive image for the Western society due to its active and intelligent propaganda. In many respects, due to the existence of USSR, Western Europe has gradually introduced a social policy and the idea about a social state. The purpose was not to imitate USSR but to make sure that the European society would not wish to have its own Soviet Union. This has brought more humanity into Europe and it was not a mere chance that after the end of the Cold War the Western European citizens began abandoning the social idea. Yet, the denial of 7 November in post-Soviet Russia is the serial example of a Chaadayev-styled attitude towards one’s own history — excessively critical self-denial to the extreme.
Belarus, on its part, accepts the whole Soviet heritage: it not only sacralizes WWII but also observes the Day of the October Revolution. Besides, the day of the liberation of Minsk from the Nazis (3 July) is a national holiday. The Eurasian Union can guarantee the sovereignty of Belarus and the other member states if it begins functioning in accordance with its original design: as an economic and pragmatic union of equals and not as a neo-Soviet project, as demonically presented by the Western analysts, threatened by its competition. The lack of own gas transmission system on the territory of Belarus and its circumventing by North Stream serve to a certain extent as a guarantee for this country’s soverignty.
One of the reasons for the external provoking of the Ukrainian crisis is namely the gas connection between Russia and Europe and the US struggle to replace Russia from the European market and its remodeling after the US one through the signing of the Trans-Atlantic Free Trade Agreement. USA also wants to make the EU dependent on shale gas, deposits of which are to be found in Southeastern Ukraine as well.
Geopolitically, economically and culturally, the European Union is close to the Eurasian one, but we are about to see whether Europe will run from Lisbon to Vladivostok in line with the Russian strategy, covering also Belarus, being an European country with Slav-Baltic culture, complementing the Russian one, which can serve as a bridge between Russia and Europe thus taking the role, which Ukraine failed to play.
Kazakhstan is most moderate regarding its Soviet past: there is no sacralization of USSR, as in Belarus. However, it marks 9 May and, at the same time, maintains the historical memory about the camps with magnificent museums. It does not follow the example of Ukraine, which has focused on the complex of the victim, presenting the Holodomor [hunger extermination] as a national genocide but instead shows it as perennial policy for all Soviet peoples covered by the collectivization. Kazakhstan does not forget 16 December 1986, when the special unit, along with Interior Ministry troops, acting on order by Mikhail Gorbachev, busted severely a rally of the Kazakh intellectuals in Almati, which protested the appointment by Kremlin of an outsider (Gennady Kolbin) for First Secretary of the Communist Party of the Republic. It is not accidental that 16 December has been chosen as Independence Day in Kazakhstan. In the meantime, Nazarbayev perceives USSR as ‘our former common country’[435].
The fact that all three regimes — of Lukashenka, Putin and Nazarbayev — are authoritarian in a specific sphere allows to compensate for the ‘tough historical deadlines’ with operational fastness of decisionmaking, which is unattainable for the parliamentary democracies, requiring procedural time. The problem with the authoritarian regime is the choice of a successor of power, which creates interregnum contributing to the political crisis but this specific situation is inevitable and surmountable.
The linguistic dualism in Belarus and Kazakhstan having preserved the status of the Russian language equalizing it with their national languages predetermines the fact that the Russian should be main communication language of the future Eurasia — lingua franca.
Where is the East in Russia’s post-Soviet identity?
The East is geopolitically identical with Russia, which is Eurasian, as its project of regional integration and even globalization for a part of the post-Soviet area (mostly the Eastern one). On the other hand, Russia’s geopolitical vector is oriented towards the West having as its ultimate goal the Big Europe — from Lisbon to Vladivostok. The same area could also be called ‘Big Eurasia’ but it has been preserved as ‘Big Europe’ in the post-Soviet geopolitical lexis because the Russian cultural identity is European. In this context, the concept of ‘European identity’ is important because since 1991 there has been a trend of suggesting that the ‘Eastern European identity’ is second-rate compared to the ‘Central European’ or the ‘Western European’ ones.
The concept of ‘Eastern Europe’ is only geopolitical and is related to the Soviet sphere of influence in the Eastern Bloc in the period from WWII to 1991. The concept of ‘Central Europe’ is not less political. It is often relayed in order to isolate the Belarusians and the Ukrainians from the ‘East’ (or Russia). However, for the time being, it remains artificial with the former and painful with the latter. The culture is either European or not and any other addition — Western, Eastern, Central, etc. — is geopolitical. For Russia, the East has been present in the Russian culture only after its Europeanization (in this respect, the East is an endless source of enrichment of the Russia and, through it, of the European culture).
East is a conservative component of the Russian national identity, which is religious (Eastern Orthodox spirituality in harmonic co-habitation with all traditional religions in Russia) and which is traditional (as a model of the family) and even largely patriarchal as a behaviour.
The East is within the Eurasian statehood of Russia (strong centralization, which is inevitable due to the huge territory) and, therefore, the political system involves educational authoritarianism combined with Eurasian democracy and oligarchic capitalism; the sacralization of the state is an important part of the Russian identity. The state should invoke pride — otherwise the Russians could themselves destroy it. The Russian history of the 19th and the 20th centuries has shown that noone could conquer or destroy Russia from the outside (1812,1941–1945) but Russia can destroy itself, if it wishes (1917, 1991). It should not be forgotten, however, that, while Russia has not been defeated by the West, the East has destroyed it once (Ancient Rus by the Tatar-Mongols).
Paradoxically, Europe of the time of the Enlightenment is more likely to be preserved by Russia and Belarus through the Eurasian Union than by Brussels, for the time being oriented towards open de-Chris-tianization and de-Europeanization of the Old Continent under the pressure of trans-national corporations. The latter seek not only destroying the states — the elimination of state control — but also turning the nations into atomized planctoon of elfs of a third gender. The Russian culture is European and, along with the Belarusian and Ukrainian (Malorussian), may prevent the danger of having one day only the name left out of Europe, like Atlantida.
Only a balance between the East and the West in post-Soviet Russia may prevent the consecutive autoimmune crisis due to lack of national identity though a policy of dualism (Russian-Russiyan), having combined the imperial and the national — the two faces of the Russian post-Soviet eagle, of the phoenix-empir.
Примечания
Григорова Д. Империя-Феникс: между съветским минало и евразийского бъдеще. – София: Военно издателство, 2015. – 191 с. (В России данная работа выходит с названием Русский Феникс.)
Григорова, Дарина. Евразийството в Русия. София, 2008.
Russia is going to a very difficult process of recovering it’s own national identity. Russia for a long time has an Empire but elite was mostly from the baltic states and the Germany… from Poland, Georgia – that was elite! not authentically Russian even though Russia’s religiously and in terms of identity.
Zbigniew Brzezinski on Russia and Ukraine, Center for Strategic and International Studies, CSIS, December 19, 2014. / multimedia/zbigniew-brzezinski-russia-and-ukraine.
Вдовин, А.И., Зорин В.Ю., Никонов, A.B. Русский народ в национальной политике XX век. М., 1998. С. 211–278.
A policy of ‘empire saving’ versus one of ‘nation-building’: Dunlop, John B. Rise of Russia and the Fall of the Soviet Empire. Princeton University Press, 1995, p. 287; Russia’s future as a liberal democratic country precludes her transformation into a Russian national state: Anatoly M. Khazanov. Ethnic Nationalism in the Russian Federation. Daedalus, Vol. 126, 3 (Summer, 1997), p. 139.
«Куда делся «совок», когда исчез СССР? Да никуда не делся. Если не бросаться словами, а подумать, что мы вкладываем в понятие «совок». Одни люди совковостью называют узость любого мировоззрения – тупое мещанское, крестьянское, мракобесное, охот-норядское, любое консервативное, вязкое, возможно, эпилепто-идное мышление. Когда люди засирают лестничную площадку, потому что считают, что их мир кончается внутри квартиры, а снаружи чужой, враждебный мир, куда надо выбрасывать кал и другие помои. Это интересное вообще культурное явление, если культуру понимать как устройство человеческого бытия, бытования…Неуважение к человеческой личности встречается в различных странах и во многих культурах, но у нас оно очень сконцентрировано и отнесено к понятию «совка»: Татьяна Толстая. Куда делся «совок», когда исчез Союз. Лекция в цикле «Гибель империи», Фонд Егора Гайдара, 20 апреля 2012 г. http:// lectures.gaidarfund.ru/articles/1168
Страда, В. Настоящее как история. // Россия на рубеже веков, 1991–2011. Ред. и сост. А. Зубов и В. Страда. М., 2011. С. 16–17.
Пивоваров, Ю. С. Советская посткомунистическая Россия. // Россия на рубеже веков, 1991–2011. Ред. и сост. А. Зубов и В. Страда. М., 2011. С. 48–49.
Кортунов, С. В. Становление национальной идентичности: Какая Россия нужна миру. Учебное пособие для студентов. М., 2009. С. 304.
Judith Devlin. Slavophils & Commissars: Enemies of Democracy in Modern Russia. Palgrave Macmillan, 1999.
Valery Tishkov. Ethnicity, Nationalism and Conflict in and after the Soviet Union: The Mind Aflame. SAGE Publications Ltd. (UK), 1996, pp. 229–230: Ethnonationalism becomes a set of simplistic but powerful myths arising from and reacting to Soviet political practices… in the Russian language the specific term ‘ethnonationalism’ did not exist. Anatoly M. Khazanov. Ethnic Nationalism in the Russian Federation. Daedalus, Vol. 126,3 (Summer, 1997), pp. 121–142.
James H. Billington. The Search for a Modern Russian Identity. Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences, Vol. 45, 4 (Jan., 1992), pp. 31–44.
«В России вновь, как и XIX в., сложились две субкультуры, но теперь это субкультуры не социальные – вестернизированных дворян и архаичного некультурного остального народа, – но по проеимугцеству возрастные. Динамичная часть молодежи перестает быть homo soveticus, и завтра она перестанет мириться с властью homo soveticus над Россией. Их же родители и деды, а также спившиеся и обкурившиеся сверстники, хотя и недовольные властью из-за собственной бедности и безысходности, продолжают подсознательно удовлетворяться сродством с нею»: А. Б. Зубов. Послекоммунистическое двадцатилетие: разрушение «нового человека».//Россия на рубеже веков, 1991–2011.Ред. и сост. А. Зубов и В. Страда. М., 2011. С. 35.
Никонов, В. А. Эпоха перемен: Россия 90-х глазами консерватора. М., 1999.
Vladimir Baranovsky. Russia – A Part of Europe or Apart from Europe? International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 76, 3, (JuL, 2000), pp. 443–458.
Glen Chafets. The Struggle for a National Identity in Post-Soviet Russia. Political Science Quarterly, Vol. Ill, 4 (Winter, 1996–1997),
pp.661–688.
Тренин, Д. Интеграция и идентичность. Россия как «новый Запад». М., 2006, с. 154. Trenin, Dmitry V. Post-Imperium: A Eurasian Story. Carnegie Endowment for International Peace, 2011.
«Пока Россия представляет собой политическое «болото», в котором очень трудно вычленить реальные национальные интересы и структурировать их. Российская элита этого делать не собирается и продолжает предлагать собственные интересы в качестве общенациональных»: Шевцова, Л. Одинокая держава: Почему Россия не стала Западом и почему России трудно с Западом. М., 2010. С. 262.
Svetlana Boym. From the Russian Soul to Post-Communist Nostalgia. Representations, N 49, Special Issue: Identifying Histories: Eastern Europe Before and After 1989 (Winter, 1995), pp. 133–166.
Marian Broda and E.M. Swiderski. Russia and the West: The Root of the Problem of Mutual Understanding. Studies in East European Thought, Vol. 54,1/2, Polish Studies on Russian Thought (Mar., 2002), pp. 7-24.
Кортунов, C.B. Становление национальной идентичности: Какая Россия нужна миру. Учебное пособие для студентов. М., 2009. С. 29.
Мосунова, Н.А., Корнев, Г.П. Нациопонимание: поиск объективных оснований и социальное конструирование. М., 2012.
Абдуллин, Р.З. Российская национальная идея: от утопии к реальности. СПб, 2010.
Лев Гудков. Абортивная модернизация. М., 2011.
Черноусова, Е.А. Русский народ в системе межнациональных отношений Российской Федерации. Автореферат кандидат политических наук. М., 1999.
Козлова, О. В. Национальная политика Российской Федерации в 90-е гг. XX века: исторический аспект. Автореферат кандидат исторических наук. Казан, 2004.
Martin Daughtry. Russia’s New Anthem and the Negotiation of National Identity. Ethnomusicology, Vol. 47,1 (Winter, 2003), pp. 42–67.
Michael S. Gorham. Natsiia ili snikerizatsia? Identity and Perversion in the Language Debates of Late-and Post-Soviet Russia. Russian Review, Vol. 59,4 (Okt., 2000), pp. 614–629.
Тишков, B.A., Шабаев, Ю.П. Этнополитология: политические функции этничности. Учебник для вузов. М., 2011; Савинов, Л.В. Этнополитика в региональном измерении. Новосибирск, 2012. Тишков, В.А., Сахаров, А.Н., Дьяков, Ю.Л. и др. У всякого народа есть Родина, но только у нас – Россия. Проблема единения народов России в экстремальные пероды истории как цивилизационный феномен российской государственности. Исследования и документы. М., 2012.
Дюлгерова, Нина. Границите в Кавказ (геополитически и международноправен дискурс). С., 2007; Кавказки гамбит (вектори на сигурността и енергетиката). С., 2009.
Мирчева, Христина. Руската федерация в динамичния свят на найновото време (сторико-политологическо изследване). С., 2010.
Тренин, Д. Интеграция и идентичность. Россия как «новый Запад». М., 2006. С. 49.
Тарасова, Е.А. Съезд народных депутатов РСФСР-РФ – орган государственной власти эпохи перелома (1990–1993 гг.). / Россия в XX веке: проблемы политической, экономической и социальной истории. СПбГУ, 2008. С. 199.
Trenin, Dmitry V. Post-Imperium: A Eurasian Story. Carnegie Endowment for International Peace, 2011, p. 204.
Graeme P. Herd. Russia and the Politics of‘Putinism’. Journal of Peace Research, Vol. 38,1 (Jan., 2001), p. 109.
Радзиховский, Л. Любовь и разлука. // Российская газета, 15.06.2011. Федеральный выпуск № 5502 (126). http://www. rg.ru/2011/06/15/mnenie.html
Делягин, М. Распад СССР еще не завершен. 07.12.2009. Новости. Гуляй-Поле. Украино-российский портал, / news/13900.html
Я принимаю именно этот термин «вежливое воссоединение», поскольку международное право допускает как «право на самоопределение», которое реализуется референдумом в марте 2014 г., который как бы ни ставился под сомнение ввиду отсутствия достаточного числа международных наблюдателей, не может скрыть радости от возвращения на родину русского бесспорного большинства крымского населения. Термин «аннексия» также является верным, если визируется «право на неприкосновенность государственных границ», но это фактически ничего не может изменить и остается вопрос юридической и геополитической позиций. Объединение Княжества Болгария с Восточной Румелией также является «аннексией» с турецкой точки зрения. – Д.Г.
Владимир Путин. Постсоветский период в жизни России завершен, впереди новый этап развития страны. – ИТАР-ТАСС, 11 апреля 2012 г. -tass.com/arhiv/542941
«Распад СССР и крах советской модели был воспринят Западом как свидетельство его безоговорочной правоты – моральной, исторической, экономической»: Лукьянов, Ф. Европа, которую мы потеряли. // Российская газета, 05.11.2014. Федеральный выпуск № 6523 (251).
«Cold war murder»: Angus Roxburgh. Strongman: Vladimir Putin and the Struggle for Russia. I.B. Tauris, 2011, p. 157.
Пивоваров, Ю. С. Советская посткомунистическая Россия. // Россия на рубеже веков, 1991–2011. Ред. и сост. А. Зубов и В. Страда. М., 2011. С. 55–58.
Tom Bjorkman. Russia’s Road to Deeper Democracy. Brooking Institution Press, 2003, pp. 15–18,115.
Michael McFaul. Lessons from Russia’s Protracted Transition from Communist Rule. Political Science Ouaterly, Vol. 114, 1 (Spring, 1999), p. 104: Russia is at best an electoral democracy but most certainly not a «liberal democracy».
Marc Garcelon. Revolutionary Passage: From Soviet to Post-Soviet Russia, 1985–2000. Temple University Press, 2005, p. 202.
Гудков, Л. Перерождение коммунистической номенклатуры. // Россия на рубеже веков, 1991–2011. Ред. и сост. А. Зубов и В. Страда. М., 2011. С. 117–121.
Крыштановская, О. Анатомия российской элиты. М., 2005. http:// anatomia-elity.narod.ru/anatomia_elity.html
Гудков Л. Абортивная модернизация. М., 2011. С. 348.
Вдовин, А.И. Русские в XX веке. Трагедии и триумфы великого народа. М., 2013. С. 384.
Anders Aslund. Russia’s Capitalist Revolution: Why Market Reform Succeeded and Democracy Failed. Peterson Institute for International Economics, 2007, pp. 284: The main achievements of Russia’s capitalist revolution were the peaceful dissolution of the Soviet Union, the building of market economic institutions, and privatization.
Michael McFaul. Lessons from Russia’s Protracted Transition from Communist Rule…, p. 106.
Boris Kagarlitsky. Russia under Yeltsin and Putin: Neo-Liberal Autocracy. Pluto Press, 2002, pp. 3–7.
James H. Billington. The Search for a Modern Russian Identity. Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences, Vol. 45, 4 (Jan., 1992), p. 31.
Stephen F. Cohen. Was the Soviet System Reformable? Slavic Review, Vol. 63, 3 (Autumn, 2004), pp. 459–488.
Mark Kramer. The Reform of the Soviet Union and the Demise of the Soviet State. Slavic Review, Vol. 63, 3 (Autumn, 2004), 505–506, 509.
Пайпс, Р. Россия в борьбе со своим прошлым. // Россия на рубеже веков, 1991–2011. Ред. и сост. А. Зубов и В. Страда. М., 2011. С. 40, 37,45.
Вдовин, А.И. Русские в XX веке. Трагедии и триумфы великого народа. М., 2013. С. 514.
«Начиная с марта 1985 года все проистекало из знаменитой потом горбачевской фразы: «Так дальше жить нельзя»: Черняев А. С. 1991 год: Дневник помощника Президента СССР. М., 1997.
Нарышкин, С. Е. Честная история – ключ к формированию доверительных отношений между народами, с. 1. . viperson.ru/data/200908/naryshkin.pdf (19.09.09).
Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2009 г. № 549 «О Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России». – Федеральное архивное агентство. . ru/documents/decree/ukaz549.shtml; Положение о Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Утв. Указом Президента РФ от 15 мая 2009 г. № 549. / documents/decree/ukaz549_polojenie.shtml
Сталин, И. В. Историческая идеология в СССР в 1920-1950-е годы: Переписка с историками, статьи и заметки по истории, стенограммы выступлений. Сборник документов и материалов. Ч. 1. 1920-1930-е годы. Сост. М.В. Зеленов, СПб., 2006; Юрганов, А.Л. Русское национальное государство. Жизненный мир историков эпохи сталинизма. М., 2011.
Димитров, Г. Об идеологической борьбе против фашизма. Наступление фашизма и задачи Коммунистического интернационала в борьбе за единство рабочего класса, против фашизма.
Доклад на VII всемирном конгрессе Коммунистического интернационала 2 августа 1935 г.//VII конгресс Коммунистического интернационала и борьба против фашизма и войны. Сборник документов, М., 1975. С. 179.
Леонтьев, М. В. Нельзя демонтировать историю России, http:// (18.09.09) / video/leontevhistory/
Радзиховский, Л. А. Оруэлл отдыхает. // Взгляд. 25 мая 2009 г. (29.08.09). Онже. Исторические битвы. – Российская газета, № 4922 (98), 02.06.2009.
Сванидзе, Н. К. Ложь или не ложь. // Радио Свобода, 20.07.2009 г. / backgrounderfullpage/1767924.html (20.09.09)
Филиппов А. В. Новейшая история России, 1945–2006 гг.: кн. для учителя. М.: Просвещение, 2007. С. 38, 41, 88, 90. http://www. alleng.ru/d/hist/hist 124.htm (21.09.09)
«Мы победили! Фашизм – самое страшное на свете – разгромлен… Победителей не судят! Увы! Мы простили Сталину все!». -
Трагедия моего поколения. // Литературная газета, 1990, № 37. Владимир Трубецкой, внук князя Николая Трубецкого, 9 мая находился в санитарном поезде, направлявшемся из Германии в Среднюю Азию и наблюдал: «Мы ехали через всю разороенную, голодную страну и на всем пути видели неописуемое ликование людей. Верилось, что теперь начнется жизнь». Дни Трубецких. // Огонек, 1992. № 4. С. 14. Цит. по: Лельчук, В. С. Апогей и крах сталинизма. Страницы российской истории. М., 1998.
Declaration of the European Parliament on the proclamation of 23 August as European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism. . do?reference=P6_TA(2008)0439&language=EN (21.09.09)
Vilnius declaration. Resolution on divided Europe reunited: promoting human rights and civil liberties in the osce region in the 21st century, p. 10, p. 48.
/l. Annual%20Session/2009_Vilnius/Final_Vilnius_Declaration_ENG. pdf (01.10.09)
Фальсификаторы истории. М.: ОГИЗ, Госполитиздат, 1948. 79 с. (Историческая справка.) . html (19.09.09)
Нарочницкая, Н. А. Спецкомиссия по фальсификациям «нужна давно», -archive/spetskomissiya-po-falsifitsikatsiyam- 146-nuzhna-davno- 146.html (21.09.09).
Газета, 19 мая 2009 г.
Кто и как будет защищать национальные интересы России в европейской истории? item.php?id=175 (19.09.09).
Нарышкин, С.Е. Честная история – ключ формированию доверительных отношений между народами…, с. 10.
Новости федерации. / (21.09.09).
День Победы в уголовном кодексе. // Газета, 6 мая 2009 г.
Торкунов, А. В. Предвоенные уроки нашего времени. (22.09.09)
Миронов, С. М. Фальсификация истории, угроза современности. (22.09.09).
Лавров, С. В. История реальная и мнимая. (22.09.09).
В. В. Путин выступил на состоявшейся в Гданьске церемонии, посвященной 70-ой годовщине начала Второй мировой войны. / (22.09.09).
Голубовский, А. КППФИУИР больше нет с нами. 20 март 2012 г. // Эхо Москвы, -echo/
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. Проект (доработка 15 февраля 2011 года). // Российская газета, 17 февраля 2011 г. -standart-site-dok.html
Кантор, Ю. Без фальсификаций. «Историческая комиссия при президенте распущена».//Московские новости, 19 марта 2012 г.
Пестова, А. Дело без новостей. Cogitalru. / syuzhety/arhangelskoe-delo-professora-supruna/delo-bez-novostei (27.11.10).
Дударев, А. Этапы большого «Дела историков». Cogito.ru http:// -delo-professora-supruna/ etapy-bolshogo-abdela-istorikovbb (13.03.2013).
Косинова, Т. Архангельское дело. Как разворачивается первое уголовное преследование составителей книг памяти. – АНАЛИТИКА. (25.12.2010).
Кириленко, А. Историков и архивариусов – к ответу. // Радио Свобода, 16.10.2009. . html (27.11.2010).
Luke Harding. Russian historian arrested in clampdown on Stalin era. // The Guardian, 15 October 2009. / world/2009/oct/15/russia-gulag-historian-arrested. (27.11.2010).
Косинова, T. Там же.
Рамазашвили, Г. Дело Дударева – Супруна: истоки, судебные перспективы, последствия. // Индекс /Досье на цензуру/. № 30. 2009 -ramazashvili.html (12.03.2013).
Рамазашвили, Г. Там же.
Соколов, Б. История со сроком давности. // Грани. ру 08.12.2011. (15.03.13).
Экспертная комиссия: Учебник Вдовина-Барсенкова может быть использован в обучении только после исправления недостатков. // Православие и мир. 23.11.2010. / ekspertnaya-komissiya-uchebnik/ (27.11.2010).
Филиппов А. В. Новейшая история России, 1945–2006 гг.: кн. для учителя. М.: Просвещение, 2007. С. 38, 41, 88, 90. http://www. alleng.ru/d/hist/hist 124.htm (21.09.09).
Проханов, А. Интервью Владимиру Познеру, Первый канал, Познер, 4 март 2013 г. (05.03.2013).
Гранин, Д. А. Прощай, сталинизм! Открытая студия от 5 март 2011 г. Пятый канал, -tv.ru/video/506208/ (05.03.2011).
Путин поддержал идею единого «канона» преподавания истории Росси. – РИА Новости . html (30.03.2013).
См. подробно Глава 2, пункт 2.1. Моделирование национального образа после 1991 г.: символика, праздники, понятия.
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2001 г. № 122. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы». – Российская газета, / postan_rf/122_l.shtm (24.02.11).
Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации -concept-of-patriotic-education-is-the-basis – of-the – state-program-/ the-concept-of-patriotic-education-of-citizens-of-the-russian-federation.php/the-concept-of-patriotic-education-is-the-basis-of-the-state-program-/ (24.02.2011).
Медаль «Патриот России» / image/news/medalpatriot.jpg
Альбац, Е., Цуканова, Л. Единый учебник для разорванного общества. Нужна ли нам единая история? Александр Чубарьян vs Андрей Зубов. // The New Times. № 39 (306) от 25 ноября 2013.
Интервю на Сергей Мироненко в тв програма на митрополит Иларион // «Церковь и мир», 21 декемри 2013 г. Вести. ру http://www. vesti.ru/videos/show/vid/56317 l/#/video/http%3A%2F%2Fplayer. rutv.ru%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F740142%2Fstart_zoom%2Ftru e%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F %3Facc video id%3D563171
Конституция Российской Федерации. Глава 1. Основы конституционного строя. Чл. 13, ал. 3. . ru/10003000/10003000-3.htm (10.01.2013).
РИА-Новости. Круглый стол: Учебник истории: новое прочтение. 13.06.13 // Историки России. (01.09.2013).
Багдасарян В.Э., Абдулаев Э.Н., Клычников В.М., Ларионов А.Э., Морозов А.Ю., Орлов И.Б., Строганова С.М. Школьный учебник истории и государственная политика. М., 2009. С. 7–8.
Нужен ли единый учебник по истории – дискуссия в «Воскресном вечере» В. Соловьева. // Православие и мир, 4 март 2013. http:// -li-edinyj-uchebnik-po-istorii-diskussiya-v-voskresnom-vechere-v-soloveva/
Митрополит Иларион, телепередача «Церковь и мир», 21 декабря 2013 г.
Ципко, А. О шестидесятничестве и русском патриотизме. // Независимая газета, 18.11.2013. -ll-18/9_patriotism.html (23.11.13).
Ципко, А. О шестидесятничестве и русском патриотизме…, там же.
Карпов, С. П. «Без всякого самоуничтожения». Концепция нового школьного учебника практически готова. // Взгляд, 12 октября 2013. (23.11.13).
Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории//Коммерсант, № 175 (5206), 26 сентября 2013. (26.09.2013).
Альбац, Е., Цуканова, Л. Единый учебник для разорванного общества. Нужна ли нам единая история? Александр Чубарян vs Андрей Зубов… там же.
Хакимов, Р. С. «Учебник истории не должен сеять вражду среди казанцев». – -gazeta.ru/article/89374/ (12.10.2013).
Интервю на Сергей Мироненко в тв програма на митрополит Иларион «Церковь и мир», 21 декември 2013 г.
«Первое – традиционное, я бы его назвал научным: ученые устанавливают достоверность факта, потом на основе этого факта выявляют явление, процесс и пишут доказательную историю. Второй подход – публицистический. Он очень опасен и очень соблазнителен даже для профессиональных историков, потому что обеспечивает быстрый видимый успех. Чем оригинальнее, тем интереснее. Третий – драматургический, когда в прошлом видят не жизнь, а трагедию, пьесу. К таким авторам принадлежит Эдвард Радзинский. Кстати, и в таком освещении истории есть свой смысл. Например, в книге о Николае II Радзинский выдвинул великолепную гипотезу того, почему вся императорская семья послушно пошла в подвал Ипатьевского дома. Дело в том, что Юровский, который организовывал расстрел, когда-то был фотографом. И якобы он сказал Николаю: «На Западе говорят, что вас расстреляли, мы хотим всех вместе сфотографировать, поэтому спуститесь». Четвертый подход, очень активно культивируется деятелями Церкви. Его смысл в том, что все беды 1917 года связаны с реформами Петра Великого. А последний, лично мне очень близкий, можно было бы назвать документальным. Когда прошлое узнается через документы»: Козлов, В. Октябрь без тайн. Интервью Елене Новоселовой. // Российская газета, № 4511 от 7 ноября 2007 г. / myths.html
Карпов, С. П. «Без всякого самоуничтожения». Концепция нового школьного учебника практически готова…, там же.
Шурухт, С. Единый учебник истории как исторический момент. // Санкт-Петербургские Ведомости, № 171 от 06.09.2013. 0301849 @SV_ Articles (20.12.13).
Козлов, В., О. Локтева. «Архивная революция» в России (1991–1996). // Свободная мысль. 1997. № 1–2; Donald J. Raleigh. Doing Soviet History: The Impact of the Archival Revolution. Russian Review, Vol. 61, N 1 (Jan., 2002), pp. 16–24.
Козлов, В. П. Теоретические основы археографии с позиций современности.// Отечественные архивы.2001. № 1.
Петров, Н. Десятилетие архивных реформ в России. // Индекс. 2001. № 14.
Козлов, В. П. Проблема доступа – это проблема инфраструктуры.//Индекс. 2001. № 14.. html
Ельпатьевский, А. В. О рассекречивании архивных документов. // Отечественные архивы. 1992. № 5. С. 15–20.
Гриф «секретно» в эпоху гласности. Круглый стол. // Известия, № 119/28 апреля 1989 г.
Елпатьевский А. В. Из истории формирования основных нормативно-методических документов отечественного архивного дела (1918–1990 гг.). // Отечественные архивы. 1998. № 4. С. 19–20.
Козлов, В., О. Локтева, «Архивная революция»… // Свободная мысль. 1997. № 1.С. 114.
Максимова, Э. М. Пять дней в Особом архиве. // Известия, № 49–53/17-22 февр.,1990; Архивный детектив. // Известия, № 177/25 июня 1989 г.
Старостин, Е. В., Т. И. Хорхордина. Декрет об архивном деле 1918 года.//Вопросы истории. 1991. № 7–8. С. 50.
Петров, Н. Политика руководства КГБ в отношении архивного дела была преступной… «. htm«
Козлов, В., О. Локтева, «Архивная революция»… // Свободная мысль. 1997. № 1. С. 118; Воено-исторический журнал. 1992. № 4–5.
Секретные материалы на полках истории. // АиФ Москва, № 29 (575)/ 21.07.2004.
Козлов, В. П.// Российская Газета, 21 сентября 2004 г.
Мироненко, С. // Известия, 14 мая 2002 г. / news/261726
Павлова, Т. Доступна ли нам собственная история? // ЭХО МОСКВЫ, 29 мая 2004 г.
Петров Н. Почему они сегодня празднуют, / karta/nr21/petrov.htm
Петров, Н. Десятилетие архивных реформ… там же
Мироненко, С. Агентом охранки Сталин не был. // Журнал Вестник, № 13 (350)/23 юни 2004.
Прокопенко, А. Тайны СССР остаются за семью печатями. // Известия, № 35/27 сентября 1997 г.
Козлов, В., О. Локтева, «Архивная революция»… // Свободная мысль. 1997. № 2. С. 118, 119.
Петров, Н. Десятилетие архивных реформ… там же.
Рамазашвили, Г. Р. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации: проблема доступа к документам.// Отечественные архивы. 2004. № 2. С. 70–75.
Елпатьевский, А. В. Из истории формирования…, С. 19.
Нельзя воевать после войны. Руководитель Росархива Владимир Козлов – о тайнах, которые хранят.//Российская газета, 8 февраля 2005 г.
Приказ от 23 октября 2004 г. № 328 О рассекречивании архивных документов, содержащих сведения о военнослужащих, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, . cgi?req=doc;base=EXP;n=375424
Мироненко, С. Агентом охранки Сталин не был…
Нельзя воевать после войны…
Козлов, В. П. «200-летие образования единой системы органов исполнительной власти России». Интернет-конференция, http:// -02.htm
Павлова, Т. Доступна ли нам собственная история?..
Архивные документы военного времени будут рассекречены, – new/msg.
html?s=l 1 &mid=5754599
Мироненко, С. Документы в национальном архиве уничтожить невозможно. // Российские Вести. Федеральный Еженедельник, № 4 (1759)/8 февраля 2005 г.
Прокопенко, А. Цит. соч.
Горяева, Т. Архивная политика в развивающейся России. 1991–2001 гг. // Индекс. 2001. № 14.
Перегудова, 3. Был ли Сталин агентом охранки? // Жандармы России. М., 2002. С. 456–474.
Сталин: жизнь после смерти. Интервью с Сергеем Мироненко.
Козлов, В. П. Проблема доступа – это проблема инфраструктуры…
Инструкция о выявлении, учете, описании и хранении особо ценных документов / Главархив СССР. М., 1980; Положение о создании и организации страхового фонда особо ценных документов государственных архивов. // Главархив СССР. М., 1980; Методические рекомендации по работе с особо ценными документами в государственных архивах. – В: Главархив СССР, ВНИИДАД. М., 1983; Методические рекомендации по выявлению, учету, хранению особо ценных кино-фото-фоно-документов государственных архивов и созданию на них страхового фонда. // ВНИИДАД. М., 1986.
Елпатьевский, А. В., Химина Н. И. К вопросу о состоянии особо ценных документов государственных архивов РФ. // Отечественные архивы. 2004. № 3. С. 16–24.
Савин В.А. Феномен документа: к постановке проблемы. //Архивистика на рубеже веков: XX–XXI (Труды ПАИ. Т. 35).
Лихачев, Д.С. О национальном характере русских. // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 3–6. (15.03.11).
«Быть патриотом значит не только с уважением и любовью относиться к своей стране… а прежде всего служить обществу. Как говорил Солженицын: «Патриотизм – чувство органическое, естественное. И как не может сохраниться общество, где не усвоена ответственность гражданская, так и не существовать стране, особенно многонациональной, где потеряна ответственность общегосударственная». Замечательные слова, не в бров, а в глаз»: Владимир Путин. Послание Президента Федеральному Собранию, 12 декабря 2012 г. Стенограма. / transcripts/17118
Путин, В. В. Прямая речь. // Вестник Российской нации, http:// (13.11.10).
Путин, В. В. Послание Президента Федеральному Собранию, 12 декабря 2012 г. Там же.
Лукьянов, Ф. А. Консервативный поворот. // Россия в глобальной политике, 19 декабря 2013 г. / Konservativnyi-povorot-16266
Кортунов, С.В. Становление национальной идентичности: Какая Россия нужна миру. Учебное пособие для студентов. М., 2009. С. 45.
Тренин, Д. Интеграция и идентичность. Россия как «новый Запад». М., 2006. С. 201.
Программный документ партии «Единая Россия»: «Россия: сохраним и приумножим!». XI съезд партии, 21 ноября 2009 г., СПб. – /
Митрополит Иларион. Россия будет защищать традиционные ценности. // Вечерняя Москва, 13 декабря 2013 г.
Некоторые авторы используюттермин «чекистская корпорация», иллюстрируя смешение бизнеса с силовиками. Гудков, Л. Абортивная модернизация. М., 2011. С. 348; Крыштановская, О. Анатомия российской элиты. М., 2005. -elity.narod. ru/anatomia_elity.html
Вдовин, А.И. Русские в XX веке. Трагедии и триумфы великого народа. М., 2013. С. 384.
Нужна ли новая национальность «россиянин»? // Эхо Москвы от 08 февруари 2010 г. / klinch/748227-echo.phtml (9.02.11)
Тишков, В. А. Нация и национальная идентичность в России. // Вестник Российской нации, . php?D=60 (13.11.10).
‘Nation-state’ is meaningless in scholarly terms… my position is that a state is just a state. Labeling it as ‘national’, or not, is like giving a color adjective (‘blue state’, brown state’…: Valery Tishkov. Ethnicity, Nationalism and Conflict in and after the Soviet Union: The Mind Aflame. SAGE Publications Ltd. (UK), 1996, p. 247.
Тишков, В.А. Концептуальная эволюция национальной политики в России. // Тишков, В.А., Сахаров, А.Н., Дьяков, Ю.Л. и др. У всякого народа есть Родина, но только у нас – Россия. Проблема единения народов России в экстремальные периоды истории как цивилизационный феномен российской государственности. Исследования и документы. М., 2012. С. 17–20, 31.
Концепция государственной национальной политики Российской Федерации, 15 июня 1996 г. / information/legal/law/up/909/2051/
«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», 19 декабря 2012 г.
Михайлов, В. Концепция национальной политики РФ 1996 года стала «документом согласия». // IAREX, 15 ноября 2012 г. http://
Михалков, Н. С. Право и правда, / echomsk/721541 – echo/ (29.10.10).
Медведев, Д. А. О национальной идее. Главы из книги Николая и Марины Сванидзе, (15.03.11). Он же. Выдержки из выступлений Д.А. Медведева. – Вестник Российской нации.
(13.11.10).
Медведев, Д. А. Великие реформы Александра II: по сути, мы все продолжаем тот курс,
(13.03.11)
Медведев, Д. А. Блог президента РФ.
(15.03.11).
Лихачев, Д. С. О национальном характере русских… Там же.
Национальная идентичность и будущее России. Доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай». Москва, февраль 2014 г. С. 8–10,13,14.valdaiclub.com
Основа социальной концепции Русской Православной Церкви, 13–16 августа 2000 г.
Декларация русской идентичности, 11 ноября 2014 г. http://www. patriarchia.ru
Zoe Knox. The Symphonic Ideal: The Moscow Patriarchate’s Post-Soviet Leadership. Europe-Asia Studies, Vol. 55, N 4 (Jun., 2003), p. 591.
«…для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же, как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам или иудаизм. Именно так мы и будем к этому относиться отныне и навсегда»: Путин, В. В. Послание Президента Федеральному собранию. 4 декабря 2014 г. / news/47173
«В Крыму буквально всё пронизано нашей общей историей и гордостью. Здесь древний Херсонес, где принял крещение святой князь Владимир. Его духовный подвиг – обращение к православию – предопределил общую культурную, ценностную, цивилизационную основу, которая объединяет народы России, Украины и Белоруссии»: Путин, В. В. Обращение президента Российской Федерации перед депутатами Государственной Думы, членами федерации, руководителями регионов России и представителями гражданского общества, 18 марта 2014 г.
Кураев, А. Св. Владимир, Путин и Херсонес. // Росбалт, 9 декабря 2014 г.
Кураев, А. Патриархальное послание.//The New Times, № 2 (353) от 26 января 2015 г. /
На 12 юни 1990 г. е обявена Декларацията за независимостта на РСФСР от СССР. – Б. а.
Назаров, В. Д. Что будут праздновать в России 4 ноября 2005 года?//Отечественные записки. № 5.2004.-oz. ru/?numid=20&article=938 (16.03.11).
Минкин, А. В. О Дне народного единства, . ru/blog/vopros_dnya/723889-echo/(15.03.11)
Шевченко, М. Л. Особое мнение. // Эхо Москвы от 4 ноември 2010 г. -echo. phtml (15.03.2011).
Тишков, В. А. // Эхо Москвы. Передача «Мы» от 2 ноември 2010 г. -echo.phtml (15.03.11).
Захар Прилепин. Дед, я за тебя. Бессмертный полк это не дань, а данность. // МК Нижний Новгород, 4 мая 2016 г. . ru/articles/2016/05/04/zakhar-prilepin-ded-ya-za-tebya.html
Аркадий Бабченко. Массовой культ мертвых. // Эхо Москвы, 9 мая 2016 г. -echo/
Гейдар Джемаль. Бессмертный полк очень опасная вещь. 12 мая 2015 г. /
Гейдар Джемаль, Познер, 15.10.2013. / pozner/vypuski/gost-geydar-dzhemal-pozner-vypusk-ot-15-Ю-2013
Карина Орлова. Когда есть за что праздновать. // Эхо Москвы, 10 мая 2016 г. /l 762664-echo/
Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла телеканалу «Россия». 7 января 2015 г. / text/3914070.html
Соболева, Н. А. Очерки истории российской символики. От тамги до символов государственного суверенитета. М., 2006. С. 318, 335–337.
Медведев, Д. А. О государственной идеологии. Главы из книги Николая и Марины Сванидзе, (15.03.11).
Медведев, Д. А. «Нам не надо стесняться рассказывать правду о войне – ту правду, которую мы выстрадали». Интервью взял Виталий Абрамов. Известия, / article3141617/ (8.05.2010).
Путин о Сталине: Индустриализация и победа в войне против массовых репрессий и уничтожения крестьянства. ИА REGNUM.// (17.03.11).
Гранин, Д. А.Прощай, сталинизм! Открытая студия от 5 март2011 г. Пятый канал, -tv.ru/video/506208/ (05.03.2011).
Лунгин, П. С. У Владимира Познера на Первом канале 9 ноября 2009 г. (13.11.10).
Кончаловский, А. С. «ДЕМОКРАТИЯ?.. Как это «по-русски»? http:/Aonchalovsky.ru/subl.php?razdel=7&id=27 (18.04. 2008).
Новгородцев, П. И. Демократия на распутьи. // Об общественном идеале. М., 1991. С. 541, 549. Он же. Возстановление святынь…, С. 68–70.
Шмелев, И. С. Пути мертвые и живые. // Русская идея. В кругу писателей…, С. 213.
Белозеров, С. Общее дело. // Новый град, 1935. № 10. С. 117.
Ильин, И. А. О грядущей диктатуре. // Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948–1954 гг. Т. 2. М., 1992. С. 11; О государственной форме. Там же. С. 48; Изживание социализма. С. 40.
Ильин, И. А. Основы государственного устройства. // Политическая история русской эмиграции 1920–1940 гг. Документы и материалы. М., 1999. С. 82–95.
Федотов, Г.П. Наша демократия. // Политическая история русской эмиграции…, С. 511–514.
Из статьи И. И. Бунакова-Фондаминского «Хозяйственный строй будущей России». //Политическая история русской эмиграции 1920–1940 гг. Документы и материалы. М., 1999. С. 507–509.
Сурков, В. Ю. Русская политическая культура. Взгляд из утопии, (18.04.2008).
Сурков, В. Ю. Концепция суверенной демократии апеллирует к достоинству российской нации, . html?id=115114 (18.04.2008).
Ципко, А. С. Надо ли бояться иновластия? Ещё раз о суверенной демократии. – Литературная газета, 2007, № 2. (28.11.2007).
Медведев, Д. А. Интервью первого вице-премьера правительства России Дмитрия Медведева главному редактору журнала «Эксперт» Валерию Фадееву, / expert/2006/28/interviewmedvedev/ (18.04.2008).
Солженицын, А. И. Демократия не приходит сверху. – Российская газета. Федеральный выпуск № 3789 от 7 июня 2005 г. http// (05.11.2007).
Кончаловский, А. С. «ДЕМОКРАТИЯ?.. Как это «по-русски»?..
Дугин, А.Г. «России нужна собственная соборная демократия». A9A7DF2C9B0 (18.04.2008).
Леонтьев, М. Демократия по-русски. // Завтра. № 39. 26 сентября 2007. (9.04.2008).
Радзиховский, Л. Догоняющая демократия. – Российская газета. Федеральный выпуск № 3709 от 1 марта 2005 г. http://www. rg.ru/2005/03/01/demokratia.html (18.04.2008.).
Говорухин, С. С. Интервью. – Эхо Москвы, 17 мая 2001 г., http:// (к 4.04.11).
Соловьев, С. А. Граф Толстой не жаловал гламура. – Литературная Газета, № 10 (6314), 23 марта 2011, / (към 4.04.11).
Указ об увековечении памяти Егора Гайдара. 17 мая 2010 г. – Президент России, (към 4.04.11).
Чубайс, А. Б. (род. 1955 г. в г. Борисове, Беларуси) – д-р доц. в Ленинградском инженерно-экономическом институте, заместитель председателя по экономическим вопросам в правительстве РФ (1992,1994–1996); автор программы приватизации; министр финансов (1997); председатель РАО «ЕЭС России» (1998); учредитель партии «Правое дело» (1998) и СПС (Союз правых сил, 2000).
Гайдар, Е. Т. в передаче Владимира Познера по ОРТ, 2 марта 2009 г., (23.12.09).
Гайдар, Е. Т. Дни поражений и побед. М., 1997, . ш/705998557131809611812#70:11 (09.04.11).
«Не было в России никакой «шоковой терапии». В Польше – была, и именно поэтому эта страна готова нам сейчас оказать гуманитарную помощь. У нас для «шоковой терапии» не оказалось достаточной политической поддержки. Реформы после энергичного старта встали, и в результате мы получили такую вязкую жижу, из которой никак не можем выбраться. Не только у нас, но и в мире существует странное восприятие шоковых реформ в России – очень уж они были энергичные. Ничего себе, шесть лет черномырдинского правительства – это «шоковая терапия»! Каковкин, Г. Интервью с Егором Гайдаром (Третий путь ведет только в третий мир), (към 5.04.11).
Егор Гайдар в программе Владимира Познера на Первом канале, 2 марта 2009 г. (23.12.09).
Гайдар, Е. Т. Власть и собственность. Смуты и институты. Государство и эволюция. СПб., 2009, с. 15, 37.
Лужков, Ю., Г. Попов. Еще одно слово о Гайдаре. // Московский комсомолец, 21 января 2010. / article/2010/01/21/41600 l-esche-odno-slovo-o-gaydare.html
(4.04.11).
Говорухин, С. С. Сбережение народа. // Литературная газета. № 36.10 сентября 2008. / (03.04.11).
«Написано кровью». Российский писатель Александр Солженицын о трагической истории своей страны, о неудачах реформаторов Горбачева и Ельцина, о разочаровании в политике Запада и об отношении к жизни и смерти. Интервью, Der Spiegel, 2007, Napisano_krovju.pdf (4.04.11).
Кургинян, С. Е. Кризис и другие. // Завтра. 18 февр. 2009. http:// kurg.rtcomm.ru/publ.shtml?cmd=art &auth= 10 &theme= &id=2175 (к 3.04.11).
Из книги Андрея Нечаева «Россия на переломе. Откровенные записки первого министра экономики». – Газета. ру, 16 декабря 2010. /-iz-knigi-andreya-nechaeva-rossiya-na-perelome-/277819.html (30.03.11).
Илларионов, А. Н. Трудный путь к свободе. // Континент. 2010. № 145. -pr.html
(02.03.11).
С. Шаталин, Н. Петраков, Г. Явлинский, С. Алексашенко, А. Вавилов, Л. Григорьев, М. Задорнов, В. Мартынов, В. Мащиц, А. Михайлов, Б. Федоров, Т. Ярыгина, Е. Ясин. «500» дней. http://www. yabloko.ru/Publ/500/500-days-about.html (към 30.03.11).
Федорин, В. Реформаторы приходят к власти: Григорий Явлинский. Интервью. – Форбс, 4 март 2010. / interview/45575-reformatory-prihodyat-k-vlasti-grigorii-yavlinskii
(04.04.11).
«Ельцин служил нам!» Петр Авен и Альфред Кох ищут правду о 1990-х. Интервью с «крестным отцом» правительства Гайдара Геннадием Бурбулисом. // Форбс, 22 юли 2010. . ru/ekonomika/vlast/53407-eltsin-sluzhil-nam (04.04.11).
Ельцин, Б. Н. Записки президента. М., 1994. С. 96, 84.
Там же. С. 95–96.
Лужков, Ю., Г. Попов. Цит. соч.
Гайдар, Е. Т. Власть и собственность… С. 128.
Гайдар, Е. Т. Почему рухнула советская империя? // Полный Альбац. Эхо Москвы, 2 юли 2006 г., / albac/44499.phtml (02.04.11).
Гайдар, Е. Т. Власть и собственность…, С. 126.
Петр Авен и Альфред Кох ищут правду о 1990-х. Интервью с Анатолием Чубайсом. // Форбс, 27 августа 2010. http://www. forbes.ru/ekonomika/lyudi/55203-intervyu-s-anatoliem-chubaisom (04.04.11).
Гайдар, Е. Т. Хотят ли русские реформ?//Дым отечества. Эхо Москвы, 26.07.2009, . msk.ru/programs/smoke/607166-echo/ (23.12.09).
Егор Гайдар в програмата на Владимир Познер… там же.
Гайдар, Е. Т. Почему рухнула советская империя?
Илларионов, А. Н. Цит. соч.
Stiglitz, J. Russian people paid the price for shock therapy. – http:// -06-22atim.htm (04.04.11).
Егор Гайдар в программе Владимира Познера… там же.
Sarah Е. Mendelson. Democracy and Political Transition in Russia: Between Success and Failure. International Security, Vol. 25, N 4 (Spring, 2001), p. 69.
Sarah Е. Mendelson and John К. Glenn, eds., The Power and Limits of NGO’s. A Critical Look at Building Democracy in Eastern Europe and Eurasia. Columbia University Press, 2002, pp. 232–245.
American NGOs include the National Democratic Institute (NDI), the International Republican Institute (IRI), the Eurasia Foundation, the Initiative for Social Action and Renewal in Eurasia, the American Center for International Labor Solidarity, World Learning, the International Foundation for Election Systems (IFES), and Internews. The European Union and the German and British governments have also supported democracy work. Private foundations such as George Soros's Open Society Institute, the Ford Foundation, and the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation have additionally spent millions of dollars in the region. For a more complete list, see Holt M. Ruffin, Alyssa Deutschler, Catriona Logan, and Richard Upjohn, The Post-Soviet Handbook: A Guide to Grassroots Organizations and Internet Resources, rev. ed. (Seattle: Center for Civil Society International in association with the University of Washington Press, 1999).
Федеральный закон Российской Федерации от 20 июля 2012 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». – Российская газета, 23 июля 2012 г. – Федеральный выпуск № 5839. -dok.html
Гайдар, Е. Т. Дни поражений и побед…
Петр Авен и Альфред Кох ищут правду о 1990-х. Интервью с Анатолием Чубайсом…
Goldman, Marshall I. Petrostate: Putin, Power, and the New Russia. Oxford University Press, 2008, p. 55.
Peter Ruthland. Privatisation in Russia: One Step forward: Two Steps Back? Europe-Asia Studies, Vol. 46, No. 7 (1994), p. 1109.
Michael McFaul. State Power, Institutional Change, and the Politics of Privitization in Russia. World Politics, Vol. 47, N 2 (Jan., 1995), p. 231, 236–237.
Vladimir Shlapentokh. Early Feudalism. The Best Parallel for Contemporary Russia. Europe-Asia Studies, Vol. 48, No. 3 (May, 1996), p.396.
Ельцин, Б. H. Цит. соч. С. 146.
Съезд народных депутатов РСФСР является высшим органом власти в России в период 16 мая 1990 – 4 октября 1993 г.
Ельцин, Б. Н. Цит. соч. С. 172.
Там же. С. 185, 184.
Michael McFaul. Lessons from Russia’s Protracted Transition from Communist Rule. Political Science Ouaterly, Vol. 114, 1 (Spring, 1999), p. 104, 121; Michael McFaul. Getting Russia Right. Foreign Policy, N 117 (Winter, 1999–2000), p. 60.
Richard Sakwa. The Russian Elections of December 1993. Europe-Asia Studies, Vol. 47, N 2 (Mar., 1995), p. 195.
University of California TV, Institute of International Studies, Conversation with History: Yegor Gaidar, November 20,1996.
Тарасова, E.A. Съезд народных депутатов РСФСР-РФ – орган государственной власти эпохи перелома (1990–1993 гг.). – В: Россия в XX веке: проблемы политической, экономической и социальной истории. СПбГУ, 2008, с. 207.
Петр Авен и Альфред Кох ищут правду о 1990-х. Интервью с Анатолием Чубайсом…
Гайдар, Е. Т. Власть и собственность…, с. 178.
Познер, В. В. Символ всего передового, что пока не осуществилось. – Радио Свобода, 16 декабрь 2009. . ru/content/article/1905492.html (04.04.11).
«Именно в Давосе – на нейтральной территории – российские олигархи заключили в январе 1996 г. пакт о поддержке Ельцина на президентских выборах»: Тренин, Д. Интеграция и идентичность. Россия как «новый Запад». М., 2006, с. 133.
Хазанов, Г. В. в программе Владимира Познера на канале ОРТ, 25 ноября 2008 г. (25.05.11).
Путин, В. В. Прямая речь. Вестник Российской нации, http:// (13.11.10).
Кончаловский, А. С. в программе Владимира Познера…, там же.
Кончаловский, А. С. в программе Владимира Познера…, там же.
Кончаловский, А. С. От Андропова к Горбачеву. «Российская газета» – Федеральный выпуск № 5442 (66), 30 март 2011 г. http:// -gorbachev.html (24.05.11).
Михалков, Н. С. Отвечает на вопросы зрителей о проекте «Имя Россия» от 2008 г. . html?id=140 (20.05.11).
Михалков, Н. С. в телепрограмме Андрея Максимова «Личные вещи», 5-й канал, 6 ноября 2010. -tv.ru/video/505795/
(15.05.11).
Сколково – проект Дмитрия Медведева создания российского центра новых технологий по подобию ЦЕРН в Европейском союзе и Силиконовой долины в США.
Михалков, Н. С. в телепередаче Антона Хрекова на канале НТВ «НТВшники», 8 апреля 2011. «Никита Михалков. Прямая линия». -nikita-mihalkov-2011
(19.05.11).
Кончаловский, А. С. Свобода слова не создает шедевров. // Невское время, 14 января 2010 г. -konchalovskiy-svoboda-slova-ne-sozdaet-shedevrov-41492
(26.05.11).
Кончаловский, А. С. Будущее Союза кинематографистов. // «Культурный шок», Эхо Москвы 1 мая 2010 г. / programs/kulshok/675967-echo.phtml (11.05.11).
Михалков, Н. С. в телепрограмме Андрея Максимова «Личные вещи»…, там же.
Михалков, Н. С. в передаче Владимира Познера на ОРТ, 25 января 2010 г. (30.04.11).
Кончаловский, А. С. Поддерживать власти интеллигенции противопоказано. -pils.1v/news/2/377483 (29.05.11).
Кончаловский, А. С. Цель жизни – жить. – Российская газета, 11 января 2011 г., № 5377 / konchalovskiy.html
Михалков, Н. С. Право и Правда. Манифест Просвещенного Консерватизма. Москва. ММХ / echomsk/721541 – echo/(29.10.10).
Михалков, Н. С. У меня есть верный зритель. Ему и служу. Интервью с писателем Сергеем Шаргуновым. – Свободная пресса, 26 декабря 2014 г. /
Кончаловский, А. С. Цель жизни – жить. Там же.
Кончаловский, А. С. в программе Владимира Познера…, там же.
296 Кончаловский, А. С. Особое мнение. // Эхо Москвы, 29 ноября 2010 г.
-echo.phtml
(29.11.10).
Михалков, Н. С. Право и Правда…, там же.
Кончаловский, А. С. «В главной роли», интервью для канала «Культура», 7 февраля 2010 г. . php?razdel=0&id=48 (26.05.11).
Спонтанность в современном обществе, зависимом от Интернет-пропаганды, – категория относительная, но, несмотря на это, можно сказать, что события 10 декабря 2011 г. были именно спонтанными, порожденными, с одной стороны, предначертанной «рокадой» Путина с Медведевым и сигналами о фальсификациях и злоупотреблениях, имевших место на парламентских выборах 4 декабря 2011 г., а с другой, – это было следствие осознания своей независимой от государства роли средним классом и традиционно критически относящейся к власти интеллигенции. – Д.Г.
Смирнов, С. Минюст восстановил регистрацию Республиканской партии Рыжкова. – Ведомости, 10 май 2012 г. http:// vosstanovleniigosregistracii (23.05.12).
Бокова, В. М. Эпоха тайных обществ. Русские общественные объединения первой трети XIX в. М., 2003. С. 258.
Пестель, П. И. Русская правда. 1823 г.
Конституционный проект П. И. Пестеля воспроизводится по изданию Главного Архивного Управления СССР «Восстание декабристов. Документы» (Госполитиздат, 1958 г., том VII). (2.03.12).
Путин, В. В. Россия: национальный вопрос. – Независимая газета, 23 января 2012 г. -01-23/l_ national.html (24.01.12).
Не следует забывать, что один из самых либеральных органов вещания – радио «Эхо Москвы», профессионально представляющее разные точки зрения участников политической жизни России в качестве гостей передач, а по своему журналистскому составу является либеральным, принадлежит «Газпрому», т. е. государству. В этом отношении власть проявляет гибкость, допуская свободу слова в Интернете и в то же время ограничивая ее для официальных телевизионных каналов. – Д.Г.
Свобода и справедливость, Андрей Макаров, ОРТ, 6.02.12. http:// &р=31076 (7.02.12).
Говорухин, С. Интервю на канале «Россия 24», 3 февраля 2012 г. (3.03.12).
Венедиктов, А. «Перехват». // Эхо Москвы, 10 декабря 2011 г. -echo/ (10.12.11).
Звягинцев, А. «Дифирамб». // Эхо Москвы, 4 марта 2012 г. http:// -echo/#element-text (12.03.12).
Акунин, Б. Разговор с политиком. // Блог Бориса Акунина, 3 января 2012 r.
17 часов на свободе. Интервью Евгении Альбац, The New Times с Михаилом Ходорковским, 21 декабря 2013 г. . com/watch?v=jbW0amVuXNM. Михаил Ходорковский прямо заявляет, что воевал бы за Северный Кавказ, если придется, и «что в определенной степени является националистом».
Организация, запрещенная в РФ.
Ходорковский, М. Между империей и национальным государством. Национализм и социальный либерализм. // Новая газета. № 65. 15 июня 2012 г. . html
«… Панайот Хитов удалился в Болград под высочайшую милость правительства, неуловимый Тотю стал корчмарем в Одессе, Желю занялся литьем черепицы в Брайле, баснословный Дишлия следил, чтобы корчмарь не подливал в вино воды, Раковский давно почивал в могиле, Касабов опубликовал официальное заявление, что его имя не Касабов, а Касабияно – одним словом, все были разочарованы, каждый хотел бороться не с Турцией, а за собственное существование… Всюду апатия, страх перед турецким велчием и самопризнание в том, что болгары и должны искупить свои грехи с терпением и мольбой, обращеной к босфорскому великану. Один Левеки не пожелал пойти на компромисс с духом эпохи…». // 3. Стоянов, Басил Левеки (Дьякон). Черты его жизни,
«Двери и ставни лавок захлопали ужасно, словно всю торговую улицу заполонили кузнецы, и через две или три минуты перед нами все опустело […] «Бунт, бунт! Ну же, выходите! Пять часов уже бьются копривштенцы!» – кричали мы и разделившись по двое, вошли в окраинную улицу, Бенковски и Волов с одной стороны, а мы вдвоем с Икономовым с другой, от пазарджикской дороги. Напрасно мы драли горла, крича: «Бунт!» и «К оружию!». Ни одного мужчины не видно было на улицах: одни любопытные женщины и дети толпились у стен, которые рассматривали нас очень пристально. Все живое уже успело укрыться в домах, заслышав наши голоса, каждый бежал, словно мы были какие-то злые духи». // Захари Стоянов. Записки о болгарских восстаниях, evel=3
Vadim Skuratovskij. Pour une typologie des relations culturelles russo-ukrainiennes. Cahiers du Monde russe, Vol. 36, No. 4, L'ukraine ancienne et nouvelle, Reflexions surle passe culturel et le present politique de l'Ukraine (Oct.-Dec., 1995), p. 409.
Георгий Вернадский: «Считаю себя украинцем и русским одновременно».//АЬ Imperio. 2006. № 4. С. 347–369.
Shakandrij М. Russia and Ukraine: Literature and the Discourse of Empire from Napoleonic to Postcolonial Times. McGill-Oueen’s University Press, 2001, p. 269.
«Палачи наши болыневки повсюду распускают слухи, будто бы украинские повстанцы уничтожают еврейское население. А я, Главный Атаман Украинского Войска, не верю этому, не верю, ибо знаю, народ украинский, который, притесняемый грабителями-завоевателями, сам не может притеснять другой народ […] еврейское население… уничтожают его сами большевики». Обращение С. Петлюры к населению Украины относительно недопущения еврейских погромов. // Симон Петлюра. Главный атаман в плену несбытычных надежд. М.-СПб., 2008. С. 314–315.
«Ukrainian partisans who mass-murdered Poles in 1943 followed the tactics they learned as collaborators in the Holocaust in 1942: detailed advance planning and site selection] persuasive assurances to local populations prior to actions] sudden encirclements of settlements] and then physical elimination of human beings. Ukrainians learned the techniques of mass murder from Germans. This is why UPA ethnic cleansing was striking in its efficiency»: Timothy Snyder. Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999. Yale University Press, 2003, p. 144, 160,162,165.
Georgiy Kasianov. «Nationalized» History: Past Continuous, Present Perfect, Future… Laboratory of Transnational History: Ukraine and Recent Ukrainian Historiography. Edited by Kasianov, Georgiy, Ther, Philipp. Central European University Press, Budapest-New York, 2009, p. 7, 15.
Касьянов, Г. Современное состояние украинской историографии: методологические и институциональные аспекты.//Ab Imperio:
Теория и история национальностей и национализма в постсоветском пространстве. № 2. 2003. С. 493–494.
Georgiy Kasianov. The «Nationalization» of History in Ukraine. – The Convolution of Historical Politics. Edited by Alexei Liller and Maria Lipman. Central European University Press. Budapest-New York, 2012, p. 150, 153,156,159.
Andreas Kappeler. From an Ethnonational to a Multiethnic to a Transnational Ukrainian History. Laboratory of Transnational History: Ukraine and Recent Ukrainian Historiography. Edited by Kasianov, Georgiy, Ther, Philipp. Central European University Press, Budapest-New York, 2009, p. 61, 72.
Philipp Ther. The Transnational Paradigm of Historiography and Its Potential for Ukrainian History. Laboratory of Transnational History: Ukraine and Recent Ukrainian Historiography. Edited by Kasianov, Georgiy, Ther, Philipp. Central European University Press, Budapest-New York, 2009, p. 82, 84, 86.
«histoire croisee» («crossed history»)
«Central European Identity», «post-Soviet Identity», «Euro-ukrainian Identity the most all-Ukrainian Identity in Ukraine»: John-Paul
Himka. The Basic Historical Identity Formations in Ukraine: A Typology. Harvard Ukrainian Studies, Vol. 28, No. 1/4, RUS' WRIT LARGE: LANGUAGES, HISTORIES, CULTURES: Essays Presented in Honor of Michael S. Flier on His Sixty-FifthBirthday (2006), pp. 483–484,495.
John-Paul Himka. The Basic Historical Identity Formations in Ukraine: A Typology. Harvard Ukrainian Studies, Vol. 28, No. 1/4, RUS' WRIT LARGE: LANGUAGES, HISTORIES, CULTURES: Essays Presented in Honor of Michael S. Flier on His Sixty-FifthBirthday (2006), p. 493–494.
«I think I may be done crusading. But my crusade was not anti-OUN-UPA as such, it was a crusade to keep OUN-UPA from becoming a central point of Ukrainian identity. I think I lost that battle. To be ‘Ukrainian’ today means to embrace their heritage». John-Paul Himka to Alan Rutkowski, April 29,2010. John-Paul Himka. Challenging the Myths of Twentieth-Century Ukrainian History. – The Convolution of Historical Politics. Edited by Alexei Liller and Maria Lipman. Central European University Press. Budapest-New York, 2012, p. 226.
Marc von Hagen. Revisiting the Histories of Ukraine. Laboratory
of Transnational History: Ukraine and Recent Ukrainian
Historiography. Edited by Kasianov, Georgiy, Ther, Philipp. Central European University Press, Budapest-New York, 2009, p. 27.
«Galicianization» (Galitsizatsiia): Andrew Wilson. The Donbas between Ukraine and Russia: The Use of History in Political Disputes. Journal of Contemporary History, Vol. 30, No. 2 (Apr., 1995), p. 281.
Andrew Wilson. The Donbas between Ukraine and Russia: The Use of History in Political Disputes. Journal of Contemporary History, Vol. 30, No. 2 (Apr., 1995), p. 282.
«Today, it is clear that the terms «Ukraine» and «Little Russia» represent very different East Slavic identities. But is there good
reason to believe that they also denoted different national identities in early modern times?»: Serhii Plokhy. The Origins of the Slavic Nations. Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus. Cambridge University Press, 2006, pp. 302, 339.
Serhii Plokhy. The Ghosts of Pereyaslav: Russo-Ukrainian Historical Debates in the Post-Soviet Era. Europe-Asia Studies, Vol. 53, No. 3 (May, 2001), p.502.
Mark von Hagen. Does Ukraine Have a History? Slavic Review, Vol. 54, No. 3 (Autumn, 1995), p. 659, 664–665.
Alexei Miller. Ukrainian Question: Russian Nationalism in the 19th Century. CEU Press, 2003, p. 37.
Ukrainians have been fearful that an American-Russian accommodation might leave their country vulnerable to reintegration within the Russian empire»: ZbigniewBrzezinski. Ukraine: the search for a national identity. Edited by Sharon L. Wolchik and Volodymyr Zviglyanich, Rowman&Littlefield publishers, Ins. 2000, p. xi, xiv.
«First of all, Ukraine's existence enhances the security of Poland by reducing a traditional dilemma that Poland had always faced, namely that of threatening powers existing simultaneously on its western and eastern frontiers. Ukraine's existence also enhances the security of Romania, which is far more safe today than when it bordered on the Soviet Union or on the Russian Empire. It enhances the security of Turkey and it makes Turkey much more confident in its dealings with its neighbors, and it even shuts off, in effect, a geopolitically significant access by Russia to the Mediterranean region»: Zbigniew Brzezinski. Ukraine's Critical Role in the Post-Soviet. Harvard Ukrainian Studies, Vol. 20, UKRAINE IN THE WORLD: Studies in thelnternational Relations and Security Structure of a Newly Independent State (1996), p. 4, 7.
«…мы должны скомпрометировать идею реставрации великой России как идею нереальную, искусственную и невыгодную для Европы, представляя вместо ее план ее раздела в качестве наиболее целесообразного решения надоевшего, неспокойного вопроса, который всегда таил в себе, да и теперь таит в себе угрозу и опасность для Европы». Симон Петлюра. Борьба против «Великой и единой России». // Симон Петлюра. Главный атаман в плену несбытычных надежд. М.-СПб., 2008. С. 409, 411.
Письмо С. Петлюры Военному Министру УНР об отношениях с поляками. 30 декабря 1921 года.// Симон Петлюра. Главный атаман в плену несбытычных надежд. М.-СПб., 2008. С. 321, 323.
Marc von Hagen. Revisiting the Histories of Ukraine. Laboratory
of Transnational History: Ukraine and Recent Ukrainian
Historiography. Edited by Kasianov, Georgiy, Ther, Philipp. Central European University Press, Budapest-New York, 2009, p. 29.
The Ambiguities of National Identity: The Case of Ukraine. Orest Subtelny. Ukraine: the search for a national identity. Edited by Sharon L. Wolchik and Volodymyr Zviglyanich, Rowman&Littlefield publishers, Ins. 2000, p. 1, 3.
«Kievan Rus, the medieval East Slavic state», «the elusive nation»: Serhii Plokhy. The Origins of the Slavic Nations. Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus. Cambridge University Press, 2006, pp. 1–2. «The ancient Eastern Slavic state of Kyivan (Kievan) Rus»: Mikhail A. Molchanov. Borders of Identity: Ukraine's Political and Cultural Significance for Russia. Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des Slavistes, Vol. 38, No. 1/2 (MARCH-JUNE 1996), p. 182.
Не случайно большевики в духе первоначального интернационального (на практике – глобалистского) проекта Ленина, пытавшегося искоренить все русское, заменить его интерпролетарским, в 20-е годы по инициативе Михаила Покровского запретили изучение русской истории, были искоренены термины «Россия», «патриотизм». Разрушались ценные памятники русского зодчества, такие как храм Христа Спасителя (сооруженный в ознаменование 100-летия победы в Отечественной войне 1812 года), были преданы запрету имена русских героев – Александра Невского, Минина, Пожарского. Создавалась комиссия по латинизации кириллицы, планировался переход с русского языка на язык эсперанто. Подобная антирусская политика продолжалась до середины 30-х годов и была изменена Сталиным перед лицом угрозы Второй мировой войны и уже во время войны, когда было восстановлено использование в качестве объединительного фактора для советской нации бесценных русских символов. – Д.Г.
Существует и другая хронологическая граница этой борьбы – это 1860-е годы, а также оба периода «романтизации» понятия «малоросс» и его «национализации» (1859). См. Подробный анализ эволюции терминов «малорусе» и «украинец»: Котенко, А.Л., Мартынюк, О.В., Миллер, А.И. Малоросс. // Понятия о России. М., 2012. С. 392–443.
Ульянов, Н.И. Происхождения украинского сепаратизма. М., 2007. С. 163, 158–161.
Alexei Miller. Ukrainian Question: Russian Nationalism in the 19th Century. CEU Press, 2003, p. 52.
Допрос Т.Г. Шевченка в 1847 г. (Из рукописных заметок Н.А. Ригельмана).//Киевская старина. 1902. № 2. С. 185.
«Я с глубокою горестью и презрением смотрю на современное малороссийское общество и успокаиваюсь душою только в будущих поколениях, которые призваны к самосознанию». Письмо П.А. Кулиша к Г.П. Галагану. // Киевская старина. 1902. № 1. С. 6.
Письма П.А. Кулиша с А.Ф. Кистяковскому. // Киевская старина. 1902. № 2. С. 303, 312.
Письма П.А. Кулиша с А.Ф. Кистяковскому. // Киевская старина. № 3. С. 520, 522.
Из истории «Общества св. Кирилла и Мефодия». Устав и правила. Прокламации. // Былое. 1906. № 2. С. 67, 68.
«Братья великороссияне и поляки!
Сие глаголет к вам Украина, нищая сестра ваша, которую вы распяли и растерзали, и которая не помнит зла и соболезнует о ваших бедствиях, и готова проливать кровь детей своих за вашу свободу». Из истории «Общества св. Кирилла и Мефодия». Устав и правила. Прокламации.//Былое. 1906. № 2. С. 68.
Грушевский, М. Конец гетто. // Освобождение России и Украинский вопрос. Статьи и заметки. СПб., 1907. С. 146–148.
Грушевский, М. Освобождение России и Украинский вопрос. Статьи и заметки. СПб., 1907. С. 7.
Николай Костомаров различал шесть русских народностей: южно-русскую, северную, великорусскую, белорусскую, полесскую и новгородскую, при этом все вместе они носили название «Русская Земля», в которой боролись два начала – федеративное и самодержавное, и к первому тяготели Южная Русь и Новгород: «Русь стремилась к федерации… Вся история Руси… есть постепенное развитие федеративного начала, но вместе с тем и борьбы его с началом единодержавия». Костомаров, Н. Мысли о федеративном начале в древней Руси. // Основа. 1861. № 1. С. 135–136,158.
«В 17 веке являлись названия: Украина, Малороссия, Гетманщина, названия эти невольно сделались теперь архаизмами, ибо ни то, ни другое, ни третье не обнимало сферы всего народа, а означало только местные и временные явления его истории. Выдуманное в последнее время название Южноруссов остается пока книжным». Костомаров, Н.И. Две русские народности.//Исторические монографии и исследования. Кн. 1. СПб., 1913. С. 38.
«Москва, порабощая и подчиняя других, тем самым возрождала идею общего отечества, только уже в другой форме, не в прежней федеративной, а единодержавной. Так становилась монархия Московская; так из нее образовались государственное русское тело. Ее гражданственная стихия есть общность, поглощение личности, так как в южнорусском элементе… так и в Новгород, принцип личности постоянно показывал свою живучесть». Костомаров, Н.И. Две русское народности. // Исторические монографии и исследования. Кн. 1. СПб., 1913. С. 50, 55, 61.
Пыпин, А. Н., Спасович, В. Д. История славянских литератур. Т. 1. СПб., 1879. С. 305, 315, 349, 377, 372.
«Я вот из журналов наших потому люблю больше всех «Вестник Европы», что в редакции его мало великороссов, и в нем наименее нашей великороссийской распущенности». – Цит по: Отношения Тургенева к украинской литературе. // Киевская старина. 1902. № 4. С. 22.
Костомаров, Н. Мысли Южнорусса. О преподавании на южнорусском языке. // Основа. 1862. № 5. С. 3.
В 1990 году украинская экзархия получила административную самостоятельность и стала именоваться Украинской православной церковью, возглавляемой Киевским митрополитом Филаретом, впоследствии провозгласившим себя патриархом УПЦ. См. Кирилл Фролов. Украина: выбор веры, выбор судьбы. Двадцать лет независимости Украины, двадцать лет борьбы за единство Русской Церкви. СПб., 2011.
«…расторжения никак нельзя ожидать между южнорусской и великорусской народностями, потому что они соединеныне только по принципу государственной необходимости, но связаны и духовным родством веры и происхождения […] уже в поздние времена влияние европейских идей – сочетание государственного единства с единством народности, зародило и у нас несправедливую мысль, что поддержка южнорусской народности и развитие южнорусского языка могут быть вредны для государственной целостности». Костомаров, Н. Мысли Южнорусса. О преподавании на южнорусском языке. // Основа. 1862. № 5. С. 4–5.
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XIII.//http:// bibliotekar.ru/bem/96.htm
«…ты скажешь, что ты Мало-Росс; все равно, все ты не Русский; и будет ли этот Росс велик или мал, для него все равно, только он убежден, что он не Русский, а Поляк, или Хохол, или Литва, или Козак, или Украинец, или что-либо похожее; словом, что он не свой. И в самом деле, можно ли человека почесть своим, который не носит красной или цветной рубашки, называет щи борщом, и не гаварит харашо, а добре!!». Д. Ч. Юрий Венелин. О споре между южанами и северянами на счет их россизма. // Чтения в императорском обществе истории и древностей Российской при Московском университете. Заседание 29-го ноября, 1847 года. Год третий. № 4. М., 1847. С. 4.
Д. Ч. Юрий Венелин. О споре между южанами и северянами на счет их россизма…, с. 3.
«Болгары племя Славянское». Венелин, Ю.И. Древние и нынешние болгаре в политическом, народописном, историческом и религиозном их отношении к россиянам. Т. 1. М., 1829. С. 1.
«Сам украинец родом… я во многом разделял стремления и идеи украинских националистов, но во многом они мне казались реакционными: я не мог разделять пренебрежения их к русской литературе, которую считал более развитой теперь, чем украинскую; не нравилась мне и резкость в отношении украинцев к полякам, а мысль о каком бы то ни было союзе с царским правительством против поляков казалась мне возмутительную и ошибочную. Меня и некоторых других, так думающих, украинцы бранили космополитами, которое мы принимали за похвалу». Драгоманов, М. П. Автобиография. // Былое, 1906. № 6. С. 187, 191.
«…распространить в Галиции украинское направление посредством новой русской (великорусской) литературы, которая своим светским и демократическим характером подорвет в Галиции клерикализм и бюрократизм и обратит молодеж к демосу, а так как демос там украинский, то украинское национальное самосознание получится там само собою». Драгоманов, М. П. Автобиография.//Былое. 1906. № 6. С. 195.
«Пребывание в Западной Европе окончательно убедило меня, что именно европеизм, или космополитизм, который не отрицает частных национальных вариаций общих идей и форм, и есть лучшая основа для украинских автономных стремлений, и что теперь всякая научная как и политическая деятельность, должна быть основана на интернациональном фундаменте». Драгоманов, М. П. Автобиография. // Былое. 1906. № 6. С. 197, 200.
А.И. Герцен и его отношение к польско-украинскому вопросу. // Киевская старина. 1906. № 1. С. 3, 10, 21.
М. Бакунин и русские прогрессисты 60-х гг. в вопросе о польско-украинских отношениях. // Киевская старина. 1906. № 4. С. 331.
Грушевский, М.Украинство в России, его запросы и нужды. СПб., 1906. С. 45, 47.
«…исконное историческое имя этой народности Русь, Русин усвоено было великорусской народностью и московским государством, в эпоху политического упадка украинских земель смотревшим на себя, как на единственного наследника старого киевского Русского государства, созданного украинскими племенами». Грушевский, М. Украинский вопрос. // Освобождение России и Украинский вопрос. Статьи и заметки. СПб., 1907. С. 12.
«Будучи официального, книжного происхождения, имя это: Малороссы, Малороссия не было пронято народом, и теперь во все более широкое употребление входит имя Украина, Украинцы, начавшее приобретать характер национального имени уже с 17 в.». Грушевский, М. Украинский вопрос…, там же.
«Австрия – восточная Галиция, северная Буковина; Венгрия – северо-восточные комитаты; Россия – губернии: Киевская, Подольская, Волинская, Херсонская, Екатеринославская, значительная часть Люблинская, Седлецкая, Гродненская, Минская, Бессарабская и Таврическая, за Днепром губернии Полтавская, Харьковская, почти всю Черниговскую, части Курской, Воронежской, области Донской и Кубанской, губерний Черноморской и Ставропольской». Грушевский, М. Украинский вопрос. // Освобождение России и Украинский вопрос. Статьи и заметки. СПб., 1907. С. 13–14.
Грушевский, М. Наши требования. – В: Освобождение России и Украинский вопрос. Статьи и заметки. СПб., 1907. С. 89.
«Я считаю, что украинские эмигрантскке исследователи и публицисты, которые занимаются советской проблематикой, часто совершают концептуальную ошибку. Они переоценивают опасность руссификации в смысле исчезновения украинского народа как этноса и недооценивают опасность «малороссиизации» в смысле ассимиляции украинцев к всероссийской советской имперской системе». Лысяк-Рудницкий, И. П. Русификация или малороссиизация. // Между историей и политикой: (сборник статей). М., 2007. С. 599.
«…было бы более правильно сказать так: государство Владимира и Ярослава не было ни «украинским», ни «русским» (московским) в современном понимании; это было единое восточноевропейское государство перода патримониальной монархии». Лысяк-Рудницкий, И. П. Между историей и политикой: (сборник статей). М., 2007. С. 52, 70–71.
«…очарование Россией действовало даже на тех украинцев, которые жили за пределами империи». Лысяк-Рудницкий, И. П. Между историей и политикой: (сборник статей). М., 2007. С. 117.
О. Л. Фадей Розеславович Рыльский. Некролог. // Киевская старина. 1902. № 11. С. 335.
О. Л. Фадей Розеславович Рыльский. Некролог. // Киевская старина, 1902, № 11. С. 342.
«Несколько слов о дворянах правого берега Днепра». Цит. по: О.Л. Фадей Розеславович Рыльский. Некролог. // Киевская старина. 1902. № 11. С. 339.
Рыльский, Ф. Р. Разсказ современника о приключениях с ним во время «Колиивщины». // Киевская старина. 1887. № 1. С. 51–64.
Кулиш, П. А. Козаки по отношению к государству и обществу. // Русский архив. 1877. № 6. С. 120–122.
Письма П. А. Кулиша с А. Ф. Кистяковскому. // Киевская старина. 1902. № 4. С. 6.
Шевченко, К. В. Славянская Атлантида: Карпатская Русь и русины в XIX – первой половине XX вв. М., 2011.
Шевченко, К. В. Славянская Атлантида…, С. 17.
«Local Rusyn Identity». John-Paul Himka. The Basic Historical Identity Formations in Ukraine: A Typology. Harvard Ukrainian Studies, Vol. 28, No. 1/4, RUS' WRIT LARGE: LANGUAGES, HISTORIES, CULTURES: Essays Presented in Honor of Michael S. Flier on His Sixty-FifthBirthday (2006), p. 495.
Численность русинов: 740 тыс. в Украйна; 130 тыс. в Словакия; 60 тыс. в Польше; 25 тыс. в Сербии; 640 тыс. в целом в СЩА и Канаде. Шевченко, К. В. Славянская Атлантида…, С. 14.
Письма П. А. Кулиша к А. Ф. Кистяковскому. // Киевская старина. 1902. № 2. С. 303, 312.
Из письмо профессора филологии ужгородской гимназии П.И. Яновича журналу Словении от 6 июня 1864 г.: «Я… теперь занимаюсь составлением русской грамматики, но на великорусском; на нашей Угорской Руси большая часть ученых хочет принять эту писменность… В том деле украинском писал я господину редактору Дедицкому, чтоб они не кокетировали с Украиною… чтоб не позволяли раскол делать… Это упрямство против России и языка Русского, инспирированное поляками или фанатичными униатами…».
Из меморандума депутации крестьянского сословия Подкарпатской Руси, преподнесенного президенту Т.Г. Масарику 10 февраля 1920 г.: «Наш русский народ, окруженный чужими, большей частью враждебно относящимся к нему народами, жил у подножия Карпат, в продолжение веков… русской культурой и христианской верой, поддерживаемой непоколебимой верой в лучшее будущее, ожидаемое им с Востока, от его брата, Русского великана… Наш народ не переставал надеяться, что рано или поздно он непременно должен слиться хотя бы только культурно со своим могучим братом, родным ему по языку и вере. Это чистосердечная мысль культурного единства с великим русским народом спасла нас до начала всемирной войны от полного народного ослабления…». Цит. по: Шевченко, К. В. Славянская Атлантида…, с. 63.
Марков, Д. А. Русская и украинская идея в Австрии. // «Украинская» болезнь русской нации. М., 2004. С. 197.
Мончаловский, О. А. О названиях «Украина», «украинский». // «Украинская» болезнь русской нации. М., 2004. С. 187–188.
Alexei Miller. Ukrainian Question: Russian Nationalism in the 19th Century. CEU Press, 2003, 213–214.
В 1805 г. Львовский университет был закрыт и часть его кафедр перешла в Краковский университет, остался только лицей, в котором с 1808 г. преобладало изучение латинского языка в противовес русинскому; лицей был призван обслуживать униатов, а не православных русинов. В 1818 г. Львовский университет был восстановлен, но с сильным немецко-латинским влиянием. С 1871 г. Львовский университет перестал быть немецким, было дано право вести преподавание на одном из местных языков – польском или русинском, но второй полностью игнорировался.
Петиция Львовского ученого общества имени Шевченка австрийскому рейтсрату об учреждении самостоятельного мало-русского университета в Львове. 21 ноября (4 декабря) 1901 г. // Киевская старина, 1902. № 1. С. 1–4.
Ефремов, С. В борьбе за просвящение.//Киевская старина. 1902.
№ 2. С. 313–346.
Из Львовского университета. // Киевская старина. 1902. № 5.
С. 111–115.
«Я русин был, есмь и буду, а при списованию людей у маю 2001 на то не забуду!». – С. 7, 15.
С. Эке и Т. Кузио писали: «Мы предполагаем, что утрата Вильнюса нанесла особый урон историческому становлению национального самосознания белорусского народа и его способности проецировать исторические мифы на современную ситуацию. «Золотым» веком истории Беларуси и источником для мифотворчества стал период Великого княжества Литовского, территория которого охватывала большую часть современной Беларуси. Вильнюс остается «духовным» центром для большинства белорусских националистов». Steven М. Eke and Taras Kuzio. Sultanism in Eastern Europe: The Socio-Political Roots of Authoritarian Populism in Belarus Europe-Asia Studies, Vol. 52, No. 3 (May, 2000), p. 527.
Галина Тумилович. Белорусская идентичность. Ключевые факторы и спорные моменты. – / галина-тумилович-белорусская-иденти/
Grigory Ioffe Understanding Belarus: Belarusian Identity Europe-Asia Studies, Vol. 55, No. 8 (Dec., 2003), pp. 1259–1260.
Александр Лукашенко. «Русские в Белоруссии сами себя притесняют» / 22.04.14 / Балтия. –
С. Барэнт пишет: «Украинские власти в период с 1990 г. до середины 1994 г. проводили внешнюю политику по признанию «центральноевропейской» идентичности Украины с целью интеграции страны в европейское сообщество. Основанием для данной политики был образ Украины, созданный в ее западной части, в особенности в Галиции, где национальное самосознание населения развито так же сильно, как и у их центральноевропейских соседей. Белорусская элита же, напротив, являясь частью народа со слабо развитой национальной идентичностью, не проявила большой заинтересованности в том, чтобы у белорусов была идентичность, которая бы отличала их от русских в глазах «воссоединяющийся Европы»». Stephen R. Burant. Foreign Policy and National Identity: A Comparison of Ukraine and Belarus. Europe-Asia Studies, Vol. 47, N 7 (Nov., 1995), p. 1126.
Stephen R. Burant. Foreign Policy and National Identity: A Comparison of Ukraine and Belarus. Europe-Asia Studies, Vol. 47, N7 (Nov., 1995), p. 1136.
Steven М. Eke and Taras Kuzio. Sultanism in Eastern Europe: The Socio-Political Roots of Authoritarian Populism in Belarus Europe-Asia Studies, Vol. 52, No. 3 (May, 2000), p. 523.
Nelly Bekus. European Belarus versus State Ideology: Construction of the Nation in the Belarusian Political Discourses Polish Sociological Review, No. 163 (2008), p. 265.
Steven M. Eke and Taras Kuzio. Sultanism in Eastern Europe: The Socio-Political Roots of Authoritarian Populism in Belarus Europe-Asia Studies, Vol. 52, No. 3 (May, 2000), p. 528.
David R. Marples Europe's Last Dictatorship: The Roots and Perspectives of Authoritarianism in 'White Russia' Europe-Asia Studies, Vol. 57, No. 6 (Sep., 2005), p. 895.
Начертание русской истории. // Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов М., 1992,105–106,108.
Верхи и низы русской культуры (этическая основа русской культуры). // Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России. М., 1992, 331, 334; Общеславянский элемент в русской культуре. // История. Культура. Язык. М., 1995, с. 206.
Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории//Коммерсант, № 175 (5206), 26 сентября 2013.
«Учебник истории не должен сеять вражду среди казанцев». // -gazeta.ru/article/89374/
Путин поддержал идею единого «канона» преподавания истории России. // РИА Новости . html.
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 – 2005 годы». // Российская газета, . shtm. Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации -concept-of-patriotic-education-is-the-basis – of-the – state-program-/ the-concept-of-patriotic-education-of-citizens-of-the-russian-federation.php/the-concept-of-patriotic-education-is-the-basis-of-the – state – program – /
Выступление Нурсултана Назарбаева в МГУ им. М.В. Ломоносова. 1994. /
H.G. Wells. The New World Order, 1940. / authors/W/WellsHerbertGeorge/prose/newworldorder.index.html
Россия во мгле. // Собрание сочинений в 15-ти томах. Том 15. Москва, 1964, с. 99.
H.G. Wells. The New World Order, 1940.
Организация, запрещенная в РФ.
Выступление Нурсултана Назарбаева в МГУ им. М.В. Ломоносова. 1994. /
Григорова, Д. Евразийството в Русия. София, 2008.
Russia is going to a very difficult process of recovering it’s own national identity. Russia for a long time has an Empire but elite was mostly from the Baltic states and the Germany… from Poland, Georgia – that was elite! not authentically Russian even though Russia’s religiously and in terms of identity.
Zbigniew Brzezinski on Russia and Ukraine, Center for Strategic and International Studies, CSIS, December 19, 2014. / multimedia/zbigniew-brzezinski-russia-and-ukraine
Вдовин, А.И., Зорин В.Ю., Никонов, A.B. Русский народ в национальной политике XX век. М., 1998, 211–278.
A policy of empire saving’ versus one of ‘nation-building’: Dunlop, John B. Rise of Russia and the Fall of the Soviet Empire. Princeton University Press, 1995, p. 287; Russia’s future as a liberal democratic country precludes her transformation into a Russian national state: Anatoly M. Khazanov. Ethnic Nationalism in the Russian Federation. Daedalus, Vol. 126, 3 (Summer, 1997), p. 139.
426.1 have chosen namely the term of ‘polite accession’ because the international law treats it in the same way as the ‘right to self-identification’ (exercised in the referendum of March 2014, which, albeit disputed dier to the lack of a sufficient number of international observers, showed the happiness of the return of the Russians – an undoubted majority of the Crimean population – to their homeland. The term ‘annexation’ is also correct, if referred to ‘the right of soverignty of the state borders’ but it cannot actually change anything and remains a matter of a legal and geopolitical position. The Unification of the Kingdom of Bulgaria and Eastern Rumelia was also an ‘annexation’ from a Turkish perspective.
427. Владимир Путин. Постсоветский период в жизни России завершен, впереди новый этап развития страны. – ИТАР-ТАСС, 11 апреля 2012 г. -tass.com/arhiv/542941
«Распад СССР и крах советской модели был воспринят Западом как свидетельство его безоговорочной правоты – моральной, исторической, экономической»: Федор Лукьянов. Европа, которую мы потеряли. – Российская газета, 05.11.2014. Федеральный выпуск № 6523 (251).
H.G. Wells. The New World Order, 1940.
«I think that in the decades before 1914 not only I but most of my generation-in the British Empire, America, France and indeed throughout most of the civilised world-thought that war was dying out.
So it seemed to us. It was an agreeable and therefore a readily acceptable idea. We imagined the Franco-German War of 1870-71 and the Russo-Turkish War of 1877-78 were the final conflicts between Great Powers, that now there was a Balance of Power sufficiently stable to make further major warfare impracticable».
H.G. Wells. The New World Order, 1940.
«The war, the Chamberlain-Hitler War, is being waged so far by the British Empire in quite the old spirit. It has learnt nothing and forgotten nothing. There is the same resolute disregard of any more fundamental problem.
[…] For all that period the League of Nations has been the opiate of liberal thought in the world».
H.G. Wells. The New World Order, 1940.
«…we are living in the end of a definite period of history, the period of the sovereign states. As we used to say in the eighties with ever-increasing truth: «We are in an age of transition»; «The war is incidental; the need for revolutionary reconstruction is fundamental».
H.G. Wells. The New World Order, 1940.
«Political federation, we have to realise, without a concurrent economic collectivisation, is bound to fail. The task of the peacemaker who really desires peace in a new world, involves not merely a political but a profound social revolution, profounder even than the revolution attempted by the Communists in Russia. The Russian Revolution failed not by its extremism but through the impatience, violence and intolerance of its onset, through lack of foresight and intellectual insufficiency. The cosmopolitan revolution to a world collectivism, which is the only alternative to chaos and degeneration before mankind, has to go much further than the Russian…».
Герберт Уэллс. Россия во мгле. – В: Собрание сочинений в 15-ти томах. Том 15. Москва, 1964, с. 99. / russia.txt
H.G. Wells. The New World Order, 1940.
«Мы же, республики бывшего Союза, историей и судьбой подготовлены к единому сообществу. Нам присущи одни формы и механизмы связей и управления, общий менталитет, многое другое». – Выступление Нурсултана Назарбаева в МГУ им. М. В. Ломоносова. 1994. /


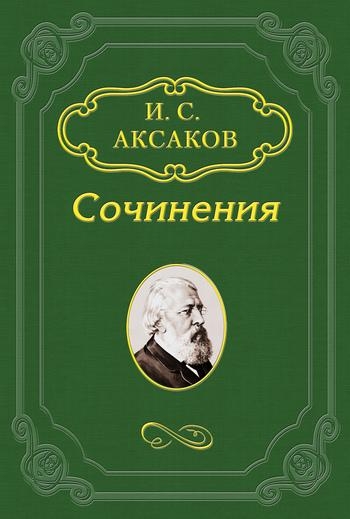

Комментарии к книге «Русский Феникс. Между советским прошлым и евразийским будущим», Дарина Григорова
Всего 0 комментариев