Для чтения книги купите её на ЛитРес
Реклама. ООО ЛИТРЕС, ИНН 7719571260, erid: 2VfnxyNkZrY
Екатерина Кубрякова Зазеркалье Петербурга Путешествие в историю
Серия «Голоса из окон»
Оформление художника Я. А. Галеевой
© Кубрякова Е. В., 2020
© ЗАО «Центрполиграф», 2020
Обращение к читателю
Задумывались ли вы, идя привычным маршрутом от работы до дома, посещая банк и поликлинику, сидя на концерте в богато украшенном отреставрированном зале, что где-то здесь, в параллельной петербургской реальности, проходит другая жизнь – истории людей, которые в этих самых стенах любили, страдали, чувствовали? Смотрели в те же окна и видели тот же вид?
Ступеньки, по которым вы поднимаетесь, слышат стук стертых каблуков Ахматовой. За вашим столиком в кафе сидит перед дуэлью Пушкин, а в здание метро, куда вы забегаете, погруженные в свои мысли, вместе с вами влетает императрица, спешащая на бал. За тот же камень, о который вы споткнулись сейчас, спотыкается убегающий от своих убийц Распутин, а раскидистое дерево, под которым вы прячетесь от солнца, поливает Екатерина II, обдумывая письмо Вольтеру.
Эта книга о домах как свидетелях судеб, о зазеркалье, в котором в этот самый момент происходят тысячи историй на том месте, где сейчас стоите вы. Стены старых петербургских домов сохранили образы своих героев, реальных и вымышленных…
Вот и мы, спустя десятки и сотни лет, стоит лишь потянуть за зыбкую нить времени, сможем услышать их тихие и звонкие, резкие и мягкие, печальные и радостные голоса, доносящиеся из распахнутых окон.
Дом княгини Голицыной (1840 г., архитектор К. А. Тон; Малая Морская ул., 10)
«…Очутился он в одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другою катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара…
Германн затрепетал… ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев»[1].
Именно в эти окна всматривался одержимый азартом Германн, герой пушкинской «Пиковой дамы», в надежде проникнуть в таинственный дом и узнать карточный секрет сварливой старухи-графини.
Малая Морская улица, 10
Сходство с реальной хозяйкой дома, 90-летней княгиней Натальей Голицыной, очевидное. После выхода повести все эти «стройные ножки» и «гремучие ботфорты» узнали в героине княгиню Голицыну, к которой сами именно так и приезжали на поклон. Совпали и манеры своенравной статс-дамы (княгиня была надменна, строга и очень умна), пугающая внешность (к старости у Голицыной появились усы и борода, за что ее прозвали «Princesse Moustache»), скупость (сыновья боялись попросить у матери законного наследства и получили причитающиеся блага незадолго до собственной смерти) и сюжет (в свете ходил анекдот, рассказанный Пушкину внуком Голицыной, о том, что в парижской молодости, когда она бывала при дворе самой Марии Антуанетты и проигралась в фараон, авантюрист граф Сен-Жермен открыл ей три заветных карты, гарантирующих выигрыш). Но самое главное совпадение повести и реальности – это дом.
Адрес на углу Малой Морской и Гороховой был знаком всему Петербургу. Голицына, обласканная при дворе четырех императоров (от Екатерины II до Николая I), в то время была одной из самых влиятельных женщин страны. Каждый офицер, отличившийся на службе, входил в эти двери за одобрением, каждая дебютантка, выходившая на «рынок невест», – за благословением. Даже императорская семья боялась пропустить именины важной особы, всю жизнь служившей им и их предкам. Впрочем, Голицына только императора и удостаивала эмоционального приема – остальную бесконечную череду знати княгиня принимала в этом доме, не вставая и почти не двигаясь. Слепнущей хозяйке диктовали имя и чин вошедшего, который удостаивался либо холодного кивка, либо улыбки в зависимости от статуса. Именитых гостей скупая княгиня принимала без пышности – владелица 16 тысяч душ и огромного состояния вместо ужина и развлечений предлагала визитерам лишь лимонад.
«Германн стал ходить около опустевшего дома: он подошел к фонарю, взглянул на часы, – было двадцать минут двенадцатого… Германн ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Гер-манн взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою, в старинных, запачканных креслах… Германн вошел в спальню. Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, с сошедшей позолотою, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями… По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Leroy, коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки… справа находилась дверь, ведущая в кабинет; слева, другая, – в коридор. Германн ее отворил, увидел узкую, витую лестницу…»[2].
Неизвестно, бывал ли Пушкин в доме Голицыной. Однако в повести он точно описал ее спальню с потайной винтовой лестницей и часы Leroy, сохранившиеся, кстати, до сих пор.
«Германн… ощупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствованиями. По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет шестьдесят назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный á l’oiseau royal, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливец, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться…»[3].
Сердце Голицыной перестало биться в один год с сердцем вдохновленного ее образом поэта. Пушкину было 37, его Пиковой даме – 93.
После смерти одной из самых влиятельных женщин России, 47 лет прожившей в этом доме, государство выкупило его для военного министра графа А. И. Чернышева, которого княгиня когда-то унизила, не ответив на поклон.
Александр Иванович Чернышев, значительно перестроивший здание, владел домом до самой революции. В советское время здесь размещались медицинские учреждения – еврейская лечебница, Красный Крест, госпиталь. Спальня Пиковой дамы стала спальней сестер милосердия. Сейчас здесь находится поликлиника МВД, и от интерьеров XIX века почти ничего не сохранилось. Только фасад еще бормочет голосом обезумевшего Германна: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..»[4].
Литература
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Братья Булгаковы. Письма. Т. 2 (1821–1826 гг.). М., 2010.
Бройтман Л. И. Гороховая улица. СПб., 2010.
Весь Ленинград. 1926 г.
Весь Петербург. 2009 г.: телефонный справочник.
Ленинград: краткая адресно-справочная книга. Л., 1973.
Петербургские страницы воспоминаний графа Соллогуба. 1993.
Пушкин А.С. Дневники. Записки. СПб.: Наука, 1995.
Пушкин А.С. Пиковая дама // Полн. собр. соч.: в 10 т. Т. VI. Л.: Наука, 1978.
Синдаловский Н.А. История Петербурга в преданиях и легендах. М.; СПб., 2016.
Толстой Ф.М. Воспоминания // Русская старина. 1871. Вып. 1–6.
Доходный дом Шиля (1832 г., архитектор А. Х. Пель; Вознесенский пр., 8)
«Двадцать второго, или, лучше сказать, двадцать третьего апреля (1849 год.), я воротился домой часу в четвертом от Григорьева, лег спать и тотчас же заснул. Не более как через час я, сквозь сон, заметил, что в мою комнату вошли какие-то подозрительные и необыкновенные люди. Брякнула сабля, нечаянно за что-то задевшая. Что за странность? С усилием открываю глаза и слышу мягкий, симпатический голос: „Вставайте!“.
Смотрю: квартальный или частный пристав, с красивыми бакенбардами. Но говорил не он; говорил господин, одетый в голубое, с подполковничьими эполетами.
– Что случилось? – спросил я, привстав с кровати.
– По повелению…
– Позвольте же мне… – начал было я.
– Ничего, ничего! одевайтесь… Мы подождем-с, – прибавил подполковник еще более симпатическим голосом.
Пока я одевался, они потребовали все книги и начали рыться; не много нашли, но всё перерыли. Бумаги и письма мои аккуратно связали веревочкой. Пристав обнаружил при этом много предусмотрительности: он полез в печку и пошарил моим чубуком в старой золе. Жандармский унтер-офицер, по его приглашению, стал на стул и полез на печь, но оборвался с карниза и громко упал на стул, а потом со стулом на пол. Тогда прозорливые господа убедились, что на печи ничего не было…
Вознесенский проспект, 8
Мы вышли. Нас провожали испуганная хозяйка и человек ее, Иван, хотя и очень испуганный, но глядевший с какою-то тупою торжественностью, приличною событию, впрочем, торжественностью не праздничною. У подъезда стояла карета; в нее сели солдат, я, пристав и полковник…»[5].
На третьем этаже этого дома, принадлежавшего купцу Якову Шилю, снял комнату в квартире одного из жильцов 26-летний Федор Достоевский. Молодой литератор, по своему обыкновению бродивший по улицам, разговаривая с самим собой, в первые месяцы жизни на новом месте входил в эти двери с улыбкой, повторяя слова Белинского: «Вам правда открыта… новый Гоголь… будете великим писателем». Достоевский заслужил такую похвалу мгновенно обративших на него внимание литературных кругов Петербурга за «Бедных людей».
Вдохновленный признанием самого Белинского, называвшего на своих вечерах начинающего писателя не иначе как новым гением, Достоевский торопился домой, чтобы здесь, попросив у хозяйки свечу, запереться в своей комнате и продолжить творить.
В этих стенах появились на свет «Белые ночи», «Чужая жена…», «Двойник» и другие небольшие произведения. Ожидаемого успеха они, однако, не принесли. Скорее наоборот. И вот уже Достоевский нервно плетется в этот дом, бурча под нос: «Рыцарь горестной фигуры! Достоевский, юный пыщ, На носу литературы рдеешь ты, как новый прыщ…»[6]. Это Некрасов с Тургеневым решили спустить с небес на землю нового гения, да и сам Белинский признался, что поспешил с дифирамбами и новыми рассказами был совершенно недоволен.
В эту непростую пору разочарованный писатель с участившимися на нервной почве припадками эпилепсии приятное общение находил в кружке петрашевцев, критиковавшем государственное устройство. За участие в нем его и арестовали, забрав в ночи прямо из этого дома в Петропавловскую крепость, откуда после восьми месяцев заключения его повели на смертную казнь. Как потом оказалось, казнь была инсценировкой, и заключенные, уже попрощавшиеся с жизнью, связанные и с мешками на головах, вдруг услышали приказ о помиловании.
Дом Шиля – последнее петербургское пристанище молодого Достоевского. В следующий раз он окажется в городе лишь через 10 лет, пройдя через каторгу и ссылку. И в память о себе, юном вольнодумце, поселит в доме Шиля (только по другому адресу) своего знаменитого героя: «Я Родион Романович Раскольников, бывший студент, а живу в доме Шиля, здесь в переулке, отсюда недалеко, в квартире нумер четырнадцать. У дворника спроси… меня знает»[7].
Литература
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX – начала XX века / под общ. ред. Б. М. Кирикова. СПб., 1996.
Гроссман Л.П. Достоевский. М., 1962.
Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 5. Л., 1973; Т. 18. Л., 1978.
Достоевский, Федор Михайлович // РБС. Т. VI: Дабелов-Дядьковский. СПб.; М., 1905.
Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского, 1821–1881: в 3 т. Т. 1: 1821–1864 / [сост. И. Д. Якубович, Т. И. Орнатская]. СПб.: Акад. проект, 1999.
Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Соч.: в 12 т. Т. 1. М., 1978.
Жилой дом Литфонда (1955 г., архитектор М. И. Саркисов; Малая Посадская ул., 8)
«Живу, как в Афинах!.. Вы не видели меня утром? В сандалиях, в тоге, со свитком в руках, украшенный лавровым венком, я шествовал между колоннами и спорил с киниками из „Ленфильма“, – имя же им – легион»[8].
Так об этих «греческих» колоннах шутил «добрый сказочник» Евгений Шварц, встретив у вечно не работающего лифта одного из своих приятелей-соседей – литературного критика Александра Дымшица с 4-го этажа.
Поделиться удачной метафорой здесь было с кем – квартиры в доме Литфонда выдавали только членам Союза писателей, поэтому в 1955 году, во время массового заселения в только что построенный дом, у парадного входа встретились, таща шкафы и пианино, давние коллеги и друзья – писатели, поэты, литературоведы. К новоселью присоединился и соседний 4-й дом, заселенный работниками «Ленфильма», – кинематографистов и сценаристов, и без того плотно общавшихся, теперь и вовсе разделяла пара стен. 59-летний писатель Шварц теперь каждый день мог гулять с 50-летним режиссером Козинцевым по неизменному маршруту от этого дома до Кировского моста (ныне – Троицкий) и налево, до китайских львов, обсуждая новые пьесы писателя («Обыкновенное чудо»), общие фильмы («Дон Кихот») и жизнь в квартале творческой интеллигенции сумрачной Петроградской стороны.
Малая Посадская улица, 8
Шварц с женой быстро привыкли к своим «Афинам», выглядывая из этих самых окон второго этажа на площадку, с которой поднимались ввысь массивные колонны, вызывавшие бесчисленные фантазии писателя.
«6 августа 1955 г. …
Пишу… это на новой квартире. На Малой Посадской. Живем мы теперь во втором этаже дома № 8, кв. 3… Здесь вдвое просторнее. Три комнаты, так что у Катюши своя, у меня своя, а посередине столовая…
Второй день на новой квартире, на новой для меня… Петроградской стороне. Утром выходил, установил, что междугородный телефонный пункт возле… Пошел по скверу, который больше похож на парк со старыми деревьями, к Петропавловской крепости. Запах клевера. Воскресный народ. В доме еще непривычно.
Опять лежу… Спазм коронарных сосудов. Слишком много ходил в городе… Вечером дома ставили пиявки „на область сердца“… Намазали меня сахарным сиропом… Сестра вынула пинцетом из банки, на которой была наклейка „черешня“, пять черных гадиков и разложила у меня на груди, по сиропу»[9].
Сосед Шварца сверху, 48-летний Л. Пантелеев, после смерти Сталина начавший готовиться к переизданию и воскрешению своей когда-то популярной «Республики ШКИД», и его жена, красавица-грузинка Элико, тайком молились в своей квартире, закрывая иконы от приходящих гостей и от вскоре родившейся в этих стенах дочери. Вероятно, также поступили они и в канун 1956 года, когда пригласили тяжело больного Шварца с женой подняться к ним, чтобы вчетвером тихо отметить праздник.
Сосед сбоку – также вернувший работу и репутацию после смерти Сталина 70-летний литературовед Борис Эйхенбаум, предвкушавший новоселье: «У нас будет чудная квартира во втором этаже, три комнаты, четыре стенных шкафа, кухня с окном и мусоропровод (общий со Шварцами, которые будут рядом)»[10].
Как не было в 1950-х годах в этом доме случайных жильцов, так не было и случайных заведений. На первом этаже еще при постройке спроектировали ателье мод, обслуживающее только семьи членов Союза писателей и некоторых артистов (оно существует до сих пор и, хотя теперь работает для всех, сохраняет традиции – шьет сценические костюмы для «Ленфильма»).
Последним свидетелем литфондовской эпохи этого дома и современником его знаменитых жильцов стал более полувека проживший здесь Даниил Гранин, два года назад своей смертью поставивший точку в славе здания как обиталища «живых классиков».
Литература
Мемориальные доски Санкт-Петербурга: справочник / сост. В. Н. Тимофеев, Э. Н. Порецкина, Н. Н. Ефремова. СПб., 1999.
Мы знали Евгения Шварца: воспоминания. Л.; М.: Искусство, 1966.
Письма Б. М. Эйхенбаума к Ю. А. Бережновой (1949–1959 гг.) / публ. и примеч. Ю. А. Бережновой // Звезда. 1997. № 10.
Путилова Е.О. Пантелеев Л. // Краткая литературная энциклопедия. Т. 5: Мурари – Припев. М., 1968.
Шварц Е.Л. Позвонки минувших дней. М., 2008.
Шварц Евгений Львович // БСЭ. Т. 29.
Доходный дом Струбинского (1875 г., архитектор А. В. Иванов; Моховая ул., 17)
«Итак, мы пришли на Моховую в дом номер семнадцать и, поднявшись на второй этаж, позвонили у квартиры номер три. Старинная медная дощечка над дверью гласила: „Мария Георгиевна Фалина“. Открыла дверь небольшого роста женщина с обыкновенной наружностью, как показалось на первый взгляд. На ней было закрытое, строгое, тонкого сукна платье песочного цвета, плотно облегавшее идеальную фигурку. Небольшие, умные и немного лукавые зеленоватые глаза хорошо гармонировали с густыми светло-соломенными и искусно уложенными волосами. Увидев нас, она удивленно отступила.
– Позвольте, – недоумевающе сказала она, и голос ее звучал недовольно. – Я же сказала вам, что мое объявление было недоразумением, я уже давно раздумала сдавать комнату!
– Знаю, – со свойственным ему нахальством ответил Ника, – но я привел мою жену познакомиться с вами и уверен, что вы передумаете и сдадите нам комнату. Кстати, состоится это или нет, у меня к вам просьба. Пожалуйста, покажите ей ваш кабинет. Она так любит старину. Вы ей доставите большое удовольствие!
Моховая улица, 17
Слова Ники одинаково поразили нас обеих. Марию Георгиевну, безусловно, поразило нахальство Ники, а я сгорала от стыда за него…
Кабинет ее покойного мужа, который она почему-то вздумала сдавать, был великолепен. Мебель розового дерева поражала узором-мозаикой из палисандрового дерева, красного американского ореха и «птичьего глаза». Вслед за кабинетом Мария Георгиевна показала всю квартиру.
Я была восхищена богатством фарфоровой коллекции, картинами и редкими коврами. Она обладала некоторыми подлинниками самого Врубеля. Разговаривая о посторонних вещах, мы коснулись живописи и, сев на диван, забыли обо всем на свете…
– Вы понимаете, – с милой искренностью сказала Мария Георгиевна, – у меня сравнительно недавно умер муж. В этой квартире я осталась одна с моей старушкой-матерью. Было так тоскливо, так скучно. Я и подумала: а не сдать ли мне одну комнату? Будут рядом живые люди, и мне будет веселее! Взяла написала несколько объявлений да и расклеила. И что же вы думаете? Как начали ко мне приходить люди, одни противнее других! Некоторых я просто испугалась!.. Тогда я соскоблила ножом все объявления, а одно-то и забыла. Вот по этому злосчастному, забытому объявлению и пришел ваш муж»[11].
Именно этот дом на Моховой вспоминает княжна Китти Мещерская, описывая свое несчастливое замужество в 21 год с летчиком Васильевым и их кратковременный переезд в Петроград в 1920-х.
Отцу Китти исполнилось 78 лет, когда она родилась, а по некоторым данным, он уже три года был мертв, поэтому в свете ее считали лжекняжной, хотя это и не важно, ведь к упомянутым событиям привычного «света» уже не было, а Китти потеряла все, как и остальные представители ее круга.
Летчик-испытатель Николай Васильев (Ника) – обычный необразованный мужик, сумевший воспользоваться революцией не только, чтобы занять место в новом привилегированном классе, но и практически насильно женить на себе представительницу старого. Громогласный, самоуверенный, наглый, бравший от жизни все и в опасной работе, и в изобильных кутежах, и в любви, за два года брака он три раза вынуждал Екатерину сбегать, постоянно возвращая ее назад то скандалами, то жалостью, то обещаниями зажить наконец-то пристойно, без пьянства, разгула и растрат. Чтобы скрыться от ненавистного мужа, однажды Мещерская инсценировала самоубийство, а в последний свой побег даже сменила фамилию, пойдя ради этого на фиктивный брак со старым другом. Обман, однако, не удался. И вот эта пара максимально непохожих друг на друга людей – бывшая княжна и лихой гуляка – снова вместе, у порога этого дома.
Комнату здесь молодой паре, конечно же, сдали. Мария Георгиевна, выслушав историю Китти о потере имущества, аресте, тюрьме, жизни в дворницкой и на кухне собственной квартиры, унижениях за принадлежность к «бывшим» (дворянам), несчастном замужестве, гибели сына, родившегося после падения самолета с находившейся в кабине беременной Китти, и честное признание в том, что нерадивый муж ее лишился работы, пропил все деньги от продажи последних ценностей и, кроме неприятностей, пожилой даме ничего не принесет, пожалела девушку и, оплатив долг Васильева перед прошлой квартирной хозяйкой, согласилась приютить настрадавшегося «ребенка» и, что поделать, ее распущенного мужа.
«Комната, в которой мы поселились, была полна не только мелких безделушек и вещей, в ней стояли комод и шифоньерка, набитые доверху бельем. Когда нужно было, Мария Георгиевна входила к нам и брала свои вещи. Комнату мы, конечно, никогда не запирали, и, мне казалось, что я живу у самой близкой моей родственницы.
Несмотря на большую разницу в годах, мы очень подружились, полюбили друг друга. У меня от нее не было никаких тайн, я рассказала ей о себе все. Ника снова „вернулся в небо“…
У нас сразу появились деньги, долги были погашены. Ника меня задаривал: он приносил целые куски тонкого сукна, шерсти, шелка, и Мария Георгиевна считала удовольствием поскорее все это увидеть на мне. Она резала, кроила, примеряла, сметывала и шила, так что через каких-нибудь два месяца я имела гардероб, которому позавидовала бы любая женщина.
Вместе с полной довольства жизнью вернулся и прежний Васильев. Пьяный, грубый, пропадавший сутками…
Все время мы проводили вместе с Марией Георгиевной. Нам не хватало дня для смеха и разговоров. Иногда до рассвета мы шили, болтали, и Ника яростно стучал в стену, вызывая меня. Я прибегала, притворялась, что ложусь спать, но, едва он засыпал, вскакивала и убегала к Марии Георгиевне»[12].
Беседы с воспитанной хозяйкой, оказавшейся бывшей портнихой и владелицей модельного дома, а также само убранство квартиры и сохранившиеся коллекции на несколько месяцев вернули Китти в тот потерянный мир, где у нее было три дворца, несколько особняков и подлинники Боттичелли и который теперь навсегда остался в прошлом.
Литература
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Мещерская Е.А. Жизнь некрасивой женщины. М., 1997.
Мещерская Е.А. Китти: Мемуарная проза княжны Мещерской / сост. и вступ. ст. Г. А. Нечаева. М., 2001.
Руммель В. В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий: в 2 т. Т. 2. СПб., 1887.
Дом Энгельгардта (1831 г., архитектор П. П. Жако; Невский пр., 30 / Наб. канала Грибоедова, 16)
«В пятницу маскарад у Энгельгардта. Императрица пожелала поехать туда инкогнито и при соблюдении строжайшей секретности, выбрав меня сопровождать ее… Когда мы смешались с толпой, стало еще хуже. Ее толкали локтями, неуважительно пихали, как всякую другую маску. Все это было в новинку Императрице и очень смешило ее… Меня потешало крайнее замешательство пристава Кокошкина. Бедняга очень скоро узнал Императрицу и трепетал при мысли, что с ней может что-нибудь случиться… Наконец, в три часа утра, я вернула ее во Дворец, целую и невредимую…»[13].
Сюда, в дом на углу Невского проспекта и канала Грибоедова, в дом, где сейчас располагается вход в вестибюль станции метро «Невский проспект», светская дама Долли Фикельмон привела на маскарад императрицу Александру Федоровну, супругу Николая I. Обеим было в то время около 30 лет, и они все еще обожали веселиться и танцевать до утра.
Невский проспект, 30 / Наб. канала Грибоедова, 16
А в доме Энгельгардта знали, что такое веселье! В 1830-х это был центр музыкальной жизни Петербурга, знаменитый своими творческими вечерами и балами-маскарадами.
Хозяев дома – дочь купца-миллионера Ольгу Кусовникову и ее мужа полковника Василия Энгельгардта, 45-летнего богача и мецената, получившего состояние не только с приданым жены, но и из наследства собственного дяди, которым был ни много ни мало сам светлейший князь Григорий Потемкин, – знал весь Петербург. Василий был остер на язык, весел, щедр и расточителен, что притягивало в его дом на Невском проспекте все тогдашнее светское общество. В карты с азартным Василием приезжал сюда играть и старый его друг, поэт Александр Пушкин, давным-давно, еще во времена участия обоих в обществе дворянской молодежи «Зеленая лампа», посвятивший Энгельгардту строки:
Литераторы, среди которых бывали, помимо Пушкина, Жуковский и Вяземский, охотно посещали вечера Энгельгардта. Именно в этом доме в 1837 году 18-летний Иван Тургенев увидел своего «полубога»: «Пушкина мне удалось видеть всего еще один раз – за несколько дней до его смерти, на утреннем концерте в зале Энгельгардт. Он стоял у двери, опираясь на косяк, и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом… Он и на меня бросил беглый взор; бесцеремонное внимание, с которым я уставился на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное: он словно с досадой повел плечом – вообще он казался не в духе – и отошел в сторону. Несколько дней спустя я видел его лежавшим в гробу…»[15].
Главным магнитом, привлекавшим публику к Энгельгардтам, были их знаменитые на весь город маскарады. Во времена, когда танцы на балах строго регламентировались, гости соблюдали правила этикета, а общение ограничивалось только одобряемыми внутри своего класса собеседниками, публичные маскарады в доме на Невском представлялись глотком свежего воздуха и способом безнаказанно нарушить правила «света». Билет на маскарад мог купить любой желающий – это смешение классов освежало свободную атмосферу анонимной распущенности. В костюмах и масках по залам этого дома бродили неузнанными графини и куртизанки, генералы и повесы, артисты и члены императорской семьи.
Молодая графиня Дарья (Долли) Фикельмон, одна из ключевых фигур в светской жизни Петербурга 1830-х годов, не раз приходила на бал, чтобы сопровождать императрицу, «поинтриговать» или разыграть своего мужа, австрийского дипломата, о чем остались записи в ее дневнике:
«[13 февраля 1830 г.] С Maman, Катрин и Аннет Толстой отправились маскированными к Энгелъгардту в маскарад. Едва я начала с успехом интриговать, как, к моему огорчению, сидевшая в ложе Императрица пожелала меня видеть. Бросились искать меня по всей зале. Император первым опознал меня и под руку повел через залу к Императрице. Заинтриговать кого-нибудь после этого уже было невозможно. Маскарады теперь в большой моде оттого, что Император и Великий князь посещают их, посему и светские дамы решаются ездить туда в масках»;
«[15 февраля 1830 г.] Снова поехала в маске к Энгельгардту, и на сей раз я чудесно развлекалась. Флиртовала с Императором и Великим Князем, оставаясь неузнанной. Фикельмон тоже снизошел до флирта со мной, не подозревая, что любезничает со своей женой»[16].
Михаил Лермонтов, учившийся в Школе гвардейских подпрапорщиков вместе с сыном Энгельгардта Василием и бывавший здесь, написал свою пьесу «Маскарад», вдохновившись одним из таких балов, где он смог анонимно, скрываемый маской, познакомиться с петербургским обществом тех лет. Сюжет драмы разворачивается в этих самых стенах.
Красивый и пылкий гвардеец, князь Звездич, приехав к Энгельгардту с угрюмым, разбогатевшим на карточной игре дворянином Евгением Арбениным, флиртует со страстной маской и получает от нее в подарок сувенир, символ их амурного приключения, – найденный на полу, кем-то потерянный золотой браслет, которым хвастается перед Арбениным. Дома ревнивый игрок, нервно ожидающий свою как всегда поздно возвращающуюся с танцев молодую жену Нину, замечает, что тот злополучный браслет принадлежал ей (на ее руке остался такой же, парный). Драма заканчивается смертью от руки своего мужа ни в чем не повинной Нины и сумасшествием Арбенина – трагедией, предсказанной главному герою таинственным незнакомцем в этих самых стенах в ночь маскарада.
Цензура, однако, не пропустила первую версию поэмы, возмутившись тем, что Лермонтов осмелился критиковать маскарады Энгельгардта, столь любимые высшим обществом. К тому же ходили слухи, что сам император замешан в непристойных скандалах, происходивших под покровом анонимности в гостиничных номерах, оборудованных на последнем этаже этого дома для гостей Энгельгардта. Что именно вдохновило на создание «Маскарада» 20-летнего поэта – слухи ли, личные наблюдения? Кто знает, может, одной из масок, пронесшихся в танце мимо задумчиво бродящего по залам этого дома Лермонтова, была хохотушка Долли. А может, и сама императрица.
Через сто лет, во время блокады Ленинграда, 21 ноября 1941 года, в 18:45, дом будет частично разрушен прямым попаданием авиабомбы, 37 человек будут убиты, 83 – ранены. Восстанавливать здание будут помогать местные жители, собирая остатки уцелевшей лепнины. В 1960-е годы стены дома ждет еще одно испытание – масштабное строительство станции метро «Невский проспект», вестибюль которого расположился прямо в доме Энгельгардта. Интерьеры здания, хранящие воспоминания о маскарадах прошлого, утеряны навсегда, однако фасад восстановлен в том же виде, каким он был в XIX веке, но в другом цвете (тогда здание было желтым). Музыкальная жизнь продолжается здесь до сих пор – вот уже 170 лет публику в знаменитых стенах собирает Малый зал Санкт-Петербургской филармонии.
Литература
Выскочков Л.В. Будни и праздники императорского двора. СПб.: Питер, 2012.
Вяземский П.А. Полн. собр. соч. Т. I. СПб., 1878.
Иванов И.И. Лермонтов, Михаил Юрьевич // ЭСБЕ. Т. 34. СПб., 1896.
Кириков [и др]. Невский проспект. 2004.
Лермонтов М.Ю. Соч.: в 2 т. Т. 2. М., 1990. Панорама Невского проспекта. Литографии по акварелям В.С. Садовникова. СПб., 2003. По сигналу воздушной тревоги: сб. / сост. О.М. Смирнова. Л., 1974.
Фикельмон Д. Дневник, 1829–1837. Весь пушкинский Петербург / публ. и коммент. С. Мрочковской-Балашовой. М., 2009.
Особняк Генриха Гильзе ван дер Пальса (1902 г., архитектор В.Ю. Иогансен; Английский пр., 8–10)
«Мне „дирекция“ (Г. Гейзе, ван дер Пальс) отказала в единицах тысяч, а она же дала несколько десятков тысяч Дягилеву два раза в Париж. Впрочем, Дягилев был хитрее меня: он им устроил „чашку чаю“ у великого князя Владимира Александровича»[18].
Так с обидой дирижер Александр Зилоти писал о своих меценатах в лице ван дер Пальса, директора первого Российского страхового общества и Российско-Американской резиновой мануфактуры «Треугольник» (в советское время именовавшейся «Красный треугольник»), когда ему не удалось убедить предпринимателя спонсировать его заграничные гастроли. А более предприимчивый и умевший взаимовыгодно дружить с нужными людьми художественный и театральный деятель Сергей Дягилев попытался «умаслить» серьезного голландца, сыграв на желании богатого человека, который может позволить себе любую материальную вещь, получить что-то нематериальное – неформальное общение с членом императорской семьи.
Английский проспект, 8–10
Голландец этот, Генрих (Хендрик) ван Гильзе ван дер Пальс, жил здесь, в этом роскошном особняке, который он велел построить в кратчайшие сроки (работы велись безостановочно и были полностью завершены менее чем за два года) не только в сверхмодном тогда стиле модерн, но и о родной стране не забыть – дворовые флигели, коровник и конюшни, скрытые от глаз прохожих, должны были напоминать хозяину о пряничных североевропейских деревушках. Для этого архитектор спроектировал их, вдохновляясь стилем фахверковых построек, а фасад, выходящий в сад, украшала башня.
В трехэтажном особняке было предусмотрено много вошедших тогда в моду специализированных комнат, таких как несгораемая кладовая, спортивный зал, фотолаборатория: «В нижнем полуэтаже, имеющем пол на уровне тротуара, расположены: вестибюль, гардеробные, швейцарская, домовая контора, винный погреб, приборы отопления и запасные помещения для хозяйства. В бельэтаже приемные комнаты: зал, гостиная, кабинет, библиотека, биллиардная, цветник, большая и малая столовая, буфетная, кухня с судомойной и пр.; кроме того, несгораемое помещение для хранения столового серебра, лакейская и уборные. В верхнем этаже жилые комнаты: спальни, детские, уборные, шкафная… гимнастическая и совершенно изолированное помещение для больных, состоящее из двух комнат, передней и ванной. Помещения для прислуги находятся в 4-м этаже надворной части дома, где также помещаются гладильня, каток и мастерская для детей, с темной фотографической комнатой»[19].
Жил здесь 46-летний Генрих Генрихович ван дер Пальс вместе с женой Люси Юрьевной (Лючией), на десять лет младше него, и шестью детьми. А особняк строил брат Лючии, архитектор Вильям Иогансен. Всего через два года брату пришлось построить для сестры еще одно сооружение – усыпальницу на Новодевичьем кладбище…
Ван дер Пальс, когда-то приехавший в Петербург 17-летним сиротой по приглашению отчима своего немецкого одноклассника, владевшего сетью обувных магазинов, к началу XX века стал не только директором нескольких предприятий, миллионером и благотворителем, но и нидерландским консулом. А его особняк в 1910-х годах, помимо жилого дома, стал консульством. Здесь же регулярно проводились музыкальные вечера. Генрих, член Императорского Русского музыкального общества, спонсировал концерты пианиста Зилоти и «Русские сезоны» Дягилева. Двое из сыновей, напитавшись в этих стенах творческой атмосферой и познакомившись с выдающимися артистами, выбрали вопреки желанию отца, мечтавшего передать им свой бизнес, карьеры музыкантов – один стал композитором, второй – дирижером.
Во время Первой мировой войны долгом и вопросом чести для высоко стоявших на социальной лестнице людей стала всесторонняя помощь стране. Генрих не остался в стороне и разместил в парадных залах своего особняка русско-голландское отделение лазарета имени императрицы Марии Федоровны, продолжая жить здесь с детьми. Сестрами милосердия, ухаживавшими за ранеными, были в основном представительницы голландской общины в Петрограде, среди них и три дочери консула, закончившие медицинские курсы.
После революции 61-летний Ван дер Пальс вынужден оставить этот и другие свои дома, имущество, вклады, оценивавшиеся в десятки миллионов рублей, и переехать в свое финское имение, где уже ждали его дети, а затем эмигрировать в Швейцарию. Главным ударом стала национализация фабрики «Треугольник», производившей резиновую обувь и каучуковые товары, директором которой Генрих являлся много лет и которой был обязан своей блестящей карьерой (именно здесь он начал работать у отчима своего друга Леопольда Нейшеллера – тогда предприятие называлось его именем). Пытаясь спасти производство, ван дер Пальс медлил с отъездом из страны, за что рабочие завода, его бывшие служащие, пригрозили бросить его в Обводный канал.
Собрав три чемодана личных вещей (большой багаж вывозить не позволялось), Генрих покинул свой особняк на Английском проспекте. Ныне в этом здании, побывавшем благодаря царящей здесь мистической атмосфере былого величия местом действия нескольких решенных в эстетике стиля модерн кинокартин, находится военкомат.
Литература
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996. Весь Петербург. 1916 г.
Голландцы и бельгийцы в России, XVIII – ХХ вв. / Noorden Zuid-Nederlanders in Rusland, 1703–2003: [Сб. ст. отеч. и иностр. авт.] / Нидерланд. – рос. арх. центр (НРАЦ) Гонинген; под ред. Эммануэля Вагесмана, Ханса ван Конингсбрюгге; пер. на рус. Дмитрия Сильверстова. СПб., 2004.
Зилоти А.И. Воспоминания и письма. М., 1963.
Зодчий. 1905. Вып. 49.
Путеводитель: перечень фондов Государственного архива Российской Федерации и научно-справочный аппарат к документам архива / С.В. Мироненко, Грегорий Л. Фрееже. М.: Благовест, 1998.
Столица и усадьба. 1915. № 46.
Усадьба «Александрино» (1762 г., архитектор Ж.-Б. Валлен-Деламот; пр. Стачек, 226)
«Пюи-Сегюр и я отправились вместе на дачу к графине Чернышевой (жене графа Ивана). Мы прибыли туда в семь часов. Этот уютный дом расположен на несколько возвышенном месте, в 13-ти верстах от города по левую сторону Петергофской дороги. Самое строение имеет красивый вид; оно производит впечатление большого окна, освещаемого сверху. Средняя комната, получающая свет сверху, напоминает залу в Марли. Комнаты очень удачно расположены, и их гораздо больше, нежели это кажется с первого взгляда. Сада нет, но его вполне заменяют восхитительные полевые лужайки. Напротив замка проведен канал, ведущий к довольно большому водоему, на правой стороне которого виднеется островок с расположенной на нем прелестной постройкой, как бы нарочно предназначенной для нежных любовных свиданий. Но все преимущества этого дома не могут подавлять ощущение господствующей там скуки; несмотря на кажущуюся свободу, чувствуешь себя связанным по рукам и по ногам и подверженным инквизиторскому допросу. Госпожа Чернышева начала коварно распрашивать меня о Трубецкой, делая это с особенной настойчивостью, чтобы ввести меня в замешательство; я немного покраснел, что не укрылось от ее глаз и заставило меня покраснеть еще сильнее, чего она и добивалась. Говоря откровенно, я терпеть не могу этой женщины»[20].
Проспект Стачек, 226
Так 24 июня 1776 года 28-летний французский дипломат барон Мари Даниель Бурре де Корберон описывал эту усадьбу. Де Корберон уже год находился с дипломатической миссией в России и успел познакомиться со всеми представителями местного высшего света, практически ежедневно посещая званые ужины, балы, дворцы, загородные поместья. Работая секретарем у своего дяди маркиза де Жюинье, состоявшего французским посланником при дворе императрицы Екатерины II, веселый и умный молодой человек с репутацией прекрасного танцора, певца, поэта и донжуана, для дяди ценный помощник, вместо просиживания штанов в канцелярии Корберон стремился в эпицентр светских интриг, значивших в тогдашнем обществе гораздо больше для политики, чем бюрократическая работа.
Компаньоном для поездки в эту усадьбу барон взял своего 24-летнего друга, маркиза Армана де Пюисегюра. Обоих аристократов объединяла страсть к оккультным наукам, спиритизму, масонству, а также наблюдательность, с которой молодые «светские львы» оценивали представителей русской знати. Впрочем, часто очень субъективно.
Графиню Анну Чернышеву, хозяйку этой усадьбы, Корберон сразу невзлюбил. Любезная и популярная в свете, неоднократно принимавшая в своем городском дворце на Мойке (ныне на этом месте стоит Мариинский дворец) саму Екатерину II, дружившая с самыми влиятельными семействами Петербурга и даже имевшая родство со светлейшим князем Григорием Потемкиным, год назад заключившим с императрицей тайный брак, Анна отвергла намеки юного дипломата о том, что он может быть ей полезен в ее любовной интриге с его 29-летним другом, юристом Порталисом, в амурных приключениях которого он частенько принимал участие. С тех пор обеды у Чернышевых, а главное их хозяйка, стали для Корберона в тягость: «Хоть я и дипломат по профессии, но не могу же я сделаться таковым до мозга костей и стать равнодушным даже к скуке. Сегодня я обедал у гр. Ивана Чернышова и чуть не умер с тоски. Жена его положительно глупа, а сам он хотя не глуп, но хуже того: он – в полном смысле слова придворный и потому в их доме царствует невозможная натянутость…»[21].
В те дни находившаяся на последних месяцах беременности третьим ребенком 36-летняя Анна, переехав из городского дворца в загородную усадьбу, была оторвана от светской жизни столицы. Корберон как приезжий светский гость, конечно же, не избежал «инквизиторского допроса» дамы, припомнившей состоявшийся полгода назад скандальный обед, на котором юноша флиртовал с 19-летней княжной Анастасией Трубецкой.
«Мы репетировали две пьесы у Чернышовых, затем ужинали, все шло очень весело. За ужином я сидел рядом с княжной и очень за ней ухаживал, что видимо нравилось. Мало-помалу Чернышова стала пристально смотреть на нас и шептаться с маркизом, сидевшим около нее и тоже глаз с меня не спускавшим. „Нас осуждают“, – сказала мне княжна в полголоса; и действительно, к концу ужина гр. Иван стал видимо придираться к ней. Это нас обоих очень рассердило, и я ушел из этого дома очень недовольный хозяином и хозяйкой. Первый – низкий, фальшивый и тщеславный человек, а последняя – дура, осуждающая любовные интриги и цинически отдающаяся своему лакею, как все говорят. Это меня окончательно оттолкнуло от дома, в котором я и прежде очень скучал. Вежливость русских состоит в том, что они надоедают поклонами, пошлыми комплиментами, обедами и проч., а настоящей тонкой деликатностью, составляющей всю прелесть общения, они не обладают»[22].
Так расположение Корберона потеряла не только далекая от искусства французского флирта Анна, но и ее замечательный муж, граф Иван Чернышев. 50-летний дипломат пользовался покровительством Екатерины II, которая назначила его вице-президентом Адмиралтейств-коллегии, ответственным за весь военный флот.
Императрица была довольна службой Ивана, сумевшего привести флот из запущенного состояния в отменное. Когда граф купил участок в районе Петергофской дороги и задумал возвести здесь «Чернышеву дачу», она несколько раз бывала здесь с визитом – и на этапе постройки, интересуясь планами архитектора Валлен-Деламота, и позже, приехав сюда к графу Чернышеву со шведским королем Густавом III. «9-го король ездил в Царское Село, а по возвращении был в придворном французском спектакле и ужинал у президента адмиралтейской коллегии графа Ив. Гр. Чернышева. В следующий день императрица из Царского Села переехала на летнее пребывание в Петергоф… Был и шведский король… Государыня в 5 часов отправилась далее и по дороге еще раз остановилась на даче И.Г. Чернышева»[23].
Более 30 лет Чернышева дача находилась во владении Ивана и Анны, а затем, после их смерти в 1790-х годах, перешла к единственному сыну Григорию. 35-летний обер-шенк (старший хранитель вин при Дворе) вместе с усадьбой унаследовал и долги отца, а так как и сам обладал страстью к расточительству, выбраться из сложной финансовой ситуации не смог. После разорения Григория, сменив несколько владельцев, Чернышева дача досталась наконец графу Александру Шереметеву, известному своей любовью к музыке и позже ставшему начальником Придворной певческой капеллы. С тех пор и усадьба, и парк носят его имя – «Александрино».
После революции в особняке разместилась молодежная артель огородников, а затем дача стала обычным жилым домом с коммунальными квартирами. Парадные залы поделили на клетушки, а в восьмиугольном бальном зале, где когда-то Екатерина II шествовала в полонезе со шведским королем, устроили сарай для свиней и другого домашнего скота.
С 1980-х годов в здании, восстановленном после Великой Отечественной войны, но, к сожалению, утратившем все элементы оригинальных интерьеров, располагается детская художественная школа, что, наверное, понравилось бы последнему владельцу усадьбы графу Шереметеву, меценату и ценителю искусств.
Литература
Грот Я.К. Екатерина II и Густав III. СПб., 1877.
История Муниципального образования МО Дачное // .
Корберон М. Интимный дневник шевалье де Корберона, французского дипломата при дворе Екатерины II (Из парижского издания). СПб., 1907.
Куракин Ф.А. Восемнадцатый век: исторический сборник. Т. 1. СПб., 1904.
Чернышев, Иван Григорьевич // РБС. Том XXI: Фабер— Цявловский. СПб., 1901.
Шереметев, Александр Дмитриевич // ЭС Брокгауза и Ефрона. Т. 78. СПб., 1903.
Жилой комплекс Петербургской купеческой управы (1911 г., архитектор А.А. Барышников; ул. Рубинштейна, 23)
«Мы поселились на шестом этаже… дома № 23…
Сначала мы жили в большой пятикомнатной квартире. Вскоре к нам подселили одну семью, потом другую, в конце концов остались в двух комнатах, так что я оказался вместе с сестрами.
Номер школы тоже был 23, и в это число я вкладывал символический, точнее, ложномногозначительный смысл. Например, прибегнув к вычитанию, говорил себе, что дом минус школа, как, впрочем, и школа минус дом равняется нулю…
Итак, чтобы очутиться на школьном дворе, достаточно было выскочить из дома черным ходом и перемахнуть через забор. Он был высоковат, к тому же покрыт колючей проволокой, зато я был ловок и цепок…
Уже в школьные годы я был „отравлен“ театром. Причем театр продолжался и дома – в буквальном смысле. В нашем доме на Троицкой, на одной лестнице с нами, но тремя этажами ниже, жил мальчик, несколько старше меня, который устраивал домашние спектакли. Вход был открыт для всех желающих, и я, конечно, не преминул туда заглянуть в тайной надежде, что и меня пригласят участвовать. Не пригласили. Но спектакль (они там играли «Бориса Годунова», ни больше ни меньше) мне очень понравился… А мальчишку, который все это устраивал с таким размахом, все почему-то звали Ася… Мальчик Ася стал драматургом Алексеем Николаевичем Арбузовым»[24].
Улица Рубинштейна, 23
В этот огромный дом на улице Рубинштейна (до 1929 г. называвшейся Троицкой) в 1922 году въехала большая семья 11-летнего Аркадия Райкина. Черту оседлости, до революции не позволявшую большинству евреев селиться в Петербурге, давно отменили, и предприимчивый отец Аркадия, Исаак, много лет проработавший в сфере лесопромышленности, вслед за родственниками и со своей стороны, и со стороны жены, уже успевшими обосноваться в бывшей столице и нахваливавшими возможности большого города, решил пойти на риск. Не имея пока никаких предложений о работе, он перевез семью с тремя (на тот момент) детьми в Петроград, где, как он верил, человек его энергии и талантов наконец-то сможет развернуться.
Юный провинциал Аркадий был восхищен и поражен, увидев город, в котором ему предстояло прожить более полувека, целых шесть десятилетий. Мгновенно он почувствовал себя дома, а тихая узкая Троицкая улица, на которой ему суждено было провести свое детство, открыла ему волшебный мир переулков и проходных дворов, ведущих и к набережной, и к скверам, и к шумным проспектам. Лабиринтами этой улицы мальчик ходил от Пяти углов до Невского, забегал к дяде-инженеру в Толстовский дом, к учителям, жившим при находившейся по соседству с домом школе, к соседям и одноклассникам, которых вскоре значительно прибавилось, ведь незаметно наступили 1930-е годы – годы уплотнений, когда в просторные квартиры привыкших жить обособленно семей подселяли новых жильцов, образуя густонаселенные коммуналки с вынужденными теперь делить общий быт незнакомцами. Кухни, уборные, прихожие, рассчитанные на одну семью, теперь иногда пропускали по 30 человек, да еще и их гостей – неудивительно, что жизнь на виду у многочисленных соседей сулила самые разнообразные последствия – бесконечные интриги и вековую дружбу, бескорыстную помощь и подлое предательство, а также десятки вариантов перепланировки жилья в попытке урвать хоть метр личного пространства – перегородки, занавески, установка дополнительных печей и санузлов.
Мало кто из соседей Райкиных избежал такой же участи уплотнения. Среди прочих принять новых жильцов была вынуждена и квартира № 34 на третьем этаже этого дома. В 1936 году две комнаты окнами во двор здесь получила молодая актриса Нора Довлатова, игравшая не только в театре, но даже в спектаклях той самой школы (ныне – школа № 206) во дворе дома, которую к этому времени уже закончил Аркадий Райкин и в которую через несколько лет поступит ее будущий сын – Сергей Довлатов.
Он переступит порог этого здания 3-летним малышом, впервые приехав в Петербург в 1944 году из эвакуации, где родился и где несколько лет прожили его отец, театральный режиссер, и мать, все еще актриса (вскоре Нора, всегда трепетно относившаяся к языку и постоянно поправлявшая, как, впрочем, и ее сын, ошибки в речи знакомых, сменит сферу деятельности и станет корректором).
«Жили мы в отвратительной коммуналке. Длинный пасмурный коридор метафизически заканчивался уборной.
Обои возле телефона были испещрены рисунками – удручающая хроника коммунального подсознания.
Мать-одиночка Зоя Свистунова изображала полевые цветы.
Жизнелюбивый инженер Гордой Борисович Овсянников старательно ретушировал дамские ягодицы.
Неумный полковник Тихомиров рисовал военные эмблемы.
Техник Харин – бутылки с рюмками.
Эстрадная певица Журавлева воспроизводила скрипичный ключ, напоминавший ухо.
Я рисовал пистолеты и сабли…
Наша квартира вряд ли была типичной. Населяла ее главным образом интеллигенция. Драк не было. В суп друг другу не плевали. (Хотя ручаться трудно.)
Это не означает, что здесь царили вечный мир и благоденствие. Тайная война не утихала. Кастрюля, полная взаимного раздражения, стояла на медленном огне и тихо булькала…»[25].
Здесь, в многолюдной шумной коммуналке, Сергей Довлатов прожил с матерью почти 30 лет – первые 5 лет с отцом, позже бросившим семью, и родственниками, потом – вдвоем с матерью и с приходящей чудачкой-няней. Ходил в школу во дворе, плохо учился, курил. Как и Райкин за несколько лет до него, исследовал те же лабиринты проходных дворов по улице Рубинштейна, писал стихи, наблюдал за многочисленными соседями своего огромного дома, ставшими потом героями его произведений. В юности Сергея в двух комнатах Норы поселилась сначала его первая жена Ася, затем – вторая, Елена, с дочерью Катей. Покой матери писателя, однажды в отчаянии даже повесившей на свою дверь плакат «Здесь отдыхает полутруп. Соблюдайте тишину!», только снился – гостеприимный сын постоянно звал в гости своих многочисленных творческих друзей.
«…Круг Сережиных друзей стал пополняться генералами от литературы и продолжателями чеховской традиции: „Хорошо после обеда выпить рюмку водки, и сразу же другую“… Как истый кавказец и жрец анклава, Сережа не замедлил внести свою собственную лепту, открыв филиал кулуаров, коридоров и лестничных площадок у себя дома, на улице Рубинштейна, где сразу же получил признание у узкого круга, квадрата и параллелепипеда, ничего, кроме хлеба и зрелищ, от него не требовавшего. Сережа любил кормить гостей с избытком и, по обычаю российского хлебосольства, умел делиться последним куском.
Раздел пищи происходил в Cережиной хореографии и при негласном участии Норы Сергеевны. Ее стараниями на плите коммунальной кухни вырастала порция солянки на сковородке, которая могла бы составить дневной рацион небольшого стрелкового подразделения… Сам Сережа питался результатами собственных трудов, исследуя те отсеки коммунальной кухни, где хранились трофеи, припрятанные хлебосольными соседями. Главным поставщиком по части мяса и котлет была семья полковника Тихомирова. Овощи выдавались добровольно соседкой Зоей Свистуновой. Со сладким столом было туговато, так что одного определенного источника не было, а иногда и вовсе случались перебои, как и в прочих российских домах»[26].
В 1970-х коммунальная жизнь писателя в этом доме закончилась – Нора обменяла две свои комнаты на отдельную квартиру на той же улице. А вскоре закончился и петербургский период жизни матери и ее сына – вместе они эмигрировали в США. Густонаселенный дом, где прошло все детство и молодость, шумные соседи, проходные дворы родной улицы Рубинштейна, посиделки с друзьями, к счастью, остались не только в памяти Сергея, но и на бумаге:
«Стоит ли говорить, что я вас не забыл и постоянно думаю о Ленинграде. Хотите, перечислю вывески от „Баррикады“ до „Титана“? Хотите, выведу проходными дворами от Разъезжей к Марата?
Я знаю, кто мы и откуда. Я знаю – откуда, но туманно представляю себе куда. И вы, я думаю, не представляете…
Зовут меня все так же. Национальность – ленинградец. По отчеству – с Невы»[27].
Литература
Довлатов С.Д. Марш одиноких. Holyoke: New England Pub. Co, 1983.
Довлатов С.Д. Наши. М., 2013.
Зодчие Санкт-Петербурга. СПб., 1998.
Пекуровская А. Когда случилось петь С.Д. и мне. СПб.: Симпозиум, 2001.
Райкин А.И. Без грима. М., 2006.
Райкин Аркадий Исаакович // БСЭ. Т. 21.
Список абонентов ЛГТС. 1956.
Елисеевский магазин (1903 г., архитектор Г.В. Барановский; Невский пр., 56 / Малая Садовая ул., 8)
«Горами поднимаются заморские фрукты; как груда ядер, высится пирамида кокосовых орехов, с голову ребенка каждый; необъятными, пудовыми кистями висят тропические бананы; перламутром отливают разноцветные обитатели морского царства – жители неведомых океанских глубин, а над всем этим блещут электрические звезды на батареях винных бутылок, сверкают и переливаются в глубоких зеркалах, вершины которых теряются в туманной высоте…
В зале гостей встречал стройный блондин – Григорий Григорьевич Елисеев, в безукоризненном фраке, с „Владимиром“ на шее и французским орденом „Почетного легиона“ в петлице»[28].
Так в 1901 году в Москве и в 1903-м в Петербурге открывал свои роскошные магазины самый известный в России купец миллионер, коннозаводчик, владелец нескольких особняков и предприятий Григорий Елисеев.
Невский проспект, 56 / Малая Садовая улица, 8
Энтузиаст своего дела, предприниматель – даже горки продуктов выкладывал сам, обучая приказчиков техникам продаж. Его магазины поражали не только невиданной роскошью и изобилием, но и новаторским подходом в обслуживании. Вежливые, специально обученные продавцы даже небогатому покупателю выбирали яблоки без пятнышек, консультировали о способах заварки кофе, предлагали варианты сервировки блюд.
Да и сами служащие любили свою работу. Помимо отличной зарплаты, у сотрудников была возможность получать премию размером с годовое жалованье, подарки к праздникам, бесплатные продукты от фирмы и даже квартиры в домах Елисеева, приобретенных специально для персонала.
Торговый зал магазина
На освящении этого петербургского магазина на углу Невского и Малой Садовой в 1903 году дружная семья 39-лет-него предпринимателя (брат, пятеро сыновей, дочь и верная жена и помощница во всех делах Мария) пела хором молебен Казанской Богоматери, ее икону доставили в магазин прямо из Казанского собора. Однако через 10 лет, во время празднования 100-летия семейного дела, от дружной семьи присутствовать здесь будет лишь один Григорий с дочерью.
Сыновей, которые никак не хотели приобщаться к торговле и выбрали иные специальности, отец лишил содержания. С братом, который пытался отстоять капитал племянников, Григорий встретился в суде. А жену Марию оставил ради другой женщины – Веры, на 20 лет моложе себя, в которую влюбился с первого взгляда на одном из вечеров Петербургской купеческой управы и которая к тому же была замужем за коллегой Григория – купцом Васильевым.
Скандальный любовный четырехугольник просуществовал недолго. Оскорбленная Мария потребовала мужа разорвать порочащую их семью связь, пригрозив самоубийством, и это были не пустые слова. После неудавшихся попыток броситься в Неву и вскрыть себе вены, Мария все же покончила с собой, повесившись на полотенцах.
Григорий не только не явился на похороны, но всего через три недели уехал в Париж, где обвенчался с Верой, навсегда потеряв отрекшихся от него и от его наследства сыновей. Много позже он узнал от знакомых, что двоих из них расстреляли в 1930-х, как врагов народа, остальные – эмигрировали.
А ныне отреставрированный Елисеевский магазин, который и в советское время продолжал работать под именем «Гастроном № 1 „Центральный“», до сих пор является одним из самых роскошных в Петербурге.
Литература
Гиляровский В.А. Москва и москвичи: воспоминания. М., 1926.
Деятели России: 1906 г. / ред. – изд. А.М. Шампаньер. СПб., 1906.
Кириков [и др.]. Невский проспект, 2004.
Краско А.В. Елисеевы // БРЭ. Т. 9. М., 2007.
Краско А.В. Петербургское купечество: страницы семейных историй. М.; СПб., 2010.
Российское зарубежье во Франции 1919–2000: биографический словарь: в 3 т. Т. 1. М., 2008.
Столбова Н.П. Охта. Старейшая окраина Санкт-Петербурга. М.; СПб., 2008.
Дом-коммуна инженеров и писателей (1931 г., архитектор А.А. Оль; ул. Рубинштейна, 7)
«Я глядела на наш дом; это был самый нелепый дом в Ленинграде. Его официальное название было „Дом-коммуна инженеров и писателей“. А потом появилось шуточное, но довольно популярное тогда в Ленинграде прозвище – „Слеза социализма“. Нас же, его инициаторов и жильцов, повсеместно величали „слезинцами“. Мы, группа молодых (очень молодых!) инженеров и писателей, на паях выстроили его в самом начале тридцатых годов в порядке категорической борьбы со „старым бытом“ (кухня и пеленки!), поэтому ни в одной квартире не было не только кухонь, но даже уголка для стряпни. Не было даже передних с вешалками – вешалка тоже была общая, внизу, и там же, в первом этаже, была общая детская комната и общая комната отдыха, еще на предварительных собраниях отдыхать мы решили только коллективно без всякого индивидуализма. Мы вселялись в наш дом с энтузиазмом, восторженно сдавали в общую кухню продовольственные карточки и „отжившую“ кухонную индивидуальную посуду – хватит, от стряпни раскрепостились, – создали сразу огромное количество комиссий и „троек“, и даже архинепривлекательный внешний вид дома „под Корбюзье“ с массой высоких крохотных железных клеток-балкончиков не смущал нас: крайняя убогость его архитектуры казалась нам какой-то особой „строгостью“, соответствующей новому быту… И вот через некоторое время, не более чем года через два, когда отменили карточки, когда мы повзрослели, мы обнаружили, что изрядно поторопились и обобществили свой быт настолько, что не оставили себе никаких плацдармов даже для тактического отступления… кроме подоконников; на них-то первые „отступники“ и начали стряпать то, что им нравилось, – общая столовая была уже не в силах удовлетворить разнообразные вкусы обитателей дома. С пеленками же, которых в доме становилось почему-то все больше, был просто ужас: сушить их было негде! Мы имели дивный солярий, но чердак был для сушки пеленок совершенно непригоден. Звукопроницаемость же в доме была такая идеальная, что если внизу, в третьем этаже, у писателя Миши Чумандрина играли в блошки или читали стихи, у меня на пятом уже было все слышно, вплоть до плохих рифм! Это слишком тесное вынужденное общение друг с другом, при невероятно маленьких комнатах-конурках, очень раздражало и утомляло. „Фаланстера на Рубинштейна семь не состоялась“, – пошутил кто-то из нас, и – что скрывать? – мы часто сердились и на „Слезу“, и на свою поспешность.
Улица Рубинштейна, 7
И вот мы ходили с дворничихой тетей Машей от подъезда до калиточки и, напряженно вслушиваясь в неестественную тишину ночи, глядели на наш дом, тихий-тихий, без единого огня, в серебряном лунном свете видный со всеми своими клетками-балкончиками на плоских серых стенах…
– Хороший дом, – вдруг нежно, как о ребенке, сказала тетя Маша и, вздохнув, тем же тоном добавила: – Ничего… отобьемся.
„Хороший дом, правда“, – подумала я, и вдруг неистовая, горячая волна любви к этому дому, именно такому, как он есть, взмыла во мне и начисто смела остатки страха и напряжения.
Хороший дом, нет – отличный дом, нет, самое главное – любимый дом!».[29]
Перед этим домом блокадной сентябрьской ночью 1941 года стояла вместе с тихой старушкой-дворничихой Машей 31-летняя поэтесса Ольга Берггольц, самая известная жительница «Слезы социализма». В убийственной тишине осажденного города, обреченного на голод и обстрелы, девушка, ставшая голосом блокадного Ленинграда, вспоминала беззаботную молодость, проведенную здесь.
22-летняя Ольга, недавно окончившая филологический факультет ЛГУ и работавшая в тот момент редактором в газете завода «Электросила», переехала в квартиру № 30 в 1932 году совместно с мужем, 23-летним журналистом Николаем Молчановым и 4-летней дочерью от первого брака Ириной. Первые годы жизни в этих стенах в профессиональном плане были для независимой Ольги, окунувшейся в новый быт по заветам Коммунистической партии, успешными – поэтесса выпустила несколько книг стихотворений и рассказов, ее приняли в Союз писателей, и, наконец, к Ольге пришла известность «взрослого» автора (до этого Берггольц работала в детских издательствах).
Однако вскоре, вместе с разочарованием в давившем своей коммунальностью и дискомфортом доме, Ольга встретила долгие годы ожидавших ее впереди сменяющих одна другую трагедий.
Сначала, в 1933 году, умирает ее годовалая дочь Майя, которую литераторы растили именно здесь, меняя пеленки на подоконниках, в не приспособленной для молодой семьи «конуре». Через три года ангина, давшая осложнения на больное сердце, уносит 7-летнюю Ирину. Одновременно с этим по ложному обвинению в антисоветской деятельности арестовывают ее первого мужа, поэта Бориса Корнилова, а затем и ее – сначала призывают свидетельницей по делу Авербаха, включенного в печально известный расстрельный сталинский список высокопоставленных сотрудников НКВД, а затем арестовывают по делу «Литературной группы» на основании выбитых у ее бывших коллег показаний, назвавших под пытками ее имя среди членов никогда не существовавшей террористической организации. В допросах и побоях этих месяцев беременная Ольга потеряла сначала одного ребенка, а затем родила мертвым второго. Бориса Корнилова тем временем расстреляли.
Вернувшись в этот дом из тюрьмы в 1939 году реабилитированная поэтесса, сказав: «Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули обратно и говорят: живи!»[30], вступила в Коммунистическую партию и попыталась снова начать «жить». Не тут-то было – за частными трагедиями Берггольц последовала общая, глобальная – Великая Отечественная война.
Потеряв умершего во время блокады мужа Николая, работавшего в Публичной библиотеке и раненного при бомбардировке города во время дежурства на крыше, и отца, высланного из города за отказ стать осведомителем, Ольга, ставшая голосом осажденного города, поддерживавшая своими стихами несломленный дух ее страдавших от голода соотечественников, голосом, доносившимся из рупоров во время бомбежек, покинула этот любимый дом несмотря на все горе, что она здесь пережила.
Литература
Авербах, Леопольд Леонидович // Российская историческая энциклопедия: в 18 т. / ред. А. Чубарьян. Т. 1. М., 2015.
Башурова О.А. Молчанов Николай Степанович // Сотрудники РНБ – деятели науки и культуры: биографический словарь. Т. 3: Гос. публ. б-ка в Ленинграде – Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. 1931–1945. СПб.: [Изд-во РНБ], 2003.
Берггольц О. Борис Корнилов. 1907–1938. Продолжение жизни // Русские поэты: антология. Т. 4. М., 1968.
Берггольц О. Ленинградская поэма: поэмы, стихотворения. Л., 1976.
Берггольц О. Собр. соч. Т. 3. М., 1973.
Берггольц О.Ф. Мой дневник. Т. 1: 1923–1929. М., 2016; Т. 2: 1930–1941. М., 2017.
Быкова Г.Д. Андрей Оль. Л., 1976.
Соколовская Н. Ольга. Запретный дневник. СПб., 2010.
Особняк Набоковых (1902 г. архитекторы М.Ф. Гейслер, Б.Ф. Гуслистый; Большая Морская ул., 47)
«У будуара матери был навесный выступ, так называемый фонарь, откуда была видна Морская до самой Мариинской площади. Прижимая губы к тонкой узорчатой занавеске, я постепенно лакомился сквозь тюль холодом стекла. Всего через одно десятилетие, в начальные дни революции, я из этого фонаря наблюдал уличную перестрелку и впервые видел убитого человека: его несли, и свешивалась нога, и с этой ноги норовил кто-то из живых стащить сапог, а его грубо отгоняли; но сейчас нечего было наблюдать, кроме приглушенной улицы, лилово-темной, несмотря на линию ярких лун, висящих над нею; вокруг ближней из них снежинки проплывали, едва вращаясь каким-то изящным, почти нарочито замедленным движением, показывая, как это делается и как это все просто. Из другого фонарного окна я заглядывался на более обильное падение освещенного снега, и тогда мой стеклянный выступ начинал подыматься, как воздушный шар. Экипажи проезжали редко…»[33].
Большая Морская улица, 47
Когда проходишь по Большой Морской улице мимо трехэтажного особняка, облицованного серым и розовым песчаником с мозаичным фризом из переплетенных тюльпанов и лилий, в глаза бросается тот самый «фонарь» в материнском будуаре – эркер на втором этаже особняка. Именно к этому окну, на котором и сейчас оригинальная медная фурнитура, прижимался маленький Володя Набоков, приходя по утрам поздороваться со своей матерью Еленой Ивановной в ее роскошный будуар, в интерьере которого до сих пор сохранилось основное убранство, в том числе и вензели в виде переплетенных букв «Е Н».
Елена Ивановна была здесь полноправной хозяйкой – этот особняк подарил ей к свадьбе отец, золотопромышленник Иван Рукавишников. Молодая домовладелица лично следила за ходом работ, давая указания гражданским инженерам Гейслеру и Гуслистому по выбору декора и материалов – так, например, Елена настояла на серо-розовом цветовом решении фасада, отвергнув предложение архитектора облицевать верхние этажи палево-желтым кирпичом с терракотовыми украшениями, что сделало бы дом более пышным и красочным. Выбор растительных орнаментов в декоре продиктован царившей в то время модой на стиль модерн – помпезные сандрики и колонны было решено заменить бирюзовым полем с золотой каймой, внутри которого мозаикой выложены яркие цветы. В средней части фасада в углублениях можно найти девять камнетесных цветков шиповника, а карниз «поддерживают» пальмовые ветви. Даже водосточные трубы украсили витыми ветками каштана, а на воротах красовались одуванчики.
Молодожены, 28-летний сын министра юстиции, юрист Владимир Дмитриевич Набоков, которого отличали «ясный ум, верное, благородное сердце и большая русская душа, управляемая твердой волею и привычками воспитания»[34] и 21-летняя Елена, переехали в этот особняк сразу же после покупки, еще на этапе ремонта и перестройки. Пока велись работы над дворовыми флигелями – конюшней, прачечной, ледником, на свет появились один за другим с разницей в год два сына – Владимир и Сергей, а по завершении всех работ над главным фасадом и интерьерами – дочь Ольга. Семья прожила в особняке 20 лет, обзаведясь за это время еще двумя детьми – Еленой и Кириллом, крестным отцом для которого стал старший брат, 13-летний Владимир.
Окна по соседству с «фонарем» – окна прилегающей к будуару затянутой шелком и отделанной резным красным деревом спальни матери семейства. Именно там 10 апреля 1899 года и родился первый ее ребенок, будущий писатель, четыре раза номинированный на Нобелевскую премию, Владимир Набоков.
«Я там родился – в последней (если считать по направлению к площади, против нумерного течения) комнате, на втором этаже – там, где был тайничок с материнскими драгоценностями: швейцар Устин лично повел к нему восставший народ через все комнаты в ноябре 1917 года»[35].
Владимир прожил в этом доме первые 18 лет своей жизни, до самой революции, болтая на трех языках, обсуждая с матерью общий для них мир синестезии (восприятия вещей разными органами чувств одновременно – так, Елена видела звуки, а Владимир ощущал цвета букв), меняя английских учителей и гувернанток, играя в шахматы с отцом, выезжая летом в любимое загородное имение Рождествено, где когда-то состоялось счастливое знакомство родителей.
Бессменный швейцар Устин, который еще в детстве ловил Володе бабочек, оказался предателем и долгое время передавал тайной полиции сведения об отце семейства Владимире Дмитриевиче, лидере партии кадетов, и заседаниях, проходивших в этом доме.
К моменту Февральского переворота 1917 года Владимир-старший находился в гуще политических событий и несколько месяцев занимал должность управляющего делами Временного правительства. За бурными днями, когда открылось «уродливо-свирепое лицо анархии»[36], политик наблюдал из этих окон – из любимого «фонаря» своего сына.
«К вечеру Морская – насколько можно было видеть из окон, в особенности из боковых окон тамбура, выходящего на улицу и дающего возможность обозревать ее до „Астории“, с одной стороны, и до Конногвардейского переулка, с другой, совершенно вымерла. Начали проноситься броневики, послышались выстрелы из винтовок и пулеметов, пробегали, прижимаясь к стенам, отдельные солдаты и матросы. Временами отдельные выстрелы переходили в оживленную перестрелку… Телефон продолжал работать, и сведения о происходившем в течение дня передавались мне, помнится, моими друзьями. В обычное время мы легли спать. С утра 28 февраля возобновилась сильнейшая пальба на площади, а также в той части Морской, которая идет от лютеранской кирки к Поцелуеву мосту. Выходить было опасно – отчасти из-за стрельбы, отчасти потому, что с офицеров начали срывать погоны и уже ходили слухи о насилиях над ними со стороны солдат. Часов в 11 утра (может быть, даже раньше) под окнами нашего дома прошла большая толпа солдат и матросов, направляясь к Невскому. Шли беспорядочно и нестройно, офицеров не было. В эту толпу, по-видимому, стреляли… Как бы то ни было, под влиянием ли выстрелов (если они были), или по каким-либо другим побуждениям, эта толпа начала громить „Асторию“. Оттуда начали к нам являться „беженцы“: сестра моя с мужем – адмиралом Коломейцовым, потом семья целая, с маленькими детьми, приведенная знакомыми английскими офицерами, потом еще другая семья наших отдаленных родственников Набоковых. Все это кое-как разместилось у нас в доме»[37].
После революции швейцар Устин не преминул поживиться за счет бывших хозяев, зная о местоположении всех тайников в особняке. Но многие драгоценности Елены Ивановны удалось спасти, что позволило Владимиру отправиться учиться в Кембридж, а его родителям устроиться в Берлине. И никогда больше не возвращаться на родину.
Уже понимая это, 22-летний Владимир писал из Англии:
Литература
Булах А.Г., Абакумова Н.Б. Каменное убранство центра Ленинграда. Л., 1987.
Гейслер М.Ф. Перестройка дома № 47 по Морской улице // Набоковский вестник. Т. 3. Дорн, 1999.
Куприн А.И. Голос оттуда. М.: Согласие, 1999.
Ледковская М. Забытый поэт. Кирилл Владимирович Набоков // Новый журнал. 1997. № 209.
Набоков В.В. Другие берега // Собр. соч.: в 4 т. Т. 4. М.: Правда, 1990.
Набоков В.В. Память, говори / реконструкция С. Ильина // Собр. соч. Американский период: в 5 т. [Т. 5]. СПб.: Симпозиум, 1999.
Набоков В.В. Стихи. СПб.: Азбука-Аттикус, 2015.
Набоков В.Д. Временное правительство и большевистский переворот. London: Overseas Publications Interchange, 1988.
Набоков Владимир Дмитриевич // ЭСБЕ. Т. 39. СПб., 1897.
Дом Лисицына (1839 г., архитекторы Д. Лукини, А.П. Гемилиан; ул. Рылеева, 1 / ул. Короленко, 9)
«В продолжение недели мне нечего и думать о письме или о каком-нибудь постороннем занятии; вот мой будничный день: утром, как встал, идешь в клинику, читаешь около двух часов лекцию, затем докончишь визитацию, приходят амбулаторные больные, которые не дадут даже выкурить покойно сигары после лекции. Только что справишь больных, сядешь за работу в лаборатории, – и вот уже третий час, остается какой-нибудь час с небольшим до обеда и этот час обыкновенно отдаешь городской практике, если таковая оказывается, что очень редко, особенно теперь, хотя слава моя гремит по городу. В пятом часу возвращаешься домой порядком усталый, садишься за обед со своей семьей. Устал обыкновенно так, что едва ешь и думаешь с самого супа о том, как лечь спать; после целого часа отдыха начинаешь себя чувствовать человеком; по вечерам теперь в госпиталь не хожу, а, вставши с дивана, сажусь на полчасика за виолончель и затем сажусь за приготовку к лекции другого дня; работа прерывается небольшим антрактом на чай. До часа обыкновенно работаешь и, поужинавши, с наслаждением заваливаешься спать…»[39]. Так в письме к своему брату Михаилу 10 декабря 1861 года описывал свой обычный день 29-летний Сергей Петрович Боткин – выдающийся врач, который уже стал профессором Медико-хирургической академии (ныне – Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова). Домой из академии Сергей Боткин приходил сюда, на улицу Рылеева, где в здании, принадлежавшем тогда дочери коллежского асессора Александра Лисицына, он прожил четыре своих первых петербургских года.
Улица Рылеева, 1 / улица Короленко, 9
В эти двери входили и знаменитые его пациенты. 26-летний композитор Милий Балакирев лечился у Боткина, который тоже был не чужд музыке и любительски играл на виолончели для «восстановления своей мозговой энергии, утомленной работою целого дня»[40], от головных болей. Именно здесь осенью 1862 года на одном из субботних вечеров прославленный медик, собиравший в этих стенах ученый, литературный и творческий цвет Петербурга, познакомил его со своим коллегой – химиком и доктором медицины Александром Бородиным, который вошел в кружок Милия, позже получивший известность под именем «Могучей кучки», в качестве музыканта.
В годы жизни Боткина в этом доме лечился у него и Федор Достоевский, страдавший от эмфиземы легких. В этот дом знаменитый писатель пошлет к доктору и нескольких своих героев. Порфирий Петрович, расследующий дело об убийстве старухи-процентщицы в «Преступлении и наказании», придет сюда с симптомами самого автора: «Я, знаете, труслив-с, поехал намедни к Б-ну, – каждого больного minimum по получасу осматривает; так даже рассмеялся, на меня глядя: и стукал, и слушал, – вам, говорит, между прочим, табак не годится; легкие расширены»[41]. Тем же недомоганием страдает и Ипполит в «Идиоте»: «Тут он вдруг ужасно закашлялся и целую минуту не мог унять кашель…
– …чрез две недели я, как мне известно, умру… Мне на прошлой неделе сам Б-н объявил…»[42]. А герой фантастического рассказа «Бобок» отмечает дороговизну услуг знаменитого доктора:
«– А я, знаете, все собирался к Боткину… и вдруг…
– Ну, Боткин кусается, – заметил генерал.
– Ах, нет, он совсем не кусается; я слышал, он такой внимательный и все предскажет вперед.
– Его превосходительство заметил насчет цены, – поправил чиновник»[43].
Художники Крамской, Репин, Шишкин, писатели Некрасов, Салтыков-Щедрин, Тютчев, Герцен были среди пациентов выдающегося врача, слава о мастерстве и чудодейственных лекарствах которого распространилась по всей России и дошла, наконец, до императора Александра II. В возрасте 38 лет Сергей Боткин назначается лейб-медиком царской семьи и становится первым доктором русского происхождения, лечившим лично императора.
Из пяти сыновей Боткина двое пошли по его стопам. Сын Евгений стал, как и отец, лейб-медиком царской семьи при Николае II и расстрелян вместе с нею в 1918 году. Из слуг и сопровождающих, погибших вместе с семьей последнего императора, он единственный был канонизирован.
Литература
А.П. Бородин в воспоминаниях современников / сост., текстолог., ред., вступит. ст. и коммент. А. Зориной. М., 1985.
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Белоголовый Н.А. С.П. Боткин, его жизнь и врачебная деятельность. СПб., 1892.
Боткин, Сергей Петрович // ЭСБЕ. Т. 8. СПб., 1891.
Достоевский: дополнения к комментарию / под ред. Т.А. Касаткиной. М.: Наука, 2005.
Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 6, 8. Л., 1973; Т. 21. Л., 1980.
Дубин А.С. Улица Рылеева. М.; СПб., 2008.
Кульбин Н. Боткин Сергей Петрович // ББЭ. 2009.
О. Т. Е. Евгений Сергеевич Боткин // Православная энциклопедия. Т. 6. М., 2003.
Доходный дом Перетца (1908 г., архитектор А.И. Зазерский; Московский пр., 1 / пер. Бринько, 2)
«Помнится, насколько патриархален был уклад всей нашей жизни до восемнадцатого года. Ежедневно, кроме воскресений, у бабушки Тани (маминой матери Татьяны Ивановны) собирались к 4–5 часам вечера на чаепитие все ее дочери и сыновья (их было семеро…), часто с мужьями и женами. Лишь после этого они получали право возвращаться домой, где в 7–8 часов вечера их ждал домашний обед. После обеда можно было заняться чтением, игрой на рояли, хождением в гости или в театр на свой абонемент, из года в год возобновляемый. А по воскресеньям дети обедали одни без родителей, которые были обязаны обедать у главы всей семьи – у бабушки Тани»[44].
Именно в этом доме, на третьем этаже, в квартире с балконом, выходящим на Сенную площадь, и происходили встречи многочисленной родни Акимовых-Перетц, на которые каждое воскресенье провожал своих родителей внук Татьяны Ивановны, Глеб Булах.
Московский проспект, 1 / переулок Бринько, 2
Муж бабушки Тани, Яков, был «основателем» их фамилии. Успех и благополучие Якову принес неожиданный судьбоносный поворот, произошедший с ним в детстве. Отец мальчика, неграмотный крестьянин, занимавшийся грузовым извозом, пристроил 12-летнего Якова помощником в винный магазин богатого купца Перетца. Со временем Яков, обнаруживший, помимо ума и смекалки, талант дегустатора, стал настолько незаменим, что на смертном одре бездетный купец завещал ему свое дело при условии сохранения его фамилии. Тогда Яков стал Перетцом (и в придачу богачом). Много позже, через 30 лет, казначейская палата разрешит ему иметь двойную фамилию, прибавив родную – Акимов.
Став купцом 2-й гильдии, торговавшим вином и фруктами, Яков выкупил из крепостных свою невесту Татьяну, женился и, помимо капитала и репутации, обзавелся 9 детьми, разделившими право владения этим домом на углу Московского (тогда – Забалканского) проспекта (сам Яков к моменту постройки дома уже умер).
Но не у всех в огромной разросшейся семье судьба оказалась такой счастливой, да и время было уже другое. Революция лишила купеческую династию не только собственности, этого дома и капитала, но и жизней нескольких ее членов, участников обедов, проходивших в этом доме в благополучные времена. В это время «ни о каких обязательных чаепитиях… у бабушки уже давно не могло быть и речи»[45].
В 1921 году внук «бабушки Тани» 24-летний художник Владимир вместе со своей беременной женой, студенткой Консерватории, будут расстреляны как члены террористической организации по знаменитому делу Таганцева (в тот же день и по тому же делу расстрелян поэт Николай Гумилев). Дядю Владимира в том же году арестовали по ложному доносу и вскоре выпустили, а отца его, Константина, с матерью и маленьким братом агенты ЧК продержали месяц в «засаде» в квартире, где вместе с ними проживал Володя, в надежде, что в квартиру явятся какие-либо сообщники-террористы. Константин, страдавший воспалением почечных лоханок и лишенный медицинской помощи, самостоятельно делал себе промывания (он был врачом), но от последствий вынужденного самолечения скончался.
Татьяна Акимова-Перетц – первая женщина-обладательница этой двойной фамилии, глава семьи, заставшая и дореволюционный ее расцвет, и послереволюционный упадок, скончалась за несколько месяцев до гибели внука и сына.
Литература
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Булах А.Г. Мир искусства в доме на Потемкинской. М.; СПб., 2011.
Булах Г. Молодость, ты прекрасна. Записки инженера. СПб., 2008.
Справочная книга С.-Петербургской купеческой управы 1902–1903 гг.
Дом графини Софьи Паниной (1900 г., архитектор Ю.Ю. Бенуа; ул. Чайковского, 23)
«И дома, в Воронеже, и в Москве все отсоветовали ехать в Петроград, так как большевики, наверное, меня арестуют. Мне самому казалось, что это должно случиться, но я и в ЦК и всем остальным говорил: „Я должен ехать. Бывают моменты, когда личная безопасность политического деятеля должна отступить перед его общественным долгом. На 28-е [ноября 1917 г.] назначено открытие Учредительного собрания. Я и другие, избранные в члены собрания, должны быть в назначенное время на месте“. – Поехал и, хотя приходится писать теперь сидя в каземате неизвестно за что, все же не раскаиваюсь…
Арест случился… при неожиданных обстоятельствах. Вечером у С.В.П. [графиня С.В. Панина] было заседание ЦК, где мне за отсутствием всех других пришлось председательствовать…
Обсуждали, кто, где и когда прочтет в Учредительном собрании заявление Временного правительства…
Уходить домой было поздно, все равно завтра надо было идти к Таврическому, да и казалось, что у Паниной безопаснее. На дом могут опять прийти [для обыска или ареста].
Улица Чайковского, 23
Оказалось как раз наоборот. С дороги я устал, плохо спал уже несколько ночей, а потому с радостью воспользовался любезностью… переночевать у С.В. [Паниной]. Заснул как убитый и в 7 1/2 ч был разбужен… „Вставайте, пришли с обыском“»[46].
Именно этот неподходящий дом графини Паниной выбрал для ночевки министр Временного правительства Андрей Шингарев, который был здесь арестован в день предполагавшегося открытия Учредительного собрания и заключен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости.
49-летний политик уже 10 лет постоянно переизбирался членом Центрального комитета кадетской партии и имел большой вес, став в 1917 году лидером кадетской фракции Петроградской городской думы. Опасаться преследования у него были все основания – прекрасный оратор, не стеснявшийся резких высказываний и вызывавший доверие у слушателей, особенно у народной массы (Шингарев был по профессии врачом, много жил и работал в провинции и изучал «вымирающую деревню» не понаслышке), ожесточенно критиковал большевиков, объехав несколько городов с публичными выступлениями.
«Скромный, смятый, серый пиджачок, усталое, серое лицо, на котором приковывают внимание громадные серые печальные глаза, иногда зажигающиеся огнем негодования, но больше излучающие как бы удивленную скорбь, глубокий ласковый голос, проникающий прямо в душу, простая убежденная красивая речь… Образ чисто русский, русского народника, русского интеллигента, прожившего трудовую жизнь в самой народной толще, знающего близко, как нечто действительно родное, заботы русского села и запах сельской избы»[47].
Столичный Петроград, однако, к осени 1917 стал для кадетов небезопасен. Не сумев во время Февральской революции организовать конституционную монархию во главе с великим князем Михаилом Александровичем, в пользу которого отрекся от престола Николай II, а затем демократическую и парламентарную республику, к моменту Октябрьской революции партия потеряла былую силу. Во время штурма Зимнего дворца большевиками в ночь с 25 на 26 октября 1917 года министры-кадеты, находившиеся там, были арестованы вместе с другими членами Временного правительства. Другие члены партии, в том числе Шингарев, имевший в Петрограде квартиру (пятеро его детей после недавней смерти от инфаркта жены, пережившей разграбление крестьянами их семейного хутора Грачевка, жили у сестры Андрея), подвергались обыскам. Через месяц, 28 ноября 1917 года, Совет Народных Комиссаров РСФСР издал декрет, объявлявший партию кадетов «партией врагов народа» и предусматривавший арест ее лидеров.
В этот же день и состоялось злополучное собрание в доме Софьи Паниной. Присутствовали в тот вечер немногие – не было лидера партии Павла Милюкова (он уже переехал в Крым), не было бывшего управляющего делами Временного правительства Владимира Набокова – отца знаменитого писателя (его арестовали и хотя к моменту обыска у Паниной уже освободили, он узнал об аресте коллег уже по факту, придя, как было запланировано, в Таврический дворец). Князь Владимир Оболенский на собрании был, но к моменту облавы, происходившей рано утром, уже уехал. В доме остались лишь сама графиня, Андрей Шингарев и депутат Учредительного собрания от города Москвы Федор Кокошкин с женой. Их четверых и забрали на допрос в Смольный по ордеру Военно-революционного комитета, оставив в доме «засаду» для поимки каких-либо других посетителей неблагонадежной графини (двух политиков, зашедших тем утром к Паниной по пути на манифестацию в Таврическом действительно арестовали).
Кстати, несмотря на принадлежность к вражеской для большевиков партии, Шингарев и другие просто попались «под горячую руку» – в дом Софьи Паниной красногвардейцы изначально шли только за хозяйкой.
46-летняя аристократка, владевшая несколькими домами, поместьями и особняками (ее крымский дворец какое-то время арендовал сам Лев Толстой), с юности была известна в Петербурге как либералка и «красная графиня», открыто не одобрявшая самодержавный строй. К 1910 годам к благотворительной деятельности Софьи (строительство народного дома, бесплатно предоставлявшего образование и культурный досуг населению, открытие столовых для детей, материальная поддержка союза помощи больным и раненым, работа в обществе защиты женщин и ряде других организаций) прибавилась деятельность политическая. Ко времени ареста в этом доме она была депутатом Петроградской городской думы, товарищем министра народного просвещения Временного правительства и одним из виднейших членов ЦК кадетской партии, заседания которой нередко проходили именно в этих стенах.
Через три недели после ареста графиню Панину, согласившуюся передать большевикам хранившиеся у нее денежные средства Министерства народного просвещения, выпустят из тюрьмы. Андрея Шингарева же, на беду согласившегося переночевать в этом доме на улице Сергиевской (сейчас – Чайковского), ждет другая участь.
Просидев больше месяца в холодной камере № 70 Трубецкого бастиона Петропавловской крепости, Шингарев переписывался с детьми и Софьей Паниной, вел дневник, читал газеты, общался с приходившими на свидания соратниками и обсуждал слухи о возможном скором освобождении. 6 января его по состоянию здоровья перевели в Мариинскую тюремную больницу. Ничего не подозревающий политик, встретившись вечером с сестрой и доктором, почитав «Трех мушкетеров» и отправившись спать в наконец-то теплую и удобную по сравнению с тюремными железными койками постель, был той же ночью убит караульными матросами, учинившими в больнице самосуд.
Литература
Как это было. Дневник А.И. Шингарева. М., 1918.
Новикова Л.Г. Комитет спасения Родины и революции // БРЭ. Т. 14. М., 2009.
Куторга И. Ораторы и массы / публикация д-ра истор. наук В. Булдакова, 2014 // .
Милюков П.Н. История второй русской революции. Минск, 2002.
Милюков Павел Николаевич // БСЭ. Т. 16.
Мыслящие миры российского либерализма: графиня Софья Владимировна Панина (1871–1956) / сост. М.Ю. Сорокина. М., 2012.
Набоков В.Д. Временное правительство и большевистский переворот. London: Overseas Publications Interchange, 1988.
Оболенский В.А. Моя жизнь. Мои современники. Париж, 1988.
Программы главнейших русских партий: 1. Народных социалистов. 2. Социал-демократической рабочей партии. 3. Социалистов-революционеров. 4. Партии народной свободы. 5. Партии октябристов (Союз 17 октября 1905 г.). 6. Крестьянский союз. 7. Национальной демократическо-республиканской партии. 8. Политические партии различных национальностей России («Украинцев», «Бунда» и др.) с приложением статей: a) О русских партиях, б) Большевики и меньшевики. [М.]: [б. и.], [1917]. (Б-ка свободного народа / под ред. А. Стеблева и Ив. Сахарова).
Шелохаев В.В. Судьба русского парламентария (Ф.Ф. Кокошкин) // Отечественная история. 1999. № 5.
Шингарев А.И. Вымирающая деревня: опыт санитарно-экономического исследования двух селений Воронежского уезда. Саратов, 1901.
Дом Безобразовых (1882 г., Архитектор Н.А. Яфа; наб. реки Фонтанки, 24)
«На прощанье Яков Петрович радушно пригласил меня к себе и сказал адрес:
– Тут же, на Фонтанке, только подальше, туда, к Цепному мосту, дом Безобразова. А по пятницам у меня собираются. Вероятно, встретите и знакомых, а одного наверное. Это Федор Михайлович Достоевский. Впрочем, он бывает редко…
Прошло несколько дней, и я отправился к Якову Петровичу. Квартира его помещалась во дворе довольно большого каменного дома Безобразова на Фонтанке, не вспомню теперь, в котором этаже: во втором или третьем, но это, право, не важно. Меня провели в кабинет поэта, небольшую комнату с дешевыми обоями на стенах и обставленную довольно скудно старой мебелью. У небольшого письменного стола в креслах сидел Яков Петрович. На столе, заваленном книгами и бумагами, не было порядка, все как-то громоздилось одно на другое. Простой письменный прибор, стаканчик с перьями и карандашами, и другой, с торчащими в нем любимыми сигарами Я.П., – вот и все, что здесь было. Яков Петрович приподнялся мне навстречу и радушно меня приветствовал. В незатворенную дверь кабинета долетали откуда-то детские голоса»[48].
Набережная реки Фонтанки, 24
Здесь, в доме у Цепного моста (ныне – Пантелеймоновский мост), в конце XIX века в течение четырех лет жил поэт Яков Полонский, при первом же знакомстве пригласивший к себе 22-летнего журналиста и начинающего писателя Евгения Опочинина. Открытый новым знакомствам и доброжелательный 60-летний литератор разговорился с молодым человеком, работавшим в то время в Шереметевском дворце на разборе старого архива, когда тот отвлек его от занятия живописью в дворцовом саду, приняв за художника. Сконфуженный юноша тут же узнал известного поэта, но никак не мог ожидать, что признанный литературный гигант проявит интерес к нарушившему его уединение хранителю библиотеки и тут же пригласит Евгения в свой знаменитый дом, где каждую пятницу собирались выдающиеся люди своего времени, кумиры молодого человека – Достоевский, Тургенев, Лесков, Рубинштейн, Гончаров, Айвазовский и другие.
Яков Петрович жил в этом доме со своей красавицей-женой Жозефиной, на 25 лет младше его, и тремя детьми, младшему из которых было в это время всего 5 лет.
Опочинин посещал здесь Полонского несколько раз, так и не побывав на знаменитых пятницах (эти собрания ждут молодого литератора позже – когда Полонский переедет в другую квартиру). В этих же стенах Евгений увидит повседневный быт добросердечного и гостеприимного поэта, к которому и помимо «пятниц» можно было зайти по пути на скучную работу, чтобы обсудить только что вышедших «Братьев Карамазовых» Достоевского, случайно встретить расположившегося в огромном кресле в кабинете своего друга надменного Тургенева, вяло протягивающего пухлую ручку для приветствия, подивиться новым рисункам и акварелям пожилого хозяина дома, находившего вдохновение в местах своего жительства – здесь, на Фонтанке.
Яков Полонский съехал с полюбившейся квартиры в этом доме в 1883 году, но творческая атмосфера в этих стенах не исчезла. Литературный дух сменился музыкальным – в конце 1880-х здесь в течение пяти лет подолгу жил и работал останавливавшийся на квартире брата Модеста Петр Ильич Чайковский.
Одним из самых значительных событий, к которым готовился здесь уже великий к тому времени 48-летний композитор, был концерт, посвященный 50-летию деятельности его учителя – Антона Рубинштейна. Несколько месяцев Чайковский возвращался в этот дом, вымотанный бесконечными репетициями сложнейшего материала, заседаниями комитета, организующего юбилей мэтра, дирижированием громадным хором из 700 человек. Каждый вечер Модест Ильич встречал брата, который «возвращался домой совершенно больной и мог прийти в себя, только пролежав несколько часов в полной тьме и тишине без сна»[49]. Когда же юбилейный концерт наконец завершился грандиозными овациями, юбиляр Рубинштейн, казалось, не оценил по достоинству старания своего ученика, пережившего перед выходом на сцену нервный припадок: «Скажу только, что с 1 ноября по 19-е был я настоящим мучеником и теперь удивляюсь, что мог все это перенести»[50].
Через несколько месяцев Петр Ильич снова вернется в этот дом на Фонтанке. На этот раз – писать музыку к опере «Пиковая дама», либретто к которой сочинил Модест. Братья часами будут обсуждать детали и спорить, каким сделать финал – Петр настаивал на смерти Германа (с одной «н», в отличие от пушкинского текста) и Лизы, Модест – на благополучном исходе. История, к которой композитор долго не хотел подступаться, так захватила его, что он решил покинуть Петербург, отвлекающий его от работы и писать музыку в Италии. От этого парадного подъезда взволнованного и вдохновленного Чайковского провожали в путешествие друзья и брат, который останется в доме на Фонтанке дописывать либретто, регулярно вызывая сюда посыльного для отправки текстов Петру. Старший брат выиграл спор о настроении финала – в конце оперы Герман умирает, глубоко растрогав и самого композитора, привязавшегося к герою: «Пиковую даму я писал именно с любовью. Боже, как я вчера плакал, когда отпевали моего бедного Германа!»[51].
(Показывается призрак графини. Все отступают от Германа.)
Литература
Айзенштадт В., Айзенштадт М. По Фонтанке. Страницы истории петербургской культуры. М.; СПб., 2007.
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Конисская Л.М. Чайковский в Петербурге. Л., 1974.
Опочинин Е.Н. Яков Петрович Полонский и его пятницы / публ. М. Одесской // Вопросы литературы. 1992. № 3.
Пиковая дама: опера в 3 д. и 7 карт. (на сюжет А.С. Пушкина) / Муз. П. Чайковского; текст М. Чайковского. М., 1890.
Соловьев Вл. Полонский Яков Петрович // ЭСБЕ. Т. 47. СПб., 1898.
Чайковский М.И. Жизнь Петра Ильича Чайковского: 1885–1893. Т. 3. М.: Алгоритм, 1997.
Чайковский М.И., Чайковский П.И., Шиловский К.С. «Пиковая дама» П.И. Чайковского: [либретто оперы] / ред. и вст. ст. О. Меликян. М.: Музгиз, 1956.
Чайковский П.И. Полн. собр. соч. Литературные произведения и переписка. Т. XVБ / подгот. тома К.Ю. Давыдовой и Г.И. Лабутиной. М., 1977.
Чайковский П.И. Дневники. 1873–1891 / подгот. к печати Ип. И. Чайковским. М.; Пг., 1923.
Чайковский П.И., Мекк Н.Ф., фон. Переписка: в 4 т. Т. 1. Челябинск: Изд-во MPI, 2007.
Яков Петрович Полонский (некролог) // Исторический вестник. Т. LXXIV. СПб., 1898. С. 722–733.
Дома князя Горчакова (1903 и 1910 гг., архитектор А.Р. Гавеман; Большая Монетная ул., 17–19)
«Прошу Вас принять меры для улучшения освещения на Большой Монетной улице. Я имею там дом, в котором имею счастье принимать высочайших особ, что при таком скудном освещении крайне неудобно»[53].
С таким прошением в 1911 году обратился в Городскую думу светлейший князь Константин Горчаков, живший в собственном изысканном особняке во французском стиле – в «глуши», которой горожане в то время считали район Большой Монетной улицы.
Князю было уже за семьдесят, он имел чин шталмейстера Двора и большое влияние. К тому же он – сын последнего канцлера Российской империи князя Александра Горчакова, знаменитого главным образом тем, что подсказал Александру II продать Аляску, помог вернуть российский флот на Черное море, а также тем, что был лицейским другом Пушкина, посвятившего ему несколько стихотворений. Несмотря на преклонный возраст, неизменно восхищавший окружающих своей статной и привлекательной наружностью Константин Александрович был полон энергии для того, чтобы изысканно и со вкусом обустроить собственный дом, давая лишь указания архитектору Адольфу Гавеману, а также, несмотря на удаленность местности от центра города, не отстать от светской жизни, принимая в этих стенах своих высокопоставленных друзей.
Большая Монетная улица, 17–19
Еще 13 лет назад князь приобрел огромный участок с каменным домом (№ 17), хозяйственными постройками, конюшней на 6 стойл, 40 оранжереями и прекрасным садом. На участке построили новый дом (№ 19), а существующий расширили и реконструировали для старшей дочери князя Марии и ее семьи. Сам участок также переоборудовали под нужды и вкусы нового владельца – устроили гаражи для автомобилей, провели электричество, а сад, объединявший два домохозяйства – Марии и ее отца, стал жемчужиной проекта. Более чем за сотней деревьев и кустарников ежедневно ухаживали садовники, – ароматы жасмина, черемухи, сирени, цветущих яблонь, тень от кленов, дубов, каштанов и лип услаждали прогулки Горчаковых и их гостей по благоустроенным дорожкам угодий.
Прошение князя об установке фонарей, конечно же возымело силу. Дума выделила средства на установку 12 фонарей от Каменноостровского проспекта до особняка, причем два из них водрузили прямо при подъезде к зданию. Для удобства передвижения дорогу по Большой Монетной улице вымостили булыжным камнем.
В том же году, когда по просьбе аристократа устанавливали фонари, превращая «глушь» Большой Монетной в привлекательное для жизни место, в доме напротив жил 31-летний поэт Александр Блок, который с балкона наблюдал за породистыми горчаковскими псами, игравшими в саду пышного особняка (вот уж не думал князь, что его зеленый оазис открыт еще для чьих-то глаз, а также что наслаждаться им благородной семье осталось всего шесть лет), и писал поэму «Возмездие».
Литература
Блок А.А. Стихотворения. Поэмы. Воспоминания современников. М., 1989.
Бекетова М.А. Воспоминания об Александре Блоке. М., 1990.
Весь Петроград. 1917 г.
Памятники архитектуры и истории Санкт-Петербурга. Петроградский район. СПб., 2007.
Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1975.
Привалов В.Д. Улицы Петроградской стороны. Дома и люди. М.; СПб.: Центрполиграф, 2015.
Слонимский Л.З. Горчаков, Александр Михайлович // ЭСБЕ. Т. 17. СПб., 1893.
Сукновалов А.Е. Петроградская сторона. Л., 1960.
Доходный дом Бака (1905 г., архитектор Б.И. Гиршович; Кирочная ул., 24)
«Шла финская война. По улицам Ленинграда люди ходили ссутулившись, как во время сильного дождя. С вечера город погружался в раздражающий мрак.
– К тебе можно, папа?
– Конечно.
Кирка входит, целует меня в затылок, берет газету, берет со стола папиросу, закуривает и садится на низкую скамейку возле потрескивающего камина. Это теперь его любимое место.
– Что скажешь, Кирка?
– Да все то же, папа.
– А именно?
– Она, папа, действует мне на нервы. Словно кто-то омерзительно скребет ногтем по стеклу. Так бы и дал в морду: не воюй!..
Кирка глубоко затягивается:
– Валя мне не звонила по телефону?
Кирочная улица, 24
Он бросает окурок в камин:
– Может быть, Шура подходила к телефону?
– Шура-а-а!.. Валечка мне не звонила?
– Не-е-ет!
Между его бровей ложится тоненькая морщинка.
– Тебя, Кирюха, это волнует?
– Как будто.
– Тогда позвони ты Валечке.
– Не желаю.
Со двора раздается резкий дребезжащий свисток.
– Это, пожалуй, нам свистят, – говорит он. – Шторы плохо задернуты. В наш век мир предпочитает темноту.
И, задернув поплотней шторы, он добавляет:
– Мы потерянное поколение, папа.
– А уж это литературщина. Терпеть ее не могу.
И добавляю:
– Бодрей, Кирюха, бодрей. Держи хвост пистолетом»[55].
В этом доме в квартире № 37 в течение почти десяти предвоенных лет жил со своими домочадцами писатель и поэт им же созданного направления – имажинизма – Анатолий Мариенгоф. Дружная и веселая семья – жена Анна Никритина, актриса, которую Анатолий, любя, называл «Мартышкой», и сын Кирилл, не по годам мудрый и развитый мальчик.
40-летние интеллигенты любили этот район и друг друга. Когда у матери не было спектаклей, супруги прогуливались по Кирочной, приглашали на обед своих творческих коллег, ходили в театр и на дружеские вечера. Самостоятельный Кира тоже не сидел без дела. Родители удивлялись, как их 16-летний сын успевает и заниматься (помимо уроков в школе, на дом к юноше приходили немка, англичанка и француженка, учившие его языкам по 2–3 часа), и отдыхать. Кира играл в теннис, ходил в кино и театр, а вечерами приглашал к себе на Кирочную ватагу шумных друзей.
Счастливыми были дни, когда Мариенгофы договаривались остаться дома, отказавшись от всех планов и приглашений, и втроем посидеть за накрытым к чаепитию столом. Вспоминали покойного Сергея Есенина, несостоявшегося крестного отца Киры и большого друга Анатолия, с которым провел он свою молодость, неразлучно живя и путешествуя в течение нескольких лет, разговаривали о литературе, философии, искусстве. На ночь папа и мама приходили в спальню Кирилла пожелать ему спокойного сна – Анатолий целовал сына в лоб, а Анна – в щеки и губы, долго глядя в лицо ненаглядного сына.
Кирилл, казалось, доверял родителям, особенно отцу, часто приходя к нему в кабинет, чтобы покурить у камина и поделиться новостями (о том, как он прогулял школу, чтобы четыре часа бродить по Эрмитажу) и сокровенными мыслями (о войне, о любви, о смысле жизни). Анатолий с детства относился к сыну, как к взрослому. Помня собственного, всегда поддерживавшего его и здравомыслящего отца, он старался быть таким и для своего ребенка – общался на равных, уважал его мнение и личное пространство. Не позволял себе без стука войти в комнату Киры, не читал его дневники, даже если те лежали открытыми. Скоро за эту «идиотскую, слюнявую интеллигентность»[56] Анатолий не сможет себя простить.
«4 марта Кира сделал то же, что Есенин, его неудавшийся крестный.
Родился Кира 10 июля 23-го года.
В 40-м, когда это случилось, он был в девятом классе.
На его письменном столе, среди блокнотов и записных книжек, я нашел посмертное письмецо:
Дорогие папка и мамка!
Я думал сделать это давно
Перед тем как это сделать, Кира позвонил ей по телефону.
Они встретились на Кирочной, где мы жили, и долго ходили по затемненной улице туда и обратно. И он сказал ей, что сейчас это сделает. А она, поверив, отпустила его одного. Только позвонила к его другу – к Рокфеллеру. Тот сразу прибежал. Но было уже поздно.
Домработница Шура в это время собирала к ужину. А мы отправились „прошвырнуться“.
„Прошвырнулись“ до Невского. Думали повернуть обратно, но потом захотелось „еще квартальчик“.
Была звездная безветренная ночь. Мороз не сильный.
Этот „квартальчик“ все и решил. Мы тоже опоздали. Всего на несколько минут»[57].
Смерть 16-летнего Киры в стенах этого дома открыла убитым горем родителям спрятанную от них внутреннюю жизнь сына. Несчастная первая любовь вовсе не главная причина рокового шага – девушку Валю никто не винил («Я сижу один, и мне хочется, чтобы кто-нибудь позвонил… Именно, чтобы она позвонила и сказала: „Киру можно?“. В эту минуту я слышу телефонный звонок. Я бегу, перескакиваю через тахту и хватаю трубку. „Алло!.. Это я… Кира!“ – „Не Киру, а Шуру…“ Шура – наша домработница»[58]).
В ящиках письменного стола сына Анатолий, наконец-то решившийся прочесть неприкосновенные личные дневники, которые, впрочем, часто лежали ни от кого не скрытые, нашел десятки рассказов, стихов, начатый роман и самое страшное – подробную, философски-обоснованную новеллу о том, что собирается сделать его стремящийся походить на Байрона сын.
После постигшей Мариенгофов трагедии и начала войны супруги вместе с Большим драматическим театром эвакуировались и покинули этот огромный дом, в проходных дворах которого совсем недавно бродил их Кира:
«Поздно вечером я возвращался домой. На дворе, прислонившись к стене, стоял пьяный… Рядом в грязи валялась его шапка. Пьяный стоял и плакал. К нему подошел мальчишка и ударил его по лицу. За что? Так. Пьяный плакал. Он чувствовал, что его жизнь горька, как дешевая папироса. Он побежал за мальчишкой. Другой мальчишка дал пьяному подножку и тоже ударил его. Пьяный упал в лужу. Стукнулся головой об асфальт.
Мне показалось, что люди все-таки очень жестоки»[59].
Литература
Жерихина Е. Литейная часть. От Невы до Кирочной. 1710–1918. М.; СПб., 2006.
Мариенгоф А.Б. Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги. М., 1990.
Мариенгоф А.Б. Роман без вранья. Циники. Мой век, моя молодость мои друзья и подруги. Л., 1988.
Мариенгоф А.Б. Это вам, потомки! Записки сорокалетнего мужчины. Екатерина. СПб., 1994.
Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга: путеводитель. СПб., 2007.
Доходный дом (1842 г., архитектор А.Х. Пель; В.О., 2-я Линия, 7 / ул. Репина, 8)
«18-го ноября, вечером, разыгралась кровавая драма в д. № 7 по 2-й линии Васильевского острова, в квартире г-жи N. Вечером к ней пришел в гости ее хороший знакомый, доктор медицины А.Д. Нюренберг. Около 9 час. веч. на квартиру доктора Нюренберга позвонило неизвестное лицо и у прислуги узнало, что доктор находится у г-жи N. В 10 ч. веч. в квартире г-жи N. раздался звонок. Открыть дверь пошел сам г. Нюренберг. Вновь пришедшим оказался приват-доцент петроградского университета, литератор Леонид Габрилович, также хороший знакомый г-жи N. Едва только г. Габрилович перешагнул порог двери, как стал стрелять из револьвера в г. Нюренберга. Габриловичем было выпущено в г. N. пять пуль. Обливаясь кровью, Нюренберг все-таки нашел в себе силы выскочить на улицу, вскочить на извозчика и поехать, но по пути потерял сознание.
Во вбежавшую в переднюю г-жу N. г. Габрилович также пытался выстрелить, но промахнулся. После этого г. Габрилович отправился в участок Литейной части, где и заявил о случившемся и просил его арестовать. Истекавшего кровью Нюренберга в бессознательном состоянии отправили в больницу св. Марии Магдалины, где врачами положение его признано безнадежным. Г. Габрилович на допросе заявил, что предупреждал неоднократно Нюренберга оставить г-жу N. и не нарушать его покоя»[60].
В.О., 2-я линия, 7 / улица Репина, 8
Эту заметку о происшествии, случившемся в этом самом доме, прочитал в утренней газете 20 ноября 1914 года поэт Александр Блок, сделав запись в своем дневнике: «Габрилович, заступаясь за честь женщины, выстрелил в доктора Нюренберга»[61]. Блок сразу понял, что за роковая женщина скрывается под именем «Г-жа N.» – весь литературный Петербург знал, что в доме № 7 на 2-й линии проживает писательница Надежда Лохвицкая-Бучинская, более известная как Тэффи.
В 1914 году Тэффи – самый популярный в России мастер коротких рассказов, королева сатиры и философского юмора, «Чехов в юбке». Ее юмористическая проза имеет оглушительный успех, сам Николай II – поклонник ее таланта. Впрочем, Владимир Ленин тоже. Ее именем названы духи и конфеты: «Я почувствовала себя всероссийской знаменитостью в тот день, когда посыльный принес мне большую коробку… Она была полна конфетами, завернутыми в пестрые бумажки. И на этих бумажках мой портрет в красках и подпись: „Тэффи“!.. Я опомнилась, только когда опустошила… трехфунтовую коробку… Я объелась своей славой до тошноты и сразу узнала обратную сторону ее медали»[62].
Жизнь Тэффи была окутана мифами, которые она сама активно создавала. На самые простые вопросы, вроде ее возраста, внешности или количества детей (и даже сестер), тысячи поклонников писательницы ответили бы десятками версий. Во время стрельбы в этом доме Тэффи было 42 года, но считалось, что ей около 30 (позже она даже справит себе паспорт с уменьшенным на 13 лет годом рождения). Неясно было, замужем ли она и какую ее фамилию считать верной (после несчастливого брака с польским аристократом Бучинским Надежда Лохвицкая-Бучинская вынуждена была оставить ему троих детей, чтобы уехать в Петербург и начать жизнь с чистого листа). О разбитых сердцах бесчисленных ухажеров таинственной писательницы (среди них значился даже Григорий Распутин) ходили легенды, но кто же эти двое мужчин, чья ссора из-за Тэффи в этом доме на 2-й линии чуть не закончилась тройным убийством?
37-летний Аарон Давидович Нюренберг – доктор медицины, вхож в литературные круги. Писатель Ремизов даже использовал его образ в одной из повестей: «и красив, и ловок, да и брови без перерыва, словно углем намазаны… лечит по косметической части, сбавляет вес и выводит усики, приемная ломится от дам, но жениться, как кажется, не собирается…»[63]. Тэффи посвятила доктору один из рассказов, впрочем, больше про их отношения ничего неизвестно.
35-летний Леонид Габрилович, ворвавшийся в этот дом с пистолетом, – физик, работавший в Петербургском университете приват-доцентом (внештатным преподавателем), также был не чужд литературе – писал стихи под псевдонимом Галич и уже лет 10 ухаживал за Тэффи (он был ее спутником на вечерах еще в 1906 г.). На допросе Габрилович представил револьвер, из которого, оказалось, выпустили шесть, а не пять пуль – шестую он будто бы направил в себя, но промахнулся.
История происшествия в квартире № 3 этого дома так и осталась еще одной тайной жизни Тэффи. Доктор, раненный в шею, предплечье и руку, выжил (он умрет через 3 года от других причин); Габрилович был освобожден, возглавил радиотелеграфную компанию, стал масоном, женился. А о том, кто в этой истории «г-жа N.», большинство так и не догадались. В своей автобиографии Тэффи, конечно же, не упомянула злополучный дом на 2-й линии, где она прожила два года.
Литература
Азадовский К. Серебряный век: Имена и события. СПб.: Нестор-История, ЛитСовет, Dialar Navigator B.V., 2017.
Блок А.А. Записные книжки. 1901–1920. М., 1965.
Кровавая драма // Газета-копейка. 1914. 20 нояб. (3 дек.).
Нюренберг, Аарон Давидович // ББЭ. 2009.
Одоевцева И. На берегах Невы. На берегах Сены. СПб.: Лениздат, 2016.
Ремизов А.М. Собр. соч.: в 10 т. Т. 3: Оказион. М.: Русская книга, 2000.
Сетевой биографический словарь профессоров и преподавателей Санкт-Петербургского университета (1819–1917). СПб., 2012 // .
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 10272 (Габрилович Л.Е. О допущении его к чтению лекций в звании приват-доцента).
Шумихин С.В. Из комментария к «Записным книжкам» А.А. Блока // Новое литературное обозрение. 1993. № 2.
Доходный дом купца Вульфсона (1892 г., архитектор С.А. Баранкеев; В.О., 9-я Линия, 20)
«Никогда не забуду того чувства, с которым я шла по Невскому, затем через Николаевский мост на Васильевский остров. По Неве плыли льдины, был апрель месяц, дул свежий морской ветер, во мне все ликовало… Шла я пешком, трамваи ходили, все обвешанные гирляндами людей, кто-то из моих спутников нес мой чемодан… Вот и 9-я линия, вход во двор и на четвертый этаж, звоню – открывает тетя! За ней бабушка…
Шла осень, наступала зима, а родители все не ехали, но прислали Таню, которая… поступила в Университет на филологический факультет и в Институт истории искусств.
Чтобы поторопить родителей, мы с тетей сняли две хорошие комнаты на 8-й линии, купили дрова, деревянную кровать, ночной столик и мешок картошки. По уговору с хозяевами я должна была через день ходить топить печку, грелась, сидя на полу, стула не было, пекла картошку и готовилась к экзаменам.
Наконец перед Рождеством приехали папа и мама… Понемногу мы стали обзаводиться собственными вещами… Папа больше увлекался предметами убранства, купил старинные часы с курантами, бронзовую статуэтку пажа, старинную английскую раскрашенную гравюру, изображавшую постоялый двор и отъезд дилижанса, мотив его любимого Диккенса. У нас стало уютно, и мы не жалели о квартире на Ямской, да и Васильевский остров, который мы раньше почти не знали, очень нам понравился»[64].
В.О., 9-я линия, 20
Сюда, в квартиру на последнем этаже, с надеждой и трепетом поднималась 24-летняя Лидия Розинг (в замужестве Твелькмейер), дочь знаменитого физика и изобретателя русского телевидения, которую родители, за неимением средств на переезд всей семьей, отправили из Краснодара в Петроград в одиночку, «на разведку», намереваясь присоединиться позже.
Розинги не были в родном городе целых пять лет. Февральская революция 1917 года вместе с предвкушением позитивных перемен, которых наряду с большим пластом интеллигенции ожидал и надевший красный бант ученый Борис Розинг, принесла массу разочарований. К дефициту продовольствия, отсутствию дров для отопления промерзшей квартиры и уличным перестрелкам добавились и профессиональные трудности; 48-летний Розинг, к этому времени магистр наук, давно ставший знаменитостью в ученых кругах не только российского, но и международного масштаба, как человек, запустивший первый телесеанс и получивший премию Сименса за успехи в электротехнике, вынужден был покинуть собственную лабораторию в расформированном новой властью училище и оставить преподавание в лишенных финансирования и административной поддержки учебных заведениях.
К бытовым и рабочим трудностям прибавился и страх за семью – от порока сердца умерла средняя дочь, любимица отца, 15-летняя Тамара, и, столкнувшись с горем лицом к лицу, Розинг сильнее почувствовал опасность надвигающегося голода, холода, шальной пули или вспышек болезней для жены и двоих оставшихся дочерей. Так семья оказалась на Кубани.
Намерение перезимовать пару месяцев в Краснодаре из-за неожиданной остановки железнодорожного сообщения с Петроградом обернулось для Розингов несколькими годами жизни на юге. Годами успешными (Борис основал политехнический институт и написал свой главный труд о будущем телевидения), но напряженными (власть на Кубани в эти годы неоднократно переходила то к «красным», то к «белым», а Розинг, науку ставивший выше политики, не нравился ни одной из структур – «белые» не давали «коммунисту» Розингу, хотя в партии он не состоял, место ректора в основанном им институте, а «красные» арестовали ученого, как бывшего дворянина).
Жизнь на благодатном юге, несмотря на трудности так полюбившемся Розингу, уже не была спасением – голод и неустроенность добрались и сюда, Политехнический институт собирались закрыть, а Петроград манил обратно, обещая работу, собственную лабораторию со штатом сотрудников и комфортную жизнь. Именно тогда, в 1922 году, и поехала дочь Лидия устраивать квартиру в этом доме на 9-й линии, где к концу 1923-го обосновалась, наконец, вся семья.
Знаменитый ученый Борис Розинг проживет в этих стенах восемь плодотворных лет, не переставая работать и публиковаться, смеясь, отклонит предложение США о беспрепятственной эмиграции и полном обеспечении, а в 1931-м в возрасте 62 лет выйдет из этой двери в последний раз – Розинга арестуют за помощь контрреволюционерам (в лаборатории собирали деньги для передачи бедствующему сослуживцу, который, к сожалению для всех сочувствующих, когда-то был царским офицером).
Основоположник электронного телевидения умрет в ссылке через два года, точное место погребения останется, несмотря на наличие надгробия, загадкой, а имя его, даже после посмертной реабилитации, будет практически забыто.
Литература
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Весь Ленинград. Л., 1924.
Горохов П.К. Борис Львович Розинг – основоположник электронного телевидения. М.: Наука,1964.
Розинг Борис Львович // БСЭ. Т. 22.
Самохин В.П. Памяти Бориса Львовича Розинга (1869–1933) // Наука и образование: Электронное научное издание / ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана» // . edu.ru.
Твелькмейер Л.Б. Мой отец и его окружение // Нестор (Журнал истории и культуры России и Восточной Европы). № 12. Русские люди (Из семейных архивов). СПб., 2008.
Дом князя Лобанова-Ростовского (1820 г., архитектор О. Монферран; Исаакиевская пл., 2)
«Я родился и вырос во дворце. Следует добавить, в большой коммунальной квартире. Мы жили в квадратной двадцатиметровой комнате впятером: мои родители, я, бабушка и мамин брат. Потом мамин брат… женился, и у него родилась дочка… Нас стало семеро.
Тогда я ходил во второй или третий класс и иногда серьезно задумывался о том, что если бы можно было положить нашу комнату на бок, ее площадь была бы больше. Дело в том, что потолки в ней были высотой шесть с половиной метров.
Когда во дворце делают коммуналку, пространство всегда получается необычным. Так же вышло и в нашем случае. В каждом жилом помещении коммунального дворца был построен второй этаж, который занимал пространство над коридором и приблизительно на треть выступал в комнаты. Получался великолепный балкон с деревянными перилами. У нас его площадь превышала метров 12 метров. Еще одна настоящая комната, только вытянутая…
Подобный балкон имелся у всех соседей. На каждый вела деревянная лестница: у кого прямая, у кого с площадкой, были и винтовые.
Исаакиевская площадь, 2
Кроме этого, в квартире были: четырехметровые изразцовые печи, огромные окна со старинной бронзовой фурнитурой и мраморными подоконниками, парадная лестница из мрамора с бронзовыми же креплениями для ковровой дорожки, черная лестница, кухня площадью 75 квадратных метров с эмалированным умывальником в углу, дровяная колонка в ванной и выгороженный деревянный туалет один на всех.
Длинный, как беговая дорожка стадиона, коридор разделяли на индивидуальные секции двери. В нашей секции, почти напротив входа в комнату, висел на стене старый телефон, тоже один на всех»[65].
В этом коммунальном дворце провел свое детство двоюродный племянник Иосифа Бродского Михаил Кельмович, ныне – дизайнер и психолог.
Бродскому было около 25 лет, когда он заходил к соседу Михаила, такому же молодому поэту Владимиру Уфлянду, небольшая комната которого считалась, пожалуй, самой богемной из десятков других: «Свободу выражало все: светлая ткань портьер, то, что балконный этаж ограждало не сплошное ограждение, а деревянная решетка. То, что он жил с Галей, которая не была его женой. (Она тоже мне нравилась.) А также то, что они курили оба в комнате и спали на полу в верхнем этаже.
К нему в гости ходили литераторы. На стенах висели изразцы, взятые со стен взорванной Греческой церкви…
У него жила ворона… Ворона свободно расхаживала по комнате, поэтому весь пол был застелен газетами, и все равно загажен. В этом ощущался дух свободы»[66].
К родственникам в соседнюю дверь Бродский при этом не заходил. «Он всегда такой», – обижались его дяди и тети.
Огромный дом Лобанова-Ростовского был «муравейником» не только в советское время. Яхтсмен, коллекционер и муж богатейшей наследницы Клеопатры (в девичестве – Безбородко), 30-летний князь Александр Лобанов-Ростовский поручил Монферрану (в это же время начавшему строить напротив Исаакиевский собор) постройку доходного дома, в котором сам жить не собирался. Помещения сдавались под магазины, квартиры, ателье, но девять лет эксплуатации принесли только долги, и вскоре после сильнейшего наводнения 1824 года, затопившего нижний этаж, князь продал дом государству под Военное ведомство.
Катастрофическое наводнение пережидал в «доме со львами» и герой Пушкина в поэме «Медный всадник»:
Мраморные львы работы итальянца Трискорни, скопировавшего их с античных флорентийских статуй, за два века пропустили в парадные двери тысячи людей. Предпринимателей и светских дам 1820-х годов и военных чиновников 1830–1910-х, после революции их сменили дети. Школа работала здесь до 1960-х годов, в том числе и в блокаду, так как была одной из немногих, имевших бомбоубежище. В блокадный сентябрь 1941-го в 1-й класс пришла сюда и 7-летняя Алиса Фрейндлих. Львы, когда-то спасавшие пушкинского героя от наводнения, теперь оберегали от войны детей, вместо уроков целыми днями говоривших с учительницей только о хлебе.
Мраморные львы работы итальянца Трискорни
Параллельно со школой в огромном здании хватило места и десяткам коммуналок, большинство из которых расселили в конце 1960-х, предоставив жильцам квартиры в новых «хрущевках» в Купчине. Семья Михаила Кельмовича и их соседи переехали из коммунального муравейника в спальный, а большую часть дома занял Проектный институт. В 2010-х годах здание отреставрировали, и повидавшие столь разные эпохи львы теперь охраняют вход в пятизвездочный отель.
Литература
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Булах А.Г., Абакумова Н.Б. Каменное убранство центра Ленинграда. Л… 1987.
Данилов Н.А. Исторический очерк деятельности Канцелярии Военного министерства и Военного совета. СПб., 1907.
История строительства. Дом со львами // http://www. lionpalace.ru.
Кельмович М. Иосиф Бродский и его семья. М., 2015.
Кравчук З. Блокадница // Российская газета. 2004. 24 янв.
Памятники архитектуры Ленинграда. Л., 1975.
Путеводитель по Ленинграду. Л., 1929.
Пушкин А.С. Медный всадник. Л., 1978. (Литературные памятники).
Доходный дом Егорова (1885 г., архитектор П.Ю. Сюзор, ул. Восстания, 35)
«Он встретил нас в передней и странно отрекомендовался мне: „Я – отец вашего мужа“. Что надо было сказать мне и сделать – я не знала и, кажется, просто подала ему руку…
Мы пошли в столовую пить чай. Столовая довольно темная, длинный стол. Тогда в семье жили два брата: Сергей, оставленный при Медицинской Академии, бактериолог, и Николай – чиновник особых поручений…
О чем мы тогда говорили – совершенно не помню. Я, должно быть, молчала, только во все глаза глядела на этих новых „родственников“, которых таковыми не признавала, как и они, видимо, меня. Затем мы уехали. Д.С. прощался с „папашей“ традиционно – поцелуем (едва-едва) в щеку: „Adieu, папочка“»[68]
Именно в этот дом для знакомства с родителями 24-летний поэт Дмитрий Мережковский привел свою 19-летнюю жену Зинаиду Гиппиус, только вчера приехавшую в Петербург.
Улица Восстания, 35
Огромную квартиру на последнем этаже семья Мережковских занимала последние восемь лет, с выхода отца семейства, работавшего столоначальником при Александре II, в отставку в чине тайного советника. С родителями в разное время здесь жили и девять их детей.
Отец, 66-летний Сергей Иванович, «был тогда маленький, сухенький старичок, с седой бородкой. Он был очень прям и что-то было в нем такое… ощущенье – не подходи близко».
Мать же, Варвара Васильевна, – полная его противоположность – всячески помогала молодоженам еще до знакомства с невесткой. У парадного входа этого дома несколько месяцев назад Дмитрий поджидал мать для серьезного разговора о своей будущей самостоятельной жизни.
«Он вернулся туда раньше возвращенья отца и матери из Vichy… Пока она, больная, взбиралась на пятый этаж (они жили на Знаменской, 35, отец почему-то всегда предпочитал пятые этажи), – он уже на лестнице рассказал ей все. И она, конечно, уж знала, какое тяжкое дело ей предстоит с отцом. Нужно было уговорить его дать несколько тысяч на обзаведение и назначить ежемесячно сумму на прожиток. Не знаю, сколько времени длились переговоры, представляю себе, как они были тяжелы ей, совершенно в Vichy не поправившейся, но своего любимца Митю она все время утешала, что дело выйдет. Утром, как всегда, приходя к нему поздороваться, когда он лежал еще в постели, шутила с ним, как с ребенком (не был ли он для нее ребенком). „Будет тебе, будет твоя цаца!“ …Он не сомневался, что мать все устроит»[71].
Каждое воскресенье пожилая чета собиралась здесь для обеда со своими повзрослевшими детьми и их семьями. Но общение Варвары с невесткой Зинаидой продлилось лишь пару месяцев – одно из семейных воскресений в том же 1889 году стало для только что закончившей устройство квартиры и содержания молодоженов матери последним.
Дмитрий не любил этот дом за юношеские годы (с 16 до 24), проведенные здесь в вечном противостоянии с суровым отцом, и строгие порядки (скупость, выговоры, скудный стол и обстановка), введенные главой семьи для того, чтобы уберечь детей от пороков.
Традиция семейных обедов ушла вместе с матерью, и день ее похорон стал последним, когда почти вся семья собралась в величественном и хмуром (тогда его цвет был коричневым) доме на Знаменской.
Семья распалась, и отец сразу же продал квартиру в этом доме, взяв другую на Невском, такую же большую и тоже на пятом этаже, но для себя одного. Часто уезжал путешествовать, никому не оставляя адреса, а возвращаясь в Петербург, этот когда-то прагматичный и твердый человек увлекался спиритизмом и писал сам себе письма якобы от своей «голубушки», которую не мог забыть.
Весть о смерти старика застала Дмитрия в Париже, и он не слишком торопился выезжать в Петербург для прощания с отцом, десятилетие назад выпустившим сына в свободное плавание отсюда, из этого дома на Знаменской.
Литература
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Гиппиус З.Н. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951.
Зинаида Гиппиус. Новые материалы. Исследования / сост. Н.В. Королёва. М., 2002.
Зинаида Николаевна Гиппиус (1869–1945): библиографические материалы / автор-сост. С.П. Бавин. М., 1995.
Зобнин Ю.В. Дмитрий Мережковский: жизнь и деяния. М., 2008.
Мережковский, Дмитрий Сергеевич // ЭСБЕ. Т. 37. СПб., 1896.
Мережковский Д.С. Стихотворения и поэмы. СПб., 2000. (Новая библиотека поэта).
Савельев С.Н. Жанна д’Арк русской религиозной мысли. М., 1992.
Холиков А. Дмитрий Мережковский: Из жизни до эмиграции: 1865–1919. СПб., 2010.
Контора и магазин Матвея Башкирова (1905 г.; пр. Энгельса, 85)
«Не лишена эффектности витрина Башкирова. Рядом с мукою – крахмал, картофельная мука и консервы из муки: макароны, вермишель, галеты»[73].
Примерно такие мучные изыски украшали прилавки в этом доме в 1900-х годах. По пути за город (нынешний проспект Энгельса, заполненный многоэтажными новостройками, тогда являлся частью пустынной дачной местности «Удельная»), путники останавливались здесь отдохнуть в пасторальных декорациях магазина и чайной Матвея Башкирова.
Башкировы – влиятельная семья нижегородских купцов, торговавших в столице мукой и хлебом, а в других городах имевших мельницы, производства и пароходы.
Вся мужская часть многочисленного клана занималась торговлей, но главными наследниками семейного дела были три брата – Яков, Николай и Матвей. Именно их отец, крепостной крестьянин Емельян, положил начало мучной империи, самостоятельно выкупив себя из неволи в 1850 году.
Проспект Энгельса, 85
После смерти Емельяна младшему сыну Матвею, словно в сказке про «Кота в сапогах», досталась наименьшая доля наследства, но именно он, не получивший, как старшие братья, готовые мельницы, а строивший их с нуля, вскоре стал главой клана и снискал в обществе наибольший авторитет.
О благотворительных делах Матвея ходили легенды. Несчастный в семейной жизни, долго боровшийся с алкоголизмом первой жены, все же скончавшейся в белой горячке, а затем потерявший и вторую жену, не перенесшую самоубийство сына, Матвей стал знаменит своей добротой едва ли не больше, чем торговой деятельностью. Для него одинаковую ценность имело как жертвование миллионов на развитие родного Нижнего Новгорода (он перевез туда из Варшавы политехнический институт), так и «мелочи» вроде постройки водокачки для беременных крестьянок, до этого каждый день преодолевавших подъем в гору с полными ведрами.
В этом домике, в конторе при лабазе и чайной, купец-миллионер Матвей работал уже 60-летним, хотя бывал в Петербурге редко. Через 10–15 лет революция отнимет у клана Башкировых все состояние, десятки мельниц, заводов, имений, пароходов, а «некоронованный король» Нижнего Новгорода Матвей Башкиров умрет в родном городе абсолютно нищим, но провожаемый в последний путь толпой благодарных.
Литература
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Башкиров с сыновьями // Наш край. Н. Новгород, 2006. С. 184–186.
Жизнь купецкая. Забытые страницы истории российского предпринимательства XIX – начала XX века. Н. Новгород, 2008. С. 216–219.
Макаров И.А. Башкировы. Карман России. Н. Новгород, 2006. С. 48–98.
Макаров И.А. Башкировы. Купеческий Нижний. Н. Новгород, 2006. С. 6–32.
Нива (иллюстрированный журнал литературы и современной жизни). 1896. № 34.
Седов А. Мукомольное дело. Башкировы. Нижегородский край: Факты, события, люди. Н. Новгород, 1994. С. 205–207.
Фишер Ф. Драма жизни династии Башкировых // Нижегородская правда. 1994. 15 янв.
Шамшурин В.А. Башкиров с сыновьями // Наш край. Н. Новгород, 1997. С. 184–186.
Дом Шуберта (1809 г.; В.О., 1-я Линия, 12)
«Под конец нашего пребывания в Петербурге мама задумала сделать прощальный вечер и созвать всех наших знакомых. Само собою разумеется, она пригласила и Достоевского… Вечер наш вышел пребестолковый. Так как родители мои уже лет десять жили в деревне, то настоящего “своего” общества у них в Петербурге не было. Были старые знакомые и друзья, которых жизнь уже давно успела раз-весть в разные стороны.
Некоторым из этих знакомых удалось сделать в эти десять лет блестящую карьеру и забраться на очень высокую ступеньку общественной лестницы. Другие же, наоборот… влачили серенькое существование в дальних линиях Васильевского острова, едва сводя концы с концами…
Общество собралось у нас… очень разношерстное… Преобладающий элемент был немецкий, чинный, чопорный и бесцветный.
Квартира тетушек была очень большая, но состояла из множества маленьких клетушек, загроможденных массою ненужных, некрасивых вещиц и безделиц, собранных в течение целой долгой жизни двух аккуратных девствующих немочек. От большого числа гостей и множества зажженных свечей духота была страшная. Два официанта в черных фраках и белых перчатках разносили подносы с чаем, фруктами и сладостями. Мать моя, отвыкшая от столичной жизни, которую прежде так любила, внутренне робела и волновалась: все ли у нас как следует? Не выходит ли слишком старомодно, провинциально? И не найдут ли ее бывшие приятельницы, что она совсем отстала от их света?
В.О., 1-я линия, 12
Гостям никакого не было дела друг до друга. Все скучали, но как люди благовоспитанные, для которых скучные вечера составляют неизбежный ингредиент жизни, безропотно подчинялись своей участи и переносили всю эту тоску стоически.
Но можно представить себе, что сталось с бедным Достоевским, когда он попал в такое общество! И видом своим, и фигурой он резко отличался от всех других. В припадке самопожертвования он счел нужным облачиться во фрак, и фрак этот, сидевший на нем и дурно, и неловко, внутренне бесил его в течение всего вечера. Он начал злиться уже с самой той минуты, как переступил порог гостиной…
Мать моя торопилась представить его гостям; но он, вместо привета, бормотал что-то невнятное, похожее на воркотню, и поворачивался к ним спиной. Что всего хуже, он тотчас изъявил притязание завладеть всецело Анютой… Это, разумеется, шло в разрез со всеми приличиями света; к тому и обращение его с ней было далеко не светское: он брал ее за руку; говоря с ней, наклонялся к самому ее уху. Анюте самой становилось неловко, а мать из себя выходила… Анюта уже было поднялась, но Федор Михайлович прехладнокровно удержал ее:
– Нет, постойте, Анна Васильевна, я еще не досказал вам.
Тут уж мать окончательно потеряла терпение и вспылила.
– Извините, Федор Михайлович, но ей, как хозяйке дома, надо занимать и других гостей, – сказала она очень резко и увела сестру.
Федор Михайлович совсем рассердился и, забившись в угол, молчал упорно, злобно на всех озираясь»[74].
В этот трехэтажный дом, купленный в 1820-х годах ученым-геодезистом и руководителем Корпуса топографов Федором Шубертом и перестроенный в том виде, какой мы видим наблюдаем сейчас, а ныне, в 1865 году принадлежавший уже его детям, каждую зиму, в разгар светского сезона, приезжала погостить из деревенской усадьбы старшая дочь Шуберта Елизавета Корвин-Круковская со своей дочерью Анной. На этот раз посетить столицу, помимо 22-летней Анны, нуждавшейся в городском обществе и светской жизни, разрешили и 15-летней Софье (будущей первой в мире женщине – профессору математики Софье Ковалевской), для которой Петербург был в новинку.
Дом представлялся впечатлительной Софье старомодной «колонией тетушек, старых дев». Хозяевам его, не имевшим собственных семей брату и сестре Федору и Софье Шубертам, было соответственно 34 и 43 года. Вместе с ними здесь постоянно жили и гостили многочисленные родственницы – кузины, тетушки, создавая атмосферу консервативного, но веселого и неразлучного женского царства во главе с обожаемым всеми единственным мужчиной Федором, которого в доме называли Оракулом.
Зимний приезд Елизаветы с дочерьми в этот гостеприимный дом в 1865 году отличался от предыдущих. Старшей дочери, Анне, тяготившейся деревенской скукой и собственной нереализованностью, строгий отец наконец-то разрешил свести знакомство с ее кумиром, писателем Федором Достоевским. Разрешению этому предшествовал домашний скандал.
Сокрушающаяся о бесцельно уходящей молодости, томящаяся в провинциальной рутине Анна с жаром искала увлечений, способных разнообразить ее лишенную событий жизнь – увлечение рыцарскими романами сменяется философствованиями о смерти, затем периодом религиозного отшельничества, прерванного обнаружением таланта актрисы и мечтами о театральной академии, и, наконец, социалистическими идеями, жадно впитываемыми молодой девушкой, которой и правда вскоре суждено было стать настоящей революционеркой. Тогда-то Анна и заводит переписку с Достоевским, тайком от семьи отправив в его журнал «Эпоха» свой рассказ. Тайна, однако, вскоре открывается. Отец, допросивший переправлявшую письма экономку и найдя в одном из них гонорар Анны за опубликованный рассказ, был в ярости – мало того, что женщины-писательницы представлялись ему явлением недостойным, дочь еще и опозорила семью тайной перепиской и получением денег от мужчины. Однако, согласившись прослушать рассказ Анны, дрожащим голосом читавшей о смерти главной героини, сокрушавшейся о семейном гнете и даром потраченной молодости, отец и сам прослезился и, чувствуя автобиографичность описанных страданий, смягчился и позволил Анне по приезде в Петербург пригласить Достоевского в дом тетушек.
Той зимой 44-летний писатель часто посещал сестер Корвин-Курковских, иногда даже приходя неожиданно, когда матери не было дома и Анна с Софьей, будучи девицами в два и три раза младше его, вынуждены были принимать гостя в одиночестве, нарушая правила приличия. В один из таких вечеров влюбившаяся в Достоевского, как преданная поклонница в своего кумира, Софья стала свидетельницей разбившей ее сердце сцены:
«…Я приготовила Достоевскому сюрприз. Он… говорил нам, что из всех музыкальных произведений всего больше любит la sonate pathetique Бетховена и… я решилась разучить ее… Оставалось уже всего дней пять-шесть до нашего отъезда. Мама и все тетушки были приглашены на большой обед к шведскому посланнику… Анюта, уже уставшая от выездов и обедов, отговорилась головной болью. Мы остались одни дома. В этот вечер пришел к нам Достоевский.
Близость отъезда, сознание, что никого из старших нет дома и что подобный вечер теперь не скоро повторится, – все это приводило нас в приятно возбужденное состояние духа. Федор Михайлович был тоже какой-то странный, нервный…
Я начала играть. Трудность пьесы… страх сфальшивить… так поглотили все мое внимание, что я… не замечала, что делается вокруг меня. Но вот я кончила с самодовольным сознанием, что играла хорошо… Я ждала заслуженной похвалы. Но вокруг меня была тишина. Я оглянулась: в комнате никого не было.
Сердце у меня упало. Ничего еще не подозревая определенного, но смутно предчувствуя что-то недоброе, я пошла в соседнюю комнату. И там пусто! Наконец, приподняв портьеру, завешивавшую дверь в маленькую угловую гостиную, я увидела там Федора Михайловича и Анюту.
Но, Боже мой, что я увидела!
Они сидели рядом на маленьком диване. Комната слабо освещалась лампой с большим абажуром; тень падала прямо на сестру, так что я не могла разглядеть ее лица; но лицо Достоевского я видела ясно: оно было бледно и взволнованно. Он держал Анютину руку в своих и, наклонившись к ней, говорил тем страстным, порывчатым шепотом, который я так знала и так любила.
– Голубчик мой, Анна Васильевна, поймите же, ведь я вас полюбил с первой минуты, как вас увидел; да и раньше, по письмам уже предчувствовал. И не дружбой я вас люблю, а страстью, всем моим существом…
У меня в глазах помутилось. Чувство горького одиночества, кровной обиды вдруг охватило меня…
Я опустила портьеру и побежала вон из комнаты. Я слышала, как застучал опрокинутый мною нечаянно стул»[75].
Анна не приняла предложение писателя. Через год она уедет за границу, выйдет замуж за французского революционера-анархиста, вместе с которым станет под руководством Карла Маркса бороться с капитализмом, будет арестована вместе с мужем и приговорена к пожизненной каторге, но сумеет бежать. Вернувшись в Россию, возобновит дружеские отношения с уже счастливо женатым Достоевским, давшим черты Анны героине своего романа «Идиот» Аглае Епанчиной.
Софья же еще вернется в этот дом. Как и сестра, уедет за границу, но не ради политики, а чтобы учиться математике (так как отец препятствовал обучению дочери, в 18 лет она фиктивно вышла замуж за 26-летнего палеонтолога Владимира Ковалевского, обещавшего помочь ей с получением заграничного паспорта). Через 10 лет уже известная всему миру женщина-математик ненадолго вернулась с мужем (из фиктивного ставшего настоящим) в этот дом, к дяде Федору Шуберту, купившему к этому времени еще и соседний дом (№ 14) и сдававшему квартиры внаем.
Литература
Василеостровский район / под ред. Б.М. Кирикова. СПб., 2005. Жаклар, Анна Васильевна // РБС. Т. VII: Жабокритский— Зяловский. СПб., 1916.
Жаклар, Шарль Виктор // Там же.
Ковалевская С.В. Воспоминания детства // Вестник Европы. 1890. № 7–8.
Ковалевская, Софья Васильевна // ЭСБЕ. Т. 30. СПб., 1895.
Шуберт, Федор Федорович // РБС. Т. XXIII: Шебанов— Шютц. СПб., 1911.
Lantz K. The Dostoevsky Encyclopedia. Westport, 2004.
Дом Котомина (1815 г., архитектор В.П. Стасов; Невский пр., 18)
«Близнецы Курносовы, Петр да Павел… сидя взаперти дортуаров Морского корпуса, щами да кашами сытые, давно мечтали вкусить сладенького, а липовый сбитень с медом уже никак не удовлетворял их.
– Говорят, – рассуждал Павел, – для господ торты валяют изо всякого там… во такие! Бывают и поменьше.
– А где денег-то взять? – отвечал Петр брату.
Гардемарины из газет вычитали, что французы Вольф и Беранже открыли на Невском, в доме г-на Котомина, кондитерскую, в коей всегда имеются “из сахара сделанные корзиночки и яйца с женскими перчатками внутри”. Близнецам было не понять: – А на что же перчатки в яйца засовывать? Но почему бы российскому джентльмену не поднести даме своего сердца яйцо сахарное, внутри которого спрятаны тонкие парижские перчатки?..
Братья Курносовы… не унывали:
– Вот станем адмиралами – всего попробуем…»[76].
Невский проспект, 18
Вот то самое здание, мимо которого, облизываясь и заглядывая в окна, ходили вымышленные герои Валентина Пикуля бедняки Курносовы, мечтая о богатстве и адмиральской славе.
Мечтам их в каком-то смысле удалось сбыться довольно быстро. Екатерине II (а именно при ее правлении жили у Пикуля Курносовы, что не совсем совпадает по времени с открытием кондитерской – слава «Вольф и Беранже» придется на полвека позже) нужен был сильный флот и поскорее, поэтому уже в 16 лет близнецы выпустились из Морского корпуса офицерами и получили от казны небольшую сумму. Ощутив себя впервые в жизни богачами, Курносовы первым делом собрались в недосягаемую кондитерскую «Вольф и Беранже».
«Петр так и сказал Павлу, что живут они только один раз:
– Когда состаримся, тогда, куда ни шло, будем манную кашу жевать до самого погребения. А сейчас, брат…
– Верно! – поддержал его Павел. – Запрут нас в Херсон или на Камчатку – локти себе изгрызем, что не поели „гитар“ из безе, конфет с духами парижскими или купидонов шоколадных…
Навестив «Вольфа и Беранже», мальчишки отстегнули от поясов шпаги, поправили на висках парики. Присели подле окна на Невский – мимо неслись рысаки и катились кареты…
К услугам гостей Вольф и Беранже все важные события в мире представляли в виде кондитерских изделий. По взятии Бастилии ими был изобретен торт, точно воспроизводивший сию мрачную обитель, а штурм Очакова был ознаменован пасхальными яйцами с изображением павшей цитадели султана…
– С чего начнем шиковать? – спросил братец братца.
Выбор был богатый… Более всего впечатлял гигантский торт из шоколада, изображавший неприступный Измаил, украшенный башнями из марципанов, вокруг него торчали пушки из леденцов, фасы были обложены мармеладом.
– Возьмем „Измаил“? – робко спросил Петр.
– Дорогой. Может, попробуем „Бендеры“?
– Да там ничего нет, одни цукаты.
– Боюсь, „Измаил“ нам не по карману, – сказал Петр. – А, ладно! Чего спорим-то?..
Заказали они „Измаил“, разрезали его на четное число кусков и стали истреблять их. Скоро от шоколадно-кремовой цитадели остался ничтожный фундамент из вафель»[77].
Братья жили один раз! Через несколько месяцев, им не было еще и 17 лет, они погибли в Балтийском море в битве со шведами, и пир в кондитерской «Вольф и Беранже» стал последней радостью близнецов Курносовых.
Да, эти безрассудные юноши, посетившие знаменитое заведение перед тем, как отправиться на смерть, – вымышленные литературные персонажи. Но всем известен и реальный персонаж, которого эти стены также проводили на смерть, – именно здесь 27 января 1837 года завсегдатай кондитерской Александр Пушкин встретился со своим секундантом Данзасом по пути на свою последнюю дуэль. Его восковой двойник до сих пор сидит за столиком с видом на Невский в «Литературном» кафе, занимающем с 1983 года бывшие помещения «Вольфа и Беранже».
Рок витал в этих стенах не только над Пушкиным. Именно здесь, в своеобразном писательском клубе, в который быстро превратилась полюбившаяся творческой молодежи кондитерская и где можно было встретить Лермонтова, Чернышевского, Панаева, весной 1846 года состоялась беседа 25-летних Федора Достоевского и Михаила Петрашевского, «заразившего» писателя идеями утопического социализма. Через два года знакомство, начавшееся в этом доме, приведет юных вольнодумцев на Семеновский плац, где их будет ждать смертная казнь через расстрел (к счастью, оказавшаяся инсценировкой и в последний момент отмененная).
Еще почти через полвека, в 1893 году, когда в этих стенах, на месте давно уже закрытой к этому времени кондитерской, гостей будет собирать знаменитый ресторан Лейнера, новая смерть постучится в эти двери.
«Чайковские любили ресторан Лейнера и довольно часто бывали там по вечерам.
Вот туда-то мы и отправились после премьеры „Горячего сердца“… Так как нас собралась довольно большая компания, то было решено занять кабинет.
Все делились впечатлением от спектакля. Петр Ильич чувствовал легкое недомогание, жаловался на желудок, отказывался от тяжелых блюд. Он ограничивался устрицами и запивал шабли. Но никто не придавал его нездоровью серьезного значения, да и сам он не так чтоб уж очень жаловался, скорее был в хорошем расположении духа: был разговорчив, шутил…
Оставались мы у Лейнера недолго. При выходе из ресторана, когда мы прощались у подъезда, никому из нас и в голову не приходила мысль, что мы видим Петра Ильича в последний раз»[79].
По слухам, мгновенно разнесшимся по Петербургу, причиной недомогания и последующей смерти 53-летнего композитора стала некипяченая вода, поданная музыканту в ресторане. Утром следующего после рокового ужина дня доктор диагностировал у Петра Ильича Чайковского холеру, стремительно унесшую его жизнь.
Литература
Правительственный вестник. 1893. 27 окт. (8 нояб.). № 236.
Бройтман Л.И., Краснова Е.И. Большая Морская. СПб., 1996.
Кириков [и др.] Невский проспект, 2013.
Петрашевцы // ЭСБЕ. Т. 45. СПб., 1898.
Пикуль В. Фаворит: роман-хроника времен Екатерины II: в 2 т. Л., 1985.
Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. 4-е изд. М, 1981.
Юрьев Ю.М. Записки: в 2 т. Л.; М., 1963.
Яцевич А.Г. Пушкинский Петербург. СПб., 1993.
Жилой комплекс Бассейного Товарищества (1914 г., архитекторы Э.Ф. Виррих, А.И. Зазерский, А.Ф. Бубырь; ул. Некрасова, 58–60 / Греческий пр., 10–12 / Фонтанная ул., 3–5)
«Маяковский задумал прочесть доклад о футуризме. Для этой цели выбрали самую большую из знакомых квартир – художницы Любавиной. Пригласили старших: Горького, Кульбина, Матюшина. Владимир Владимирович несколько дней готовился, ходил, „размозолев от брожения“, сочинял доклад, как стихи. Народу собралось человек тридцать, расселись. Маяковский ждал в соседней комнате, как за кулисами. Когда все затихло, он вошел, встал в позу и произнес слишком громко: „Милостивые государи и милостивые государыни!“. Слушатели улыбнулись. Он выкрикнул несколько громящих фраз, умолк и ушел из комнаты. Сгоряча он не рассчитал, что орать тут не на кого и не за что. Мы утешали его, поили чаем»[80].
Сюда, в огромный кооперативный дом, только что построенный архитекторами Виррихом, Зазерским, Бубырем по принципу товарищества собственников квартир, немедля въехали «сливки» петербургской интеллигенции – артисты, врачи, профессора. Бассейное товарищество (по названию улицы Бассейная, как тогда называлась нынешняя улица Некрасова) соорудило громаду в семь этажей, занимавшую почти целый квартал. Дом, оборудованный по последнему слову технологий, предполагал лифты не только на парадных, но и на черных лестницах, центральное отопление, вентиляцию и пылевсасывающую станцию, соединенную трубами со всеми квартирами, уборные для гостей на парадной лестнице, просторные и функциональные квартиры для обслуживающего персонала, прачечную с механическими стиральными и сушильными машинами, балконы для чистки одежды, а также курительный зал и общую гостиную для жильцов.
Улица Некрасова, 58–60 / Греческий проспект, 10–12 / Фонтанная улица, 3–5
«Во всем доме проектировано 88 квартир для членов товарищества, 16 квартир в мансарде и 13 магазинов в первом этаже… Все квартиры с двумя ходами, имеют от 3 до 7 комнат, не считая людских, ванн, кухонь и проч. Полезная площадь квартиры составляет от 24 до 50 кв. саж. [109–227 кв. м.]… Внутренняя отделка квартир… без особой роскоши, с несложными лепными украшениями на потолках и недорогими обоями. Во всех комнатах… паркетные полы, в кухнях же, ванных комнатах, клозетах и кладовых полы… из метлахских плиток… Стены кухонь и ванн предположено частью облицевать фаянсовыми плитками, частью окрасить масляной краской; масляной же краской будут окрашены стены людских, уборных и кладовых. Окна и двери будут исполнены из соснового леса и окрашены масляною краскою. Для освещения передних и коридоров соответствующие двери будут остеклены рифлеными, рассеивающими свет стеклами; кроме того, где окажется нужным, над дверями будут стеклянные фрамуги и просветы»[81].
В такой-то современный дом и въехала, последовав примеру знаменитых соседей, среди которых оказались сам архитектор дома Виррих, поэтесса Ирина Одоевцева с родителями, художник Билибин, государственный деятель Милюков и другие известные личности, 39-летняя художница Надежда Любавина, организовавшая в своей новой огромной квартире и собственную мастерскую, и светский салон. «В просторной квартире собрались редкие гости – „жрецы искусства“… Художники рисовали, артисты драмы декламировали, певицы пели, балерины плясали, поэты читали свои стихи»[82].
Посещение артистического салона художницы, тепло приветствовавшей и признанных мэтров, и никому пока не известные новые таланты, было одним из самых простых способов заявить о себе. Так, часто бывавшего здесь 48-летне-го Максима Горького постоянно атаковала толпа разномастных гостей, требовавших его внимания, критики, помощи, новых рассказов. Сам же он имел возможность наблюдать за восходящими звездами литературной сцены – Маяковским, в котором сразу увидел потенциал, и неразлучной парочкой, Клюевым и Есениным, над которыми подтрунивал, как над «народствующими», «избяными» поэтами.
Обиженный Клюев, стихи которого Горький назвал подделкой, запомнил неудачный вечер в этом доме таким: «Я видел[83] Горького 50-летним тяжелым человеком, действительно с толстым старым лицом и шваброобразными толстыми усами, распаленным до поту от пляски дешевой танцовщицы, воистину отвратительной даже для обывательского вкуса, все хитрое ломанье которой вместе с молодостью кухарки не стоило движения мизинца старой Дункан»[84].
Вернемся же в 1 декабря 1915 года, где мы оставили собравшееся в этих стенах артистическое общество, внимавшее нервному докладу Маяковского («говорил невнятно о прежних поэтах, которые писали в своих усадьбах, имея веленевую бумагу… а потом заплакал и ушел в соседнюю комнату»[85]), а затем, наконец, и его новым стихам. Поплакав, поэт снова вышел к гостям и прочитал им свою новую поэму «Флейта-позвоночник»:
Горький не зря пришел в салон Любавиной в этот зимний вечер в разгаре Первой мировой войны – он восхищен поэмой, назвав «Флейту-позвоночник» «позвоночной струной, самым смыслом мировой лирики, лирикой спинного мозга»[87], а вспоминая провальный доклад о футуризме, с которого начал этот вечер 22-летний разволновавшийся поэт, отметил сидящему рядом племяннику своей гражданской жены: «Собственно говоря, никакого футуризма нет, а есть только Маяковский. Поэт. Большой поэт»[88].
Через три года, когда литературный кружок Надежды Любавиной перестанет существовать, а его посетители разойдутся разными дорогами – кто в эмиграцию, кто в новое советское будущее, кто в мир иной, где-то в этих же стенах будет встречать свое первое послереволюционное лето ее соседка, молодая 23-летняя поэтесса Ирина Одоевцева.
Жить в то время в Петербурге будет нелегко, главным образом из-за голода. В кооперативных лавках можно было получить мокрый хлеб и нюхательный табак, а около дома, на Бассейной, поторговаться с красноармейцами за замызганный кусок сахара, таявший в их грязной руке и уже ощупанный десятками прохожих. Но молодость и жажда жизни и такие лишения делают терпимыми.
Выглядывая из этих окон, голодная, но восторженная девушка познает захватывающее дух ощущение счастья, рожденное временем, когда больше не существовало полумер, а горе и счастье обрушивались на людей всей своей силой, и каждый день равнялся году.
«В сквере напротив нашего блока домов Бассейной, как и в Таврическом Саду, щелкали соловьи. Соловьи залетали даже в деревья под наши окна.
Однажды я проснулась от соловьиного пения под моим окном. Я села на низкий подоконник. Мне казалось, что захлестывающее чувство счастья сейчас унесет меня в открытое окно и я разорвусь на куски – распадусь звездной пылью и лунным сиянием. От счастья.
Мне вдруг стало страшно, я спрыгнула с подоконника, добежала до кровати, забралась в нее и натянула одеяло на голову, спасаясь от непомерного чувства счастья. – И сейчас же заснула.
Но и во сне чувство счастья не покидало меня…
Так жила я в то лето, первое „настоящее лето“ в моей жизни. До него все было только подготовкой…
В это лето я сделала еще одно удивительное открытие. Я вдруг почувствовала, что Петербург мой город и действительно принадлежит мне. Исчезло все столичное, чопорное, чужое. Петербург стал чем-то вроде своего имения, по лесам и полям которого бродишь целыми днями.
– Что-ж? В деревнях мужикам часто приходилось голодать, а теперь и мы, баре, поголадываем, зато как интересно стало жить! – говорил тогда Михаил Леонидович Лозинский»[90].
Литература
Брик Л.Ю. Из воспоминаний // Катанян В.В. Современницы о Маяковском. М.: Дружба народов, 1993.
Волохова Н. Феномен. Л., 1982.
Весь Петербург. 1915–1917 гг.
Карпов П. Из глубины: отрывки воспоминаний. М., 1991.
Клюев Н.А. Словесное древо. Проза. СПб., 2003.
Маяковский В.В. Флейта-позвоночник // Полн. собр. соч.: в 12 т. Т. 1. М., 1939.
Новый кооператив // Зодчий. 1912. Вып. 21.
Одоевцева И. На берегах Невы. М.: Худож. лит-ра, 1988.
Шкловский В. О Маяковском. М.: Сов. писатель, 1940.
Энциклопедия русского авангарда: Изобразительное искусство; Архитектура: Биографии. Т. II: Л – Я / авт. – сост. В.И. Ракитин, А.Д. Сарабьянов; [науч. ред. А.Д. Сарабьянов]. Т. II. М., 2013. С. 48–50.
Доходный дом Колобовых (1910 г., архитекторы С.Г. Гингер, М.И. Вилькен; ул. Ленина, 8 / Пушкарский пер., 2)
«Это была большая восьмикомнатная квартира, которая когда-то целиком принадлежала моему деду. Дед был совладельцем магазина под Думой, в котором продавались фототовары… Революция потеснила деда. Нам оставили четыре комнаты: в одной жили бабушка с дедушкой, в другой – я с мамой, в третьей – мамина старшая сестра с мужем, в четвертой – мамина младшая сестра. Семья наша была очень демократичной. Несмотря на то, что дед был очень важный, ходил в пальто с бобровым воротником и на подкладке из меха с такими, знаете, хвостиками, – он, выходя на улицу, здоровался с дворником-татарином за руку, после чего они долго беседовали о том о сем. Я не представляю себе кого-нибудь из новых русских, который нынче, выйдя на улицу, остановится для человеческой беседы с дворником.
[Коммуналка была дружная], в старых добрых традициях. Правда, в шестиметровой людской, около кухни, жила одна старуха, которую мы прозвали „баронихой“, – ее не любила вся квартира. Но поскольку комната ее была в отдалении, общались мы мало. А остальные соседи были очень милы. По первому зову моего будильника они приходили смотреть спектакли кукольного театра, которые я устраивал.
Улица Ленина, 8 / Пушкарский переулок, 2
Моя бабушка прожила в этой квартире всю блокаду. В эвакуацию, в Пермь, где мы жили с мамой, она писала письма, описывая нам все, что происходило в городе, при помощи кода… Бабушка, например, писала: „Маруся упала и очень сильно разбилась на углу Пушкарской и Бармалеевой“. И мы понимали, что речь идет о бомбе, потому что у Ситного рынка „Маруся“ падала несколько раз»[91].
Здесь, в Колобовском доме, провел первые 14 лет жизни, а затем молодость (с 22 до 33 лет) народный артист РСФСР Игорь Дмитриев, называвший себя праправнуком великосветской дамы Анны Шерер из «Войны и мира». Он выходил из своей 8-комнатной коммуналки на работу в театр Комиссаржевской, где играл своих «предков» – аристократов, или в «Ленфильм», где утонченная статная внешность обеспечила его десятками ролей графов, баронов и других героев «голубых кровей», на которые в советское время был большой спрос.
В стенах этого дома Игорь проснулся знаменитым, сыграв в одном из самых популярных фильмов 1950-х – «Тихом Доне». Поклонницы, награды, карьера – все началось здесь.
Позже Дмитриев, выросший в бабушкиных изысканных интерьерах, всю жизнь пытался сохранить этот дух в квартире собственной семьи.
Вернемся же немного назад, в беспечное детство маленького Игоря. Параллельно с его взрослением в этих же стенах разворачивалась совсем другая история.
Для жителя этого дома актера Игоря Дмитриева – это дом счастья, веселого детства и яркой молодости. Но была у маленького Игоря соседка, запомнившая Колобовский дом, как дом отчаяния и горя. Это поэтесса Мария Шкапская, самобытность которой высоко ценил Горький, Гиппиус ставила выше Ахматовой и Цветаевой, а Блок даже помог войти в президиум Союза поэтов.
В 1920-е годы в этом доме с мужем-инженером и двумя сыновьями поселилась 30-летняя Мария, и вся ее прошлая жизнь померкла перед ждавшими ее здесь испытаниями. Хотя «голодранку с петербургской улицы, выросшую на свалках», с 11 лет содержавшую парализованную мать и сумасшедшего отца и уже успевшую пройти через арест и ссылку (правда, во Францию, что можно считать везением), казалось, нелегко сломить.
Сюда, в квартиру Шкапских, приходили на литературные вечера известные писатели Эренбург, Тихонов, Заславский, а также друг поэтессы фантаст Абрам Палей: «Я стал бывать у них на поэтических собраниях. Это происходило раз в неделю – по средам, если не ошибаюсь… Шкапские занимали просторную квартиру. В самой большой комнате стоял длинный стол. На него выставлялось весьма нехитрое угощение: время было довольно суровое, а материальные средства Шкапских ограничены. На столе обычно располагались бутылки с минеральной водой, сухарики, бублики и… вот, пожалуй, и все. Но было очень хорошо, атмосфера царила совершенно непринужденная, однако без лишней развязности. Здесь собирались только люди, увлеченные поэзией, по большей части сами поэты, а также их друзья. Знакомые хозяйки могли приводить своих знакомых и никого никому не представляли, в том числе и самой Марии Михайловне.
И.Б. Дмитриев
Г.О. и М.М. Шкапские
Случалось услышать такой диалог: „Кто эта молодая женщина?“ – „Это хозяйка квартиры, Шкапская“. – „А вот тот мужчина, что задумчиво сидит в углу?“ – „А это ее муж“»[93].
Период литературного признания и личного счастья продлился недолго. Вскоре в этих стенах Мария пережила самоубийство близкого друга, отца ее второго сына. Одновременно с этой подкосившей ее трагедией на нее обрушилась травля критиков, обозвавших ее «библейские» стихи о женственности, зачатии, плотской любви непристойными и грубо физиологичными. Даже отзыв имевшего вес в литературной среде священника Павла Флоренского, считавшего истинно христианским ее эмоциональное творчество, не избавил Марию от оскорблений и насмешек. Принятие в петроградские литературные круги в начале 1920-х обернулось резким отчуждением к их середине.
Обнажив в стихах свои личные муки вины за сделанный аборт, всю жизнь страдавшая о нерожденном ребенке да еще и сравнивавшая с ним Россию, убитую кровью революции, Мария получила ярлык «гинекологическая поэтесса» и, непонятая, сдалась.
Этот дом, свидетеля ее падения, Шкапская окрестила «пятифасадным зданием»[94]. В этих пяти фасадах в 1925 году Мария приняла решение умереть как поэт. Она устроилась на фабрику и стала писать безликие новостные очерки о стройках и урожаях в советские газеты. Только после ее смерти дочь Светлана (одногодка Игоря Дмитриева – может, они даже играли вместе в одном из дворов этого огромного дома) узнала о поэтическом прошлом матери.
Именно в период жизни в этом доме – Ведьма, Вакханка, Волчица, как прозвали Марию Шкапскую петроградцы, – издала почти все свои мистически-религиозные и очень интимные стихи и здесь же навсегда замолчала, как поэт.
В этих стенах Мария пострадала за провокационные строки о грехопадении Евы, нерожденных детях, мистической природе женственности, за которые ее имя подвергли забвению на полвека.
Литература
Грякалова Н.Ю. Шкапская Мария Михайловна // Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги / под ред. Н.Н. Скатова. Т. 3: П – Я. М., 2005.
Дмитриев Игорь Борисович / Библиографический ресурс «Чтобы Помнили» // -pomnili.net.
Игорь Дмитриев: «Я стремился воссоздать облик квартиры детства»: беседовала Анжелика Валерьева // Недвижимость Петербурга. 27.02.2002 // .
Кириков Б.М. Архитектура петербургского модерна. Особняки и доходные дома. СПб., 2003.
Палей А.Р. Встречи на длинном пути. М., 1990.
Чепель А.И. Инженер-архитектор С.Г. Гингер // Невский архив: историко-краеведческий сборник: вып. 10 / науч. ред. В.В. Антонов. СПб., 2012.
Шкапская М.М. Барабан Строгого Господина: [стихи]. [Берлин: Огоньки, 1922].
Шкапская М.М. Стихи / вступ. ст. Б. Филиппова и Е. Жиглевич. London: Overseas Publications Interchange, 1979.
Шкапская М.М. Час вечерний: (стихи 1913–1917). Пг., 1922.
Шкапская М.М. Mater dolorosa: [стихи]. Пг.: [Неопалимая купина], 1921.
Дом Ротина (1877 г., архитектор И.П. Маас; Малая Морская ул., 13 / Гороховая ул., 8)
«В назначенный час я явился к Модесту Ильичу на квартиру. Волновался страшно, но Модест Ильич своей исключительной мягкостью… подействовал на меня успокоительно, и вскоре я почувствовал себя совершенно свободно.
Я прочитал ему две роли…
Когда миссия моя была закончена, я собрался было уходить, но Модест Ильич непременно хотел, чтоб я остался отобедать. Надо сказать, что тогда, по молодости лет, я еще очень дичился от непривычки бывать в незнакомом обществе, а потому стал отговариваться тем, что не предупредил своих и что они будут беспокоиться, если я запоздаю…
И только что я собрался ретироваться, как кто-то постучал в дверь…
– Мой племянник – Давыдов Владимир Львович, или просто „Боб“, как мы его называем, – представил мне его Модест Ильич. – Вот уговариваю молодого человека пообедать с нами, – обратился он к племяннику, – но он такой недобрый, упрямится, не хочет…
Малая Морская улица, 13 / Гороховая улица, 8
После нескольких ничего не значащих перекрестных фраз… Владимир Львович вдруг сообщает к моему еще большему смущению:
– А мы слушали, как вы читали!..
– Как так? – удивился Модест Ильич.
– А очень просто… Я должен признаться и открыть тайну. Мы с дядей Петей все время подслушивали и даже подсматривали в щелку двери… Как мы боялись выдать себя и боялись, что нас застанут на месте преступления!
Из соседней комнаты раздался чей-то низкий басок и укоризненно протянул:
– Да… – продолжал, смеясь, Владимир Львович, – дядя Петя даже стоял на коленях и подглядывал в замочную скважину.
– Смотрите, пожалуйста, – обратился ко мне Модест Ильич, – точно маленькие дети!..
В это время в дверях появилась фигура Петра Ильича – его я сразу узнал по портретам.
– Бо-об!.. Ну, как не стыдно!.. Простите нас, ради Бога, – обратился он ко мне, протягивая руку. – Мы хотели скрыть от вас. Условились не говорить. А вот он, такой нехороший… Мне даже совестно смотреть вам в глаза… Простите нас за ребячество… Но, право, нам было очень интересно!
– Как?.. Неужели ты так-таки и стоял на коленях и подглядывал?! – закатывался веселым смехом Модест Ильич.
– Ну что же особенного?! – конфузился, как ребенок, Петр Ильич. – Мне было интересно…
Потом разговор перешел на другие темы. Зная, что я раньше никогда не бывал в Петербурге, интересовались моим впечатлением от города. Петр Ильич очень любил Петербург, считал его одним из самых красивых городов в Европе…
– …А вот не хотите ли взглянуть на Исаакия с нашего балкона?.. Грандиозная картина!
И повел меня на балкон любоваться этим видом.
Чайковские только что переехали на новую квартиру – с Фонтанки, дом 24, на Малую Морскую, угол Гороховой, дом 13. Квартира помещалась в верхнем этаже с угловым балконом, выходящим на улицу Гоголя и на Гороховую. Вид с балкона был чарующий. На фоне багряного заката удивительно был красив Исаакий.
Пришли доложить, что обед готов»[97].
Таким состоялось первое знакомство 19-летнего актера Юрия Юрьева, только что переехавшего в Петербург, поступившего в Александринский театр и получившего роль в «Предрассудках» Модеста Чайковского (для репетиции которой он и явился сюда), и великого композитора Петра Чайковского, который остановился погостить в новой квартире брата на пятом этаже этого дома.
Тот самый балкон квартиры № 20, где смущенный юноша и его кумир встречали закат, находится прямо на углу здания, а два окна справа от балкона – окна комнаты Петра Ильича, в которой он умрет от холеры через всего несколько недель после этой истории.
Юрию Юрьеву было суждено наслаждаться общением с великим композитором всего несколько недель, но каких! Юноша станет свидетелем последнего ужина 53-летнего Чайковского в ресторане Лейнера, где тот выпьет некипяченой воды, ставшей, по слухам, причиной смертельной болезни, паломничества тысяч людей к этому дому в день смерти композитора пять дней спустя, когда слуга Назар узнает его из толпы и пропустит в свою комнатку, где пряталась от публики семья, и грандиозных оплаченных императором похорон, начавшихся от этих самых дверей.
Через 10 лет, уже ведущий актер Александринского театра, которому вскоре доведется стать его директором, Юрий Юрьев, вспоминая юность, будет проходить мимо этого здания, обгоняемый коллегами, спешащими в популярный ресторан «Вена», открытый бывшим официантом Лейнера (какое напоминание о злополучном стакане воды, поданном там Чайковскому!) Иваном Соколовым на углу дома, прямо под памятным для Юрьева балконом.
«Вена» – ресторан первого разряда, с ливрейными швейцарами, лакеями в смокингах и изысканной кухней. Свежайшую провизию каждое утро отбирает лично жена хозяина, парадные двери торжественно открываются в полдень, под залп петропавловской пушки, на поздний петербургский завтрак полагается графин водки и две кружки пива, а посетителей встречает солидный метрдотель, оценивая уместность их наряда для столь приличного заведения. Тем не менее это консервативное место быстро облюбовывают люди искусства – литераторы, музыканты, артисты. И вот уже на стенах ресторана, увешанных автографами, рисунками, стихами, нет пустого места – предприимчивый Соколов сразу оценил перспективы писательского интереса и каждому столику приносил лист бумаги, предлагая оставить на нем что-нибудь на память. Кто только не выглядывал из этих окон, заседая в «Вене»! Литераторы Горький, Блок, Маяковский, Северянин, Чуковский, Алексей Толстой, Гумилев, певцы Шаляпин и Собинов, художники Бакст, Билибин, Сомов…
Для удобства многочисленных кружков и журфиксов угловой зал полностью отдали под литераторский, а завсегдатаи получили именные кружки для пива. Вероятно, своим подарком чаще всего пользовался «король смеха» Аркадий Аверченко, живший по соседству и бывавший здесь почти каждый день:
«Аверченко – магнит „Вены“. Где Аверченко – там хохот, грохот, веселье, озорства и компания.
Юморист живет рядом с „Веной“, всего только через дом, и не было того дня, чтобы он не зашел в ресторан.
Сатириконцы напрасно ищут днем своего „батьку“, трещат в телефон, рыщут на извозчиках и моторах из редакции в контору, в типографию, в театр, на квартиру.
Где он пропадает – неизвестно.
Но вечером Аверченко найти – штука нехитрая. По простоте души, как медведь, он ходит одной тропой, и всегда по вечерам его можно поймать в „Вене“. Тут он не увильнет ни от начинающего сатирика, ни от ловкого издателя, ни от южанина-антрепренера, и сатириконского батьку можно брать простыми руками.
Иногда русский Твен приходит один. Тогда его со всех сторон облипают… поэты, артисты и художники.
Но большей частью он является во главе шумной, остроумной, грохочущей компании сатириконцев…
Сатирическая компания сразу занимает три-четыре столика, и немедленно же начинается несмолкаемый „дебош“. Остроты, эпиграммы, каламбуры сыпятся, как из громадного мешка»[98].
Не отставал и Александр Куприн, про которого шутили: «Ах, в „Вене“ множество закусок и вина. Вторая родина она для Куприна…»[99]. Визиты писателя запомнились посетителям вовсе не беседами о литературе. «Дебоши» Куприна было не сравнить со встречами сатириконцев. По воспоминаниям Тэффи, «часто приходилось видеть в литературном ресторане „Вена“, как бушует в своей компании Куприн, как летят на пол бутылки, грохают об пол стулья, гремит крепкая ругань со словами из „народной анатомии“, как ведут кого-то под руки мириться и оробевшие мирные люди спешат от греха подальше убраться по домам»[100]. Однако исполнять наказ хозяина Ивана Соколова и оставлять после себя автографы, плакаты и даже такие стихи доставлявший ему много хлопот Куприн не забывал:
Литература
Правительственный вестник. 1893. 27 окт. (8 нояб.).
Бройтман Л.И. Гороховая улица. СПб., 2010.
Дейч А. Арабески времени // Звезда. 1968. № 12.
Демиденко Ю. Рестораны, трактиры, чайные… Из истории общественного питания в Петербурге XVIII – начала XX века. М.; СПб., 2011.
Десятилетие ресторана «Вена»: лит. – худож. сб. СПб., 1913.
Миленко В. Аркадий Аверченко. М., 2010.
Петербургские трактиры и рестораны (очерки, воспоминания) / под ред. А.М. Конечного. СПб., 2006.
Тэффи Н.А. Моя летопись. М., 2005.
Юрьев Ю.М. Записки: в 2 т. Т. 1. Л., 1963.
Юрьев Юрий Михайлович // БСЭ. Т. 30.
Яковченко Р.Н. Улица Дзержинского. Л., 1974.
Дом Эйлера (XVIII в., перестроен в 1851 г. архитектором А. Робеном; В.О., 10-я Линия, 1 / наб. Лейтенанта Шмидта, 15 / Кадетский пер., 6)
«Он поехал в Петербург, чтобы снова лизать русский снег. Я счастлив, что своим отбытием он избавил меня от чтения громадных фолиантов, наполненных цифрами, и пусть корабль, нагруженный иксами и игреками, перевернется кверху килем, чтобы Европа уже навсегда избавилась от обилия интегральных исчислений…»[102].
Так язвительно провожал в Петербург великого математика Леонарда Эйлера прусский король Фридрих, озлобленный на Екатерину II за переманивание гениев. Романист Валентин Пикуль, представивший нам эту сцену, недалеко ушел от фактической реакции правителя Пруссии, не желавшего давать разрешение на отъезд ученого и вынужденного, наконец, сдаться под натиском настойчивых ходатайств российского правительства, не удержался от острот: «Господин Эйлер, до безумия любящий Большую и Малую Медведицу, приблизился к северу для большего удобства к наблюдению их»[103].
В.О., 10-я линия, 1 / наб. Лейтенанта Шмидта, 15 / Кадетский переулок, 6
Чтобы досадить Фридриху, императрица Екатерина II согласилась ежегодно выплачивать математику и его «цыганскому табору» (семья 60-летнего ученого насчитывала 18 человек) 3000 рублей из государственных доходов, дать престижные должности сыновьям, обещать пожизненную пенсию жене по смерти мужа, подарить дом и даже одного из своих поваров, лишь бы талант Эйлера стал работать на славу России, а не Пруссии.
«Сразу же с корабля Леонард Эйлер был пересажен в карету, которая примчала его в Петергоф.
Екатерина встретила ученого на зеленой лужайке.
– Как ваши драгоценные глаза? – спросила она. – Берегите их, они нужны для моей Академии, мой флот и артиллерия усиливаются, а без ваших вычислений ни стрелять, ни плавать нельзя.
Она спросила – чего больше всего он боится в России?
– Я покинул эту страну, убоясь количества омерзительных пыток, какие были здесь во времена Анны Иоанновны.
– Россия от пыток избавлена навеки!
– И еще я боюсь… русских пожаров.
– Между нами говоря, я их тоже побаиваюсь. Единственное, чем я могу вас утешить: случись пожар, сама прибегу с ведрами.
Она подарила ему дом на Васильевском острове»[104].
Этот дом (а точнее, капитал на его покупку) и стал подарком императрицы великому математику, где, трудясь на благо России, как и мечтала императрица, и написав сотни научных работ, Эйлер прожил почти 20 лет.
Кстати, пожар, которого так боялся математик, действительно случился. В 1771 году, через 5 лет после прибытия в Петербург Эйлера, его дом сгорел со всей подаренной императрицей обстановкой. Самого Леонарда и его рукописи удалось спасти, и, когда здание восстановили, пожилой и уже ослепший ученый, привыкший к своему обиталищу, пожелал снова въехать в него, чтобы до конца жизни не покидать ставших родными стен.
Екатерина II принимала участие в жизни математика до конца его дней – способствовала работе в деле управления Академией наук, интересовалась его публикациями и фундаментальными открытиями в области геометрии, теории чисел, физики, оптики, даже кораблестроения и воздухоплавания, справлялась о здоровье ученого и однажды пригласила известно немецкого окулиста для проведения операции по удалению катаракты с глаза Эйлера.
Императрица не ошиблась, приложив когда-то усилия для возвращения великого швейцарского ученого на службу отечественной науки: «Я уверена, что моя Академия возродится из пепла от такого важного приобретения, и заранее поздравляю себя с тем, что возвратила России великого человека»[105].
В середине XIX века дом надстроил и расширил французский архитектор А. Робен для одного из следующих владельцев – купца Антона Гитшова, но первоначальное здание сохранили. Весь ХХ век в здании сменяли друг друга несколько школ. Возможно, по коридорам нынешней до сих пор бродит 250-летний дух слепого ученого, создавшего математический анализ, и подслушивает, как его теории объясняют ученикам XXI века.
Литература
Весь Ленинград и область. 1928 г.
Белл Э.Т. Творцы математики. М., 1979.
Боголюбов А.Н. Математики. Механики: биографический справочник. Киев, 1983.
Весь Ленинград: адресная и справочная книга. Л., 1935.
Гиндикин С.Г. Рассказы о физиках и математиках. 3-е изд., расш. М., 2001.
Ленинград. Краткая адресно-справочная книга. Л., 1973.
Пекарский П.П. История Императорской академии наук в Петербурге. Т. 1. СПб., 1870.
Пикуль В. Фаворит: роман-хроника времен Екатерины II: в 2 т. Л., 1985.
Робен Адриан // РБС. Т. 16. СПб., 1913.
Справочная книга о лицах, получивших на 1867 год купеческие свидетельства по 1 и 2 гильдиям / [сост. И.А. Глазов]. СПб., 1867.
Фрейман Л.С. Творцы высшей математики. М., 1968.
Эйлер Леонард // БСЭ. Т. 29.
Доходный дом Акционерного общества «Строитель» (1910 г., архитектор В.В. Шауб; Гангутская ул., 16)
«В домашнем укладе Судейкиных во всем чувствовалось ее влияние. В квартире на окнах висели кисейные занавесочки с едва заметными горошинками. Это вкус Олечки. Качалась клетка с канарейкой. Это ее любовь к птицам. На булях, столиках из красного дерева стояло множество расписных с позолотой чайников, чашек и пасторальных статуэток из гарднеровского и поповского фарфора»[106].
Именно в этом доме, в символической для «Серебряного века» архитектуре модерна, в артистической квартире художника Сергея и танцовщицы Ольги Судейкиных, среди птичьих клеток и кисейных занавесок, всего за пару лет в 1913–1915 годах развернулось сразу несколько драм – не привычных им театральных, а горьких и реальных.
Гангутская улица, 16
Жили они в этом доме не одни, а с другом семьи, поэтом Михаилом Кузминым. Другой поэт, 20-летний восторженный юноша Всеволод Князев, часто заходил в гости для совместной работы со старшими товарищами над сборником стихов. С 40-летним Кузминым у него были накаленные отношения – в прошлом их связывал двухлетний роман, закончившийся по инициативе Кузмина формальным, но не эмоциональным разрывом.
Со всей наивностью и безрассудством, на которые способен гусарский корнет, впервые повстречавший роковую музу, в этом доме Князев страстно влюбился в обольстительную Ольгу, которая охотно принимала его знаки внимания не только из кокетства, но и чтобы насолить другу-врагу Кузмину, с которым она давно соперничала за внимание своего мужа, любившего их обоих.
Осознание, что за легкомысленной взаимностью Ольги кроется не искреннее чувство, а нравы той богемной среды, где она всегда оставалась в эпицентре клубка обожания, восхищения, интриг, измен, любовных многоугольников, пришло быстро. После выяснения отношений с обоими любовниками, разбившими его сердце, Князев выстрелил себе в грудь из браунинга.
После самоубийства корнета пришел черед следующей драмы. Как-то, будучи дома одна, Ольга нашла дневник жившего с ними Кузмина и, не удержавшись, прочла его. Несмотря на всю свободу царивших в их семье нравов да и на давний кризис ее отношений с мужем, Ольга была ошеломлена, узнав из дневника, что все эти годы Сергей и Михаил поддерживали любовную связь, начавшуюся еще до брака Судейкиных, скрываясь от нее в их совместной квартире здесь, в этом доме.
«Дома я читал дневник и стихи; потом стали нежны, потом потушили свечи, постель была сделана; было опять долгое путешествие с несказанной радостью, горечью, обидами, прелестью. Потом мы ели котлеты и пили воду с вареньем»[111].
Кузмина выставили из этого дома, но семейное счастье Судейкиных было уже невозможно. Сергей полюбил актрису Веру Шиллинг (позже она станет Верой Судейкиной, а затем – Верой Стравинской), а Ольга – композитора Артура Лурье, которого вскоре будет делить с лучшей подругой Анной Ахматовой.
Вот так одной смертью и расставанием всех со всеми, закончилась жизнь артистического кружка Судейкиных в этом доме.
Как люди искусства, все они отразили переломные годы, проведенные здесь, в своих работах. В картинах, в поэмах, в дневниках. Не только участники, но и свидетели событий не остались в стороне. Анна Ахматова описала застрелившегося корнета, «Путаницу-Психею» Ольгу и жестокого «сатану» Кузмина в «Поэме без героя».
Трагедия юноши в каком-то смысле – расплата «бражников и блудниц» за свое безрассудство и аморальный образ жизни. Сейчас же историю этого дома и событий, свидетелями которых он стал, лучше всего отражают строки Георгия Иванова, наполненные тоской и одновременно светлой грустью.
Литература
Арсеньева Е. Петербургская кукла, или Дама птиц (Ольга Судейкина-Глебова). М., 2010.
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Ахматова А. Поэма без героя. М., 2011.
Богомолов Н.А., Малмстад Д.Э. Михаил Кузмин: Искусство, жизнь, эпоха. М., 1996.
Боулт Д. Сергей Судейкин: Жизнь в ближней эмиграции // В.Э. Борисов-Мусатов и «Саратовская школа»: Материалы 7-х Боголюбовских чтений. Саратов, 2001. С. 161–165.
Иванов Г.В. Полн. собр. стихотворений. М., 2015.
История русской литературы XX – начала XXI века. Ч. I. 1890–1925 годы / сост. В.И. Коровин. М., 2019.
Князев В. Стихи. Посмертное изд. СПб., 1914.
Кузмин М.А. Дневник: 1905–1907. М., 2000.
Кузмин М.А. Осенние озера. М., 1912.
Лурье А. Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина // Воздушные пути (Нью-Йорк). 1967. № 5. С. 139–145.
Мок-Бикер Э. Коломбина десятых годов. СПб., 1993.
Стравинская В. Дневник: Петроград, Крым, Тифлис: 1917–1919. М.: Русский путь, 2006.
Тихвинская Л. Повседневная жизнь театральной богемы Серебряного века. Кабаре и театр миниатюр в России: 1908–1917. М., 2005.
Доходный дом Любищева (1894 г., архитектор М.А. Андреев; Греческий пр., 23 / 7-я Советская ул., 2)
«Мой отец родился в Петербурге 5 апреля 1890 г. в семье очень богатого лесопромышленника, жившей в собственном доме на Греческом проспекте, в огромной квартире со множеством прислуги. Образ жизни этой семьи был обычным для петербургской крупной буржуазии. Благополучие, основанное на частной собственности… стало у отца моего с раннего возраста вызывать протест… Самой отрицательной чертой отец считал равнодушие к судьбам других, „не своих“ людей. Несогласия отца с родителями не выражались в скандалах и криках, не было и споров. Примерно с одиннадцати лет он установил для себя свой собственный режим жизни, занятий и развлечений. В семье, например, соблюдались церковные обряды… Отец очень рано от этого отказался; дед… вспоминал, что это делалось отцом отнюдь не в оскорбительной форме, а так, что причины отказа вызывали уважение, – отец был „всегда занят“…
Отец избегал пользоваться услугами горничных, сумел добиться у родителей переустройства комнат для прислуги. От забот своей матери об его одежде, устройстве и комфорте он рано и решительно уклонился. По его рассказам я знаю, что тогда он считал корнем всех бедствий человечества частную собственность, называя ее воровством. По сбивчивым, наивным и путаным позднейшим рассказам бывших горничных их дома, я знаю, что отец и перед ними, молодыми тогда девушками, развивал свои идеи. Но из дома он не ушел. И жил, хотя и ограничив себя скромными рамками, на „прибавочную стоимость“…
Греческий проспект, 23 / 7-я Советская улица, 2
Революция избавила три поколения нашей семьи от бремени собственности. С этой весьма нешуточной собственностью (состояние моего деда перед революцией оценивалось в 30 млн руб.), почти все члены семьи расстались с легкостью и без сожаления, это я могу свидетельствовать с полной ответственностью. Само понятие собственности в семье моего отца и для нас, детей, стало звучать как нечто совершенно порочное. Детским ругательством стало слово „собственник“… „Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног!..“ – воодушевленно пел нам папа»[114].
В этом доме прошло детство выдающегося биолога Александра Любищева, впитавшего левые настроения начала века, несмотря на роскошь и светский лоск, окружавшие его в стенах этого дома, владельцем которого был его отец-миллионер.
Всю жизнь думая о науке, Александр словно не замечал голода и нищеты, через которые его семье пришлось пройти в первые после революции годы. Но успех к увлеченному биологу пришел быстро – он стал профессором нескольких российских университетов и опубликовал десятки научных работ.
К его отцу, тому самому миллионеру-лесопромышленнику и «собственнику», судьба тоже оказалась благосклонна. Революция застала его в Англии, но как истинный патриот Александр-старший сел на корабль и вернулся на Родину.
«Всех пассажиров забрали, отправили в кутузку, а оттуда вскорости рассортировали: „направо“, „налево“ …Все зависело от случайности… И вот он, такой „гусь“ с заграничным паспортом, с чемоданом в наклейках, получил приказ – „направо“… Т. е. в жизнь, пока. И он появился у нас, когда летом мы жили в Алуште. Был он уже не молод, ему было за 60. Но он был бодр, приветлив и даже весел, всегда очень тщательно одет и причесан. И что же? Пришла телеграмма из Петрограда, куда его вызывал Совет Народных Комиссаров на службу по налаживанию деловых связей с Западом, по экспорту леса. И еще там же был приказ всем начальникам вокзалов, и портов оказывать ему содействие в его следовании в Петроград. И дед покатил в вагоне первого класса… И получил свою огромную квартиру в 12 комнат в бывшем собственном доме, и телефон, и автомобиль с шофером. Вот-то чудеса на заре „нового мира“… И начал служить верой и правдой новому строю, считая, как я потом от него слышала, что „все от Бога“…»[115].
В 1930-е годы пожилой отец и сын, уже известный биолог, снова встретились в этом доме. Сын, однако, отказался жить в роскошной квартире, где все напоминало дореволюционный «барский» уклад, и, сильно огорчив родителей, поселился с семьей, как и другие научные работники, в бывшем фрейлинском доме Елагина дворца, который преобразовали во Всесоюзный институт защиты растений. Александр же старший остался доживать свои дни в этом доме, хозяином которого он был большую часть жизни.
Литература
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Гранин Д. Эта странная жизнь. М.: АСТ, 2017.
Светлов П.Г. Александр Александрович Любищев. Л.: Наука, 1982.
Из воспоминаний бабушки, Евгении Александровны Равдель (Любищевой) // /@genina_jena.
Дом Лепена (1766 г.; Малая Морская ул., 17)
«Гоголь жил на Малой Морской, в доме Лепена, на дворе, в двух небольших комнатах, и я живо помню темную лестницу квартиры, маленькую переднюю с перегородкой, небольшую спальню, где он разливал чай своим гостям, и другую комнату, попросторнее, с простым диваном у стены, большим столом у окна, заваленным книгами, и письменным бюро возле него. В первый раз, как я попал на один из чайных вечеров его, он стоял у самовара и только сказал мне: „Вот, вы как раз поспели“. В числе гостей был у него пожилой человек, рассказывавший о привычках сумасшедших, строгой, почти логической последовательности, замечаемой в развитии нелепых их идей. Гоголь подсел к нему, внимательно слушал его повествование… Большая часть материалов, собранных из рассказов пожилого человека, употреблены были Гоголем потом в „Записках сумасшедшего“. Часто потом случалось мне сидеть и в этой скромной чайной и в зале… Степенный, всегда серьезный Яким состоял тогда в должности его камердинера. Гоголь обращался с ним совершенно патриархально, говоря ему иногда: „Я тебе рожу побью“, что не мешало Якиму постоянно грубить хозяину, а хозяину заботиться о существенных его пользах и наконец устроить ему покойную будущность. Сохраняя практический оттенок во всех обстоятельствах жизни, Гоголь простер свою предусмотрительность до того, что раз, отъезжая по делам в Москву, сам расчертил пол своей квартиры на клетки, купил красок и, спасая Якима от вредной праздности, заставил его изобразить довольно затейливый паркет на полу во время своего отсутствия»[116].
Малая Морская улица, 17
Именно в этот дом к 24-летнему писателю Николаю Гоголю приходил на чайные вечера 20-летний критик Павел Анненков. Гоголь жил в Петербурге уже пять лет и недавно, после издания «Вечеров на хуторе близ Диканьки», получивших одобрение самого Пушкина, достиг известности в литературном мире.
Однако, проснувшись знаменитым, юноша обнаружил, что финансовое положение его все так же стеснено и единственное его богатство – новые друзья, принимать которых он вынужден в бедной двухкомнатной квартирке окнами во двор, в этом самом доме, который тогда был выкрашен в белый цвет.
По черной лестнице, обгоняемый прислугой, поднимался к Гоголю на последний этаж и Пушкин, которому оставалось жить всего три года.
«Пушкину. 23 декабря 1833. Петербург.
Если бы вы знали, как я жалел, что застал вместо вас одну записку вашу на моем столе. Минутой мне бы возвратиться раньше, и я бы увидел вас еще у себя. На другой же день я хотел непременно побывать у вас; но как будто нарочно все сговорилось итти мне наперекор: к моим гемороидальным добродетелям вздумала еще присоединиться простуда, и у меня теперь на шее целый хомут платков. По всему видно, что эта болезнь запрет меня на неделю…»[117].
«Пушкину. Май 1834 г. Петербург.
…Теперь я так зло захворал, что никуда не могу носа показать. Если вы будете в нашей стороне и станете проходить мимо Малой Морской, будьте великодушны и загляните ко мне страдающему и телом, и духом. Я имею вам кое-что сказать.
Н. Гоголь»[118].
Из окон этого дома неделями доносились кашель страдавшего от петербургского климата писателя и причитания верного слуги Якима, ухаживавшего за ним в тесной темной крохотной квартире, где они уживались вдвоем.
Здесь же по ночам, пока не догорят две выданные Якимом свечи, Гоголь написал большинство «Петербургских повестей» и комедию «Ревизор», одного из героев которой он поселил тут же. Хлестаков пишет письмо «его благородию, милостивому государю Ивану Васильевичу Тряпичкину, в Санкт-Петербург, в Почтамтскую улицу, в доме под нумером девяносто седьмым, поворотя на двор, в третьем этаже, направо»[119]. Свой адрес Гоголь во время трехлетнего пребывания в этом доме называл так: «В доме Лепеня под № 97».
Наследники придворного музыканта Лепена владели домом с 1820-х годов и до революции 1917 года, в советское время здесь размещалось общество художников, а улице еще в 1902 году по случаю 50-летия со дня смерти писателя дали имя Гоголя, которое она носила 90 лет.
Литература
Анненков П.В. Н.В. Гоголь в Риме летом 1841 года. Киев: Мультимедийное изд-во Стрельбицкого, 2018.
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Вересаев В. Гоголь в жизни. М., 2017.
Весь Ленинград и область. 1924–1931 гг.
Гиппиус В.В. Гоголь. Воспоминания. Письма. Дневники. М., 1999.
Гоголь Н.В. Ревизор // Собр. соч.: в 5 т. / под ред. Н.С. Тихонравова. 11-е изд. Т. 3. СПб., 1893.
Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 16 т. Т. 15. Переписка: 1832–1834. М.; Л., 1948.
Пыпин А.Н. Гоголь, Николай Васильевич // ЭСБЕ. Т. 17. СПб., 1893.
Яцевич А.Г. Пушкинский Петербург. СПб., 1993.
Доходный дом (1890 г., архитектор В.П. Цейдлер; ул. Радищева, 5–7)
«Я зашла к Гумилеву на Преображенскую… и застала его за странным занятием.
Он стоит перед высокой книжной полкой, берет книгу за книгой и, перелистав ее, кладет на стул, на стол или просто на пол.
– Неужели вы собираетесь брать все эти книги с собой? – спрашиваю я.
Он трясет головой.
– И не подумаю. Я ищу документ. Очень важный документ. Я заложил его в одну из книг и забыл в какую. Вот я и ищу. Помогите мне.
Ятоже начинаю перелистывать и вытряхивать книги. Мы добросовестно и безрезультатно опустошаем полку.
– Проклятая память, – ворчит Гумилев. – Недаром я писал: „Память, ты слабее год от года!“.
Мне надоело искать, и я спрашиваю:
– А это важный документ?
Он кивает:
– И даже очень. Черновик кронштадтской прокламации. Оставлять его в пустой квартире никак не годится!
Улица Радищева, 5–7
Черновик прокламации? Я вспоминаю о заговоре. Да, он прав. Необходимо найти его. И я продолжаю искать с удвоенной энергией.
– А вы уверены, – спрашиваю я снова, безрезультатно просмотрев еще несколько десятков книг, – вы уверены, что действительно положили его в книгу?
Он раздраженно морщится.
– В том-то и дело, что совсем не уверен. Не то сунул в книгу, не то сжег, не то бросил в корзину для бумаг. Я с утра тружусь, как каторжник, – все ищу проклятый черновик…
Гумилев оборачивается ко мне.
– Вам, конечно, хочется бежать? Ну бегите. Все равно мне не найти проклятого черновика. Верно, я его сжег. И ведь никто здесь не поселится. Ключ от квартиры останется у меня.
Я смогу приходить сюда, когда хочу, – уже улыбаясь, он оглядывается на дверь, – смогу назначать здесь любовные свидания…
Он начинает ставить книги обратно, а я торопливо надеваю свою широкополую шляпу и прячу под нее бант.
– До свидания, Николай Степанович.
– Не говорите никому о черновике, – доносится до меня его голос, и я, кивнув наскоро Ане, готовящей что-то в кухне на примусе, выбегаю на лестницу»[120].
В этом доме на улице Преображенской, 5 (ныне – улица Радищева), недолгое время, всего год, в квартире № 2 жил Николай Гумилев. Сюда и приходила к нему молодая поэтесса Ирина Одоевцева и другие друзья помогать разбирать вещи перед переездом в новое жилье. Злополучный черновик ни поэту, ни его помощникам найти не удалось, зато удалось другим, более опытным в этом деле людям. В 1921 году, спустя всего несколько месяцев после переезда Гумилева из этого дома, чекисты провели здесь обыск и все-таки нашли потерянный документ, ставший одной из улик в деле о расстреле поэта за участие в Таганцевском заговоре, направленном на свержение советской власти.
Прокламация, по свидетельству лично державшего ее в руках поэта Георгия Иванова, действительно существовала, была сочинена витиеватым, «доступным рабочим массам» языком и написана от руки самим Гумилевым. Призывала она к поддержке восставших против советской власти матросов. Была ли она роковой уликой и существовал ли весь Таганцевский заговор вообще, по крайней мере в том виде, в котором его преподносили (первая жена поэта Анна Ахматова считала имена известных людей, в том числе Гумилева, вписанными матросами в список участников для отвода глаз от них самих), – до сих пор предмет споров.
Тем не менее, явно нелюбимого новой властью 35-лет-него поэта, открыто называвшего себя монархистом, разглагольствовавшего о своих контрреволюционных взглядах перед любым, кто слушал (а среди них были и доносчики), но почему-то уверенного в своей неприкосновенности за честность и прямоту, мгновенно арестовали. Бесстрашный Гумилев, всю жизнь с усмешкой относившийся к опасностям и даже сознательно искавший их (поездка в Африку, запись на войну добровольцем, возвращение из сытой Европы в советский и теперь враждебный его мировоззрению Петербург), и от ареста, хоть и неожиданного для него, не пытался скрыться. Взял с собой Библию и «Одиссею» Гомера и до последнего оставался все также спокоен.
Вместе с поэтом в том же году расстреляли еще 60 участников заговора, а в 1992 году всех их реабилитировали, признав дело сфабрикованным ВЧК.
Литература
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Ахматова А. Мой муж Гумилев, отец Гумилева. М., 2014.
Гумилев Н. Стихотворения: посмертный сборник. Пг., 1922.
Иванов Г. Мемуары и рассказы / сост. В. Крейд. М., 1992.
Одоевцева И. На берегах Невы. М., 1988.
Оцуп Н.А. Николай Гумилев. Жизнь и творчество. СПб., 1995.
Шауб И. По линии наибольшего сопротивления // Посев (Frankfurt am Main). 2002. № 1 (1492).
Шошков Е. «Дело Таганцева»: полный развал! // Смена. 1992. 7 окт.
Доходный дом Цеховой (1903 г., архитектор В.П. Цейдлер; Каменноостровский пр., 8)
Сатирический стих Аркадия Аверченко описывает коррупционный скандал 1906 года. В пострадавшие от недорода регионы не доставили зерна («Мильон – капут»), и главных действующих лиц: Эрика Лидваля, владельца казино и поставщика бесшумных унитазов («Лидваль. Клозет»), и модистку Александру Цеховую, державшую в своем ателье на Караванной публичный дом, известную как мадам Эстер («Эстер. Корсет»).
На собственный доходный дом на Каменноостровском предприимчивая дама заработала еще несколько лет назад, но переезжать с насиженного места на оторванную от эпицентра интриг Петроградскую сторону не торопилась. Пока этот эпицентр не переместился прямо сюда.
Началось все со случайного знакомства в вагоне поезда, где уже немолодая, но очаровательная авантюристка Эстер-Цеховая оказалась соседкой по купе видного государственного деятеля Владимира Гурко. Как сыну фельдмаршала и ультра-монархисту, ему еще с юности симпатизировал император, и к 44 годам талантливый политик дослужился до поста товарища (заместителя) министра внутренних дел Столыпина. Мадам Эстер, знавшая по роду деятельности почти всех влиятельных мужчин в Петербурге, не упустила возможности раздвинуть перегородку купе и продолжить знакомство.
Стена нового доходного дома Эстер упиралась в знаменитый театр и кафе-шантан «Аквариум», даже из окна легко было наблюдать за входящей публикой (ныне на месте театра – «Ленфильм»). Здесь, в обществе хористок и танцовщиц, богатые наследники кутили после ресторанов, а политики отдыхали после заседаний и иногда делились с дамами рабочими проблемами. Сама Эстер хорошо знала своих «коллег» из «Аквариума» – местная мадам, заведовавшая хористками, Екатерина Сытова, сняла квартиру у Эстер в этом самом доме (в адресной книге она записана как купчиха). Новый знакомый Цеховой Гурко, уже побывавший в ее «ателье» на Караванной, теперь зачастил и сюда, и, почувствовав возможность наживы, Эстер наконец-то переехала в этот дом – поближе к Сытовой, Гурко и решавшимся в «Аквариуме» государственным делам.
Каменноостровский проспект, 8
Параллельно с веселыми буднями авантюристок и аристократов 1906 год в России ознаменовался неурожаем и страшным голодом: «От просящих хлеба нет прохода. Картина душераздирающая. На почве голода тиф и цинга»[123]. Умирающим целыми деревнями крестьянам государь положил купить и раздать 10 млн пудов зерна, и Гурко поручили найти лучшего поставщика.
Эстер тут же вспомнила про своего 38-летнего знакомого Эрика Лидваля, легкомысленного и азартного предпринимателя, владельца игорных домов, продававшего шведские унитазы и ищущего наживы. Кстати, младший брат Эрика, знаменитый архитектор Федор Лидваль, в эти же годы жил в минуте ходьбы от Эстер – на другой стороне Каменноостровского в доме собственной постройки. А прямо напротив жил Витте, внимательно следивший за карьерой Гурко.
Гурко, познакомившись с Лидвалем при содействии Эстер, описавшей его как дельца с американской хваткой, способного вести такой глобальный проект, согласился выдать ему 800 тыс. руб. аванса для начала работы. Переговоры (точнее, их отсутствие, ведь Гурко не поинтересовался финансовым прошлым горе-предпринимателя и не смутился отсутствием у него знаний в сфере хлебопромышленности) проходили, возможно, прямо в этом доме, на квартире Эстер. Еще одним участником дела стал получивший от Лидваля взятку в 25 тыс. франков 48-летний нижегородский губернатор барон Константин Фредерикс, утверждавший, что с поставками зерна все хорошо.
Стоит ли говорить, что Лидваль не выполнил и десятой доли заказа, прикарманив почти 600 тыс. руб. Гурко, обладавший до этого блестящей репутацией, стал главным виновником крупнейшей растраты госсредств и гибели тысяч крестьян от голода. В обществе поднялась буря, и избежать публичного суда было невозможно.
Следствие продолжалось почти год, пресса муссировала подробности, особенно включавшие мадам Эстер и этот дом, где собиралась компания мошенников. Саркастические стихи публиковали Амфитеатров, Аверченко и сотни анонимов.
«Эстер – Гурко – Лидваль – артистическое трио под фирмою „Небольшая, но честная компания“»[125].
«Гурко, Лидваль, Фредерикс и m-me Эстер, когда играли в винт на крупу продовольственную, переговаривались: Семь без козырей! Так говорил Заратустра!»[127].
«Насчет француженки Эстер говорили, что она получила 250 тыс. руб. Сначала думали, что это любовная история, но говорят про эту Эстер, что она всегда занималась гешефтами»[129].
Суд по делу Гурко состоялся 23 октября 1907 года. Из этого самого дома выехала на допрос и Эстер-Цеховая со своей горничной и дворником. Все трое подтвердили, что и в ее доме, и в ателье, – Гурко и Лидваль были завсегдатаями.
Суд постановил «отсутствие связи между сдачей подряда Лидвалю и знакомством осужденного с г-жей Эстер и с хозяйкой кафе-шантанного хора; с другой стороны, не установлено отсутствия у Гурко служебнаго усердия; а потому преступления в его действиях не было»[131].
Сам Гурко описал свои злоключения так: «Пресса обливала меня всевозможною грязью… Мои друзья… утверждали… что Столыпин дал делу ход из личной ко мне неприязни… во мне он хотел уничтожить опасного соперника. Я самым решительным образом это отрицаю. Мои отношения со Столыпиным были действительно неровные… но… он хотел доказать общественности, что власть не останавливается перед самыми решительными мерами по отношению к своим представителям, какое бы положение они ни занимали…»[132].
Наказанием Гурко стало отстранение от должности, также и Фредерикса, Эрик Лидваль скрылся в Лондоне, а Александра Цеховая, заварившая всю эту кашу, продала этот дом сразу после суда (его купил Оболонский, член совета Азовско-Донского банка – здание этого банка строил Федор Лидваль; а еще именно в этом банке хранил свой куш Фредерикс) и вернулась сначала обратно на Караванную, а в 1916 году была замешана в новой авантюре, уже в Париже. Единственными отсидевшими в тюрьме по этому делу оказались, как ни странно, журналисты.
В 1909 году, спустя почти 3 года после скандала, имя Гурко снова – на первых полосах: он обвинил газету «Русь», освещавшую его дело, в клевете. Обвиняемым был журналист Сергей Изнар, чья статья «содержит утверждение, будто из банкирскаго счета Гурко видно, куда девались 800 000, полученных Лидвалем, и будто имеется записка Гурко к петербургскому градоначальнику с просьбою разрешить Лидвалю открыть игорный дом по рекомендации госпожи Эстер». В ходе заседания Изнар, поначалу горячо отстаивавший свою правоту, выслушал показания высокопоставленных друзей Гурко и ядовитые обращения к нему председателя и решил смягчить свой приговор, заявив: «Я начал писать против Гурко, подчиняясь общему потоку негодования. Я писал неправду, но я не клеветник: ко мне приходили из „Аквариума“ свидетели, мой кабинет был похож на толкучий рынок. Я не имел времени проверить все, что мне разсказывали»[133]. Решением суда коллежский секретарь Изнар и один из издателей заключены в тюрьму на три месяца, а приговор, обеляющий репутацию Гурко, напечатан в газетах за счет осужденных.
Литература
Амфитеатров А. Против течения. СПб.: Рипол Классик, 2018.
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Банк Н.Б. Стихотворная сатира первой русской революции (1905–1907). Л., 1969.
Богданович А. Три последних самодержца. М., 1990.
Булацель П.Ф. Борьба за правду. СПб., 1912.
Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 3. М., 1960.
Весь Петербург. 1906 г.
Галин В.Ю. Капитал Российской империи. Практика политической экономии. М., 2015.
Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника / подгот. текста и коммент. Н.П. Соколова. М., 2000.
Демченко Е.П. Политическая графика Киева периода революции 1905–1907 гг. Киев, 1976.
Лурье Л., Хитров А. Лидвалиада. Корни российской коррупции // Родина. 2000.
Золотоносов М., Моранд П. Русская потаенная литература. М.: Ладомир, 1999,
Образование: журнал литературный и общественно-политический. Т. 17, вып. 5. 1908.
Литература и марксизм. Т. 4. М., 1931.
Тан В.Г. Вторая дума // Русское богатство. 1907. № 2.
Янгфельдт Б. Шведские пути в Санкт-Петербург. Стокгольм; СПб., 2003.
Жилой дом кооператива «Мир» (1963 г.; Варшавская ул., 62 / ул. Победы, 4)
«…Белый июльский зной, небывалый за последние два столетия, затопил город…
Малянов закрыл окно – обе рамы – и наглухо задернул тяжелую желтую штору. Потом, подсмыкнув трусы, прошлепал босыми ногами на кухню и отворил балконную дверь.
Было начало третьего.
На кухонном столе среди хлебных крошек красовался натюрморт из сковородки с засохшими остатками яичницы, недопитого стакана чая и обкусанной горбушки со следами оплавившегося масла. Мойка переполнена немытой посудой…
Опять задребезжал телефон… Он чертыхнулся, упал боком на тахту и дотянулся до трубки.
– Это „Интурист“?
– Нет, это квартира…
Малянов… набрал номер ремонтной.
– Ремонтная? Говорю с телефона 93-98-07… Невозможно работать… Мне все время звонят то в „Интурист“, то в гараж…»[134].
Варшавская улица, 62 / улица Победы, 4
Так начинается фантастическая повесть братьев Стругацких «За миллиард лет до конца света» об астрофизике Малянове, который занимался наукой в своей квартире и прогневал Мироздание.
Где же жил знаменитый герой, позже показанный Сокуровым в картине «Дни Затмения», вошедшей в списки лучших российских фильмов? В тексте есть подсказки – телефон ремонтной или магазин на Московском, куда герою лень идти.
По признанию Бориса Стругацкого, он поселил Малявина в собственной квартире в том доме, где прожил полвека.
Ныне невзрачный дом вдали от величественного Московского проспекта в 1960-е считался элитным. Это был кооператив, где квартиры покупались за полную стоимость еще до постройки. Вокруг – пустырь, на месте Варшавской улицы – железная дорога, а дом «еврейских миллионеров», как его называли, принимает своих состоятельных жильцов – артистов балета, профессоров университетов и Консерватории, ученых.
Из этих дверей выходила в школу будущая певица Ирина Понаровская, с грустью вспоминавшая невеселое детство, проведенное в этом дворе, где 80-килограммовую девочку в очках дразнили соседские дети.
Эти же дети облепляли припаркованные здесь «блатные» белые «Жигули» самого известного бандита 1970-х – Феки (Владимира Феоктистова), жившего здесь (и умершего здесь же) с женой и дочкой в квартире родителей-пенсионеров. В гости к «дедушке рэкета» в этот дом приходил даже артист Михаил Боярский, которого банда Феки настойчиво пригласила познакомиться с боссом, пригрозив потасовкой.
Борис Стругацкий въехал сюда в 30 лет, сразу после постройки, и прожил здесь до самой смерти в 2012 году, написав десятки работ. Прах его развеян неподалеку, над Пулковскими высотами, а Московский район почтил легендарного жителя, назвав именем братьев Стругацких площадь на пересечении Московского проспекта и улицы Победы.
Литература
Вышенков Е. Крыша. Устная история рэкета // https:// document.wikireading.ru.
Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы? О происхождении названий улиц, площадей, островов, рек и мостов Ленинграда. 3-е изд., испр. и доп. Л., 1985.
Лисовский В.Г. Архитектура Петербурга: три века истории. СПб.: Славия, 2004.
Максимов М. Феоктистов Владимир Викторович / «Криминал». 2009. 23 янв. // http://spb-tombs-walkeru.narod.ru.
Раззаков Ф. Досье на звезд: правда, домыслы, сенсации. Кумиры всех поколений // .
Русские писатели XX века: биографический словарь / гл. ред. и сост. П.А. Николаев. М., 2000.
OFF-LINE интервью с Борисом Стругацким. Июнь 2000 г. // .
Доходный дом и бани Мальцевых (1875 г., архитектор П.Ю. Сюзор; Невский пр., 77)
«„Дневник“ охранки… Приметы Невского: лет 40–45… высокого роста, тонкого сложения, шатен, лицо продолговатое худощавое, нос прямой, рыжеватые коротко стриженные усы, бороду только что обрил. Одет – черная мягкая шляпа, черная накидка, серые брюки…
Невский проживает: Пушкинская ул., д. 1, меблированные комнаты Пименова…
4 сентября [1914 года]… в 5 ч. 40 м дня вышел из дома и тут же на углу Невского просп. и Пушкинской ул. купил газеты, вернулся домой. Вторично вышел из дома в 7 ч. вечера, прогулялся по Невскому… зашел в Кинематограф, пробыл там 1 ч. 30 м. …вернулся домой…
5 сентября… вышел из дома 11 ч. 30 м. на углу Пушкинской ул. и Невского прос. купил газету и пошел на Знаменскую площадь… где сидел 10 м. и читал…
10 сентября… в 12 час. дня Невский вышел из дома, тут же в своем доме зашел в магазин увеличения портретов… в 12 ч. 10 м. дня пошел … в аптекарский магазин…
20 октября… в 11 час. 30 м утра вышел из дому вместе с неизвестной дамой, дойдя до Владимирского пр., расстались.
Невский проспект, 77
Неизвестная дама села в трамвай и поехала без наблюдения, а Невский пошел по Невскому пр. в д. 81… пробыл 45 м. … и возвратился домой. Вторично вышел в 1 ч. дня и пошел по Невскому пр. в булочную Филиппова, купил булок и возвратился домой. В 2 ч. дня выходил прогуляться по Невскому, купил газету и возвратился домой, более выхода не видели. Одевается – осеннее черное пальто»[135].
Что же за таинственный господин по прозвищу Невский волновал царскую охранку, пославшую сюда несколько смен агентов, записывавших каждую минуту его передвижений и выходов из этого самого дома?
Опасный гражданин – только что поселившийся здесь бывший бродяга и эсер, трижды арестованный, дважды ссыльный, однажды бежавший с каторги с фальшивыми документами 34-летний (а вовсе не 45, как показалось полиции) писатель Александр Гриневский (Грин), который вскоре именно здесь начнет работу над «Алыми парусами».
Полиции было не привыкать дежурить у этого дома – 15 лет назад здесь жил революционер Мартов, в квартире которого бывал и Ленин, вещавший о борьбе рабочего класса. Тем временем его сосед, эсер-террорист Гершуни, принимал других гостей – будущих убийц министра внутренних дел Сипягина, покушение на которого он разрабатывал в этих стенах.
Два огромных доходных дома-близнеца, № 77 и № 79, построенные в 1875 году для титулярного советника Мальцева и его жены, теперь принадлежали графу Шувалову. Несмотря на придворный статус церемониймейстера, его доходные дома имели не самую безупречную репутацию. Часть помещений он продал купцу-бакалейщику Якову Пименову, в меблированных комнатах которого и жил Грин. Пименову принадлежали и знаменитые бани во дворе этого дома с бассейном глубиной 5 аршин (примерно 3,5 метра), мраморными ванными и роскошными номерами (бани просуществовали почти 100 лет, до 1960-х годов). Непросто было агентам сыска уследить за бесконечным потоком жителей, гостей и отдыхающих!
Слежка за Грином, однако, не увенчалась разоблачением – помимо покупки булочек и походов в кино, писатель лишь передавал рукописи издателям (одному из них агенты дали прозвище «Лиговский», «Невский» с «Лиговским» встречались на Лиговском проспекте). Работал здесь, дома, населяя героями свою вымышленную страну Гринландию и десятками выпуская рассказы – сказочные, романтические, иногда антивоенные (но пока не привлекавшие внимания охранного отделения).
Этажом ниже в этом доме жил другой писатель, Соколов-Микитов, 32-летний друг Грина, часто навещавший соседа: «Занимал он большую, светлую, скудно меблированную комнату, окно которой выходило на Пушкинскую. Помню простой стол, темную чернильницу и листы бумаги, исписанные стремительным характерным почерком, – разбросанные страницы рукописи. Над столом висел портрет Эдгара По и неизвестной мне женщины, вероятно Веры Павловны Гриневской – первой жены Грина, с которой он разошелся в конце 1913 года. Писал Грин быстро, сосредоточенно и в любое время дня»[136].
Сумрачный Грин, писавший о путешествиях и фантастических местах, свои личные приключения ограничивал лишь кабаками возле дома – звал Куприна и других литераторов и проходил все кавказские погребки Невского проспекта. После введения сухого закона путешествия Грина разнообразились: за вином пришлось ездить в пригороды – Гатчину, Царское Село, а в 1916 году отправиться еще дальше, оставив свою комнату в этом доме, Петроград и Россию. Очередной кутеж писателя в ресторане дал, наконец, результат двухлетней слежке – неблагонадежный Невский враждебно высказался об императоре, за что был немедленно сослан в Финляндию.
Литература
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Богданов И.А. Три века петербургской бани. СПб., 2000.
Весь Петербург. 1895 г.
Весь Петроград. 1915 г.
Воспоминания об Александре Грине / сост., вступ., примеч. Вл. Сандлера. Л., 1972.
Кириков [и др.]. Невский проспект, 2013.
Доходный дом Бурцева (1905 г., архитектор М.Б. Кварт; ул. Некрасова, 18)
«А этот, – сказала она, указывая на самый большой, – …ставьте на диван!
Я схватился… Помятый, обшарпанный чемодан в старых ярлыках и наклейках, служивший хозяевам с дореволюционных времен… Вцепился в ручку – он как утюгами набит!..
Бурцева подняла брови:
– Открывайте! Он у меня не заперт…
Раздвинул скобочки, замки щелкнули, крышка взлетела…
Нет! Сколько ни готовился я увидеть эту необыкновенную коллекцию и взглянуть на нее спокойно и деловито – не вышло! Я ахнул. Чемодан доверху набит плотными связками… Письма в конвертах… Нежные голубые листочки… Масонские грамоты. Открытки… По-русски. По-французски. По-итальянски…
Задыхаясь, беру письмо… „Лев Толстой“…Фуф!!! Как бы с ума не сойти!..
…Автобиография Блока!..
…Духовное завещание Кюхельбекера!..
Улица Некрасова, 18
…Фотография Тургенева с надписью…
…Стихотворение Есенина…
…Письмо мореплавателя Крузенштерна… Революционера Кропоткина… Художника Карла Брюллова…
Это что? Карамзин?..
Передо мной лежала знаменитая коллекция Бурцева, которая… считалась безвозвратно утраченной!..
Трое суток я не ложился спать – все раскладывал этот необыкновенный пасьянс.
Наконец, когда работа была закончена и я, стуча зубами от усталости и волнения, зябко потирал руки, Бурцева спросила меня:
– Сколько вы насчитали?..
– Здесь тысяча пятьсот восемь различных писем и рукописей…
– Если бы я решила уступить это… архиву, – спросила Бурцева, обдумывая и осторожно взвешивая каждое слово, – в какой… сумме могла бы выразиться подобная передача?..
…Ольга Александровна проявляла… сдержанность, разговаривала любезно и просто…
Итог… выражался в солидной сумме из четырех нолей, а впереди стояла хотя и не последняя цифра из девяти, но далеко и не первая»[137].
Здесь, в собственном доходном доме, когда-то хранил свою бесценную коллекцию редких рукописей и картин владелец банкирской конторы по профессии и страстный библиофил по призванию Александр Бурцев.
Застенчивый юноша, днем вместе с братьями выдававший кредиты и взыскивавший долги, вечерами тратил быстро пришедшее богатство в букинистических лавках, скупая письма Пушкина, и у художников – Судейкина, Маковского – без торгов приобретая пейзажи. Уже в 26 лет Бурцев издавал каталоги своих находок и собственные журналы, в 33 – купил участок под этот дом, где вскоре поселился, а в 43 – построил дом под выставочные залы для своей коллекции на той же улице (Некрасова, 10).
Революция застала Бурцева 48-летним миллионером, состояние которого имело ценность не столько в деньгах и недвижимости, которых он, естественно, тут же лишился, сколько в частной коллекции, отнять которую не имели права даже по новым законам.
Всю жизнь занимавшийся торговлей Александр, не поддаваясь сентиментальности, начал распродавать коллекцию через собственный книжный магазин, открытый в этом же доме. Сундук бумаг Кюхельбекера купил страстный его почитатель Тынянов, писавший роман «Кюхля».
Работать бывший миллионер устроился в библиотеку, но, несмотря на авторитет в литературных кругах, 66-летнего Бурцева с женой Параскевой и дочерью Ольгой, проведшей в этом доме детство, а теперь имевшей уже собственную семью, выслали в Астрахань. Через три года пожилую чету расстреляют как финских шпионов (Параскева переписывалась с жившими там сестрами), а коллекция, все еще огромная, останется Ольге.
Именно Ольга, 50-летняя госслужащая из города Актюбинска, и вызвала в 1949 году литературоведа Ираклия Андроникова ее оценить.
Казалось бы, находка наследия Бурцева – настоящий подарок для русской культуры, однако советское общество ополчилось на потомков коллекционера и мецената. Оказалось, что при эвакуации во время Великой Отечественной войны Ольга не смогла взять неподъемные сундуки с бумагами и оставила их на чердаке своего бывшего астраханского дома, попросив соседей сберечь. Только по окончании войны удалось послать за наследием 18-лет-нюю дочь Рину, которая, не понимая ценности рукописей, что-то раздарила и продала, что-то оставила на чердаке, не сумев унести.
Совместно с пионерами Андроников организовал поиски сокровищ Бурцева, но большую часть бумаг с того самого чердака выкинули как мусор проверявшие пожарную безопасность инспекторы. Тут-то газеты и запестрели заголовками о нерадивой дочери дореволюционного миллионера – почему не конфисковали все при жизни Бурцева, кто разрешил Ольге хранить общественное достояние, почему не осудили семью за утерю.
Ольга же больше никогда так и не увидела петербургский дом своей юности, хозяином которого был ее отец, всю жизнь собиравший и хранивший здесь свою бесценную коллекцию.
Литература
А.Е. Бурцев, его сочинения и коллекции [статья с сайта
ГПИБ России (Историческая библиотека), 2013] // .
Андроников И.Л. Рассказы литературоведа. М., 1962.
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Колганов В.А. Булгаков и «Маргарита», или История несчастной любви «Мастера». М., 2012.
Ларионова (Якунина) Л.Г. К 150-летию со дня рождения
А.Е. Бурцева (1863–1938) [Заседание клуба «Библиофильский улей». 16 марта 2013 года] // http://nsb-bibliophile.ru.
Шилов Ф.Г. Записки старого книжника. М.: Книга, 1990.
Доходный дом Кабатов (1859 г., архитектор В.В. Витт; ул. Восстания, 24 / ул. Некрасова, 27)
«В доме, где я жил, было всего десять больших квартир… Половина квартирохозяев отсутствовала. Остальные – ветхая генеральша, столь же ветхий член Государственного совета, каким-то чудом еще не заключенный в тюрьму, дипломат-японец, я и полотер, живший во дворе… Выбрали мы единогласно председателем нашего старого швейцара, назначив ему чуть ли не министерское жалованье.
Через день… декрет: квартирохозяевам „под страхом конфискации всего имущества“ поочередно ночью дежурить у ворот. Генеральша по дряхлости лет от дежурства была изъята… члену Государственного совета, как и мне, было за семьдесят лет… Всю повинность должен был нести бедный полотер. Но полотер был не дурак и уже успел записаться в партию коммунистов. Следовательно, как лицо привилегированного сословия, от социальных тягот был изъят…
У меня был только один член семьи – жена… За члена совета пошел его одиннадцатилетний внук… Две ночи жена с зонтиком в руках вместо пики продежурила у ворот, наводя свирепым видом ужас на взломщиков…
Улица Восстания, 24 / улица Некрасова, 27
Затем появился декрет очищать улицы от снега и льда. Конечно, за неисполнение – конфискация всего имущества… Потрудиться пришлось священникам, музыкантам… врачам и прочим буржуям. Пользы от их трудов было… мало, но все же было отрадно, что бывшие тунеядцы теперь работают…
На эти повинности первое время „буржуи“ смотрели… как на смешной фарс. Я видел… господина во фраке, в белом галстуке и цилиндре, который колол на улице лед…
…Весь город, от мала до велика, обратился в торгашей… Княгиня Голицына… пекла булки и продавала их на улицах, командир… Вульф чинил сапоги, баронесса Кноринг содержала кофейню на Бассейной, княгиня Максимени – закусочную на Караванной… офицеры… работали грузчиками…
Я тоже распродавал свои картины и предметы искусства, собранные мною с такою любовью в течение полстолетия. Наша квартира, с женитьбой старшего и смертью младшего сына ставшая для нас обоих слишком обширной… теперь походила на складочное место… В большой гостиной… под хрустальной люстрой XVIII столетия, рядом с мебелью эпохи Возрождения сложены были кули с картофелем, который мы с трудом раздобыли… Дворников уже не было, часть наших людей уже нас оставила. Весь дом был заледенелый, так как никто из соседних жильцов не топил…
Вся наша квартира состояла… из старинных вещей прошлых столетий… Как восторгался покойный сын зеркалом времен Людовика XVI!.. Все вещи были старые друзья… И теперь эти друзья уносились враждебными дикарями, которые даже их прелести постичь не могли»[138].
В этом доме встретили 1918 год 70-летний барон Николай Врангель и его 59-летняя жена Мария, именно у этих стен дежурившая по ночам вместо дворника.
Всего три года назад в большой квартире Врангелей, ныне холодной и опустевшей, кипела жизнь. К сыну Николаю, искусствоведу, жившему с родителями, в этот дом приходили знаменитые друзья – Бенуа, Судейкин, Дягилев. К отцу семейства Николаю Егоровичу, председательствовавшему в правлении нескольких компаний, в том числе золотопромышленного и нефтяного общества, – банкиры и министры. А к баронессе-матери приезжал на семейные обеды старший сын Петр, генерал, с женой-фрейлиной императрицы и малышами-внуками.
В 1918 году Николая уже нет (он умер в этом доме в 1915 году в возрасте 34 лет), а 40-летний Петр, чудом оставшийся в живых после ареста большевиками, уволенный в отставку, находится в Крыму (вскоре барон Петр Врангель станет главнокомандующим Вооруженных сил Юга России и главой Белого движения).
Отцу семейства с одним из своих обществ (спиртоочистительным) удалось эмигрировать почти сразу после смены власти. Мария же решила сначала навестить семью сына в Крыму. Но пока она выправляла документы, выезд запретили, и пожилая женщина оказалась в этом доме, как в плену.
Фамилию сменить Мария не могла, и презираемая народом мать белого генерала выживала в красном Петрограде, работая хранителем в музее города в Аничковом дворце.
«В 7 часов утра бежала в чайную за кипятком. Напившись ржаного кофе без сахара, конечно, и без молока, с кусочком ужасного черного хлеба, мчалась на службу… в разных башмаках, без чулок, ноги обматывала тряпкой… Ела темную бурду с нечищеной гнилой картофелью, сухую, как камень, воблу или селедку, иногда табачного вида чечевицу или прежуткую пшеничную бурду, хлеба 1 фунт в день, ужасного, из опилок…
В 5 часов я возвращалась домой… варила на дымящей печурке, выедавшей глаза, ежедневно на ужин один и тот же картофель… с солью, а в дни кутежа с редькой и луком…
Председатель домового комитета… явившись как-то ко мне, увидел портреты сына в военных доспехах, приказал немедленно все их убрать, предупреждая, что… отправит меня… в Чека»[139].
Марии пришлось оставить большую квартиру в этом доме, уплотненную и поделенную на несколько клетушек, и два года, прежде чем удастся воссоединиться с семьей, прожить одной в городе, где стены домов (может, эти самые) были исписаны: «Смерть псу фон Врангелю, немецкому барону!.. Смерть врагу Рабоче-Крестьянской Республики Врангелю!».
Литература
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Бароны Врангели: воспоминания: сб. / под общ. ред. В.А. Благово, С.А. Сапожникова; сост. прилож. В Г. Черкасов-Георгиевский. М., 2006.
Врангель М.Д., баронесса. Моя жизнь в коммунистическом раю // Слово: вып. 1–4. М., 1991.
Врангель Н.Е. Воспоминания. От крепостного права до большевиков. М.: Новое литературное обозрение, 2003.
Врангель П.Н. Воспоминания: в 2 т. М., 1992.
Шамбаров В.Е. Белогвардейщина. М., 2007.
Доходный дом Квашнина (1901 г., архитектор П.М. Мульханов; Лесной пр., 9)[140]
«Мне, вероятно, около пяти… В нашей квартире на Нюстадтской, дом 7, есть одна комнатка, выходящая окнами в сторону Полюстрова; в ней крашеный пол, в остальных паркет.
Я сижу на диване во грустях: почему это нас с братом не ведут гулять?
Крашеный пол моет Настя. Про эту Настю я знаю, что она – „жена забастовщика“. Он работает на заводах Нобеля, там где-то, на краю света, чуть ли не за Нейшлотским переулком. Когда там забастовка, мужа Насти сажают в тюрьму… Настя тогда переходит жить к нам… Я знаю… что она ходит обедать в „столовую для забастовщиков“. Чтобы туда попасть, она берет у мамы… книжечку с билетами: один билет – обед, второй билет… то ли ужин, то ли чай. Эти книжечки лежат целыми стопками у нас в прихожей под вешалкой – синенькие такие, пухленькие… Я сам видел, как их однажды привезла к нам в красивом собственном ландо с фонарями… Марта Людвиговна Нобель-Олейникова, мамина знакомая.
Лесной проспект, 9
Швейцар, выскочив, весь усердие, – „госпожа Нобельс-с!“ – забрал из экипажа тючки с этими книжками и, всем аллюром своим выражая высшую меру почтительности, понес их рысью к нам наверх. Марта Людвиговна, поддерживая рукой… длинную юбку, сошла с подножки и, улыбнувшись нам с няней (мы были завсегдатаями ее «Нобелевского сада»), проследовала за ним. Ландо осталось стоять… На заднем сидении… уставясь в одну точку, восседал с трубкой в зубах… Нобель – тот самый… кто выставлял забастовщиков за ворота своего завода…
Вечером… дядя… ядовито издевался над синими книжками, при помощи которых Марта Нобель подкармливает рабочих, уволенных Людвигом и Густавом Нобелями… „Воистину, правая рука не ведает, что творит левая!“…
Веселую… молоденькую Настю я… очень любил. Глядя, как она ловко моет пол у моего дивана… я напал на свою мысль – почему нас не водят гулять, хотя мы здоровы?..
Настя, убирая волнистые волосы со лба, ответила мне без замедления:
– Гулять теперь никак нельзя, Левочка! По всем улицам генералы на моторах ездят и народ из пулеметов бьют… Теперь из ворот на панель выйти, и то страшно…»[141].
Именно к этому дому подъезжало ландо миллионерши-благотворительницы Марты Нобель в революционный 1905 год. Здесь жил тогда будущий писатель, 5-летний Лев Успенский с родителями.
Благотворительность 24-летней Марты, кормившей забастовщиков машиностроительного завода собственных братьев, которых они же и отдавали под арест за остановку производства, выглядит странной только на первый взгляд. Многие образованные дворяне, наследники состояний, особенно молодые, оставаясь верны императору, видели необходимость перемен.
Отец Льва Успенского Василий имел чин надворного советника и получал от государя ордена, которые, не ценил, небрежно разбрасывая по всей квартире, а мать-дворянка Наталья, прячась от прислуги, помогала эсерам и хранила запрещенную литературу. Именно к ней и пришла Марта с талонами на еду для нуждающихся.
Нобели не были столь радикальны, как Успенские. Богатейшие нефтепромышленники и машиностроители России были лояльны власти, давшей им русское подданство и простор для деятельности. Но, имея на заводах тысячи рабочих, они понимали причины забастовок – 13-часовой рабочий день «на износ», отсутствие нормального жилья, питания, медицинской помощи. Для своих шахтеров Нобели ввели 9-часовой рабочий день и улучшенные условия труда в ущерб бизнесу (так как по закону не были обязаны этого делать и их конкуренты на такие уступки не шли). Забастовки 1905 года были предсказуемы для всех, кто мог представить себя в шкуре рабочего, и для Нобелей в том числе.
Марта, Людвиг, Густав представляли молодое поколение Нобелей, уже допущенных к состоянию семьи, часть которого они через Марту (она отвечала за благотворительность) отдавали же притесненным беднякам.
Поднимаясь с талонами на еду по лестнице этого дома, Марта, скорее всего, встречала его хозяев, не упустивших бы случай поздороваться с важной гостьей, тем более, что они разделяли общие ценности, – купец Иван Квашнин и его жена Вера тоже были благотворителями (правда, помогали не социалистам, а церковному приходу).
Квашнин держал москательные лавки (товары бытовой химии) и владел двумя доходными домами по соседству (ул. Академика Лебедева, 9; тогда она называлась Нижегородской) и домом № 9 на Лесном (тогда – Нюстадская, 7). Пожив в первом, к 1905 году он с женой и восьмью детьми (старшему было 17) переехал сюда. Возможно, в тот опасный год гулять их тоже не пускали, как и их соседа Леву.
Литература
Аксельрод В.И., Гусева А.В. Вокруг Финляндского вокзала: путеводитель по Выборгской стороне. М., 2013.
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Банк Н. Л.В. Успенский: критико-биографический очерк. Л., 1969.
Мешкунов B.C. Нобель-Олейникова – женщина-врач в России // Нобелистика. Науковедение. Информатика: материалы междунар. конф. Тамбов, 1999.
Нобель, Людвиг Эмануилович // Справочная книга о лицах С.-Петербургского купечества и других званий… СПб., 1888.
Успенский Л. Записки старого петербуржца. Л., 1990.
Успенский Лев Васильевич // БСЭ. Т. 27.
Янгфельдт Б. Шведские пути в Санкт-Петербург. М., 2003.
Доходный дом Трусевича (1912 г., архитектор А.А. Оль; Аптекарский пр., 6 / ул. Профессора Попова, 4)[142]
«Наша квартира на Песочной, на пятом этаже, – высокая, светлая, полупустая.
Только книжные полки и тарелки на стенах в изобилии. Неувядаемые елисаветинские и екатерининские розы, николаевский, синий с золотом орнамент. Серо-белый фаянс. Хрупкое хозяйство. Куда с ним сейчас?!
Окна спальни и балкон выходят на Ботанический сад…
С балкона хорошо видна громадная пальмовая оранжерея, вся из стекла. Зеленые газоны, аллеи… Народу в саду мало. Я еще не была там ни разу. Пойдем в воскресенье»[143].
В этом доме 26 августа 1941 года встречала свою первую ленинградскую осень 50-летняя поэтесса Вера Инбер. Вслед за мужем, назначенным директором находившегося неподалеку отсюда Медицинского института, Вера согласилась отправиться в осаждаемый город, из которого впору было эвакуироваться, а не наоборот. Именно этот вид на Ботанический сад открывался ей с балкона.
Аптекарский проспект, 6 / улица Профессора Попова, 4
Два дня назад, сойдя с едва ли не последнего поезда, прибывшего в Ленинград, изящная Вера в кокетливой шляпке, вдохновленная красотой величественного города и возбужденная опасностью своего путешествия, пришла вставать на учет, как новая жительница Ленинграда и этого дома.
«Здравствуйте! Я – Вера Инбер, – жизнерадостно произнесла она и протопала через комнату на высоких, звонких каблучках, – …мы с мужем переехали жить в Ленинград. Не знаю, надолго ли, но, по крайней мере, до весны.
Все онемели от удивления. Что это, святое неведение? Фашистские армии обложили город… Видимо, это все надо сообщить беспечной поэтессе?..
– Все знаю… Но мужу предоставили выбор – начальником госпиталя в Архангельск или в Ленинград… Дочка с внуком эвакуирована, а мне, поэту, во время войны нужно быть в центре событий. В Ленинграде, конечно, будет гораздо интересней… Во-первых, я верю, что Ленинград не отдадут, а во-вторых… Ну, мы ведь не молодые, пожили, а спасаться в тыл как-то стыдно»[144].
Так в этом доме поселилась поэтесса, все 900 дней блокады поднимавшая дух ленинградцев, читая свои стихи на радио, на заводах, в бомбоубежищах. Кстати, архитектор дома – Оль, построивший и дом, где жила Ольга Берггольц, другая легенда блокадной поэзии.
Едва обосновавшись в квартире, Инбер увидела с балкона одну из главных катастроф в истории осажденного Ленинграда – потерю нескольких тонн жизненно важного для города продовольствия: «Дома долго стояли на балконе, все глядели на горящие Бадаевские склады. В одиннадцать легли спать. В два часа ночи пришлось первый раз… спуститься в убежище»[145].
Через полгода, стоя, возможно, на том же балконе, Вера прочитает письмо дочери, сообщающее о смерти 10-месяч-ного внука. Пряча в стол его погремушку, поэтесса будет винить в трагедии свой переезд в Ленинград: «Это трудно – всегда быть натянутой, но это нужно… От этого зависит все. И работа, и успех, и оправдание жизни в Ленинграде. А мне нужно это оправдание. Я ведь заплатила за Ленинград жизнью Жанниного ребенка. Это я твердо знаю»[146].
Вера переживет не только внука, но и дочь, и мужа. Несмотря на родственные связи с Троцким, она не станет «врагом народа», напротив, будет предана власти и ненавидима за это литературным миром. Травлю Пастернака, Ахматовой, Бродского «комиссарше Инбер» никогда не простят даже за прекрасные блокадные стихи – последние вещи, сделанные Верой от души, а не по велению партии.
Балкона Веры Инбер, с которого она наблюдала за жизнью осажденного города, больше нет. Все балконы срезали в 1960-е годы для установки вентиляционных труб, опутавших весь дом, не считаясь с архитектурной ценностью. Объяснение установке труб простое – сразу после революции часть помещений дома отдали Химико-фармацевтическому институту, который существует здесь до сих пор. Как это часто бывало в то время, никого не волновало, подходит ли помещение под деятельность нового владельца, поэтому классы для опытов и общежития химиков находились прямо за стенкой квартир Веры Инбер и других жильцов и полвека работали без системы вентиляции.
Литература
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Инбер В. Душа Ленинграда: (избранное). Л., 1979.
Инбер В. Почти три года (Ленинградский дневник). М., 1954.
Инбер В. Страницы дней перебирая…: из дневников и записных книжек (1924–1971). М., 1977.
Исаченко В. Зодчие Санкт-Петербурга XVIII–XX веков. М.; СПб., 2010.
История университета // Официальный сайт Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета (СПХФУ) // .
Тихонов Н.С. Рядом с героями. Л., 1967.
Особняк Корнеевой (1880 г., архитектор Л.Ф. Шперер; Почтамтский пер., 8 / Большая Морская ул., 53)
«Новый, 1938 год, встречали в доме, где жили Алик, Ирина и маленький Кирочка. Это рядом с Исаакиевской площадью, улица Герцена, дом 53. Квартира из двух комнат, мансарда, напоминала мастерские парижских художников. Тогда, в 1938 году, эта мансарда, такая уютная и такая необычная, и не предполагала, какая шаровая молния влетит в нее…
Для встречи Нового года, по распоряжению Гутмана, из театра привезли пять столиков, монтер театра над каждым повесил по лампочке с разноцветным бумажным абажуром. В углу поставили стол с закусками, но ни одной бутылки вина на столе не было. Гости недоумевали и ерзали на стульях, вопрошая глазами. И только в 12 часов ночи вынесли из кухни детскую ванночку, в которой купали Киру, наполненную снегом. А из снега торчали бутылки шампанского и водки»[147].
Именно в этом доме, в квартире на последнем этаже, в конце 1930-х годов принимала гостей молодая артистическая семья – 24-летний Алик (актер Александр Менакер), 18-летняя Ирина (балерина Ирина Ласкари, его жена) и их годовалый сын Кирочка (будущий балетмейстер).
Почтамтский переулок, 8 / Большая Морская улица, 53
Уже добившийся успеха на актерском поприще Алик был «человеком-оркестром» не только на сцене, но и в жизни. Постоянно в кого-то влюбленный и постоянно чем-то увлеченный, занятой в поездках и проектах, молодой артист и к женитьбе на Ирине подошел с азартом – пара вступила в брак, едва познакомившись, прямо на гастролях, и уже через год воспитывала сына.
Совместная жизнь молодой семьи в этом доме продлится недолго. Через год Алик покинет романтическую «парижскую мансарду», с легкостью оставив Ленинградский мюзик-холл, где он тогда работал, ради нового вызова – актера ждали Москва и Московский театр эстрады и миниатюр, где в первый же рабочий день тот же директор Гутман, недавно помогавший с мебелью для новогодней вечеринки Алика и Ирины, представит актеру его новую коллегу – Марию Миронову.
Всего через несколько месяцев безумно влюбленные друг в друга Мария и Алик (которого она переименовала в Сашу, как бы отрезая от прошлой жизни), находясь на очередных гастролях, уже писали письма своим супругам с сообщениями о разрыве.
Менакер переехал в Москву к Марии. Через пару лет он станет отцом второй раз – Мария родит сына Андрея (в будущем одного из самых известных артистов СССР – Андрея Миронова). Пара проживет вместе всю жизнь, до старости работая в дуэте в собственном «Театре двух актеров».
С новой и, как оказалось на этот раз, настоящей любовью в сердце, но и с тоской покидал Алик любимый Ленинград, светлую мансарду и маленького сына Кирилла с Ириной.
Этот дом, однако, еще сведет под одной крышей двух сыновей Алика! Москвич Андрей Миронов и ленинградец Кирилл Ласкари, братья по отцу с разницей в пять лет, с детства тесно общались. Кирилл, оставшийся жить в этой самой мансарде, часто принимал здесь своих лучших друзей – Владимира Высоцкого, Андрея Миронова и поэта Куклина, так описавшего посетителей двухкомнатной квартирки:
Литература
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Егорова Т.Н. Андрей Миронов и Я: роман-исповедь. М., 2010.
Куклин Л.В. Диалог: стихотворения разных лет. М., 1988.
Поюровский Б.М. Андрей Миронов: сб. воспоминаний. М., 1998.
Поюровский Б.М. Андрей Миронов глазами друзей. М., 2000.
Поюровский Б.М. Мария Миронова. Александр Менакер… В своем репертуаре. М., 2011.
Цыбульский М. Владимир Высоцкий в Ленинграде. СПб.: Студия НП-Принт, 2013.
Доходный дом Струбинского (1880 г., архитектор А.В. Иванов; ул. Жуковского, 6)
«Пятница, 9 марта[149] [1917]. В городе беспорядки. Завтра у нас званый вечер, и мать боится, что разведут мосты, что Сергей Алексеевич и Юлия Михайловна не смогут приехать с Каменноостровского и что из кондитерской Иванова не пришлют мороженое. Мне это впопыхах тоже кажется катастрофой, но внезапно я оказываюсь в совершенно другом измерении, и мне открывается иной мир: мир, где нет ни Юлии Михайловны, ни кондитерской Иванова, мир, где гремит Россия, где идут с красными флагами, где наступает праздник…
Гости съехались к десяти часам вечера, их было около тридцати. Я любила всегда, и до сих пор люблю, чужое веселье. Впервые мне было позволено остаться до конца, то есть до пяти часов утра, и я слышала, как Волевач, сопрано Мариинской оперы, пела „Лакме“, и видела, как танцевали модный танец танго. Все было так далеко от меня и все-таки так интересно, как и теперь бывает, когда кругом танцуют или пьют чужие люди, почти так же интересно, как когда пьют и танцуют свои».
Улица Жуковского, 6
Такими были званые вечера в этом доме на улице Жуковского, где провела детство будущая писательница и будущая жена Владислава Ходасевича, Нина Берберова. Революцию она встретила здесь шестнадцатилетней, и это был ее последний год в этом доме.
Она – не единственный примечательный подросток в этих стенах. Когда улица Жуковского еще называлась Малой Итальянской, в этом же доме, разминувшись с Ниной на 10 лет, встречал свой двенадцатый день рождения будущий поэт Осип Мандельштам. Здесь его отец, купец 1-й гильдии и мастер перчаточного дела, держал кожевенную лавку, при которой и жила семья.
В начале 1920-х годов Берберова и Мандельштам снова, на этот раз по-настоящему, не разминувшись, встретятся под одной крышей в «сумасшедшем корабле» – главном послереволюционном месте обитания литераторов Петрограда, в Доме Искусств на Невском.
После этой «общей крыши» их пути разойдутся навсегда. Мандельштама ждет один из типичных вариантов судьбы писателя в СССР – скитания, лишения и лагеря, а Берберову – один из типичных вариантов судьбы писателя в эмиграции: Париж, лишения, но свобода.
Литература
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996. Берберова Н. Курсив мой: автобиография. М.: АСТ, 2010. Весь Петербург. 1901, 1902 гг. Весь Петроград. 1917 г. Русские писатели и поэты: краткий биографический словарь. М., 2000.
Особняк Штемберга (1898 г., архитектор Э.Ф. Виррих; Каменноостровский пр., 5)
«Утром 9-го января, как только я встал, я увидел, что на улице по Каменноостровскому проспекту шла большая толпа рабочих с хоругвями, образами и флагами; между ними много женщин и детей, а кроме того, много из любопытных.
Как только эта толпа, или вернее процессия, прошла, я поднялся к себе на балкон, с которого виден Троицкий мост, куда рабочие направлялись.
Не успел я подняться на балкон, как услышал выстрел и мимо меня пролетело несколько пуль. Не прошло и десяти минут, как значительная толпа народа хлынула обратно по Каменноостровскому проспекту, причем многие несли раненых и убитых, взрослых и детей»[150].
С этого самом балкона в «кровавое воскресенье» 1905 года наблюдал за разгоном забастовки рабочих и началом Первой русской революции 56-летний бывший министр финансов Сергей Витте. Заметила ли процессия влиятельного государственного деятеля, телефонный звонок которого мог бы защитить их от дальнейшей стрельбы? Видимо, нет, так как она шла через мост прямо к Зимнему дворцу. Зато Максим Горький уже через несколько часов звонил в эти двери. Не застав на месте министра внутренних дел, Горький снарядил депутацию в дом Витте, чтобы просить поговорить с императором. Витте же, хоть и занимал должность председателя Комитета министров, был у Николая II в немилости и предпочел в дела забастовщиков не вмешиваться.
Каменноостровский проспект, 5
Проводив разочарованных гостей, Сергей остался дома с 42-летней женой Марией (Матильдой), обаятельной умной женщиной, которую 15 лет назад он, влюбившись, «купил» у ее первого мужа (заплатил ему за развод, по слухам, 20 тыс. руб. – примерно 30 млн на сегодняшний день). Разведенная еврейка, не принятая ко Двору и вынужденная вести скучную светскую жизнь, создала сначала на Мойке, а потом на Каменноостровском (сюда Витте переехали только год назад, в 1904 г.) уютный дом, где в семейной идиллии пара проводила вечера за самоваром и игрой в безик под романсы Марии и фортепианный аккомпанемент Веры, ее дочери от первого брака. Возможно, сегодня вечером Витте не возьмет в руки флейту и из этих окон не будет доноситься музыка?
В этом же доме через два года семейный вечер прервется неудавшимся покушением на хозяина дома. Первая «адская машина» с часовым механизмом, поставленным на 5 1/2 вечера, обнаружена 29 января в бывшей комнате Веры (она вышла замуж, и комната была пуста), а вторая – 30 января в печи комнаты горничной. «Бомбы были помещены в дымоход людьми, не знакомыми с расположением комнат. Жилые комнаты расположены в левой части дома, в то время как бомбы… были размещены в правой стороне дома, где расположены гостиная и столовая»[151]. Взрывчатое вещество, однако, оказалось таким слабым, что многие, в том числе Столыпин, сменивший Витте в Совете министров и не любивший его за интриганство и вздорный характер, сочли покушение постановкой.
Еще через восемь лет, опять зимой, смерть снова, на этот раз по-настоящему, постучится в этот дом. 65-летний Витте умрет здесь от менингита, с этого крыльца его гроб увезет запряженная лошадьми повозка, а Николай II запишет в своем дневнике: «Смерть графа Витте была для меня глубоким облегчением»[152].
Последовавшая вскоре революция лишила Марию этого особняка, но у нее остались еще два – в Брюсселе и в Биаррице. А с 1935 года и по сей день в этом доме располагается музыкальная школа, в которой через полвека после музицирований Витте, занимался будущий скрипач и дирижер Владимир Спиваков, не принятый в школу при Консерватории: «…Я поступил в обычную районную музыкальную школу на Петроградской стороне, до которой надо было добираться автобусом. Мама почему-то решила отдать меня на виолончель. Я поносил инструмент две недели, упарился и взмолился дать мне что-нибудь полегче. Тогда мне дали скрипку. Но и с ней не заладилось поначалу… Ужас ученических терзаний живо стоит в памяти до сих пор…»[153].
Литература
Алексеев М., Пачкалов А. Министры финансов. От Российской империи до наших дней. М.: Альпина Паблишер, 2019.
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Бернстейн Г. О двух политических убийствах в России // The New-York Times. 1909. Сент.
Витте С.Ю. Воспоминания. Полное издание в одном томе. М., 2019.
Волков С. Диалоги с Владимиром Спиваковым. М.: АСТ, 2014.
Гуревич Л.Я. Народное движение в Петербурге 9-го января 1905 г. // Былое (СПб.). 1906. № 1.
Ильин С. Витте. М., 2006. (Жизнь замечательных людей).
Колышко И.И. Великий распад: воспоминания. СПб., 2009.
Ленинград: краткая адресно-справочная книга. Л., 1973.
Лопухин В.Б. Записки бывшего директора Департамента Министерства иностранных дел. СПб., 2009.
Дом Браницкого (1835 г., архитектор Г. Фоссати; Невский пр., 84–86)
«При всем моем желании спасти Вас от съедения мышами, мышьяка не посылаю и не советую употреблять, ибо Вы можете перетравиться, и таким образом квартира № 39 в доме Бенардаки останется без жильца, а музыка без деятеля. На всякий случай я заблаговременно начну писать реквием, ибо в покойниках недостатка не будет: или вы уморите мышей, или они вас уморят. Чтобы Вас не доводить до отчаяния, дам Вам практический совет купить мышеловку; это и полезно, и безопасно, и занимательно. Затем прощайте.
А. Бородин»[154].
Именно в этот дом доставил посыльный ироничную записку композитора Александра Бородина другому музыканту, 29-летнему Милию Балакиреву, только что снявшему здесь новое жилье. Лидер «Могучей кучки», проводивший в этих стенах целые дни за фортепиано, работая над аранжировками русских народных песен, вынужден был защищать свои рукописи от неожиданно возникшей в новой квартире напасти – мышей.
Невский проспект, 84–86
Впрочем, свой практичный совет по приобретению мышеловки остроумный Бородин мог бы претворить в жизнь хоть сегодня вечером – двери Балакирева были всегда открыты для друзей, а уж для участников «Могучей кучки» тем более. Четверка композиторов – 22-летний Римский-Корсаков, 27-летний Мусоргский, 31-летний Кюи и 33-летний Бородин – постоянно бывали здесь у своего коллеги и главного вдохновителя их кружка. Кстати, за восемь лет жизни в этом доме Балакирев сменил целых четыре квартиры – будем надеяться, причиной было улучшение условий, а не бегство от мышей.
Чаще всех в этих стенах наполнялся «музыкальной пищей» и оставался ночевать самый юный участник кружка, Николай Римский-Корсаков. Наблюдая, как старшие товарищи играют здесь отрывки из новых опер, приносят партитуры незаконченных симфоний, беспрестанно спорят, хвалят, порицают и поддерживают друг друга, юный Николай и сам возвращался к музыке после морской службы в трехлетней экспедиции к берегам Северной Америки и Европы.
«Я беспрестанно проводил вечера у Балакирева… В то время он гармонизировал собранные им русские песни, долго возился с ними и много переделывал. Присутствуя при этом, я хорошо познакомился с собранным им песенным материалом и способом его гармонизации. Балакирев владел в те времена большим запасом восточных мелодий, запомненных им во время поездок на Кавказ. Он часто игрывал их мне и другим в своей прелестнейшей гармонизации и аранжировке»[155].
В эти же, 1860-е годы, помимо музыкального клуба Балакирева, в этот дом переехал еще один – Английский. Правда, в отличие от расцвета первого, 100-летнее джентльменское общество, члены которого, избранные тайным голосованием, проводили собрания за картами, обильными пирами и обсуждением политики, клонилось к закату. Некрасов, по привычке регулярно приезжавший сюда узнавать новости и проигрывать деньги, заходил в новое здание клуба без прежнего энтузиазма.
«Старобарский элемент» («с лакеями по стенам») царил здесь совсем недавно, всего 30 лет назад, когда сдаваемый арендаторам доходный дом поручика Бенардаки принадлежал его прошлому владельцу, графу Браницкому, и считался дворцом. 54-летний тайный советник и придворный обер-шенк (хранитель вин), перестроив этот дом для своей семьи практически в том виде, как мы видим его сейчас, прожил здесь всего пять лет. Семью поляков не любили в Петербурге: «Вся их жизнь проходит в праздности, тунеядстве и в поездках за границу. Все это семейство чрезвычайно враждует нашему правительству, и все по внушению графини Розы Браницкой; это женщина самая неблагонамеренная…»[157]. Дворцовая эпоха этого дома завершилась смертью графа и эмиграцией его жены и детей.
Новые владельцы придут во владение лишь к концу XIX века – поручик Бенардаки продаст здание князю Николаю Юсупову. Но дворцом этому дому уже не стать – этим стенам уготована судьба центра общественной жизни. Здесь снова появляются учреждения и клубы – художественный, шахматный, сельскохозяйственный, а после революции, как и сейчас, – театральный.
Литература
А.П. Бородин в воспоминаниях современников / сост., текстолог., ред., вступ. ст. и коммент. А. Зориной. М., 1985.
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Бударагина О.В. Латинские надписи в Петербурге. СПб., 2016.
Буренина М. Прогулки по Невскому проспекту. СПб., 2002.
Всеобщая адресная книга С.-Петербурга. 1867–1868.
Ильин М., Сегал Е. Александр Порфирьевич Бородин; Письма / сост. писем, музык. ред. и примеч. Л.Ю. Шкляревской. М.: Правда, 1989.
Кириков [и др.]. Невский проспект, 2004.
Кириков [и др.]. Невский проспект, 2013.
Крюков А.Н. «Могучая кучка» в Петербурге. Л., 1977.
Музыкальный энциклопедический словарь / гл. ред. Г.В. Келдыш. М., 1990.
Некрасов Н. Полн. собр. соч. и писем: в 15 т. Худож. произведения: в 10 т. Т. 3. Л., 1982.
Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. 9-е изд. М., 1982.
Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. Т. 6. М.: Студия Тритэ, 1995.
Торговый центр «Невский Центр» (2010 г., Невский пр., 114–116)
«Три копейки! Я предавался над ними трагическим размышлением: истратить ли их на полдесятка папирос или подождать, когда голод сделается невыносимым, и тогда купить на них хлеба?
Как я был умен, что решился на последнее! К вечеру я проголодался, как Робинзон Крузо на своем острове, и вышел на Невский. Я раз десять прошел мимо булочной Филиппова, пожирая глазами выставленные в окнах громадные хлебы: у некоторых тесто было желтое, у других розовое, у третьих перемежалось со слоями мака. Наконец я решился войти. Какие-то гимназисты ели жареные пирожки, держа их в кусочках серой промаслившейся бумаги. Я почувствовал ненависть к этим счастливцам…
– Что вам угодно? – спросил меня приказчик. Я принял самый небрежный вид и сказал фатовским тоном:
– Отвесьте-ка мне фунт черного хлеба…
Но я далеко не был спокоен, пока приказчик широким ножом красиво резал хлеб.
Невский проспект, 114–116
«А вдруг, – думалось мне, – фунт хлеба стоит не две с половиной копейки, а больше? Или что будет, если приказчик отрежет с походцем?..»
Ура! Хлеб стоит ровно три копейки. Я переминался терпеливо с ноги на ногу, когда его завертывали в бумагу. Как только я вышел из булочной, чувствуя в кармане теплое и мягкое прикосновение хлеба, мне хотелось от радости закричать и съежиться, как делают маленькие дети, ложась в постель после целого дня беготни. И я не мог утерпеть, чтобы еще на Невском не сунуть украдкою в рот двух больших вкусных кусков»[158].
Именно на это место в далеком 1896 году привел своего бедного и голодного героя Зимина 26-летний писатель Александр Куприн. Он и сам часто бывал здесь – знаменитые булочные и кофейни Филиппова, одна из которых находилась в этом здании, знали весь город и даже страна. Поставщики Императорского двора, гордо указавшие это на вывеске, славились хрустящими калачами, подковками с маком и тмином и обжигающе горячими пирожками с грибами и капустой, подававшимися в бумаге, защищавшей руки от стекавшего с них жира.
Здание современного торгового центра, построенного на месте двух домов – почетного гражданина Богданова (дом № 114) и серебряных дел купца Дурдина (дом № 116), частично воссоздает фасады утраченных строений.
Сами владельцы в этих домах не жили – местоположение на деловом Невском проспекте, напротив оживленного Николаевского (ныне – Московского) вокзала, гостиниц, ресторанов, бань и меблированных комнат сулило выгодный бизнес. В начале ХХ века фасады этих домов, перекрывая друг друга, украшали вывески бесчисленных магазинов, контор, предприятий. Основными же местами притяжения публики оставались филипповская булочная в доме № 114 и гостиница «Эрмитаж» в доме № 116.
Через несколько лет, во время Первой мировой войны, в окна знаменитой булочной будет смотреть уже не вымышленный персонаж Куприна, а реальный друг, с которым он и сам не раз оказывался здесь, обходя кабачки Невского проспекта, 34-летний Александр Грин. Бывший эсер, трижды арестованный, дважды ссыльный, бежавший с каторги с фальшивыми документами писатель, живущий по соседству, частенько ходит сюда за булками под неусыпным взором царской охранки, следящей за неблагонадежным гражданином: «9 сентября [1914 г.]… В 2 час. 45 м. дня… вышел и пошел в булочную Филиппова в дом 114 по Невскому пр… где купил булок, и вернулся домой»[159].
На оживленной Знаменской площади у полиции было много работы – сменяющие друг друга агенты неустанно следили и за гостиницей «Эрмитаж» на 76 номеров. Помимо потока приезжающих с вокзала, сыск интересовал и гостиничный ресторан, служивший местом встреч. Слежка за уже отошедшим от политических дел 65-лет-ним графом Витте провожала в «Эрмитаж» его посетителей: «На извозчике поехал в д. № 2, по Знаменской улице, в подъезд, где гостиница „Эрмитаж“, и здесь оставлен наблюдением»[160].
После революции гостиница успешно продолжила свое существование, а булочные Филиппова, гордых поставщиков Императорского двора с царскими гербами на вывесках, показательно разрушили на глазах у возбужденной толпы: «С вывески над кофейной Филиппова на Невском, против Пушкинской, и с перил балкона соседняго дома снимают гербы и иллюминацюнные вензеля, унизанные электрическими лампочками. У кофейни подобрались к орлу по приставленной снизу лестнице»[161].
Через 40 лет помещение бывшей булочной снова станет местом гастрономического паломничества – в 1960-х годах на месте обычной столовой здесь откроется фирменная сосисочная мясокомбината им. С.М. Кирова, где в длинной очереди желающих отведать лучшие в городе супы харчо, можно было встретить и Бродского, и Довлатова, и Валерия Попова, который вспоминает:
«Утро, когда были гонорары, начиналось с сосисочной мясокомбината, у площади Восстания. Пили пиво. Там нас всегда встречал ханыга, весь рваный, мятый, под мышкой у него книга „Как закалялась сталь“». Сосисочная открывалась с восьми утра… Откуда были деньги? Такое ощущение, что кто-то всегда угощал. Можно было прийти без денег и попасть на дружеский сабантуй. Но то, что это оборвалось, тоже хорошо. И хорошо, что Довлатов уехал в Америку, а я в Купчино. А то так бы мы и застряли в этом сомнительном счастье навсегда»[162].
Известное место держало марку недолго. В 1980-е годы поэт Анатолий Найман посетил культовое заведение своей юности, уже не могшее похвастаться ни качеством блюд, ни былыми очередями:
«Я… вошел в сосисочную, которая – сколько, лет пятнадцать тому назад? – открылась… как рекламно-экспериментальный пункт питания, снабжаемый самыми свежими и лучшими продуктами ленинградского мясокомбината, и в ту, при открытии возникшую, репутацию, которой я верил десять следующих лет, хотя уже через год съесть в ней было можно только вечный клейменый ромштекс…
Я прошел в зальчик, лежащий двумя ступеньками ниже остальных, сел за угловой… двухместный стол… Публика была утренняя, либо унылые приезжие вроде меня, либо унылые местные бобыли, либо унылые весельчаки с ночи. Пахло моей любимой капустой с кухни и кофием-о-ле с соседних столов. Официантка не появлялась, я пригрелся и стал погружаться в дремоту»[163].
Таким был XIX и XX век двух знаменитых зданий на углу Невского проспекта и улицы Восстания, снесенных в веке XXI и отстроенных в частично похожем на исторический облик виде. Теперь дома № 114 и № 116 объединены в торговый центр, где, как и 100, и 150 лет назад, снова снует народ, ожидают поезда путешественники, сдаются в аренду торговые помещения и открываются новые кофейни и булочные.
Литература
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Весь Петроград. 1916 г.
Воспоминания об Александре Грине. Л., 1972.
Исторический архив. 2004. № 5, 6.
Кириков [и др.]. Невский проспект, 2004.
Кириков [и др.]. Невский проспект, 2013.
Куприн А.И. Собр. соч.: в 9 т. Т. 2. М.: Худож. лит-ра, 1971.
Мельгунов С.П. Голос минувшего на чужой стороне: Журнал истории и истории литературы. 1924. Вып. 5–6.
Найман А. Рассказы о… М., 2017.
Самойлов А., Бузинов В., Крыщук Н. Расставание с мифами: разговоры со знаменитыми современниками. СПб.: Геликон Плюс, 2010.
Справочная книга о лицах петербургского купечества. СПб., 1897.
Дом Боткина (1903 г., архитектор А.И. Дитрих; Фурштатская ул., 62 / Потемкинская ул., 9)
«Первое мое… впечатление о доме Гардиных… рояль с развалившимся под ним сенбернаром Урсом, резкий собачий дух из-под рояля и… гости, размахивающие перед своими носами газетами… И короткий обмен репликами между супругами:
– Татьяна Дмитриевна, почему собаку не выводили?
– Потому что готовились к встрече гостей. Но они ведь тоже собачники!
Собачники улыбаются и откладывают опахала на рояль…
…В квартире меня впечатляло многое: и ее размеры, анфилада комнат, и непривычный для меня образ жизни среди обилия картин, рисунков, фарфора. Коллекция Владимира [Гардина]… была предметом зависти. Стены доступной для всех гостиной, увешанные разностильными полотнами, были прологом знакомства посетителей с почти недосягаемыми для них и скрытыми в дальней комнате-кабинете Гардина творениями Гойи, Врубеля, Репина»[164].
Фурштатская улица, 62 / Потемкинская улица, 9
Стены этого дома, детство в котором вспоминает один из племянников кинодеятеля Гардина, на протяжении 170 лет украшали шедевры искусства, хранящиеся теперь в Эрмитаже и Русском музее. Так совпало, что во все времена здесь жили коллекционеры – и дореволюционные хозяева особняка, и советские граждане, въехавшие в уплотненные квартиры.
Еще в 1960-х годах, случайно попав в роскошную квартиру Гардиных, гость не поверил бы, что оазис прошлого века с Серовым и Врубелем на стенах и мебелью елизаветинских времен чудом сохранился среди соседних коммуналок: «Однажды пришел… мой симпатичный скромнейший классный руководитель узнать, почему… я не бываю в школе. Сидел он, раздавленный увиденным, и не мог постичь, что над ним подлинное полотно Нестерова, а не копия»[165].
Вернемся на 60 лет назад, в 1903 год, когда 44-летний доктор медицины Сергей Боткин (сын и брат лейб-медиков нескольких императоров) и его 36-летняя жена Александра (дочь Павла Третьякова, чье дело она продолжила в совете Третьяковской галереи) купили участок в престижном месте напротив Таврического сада и поручили построить особняк в стиле петровских времен, вместившим бы всю их огромную коллекцию живописи и скульптуры. В собрании были картины Шишкина, Сурикова, Крамского, Левитана, Врубеля и многих других художников.
Расходы, как и жилплощадь, Боткины разделили с семьей сахарозаводчика Харитоненко. Через три года в правом, 4-этажном крыле поселились Боткины с двумя дочерьми, а в левом, 3-этажном – дочь Харитоненко Елена с 25-лет-ним мужем, бароном Михаилом Оливом. Эксцентричная молодая пара (барон стрелялся за Елену на дуэли с ее первым мужем) обставила свою половину мебелью XVIII века и украсила коллекцией фарфора и итальянской живописи.
Непохожие и по характеру, и по возрасту семьи (монументальная, сдержанная Александра и пресыщенная чувственная Елена, громогласный влиятельный Сергей, с детства в кругах царского двора и аристократии, и небогатый кавалерист Михаил, прельстивший невесту с капиталом дворянским гербом), тем не менее имели не только соединявший два крыла общий флигель (там была парадная столовая, бильярдная, конюшня), но и общих друзей.
Серов, Сомов, Репин писали здесь хозяев дома, художники «Мира искусства» оставляли свои работы друзьям-меценатам, Александр Бенуа регулярно бывал в обоих крыльях как друг и как коллега.
Домом мечты наслаждались хозяева недолго: Сергей – всего четыре года до своей смерти в 1910-м, а остальные – до революции. После национализации здания Оливы эмигрировали, не успев перевезти коллекцию, а 50-летнюю Александру с младшей 18-летней дочерью Тасей, нелюбви к которой она не скрывала, переселили в две комнаты на втором этаже теперь коммунального дома.
Поначалу конфискованные коллекции Боткиных и Оливов разместили в одной из квартир как выставку, но через два года почти все собрание перекочевало в Эрмитаж и Русский музей, а количество коммуналок в доме увеличилось до 27.
В интерьерах былого величия настало время нового поколения коллекционеров. Тася вышла замуж за сотрудника Эрмитажа Нотгафа, хранившего здесь, в их двухкомнатной квартирке, 4000 работ русских художников.
А к 1930-м годам в единственную некоммунальную квартиру в этом доме въехал 50-летний Владимир Гардин, кумир ранней эры кинематографа, успевший сыграть десятки ролей и в немом, и в звуковом кино и как режиссер снять за 15 лет 70 фильмов. Женой мэтра была 26-летняя актриса Татьяна Булах. Новоиспеченные супруги привезли сюда и свою коллекцию – Айвазовского, Репина, Боровиковского, и главное сокровище – книгу XVI века персидского поэта Низами, которую гостям показывали только по секрету и из своих рук.
«…Дядя Володя не без гордости демонстрирует свои раритеты… гостям и вдруг окаменевает перед местом, где хотел показать… полотно Левитана. „Что это, Танечка?!“ – резко вопит он без стеснений. „Шагал, я обменяла его вчера на Левитана“. – „Это подделка!“ Так оно и было: Татьяна Дмитриевна сама создала этого „Шагала“ и разыгрывала сначала хозяина, а потом – гостей»[166].
Гардины прожили здесь до конца жизни – Владимир больше 30 лет, а Татьяна больше 40.
«…Вечерами Гардины раскладывали ломберный стол, и начиналась игра в вист, винт или преферанс… Иногда [Владимир] делал заранее заготовленный розыгрыш своих гостей. Он неприметно стучал пальцем по голове, и тогда громадный сибирский кот Кузя выскакивал из необъятной фарфоровой китайской вазы на круглой печке в углу комнаты, прыжками по шкафам и столам пересекал пространство и начинал лизать, урча, лысину народного артиста СССР, смущая этим гостей и возмущая Таню этой детской забавой»[167].
Во время блокады Гардины, давшие от «Ленфильма» около 500 представлений в городе и на фронте, жили в основном в усадьбе в Лисьем Носу, нечасто приезжая в изуродованную (соседние дома сгорели) квартиру на Потемкинской. Почти на три года приютив потерявших жилье родных, квартира, состоявшая сплошь из проходных комнат, стала коммуналкой. Однажды приехав сюда, Татьяна узнала о судьбе бывшей соседки Таси (младшей дочери Боткина), которая без тепла и света жила в каморке бомбоубежища Эрмитажа с Нотгафтом и его второй женой и повесилась, когда те умерли от голода.
В 1960-х годах, когда Гардин заболел, Татьяна начала продавать коллекцию, чтобы нанять медсестер, домработниц, шофера. За Репина получила «Москвич», а остальное за бесценок купили Эрмитаж и Русский музей. Низами, которым так гордился Гардин, продали по цене стопки бульварных романов. Врубелей, Серовых и Нестеровых у Татьяны было достаточно, чтобы не прельститься выгодными предложениями частных лиц и продавать коллекцию только музеям.
И хотя потомки Гардиных сменили в этом доме прежних жильцов, храм искусства в бывшем особняке Боткина исчез в 1973 году, когда Татьяна Булах, перенеся инфаркт, дошла до двери, окружаемая верными собаками, открыла щеколду и вызвала «скорую», чтобы больше никогда не вернуться сюда.
Литература
Аксакова Т.А. Семейная хроника: в 2 кн. Париж: Atheneum, 1988.
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга… СПб., 1996.
Булах А.Г., Булах-Гардина Т.Д., Булах К.Г., Шуйский В.К. Мир искусства в доме на Потемкинской. М.; СПб., 2011.
Бенуа А.Н. Мои воспоминания: в 5 т. Т. 4, 5. М., 1980.
Весь Петербург. 1905–1910 гг.
Весь Петроград. 1917 г.
Весь Ленинград. 1928 г.
Гардин Владимир Ростиславович // БСЭ. Т. 6.
Гардин В.Р., Булах Т.Д. Жизнь и труд артиста. М., 1960.
Гардин В.Р. Воспоминания. Т. 1–2. М., 1949, 1952.
Жерихина Е.И. Литейная часть от Невы до Кирочной: 1711–1918. СПб., 2004.
Коллекция Михаила и Сергея Боткиных: каталог. ГРМ. СПб., 2011.
Короткий В.М. Операторы и режиссеры русского игрового кино. 1897–1921. М., 2009.
Нахапетов Б. Последние лейб-медики Российской империи // Мед. вестник. 2009. № 32 (501).
Романюк С.К. Сердце Москвы. От Кремля от Белого города. М., 2013.
Условные сокращения
Примечания
Пушкин А.С. Пиковая дама. С. 219.
Пушкин А.С. Пиковая дама. С. 224.
Там же. С. 230.
Пушкин А.С. Пиковая дама. С. 237.
Мемуарная запись Ф.М. Достоевского в альбом О.А. Милюковой об его аресте // Полн. собр. соч. Т. 18. С. 174–175.
[Некрасов Н.А., Тургенев И.С.]. <Послание Белинского к Достоевскому> // Тургенев И.С. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 332.
Достоевский Ф.М. Преступление и наказание // Полн. собр. соч. Т. 6. С. 135.
[Слонимский М.Л. Воспоминания] // Мы знали Евгения Шварца Л.; М.: Искусство. 1966.
Шварц Е.Л. Позвонки минувших дней.
Письма Б.М. Эйхенбаума к Ю.А. Бережновой.
Мещерская Е.А. Жизнь некрасивой женщины.
Мещерская Е.А. Жизнь некрасивой женщины.
Фикельмон Д. Дневник, 1829–1837.
Пушкин А.С. N. N. (В.В. Энгельгардту) // Полн. собр. соч. Т. 1. С. 314.
Тургенев И.С. Литературные и житейские воспоминания // Полн. собр. соч. Т. 11. С. 13.
Фикельмон Д. Дневник, 1829–1837.
Лермонтов М.Ю. Маскарад // Соч. Т. 2. С. 138.
Зилоти А.И. Воспоминания и письма.
Зодчий. 1905. Вып. 49.
Корберон М. Интимный дневник…
Корберон М. Интимный дневник…
Грот Я.К. Екатерина II и Густав III.
Райкин А.И. Без грима.
Довлатов С.Д. Наши.
Пекуровская А. Когда случилось петь С. Д. и мне.
Довлатов С. Марш одиноких.
Гиляровский В.А. Москва и москвичи.
Берггольц О. Собр. соч. Т. 3.
Соколовская Н. Ольга. Запретный дневник.
Берггольц О. Мой дом.
Берггольц О. Мой дом.
Набоков В.В. Другие берега. С. 181–182.
Куприн А.И. Голос оттуда.
Набоков В.В. Другие берега. С. 180.
Набоков В.Д. Временное правительство и большевистский переворот.
Набоков В.Д. Временное правительство и большевистский переворот.
Набоков В.В. Стихи. С. 31.
Кульбин Н. Боткин Сергей Петрович.
Белоголовый Н.Л. С.П. Боткин. С. 44.
Достоевский Ф.М. Преступление и наказание // Полн. собр. соч. Т. 6. С. 313.
Достоевский Ф.М. Идиот // Там же. Т. 8. С. 239.
Достоевский Ф.М. Бобок // Там же. Т. 21. С. 47–48.
Булах Г. Молодость, ты прекрасна: записки инженера.
Булах Г. Молодость, ты прекрасна: записки инженера.
Как это было. Дневник А.И. Шингарева.
Куторга И. Ораторы и массы.
Опочинин Е.Н. Яков Петрович Полонский и его пятницы.
Чайковский М.И. Жизнь Петра Ильича Чайковского. Т. 3.
Чайковский П.И., Мекк Н.Ф., фон. Переписка. Т. 1.
Чайковский П.И. Письмо от 3 марта 1890 г. к М.И. Чайковскому // Полн. собр. соч. Т. XVБ. С. 87–88.
Чайковский М.И., Чайковский П.И., Шиловский К.С. «Пиковая дама» П.И. Чайковского.
Сукновалов А.Е. Петроградская сторона.
Блок А.А. Стихотворения. Поэмы. Воспоминания современников.
Мариенгоф А.Б. Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги.
Мариенгоф А.Б. Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги.
Мариенгоф А.Б. Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги.
Мариенгоф А.Б. Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги.
Кровавая драма // Газета-копейка.
Блок А.А. Записные книжки.
Цит. по: Одоевцева И. На берегах Невы. На берегах Сены.
Ремизов А.М. Собр. соч. Т. 3.
Твелькмейер Л.Б. Мой отец и его окружение.
Кельмович М. Иосиф Бродский и его семья.
Кельмович М. Иосиф Бродский и его семья.
Пушкин А.С. Медный всадник. С. 14–15.
Гиппиус З.Н. Дмитрий Мережковский.
Мережковский Д.С. Стихотворения и поэмы.
Мережковский Д.С. Стихотворения и поэмы.
Гиппиус З.Н. Дмитрий Мережковский.
Мережковский Д.С. Стихотворения и поэмы.
Нива. 1896. № 34. С. 857.
Ковалевская С.В. Воспоминания детства.
Ковалевская С.В. Воспоминания детства.
Пикуль В. Фаворит. Т. 2.
Пикуль В. Фаворит. Т. 2.
Юрьев Ю.М. Записки. Т. 1.
Брик Л. Из воспоминаний.
Новый кооператив.
Карпов П. Из глубины.
На квартире художницы Любавиной в Петербурге в 1915 г. – Примеч. Н. Клюева.
Клюев Н.А. Словесное древо.
Шкловский В. О Маяковском.
Маяковский В.В. Флейта-позвоночник.
Шкловский В. О Маяковском.
Волохова Н. Феномен.
Маяковский В.В. Флейта-позвоночник.
Одоевцева И. На берегах Невы.
Игорь Дмитриев: «Я стремился воссоздать облик квартиры детства».
Шкапская М.М. Час вечерний.
Палей А.Р. Встречи на длинном пути.
Шкапская М.М. Mater dolorosa.
Шкапская М.М. Mater dolorosa.
Шкапская М.М. Mater dolorosa.
Юрьев Ю.М. Записки. Т. 1.
Пильский П. А.Т. Аверченко // Десятилетие ресторана «Вена».
Миленко В. Аркадий Аверченко.
Тэффи Н.А. Моя летопись.
Цит. по: Дейч А. Арабески времени.
Пикуль В. Фаворит. Т. 1.
Пекарский П.П. История Императорской академии наук в Петербурге. Т. 1.
Пикуль В. Фаворит. Т. 1.
Гиндикин С.Г. Рассказы о физиках и математиках.
Стравинская В. Дневник. С. 526.
Князев В. Стихи.
Кузмин М.А. Осенние озёра.
Князев В. Стихи.
Кузмин М.А. Дневник. С. 275.
Ахматова А. Поэма без героя.
Иванов Г.В. Полн. собр. стихотворений.
Светлов П.Г. Александр Александрович Любищев.
Из воспоминаний бабушки.
Анненков П.В. Н.В. Гоголь в Риме летом 1841 года.
Гоголь Н.В. Письмо Пушкину // Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 100–101.
Гоголь Н.В. Письмо Пушкину // Там же. С. 146.
Гоголь Н.В. Ревизор. С. 281.
Одоевцева И. На берегах Невы.
Гумилев Н. Стихотворения.
Аверченко А. Стихотворная сатира первой русской революции. / Сост. Банк Н.Б. и др.
Галин В.Ю. Капитал Российской империи.
Аверченко А. Стихотворная сатира первой русской революции. / Сост. Банк Н.Б. и др.
Амфитеатров А.В. Против течения.
Аверченко А. Стихотворная сатира первой русской революции. / Сост. Банк Н.Б. и др.
Амфитеатров А. Против течения.
Аверченко А. Стихотворная сатира первой русской революции. / Сост. Банк Н.Б. и др.…
Богданович А. Три последних самодержца.
Аверченко А. Стихотворная сатира первой русской революции. / Сост. Банк Н.Б. и др.
Булацель П.Ф. Борьба за правду.
Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого.
Булацель П.Ф. Борьба за правду.
Стругацкие А. и Б. За миллиард лет до конца света.
Сандлер В. Вокруг Александра Грина // Воспоминания об Александре Грине.
Воспоминания об Александре Грине.
Андроников И.Л. Рассказы литературоведа. С. 99–143.
Врангель Н.Е. Воспоминания.
Врангель М.Д. Моя жизнь в коммунистическом раю.
До 1913 г. эта часть проспекта называлась улицей Нюстадской, сегодняшний дом № 9 был домом № 7 по улице Нюстадской.
Успенский Л. Записки старого петербуржца.
До 1940 г. улица Профессора Попова называлась Песочной.
Инбер В. Почти три года.
Тихонов Н.С. Рядом с героями.
Инбер В. Душа Ленинграда.
Егорова Т.Н. Андрей Миронов и Я.
Куклин Л.В. Диалог.
Благодаря старому календарю Февральская революция произошла в России в марте, а Октябрьская – в ноябре. – Примеч. Н. Берберовой.
Витте С.Ю. Воспоминания.
Бернстейн Г. О двух политических убийствах в России.
Ильин С. Витте.
Волков С. Диалоги с Владимиром Спиваковым.
Ильин М., Сегал Е. Александр Порфирьевич Бородин; Письма.
А.П. Бородин в воспоминаниях современников.
Некрасов Н. Недавнее время // Полн. собр. соч. и писем. Т. 3. С. 73.
Российский архив. Т. 6.
Куприн А.И. Блаженный // Собр. соч. Т. 2.
Сандлер В. Вокруг Александра Грина // Воспоминания об Александре Грине.
Исторический архив. Вып. 5–6.
Мельгунов С.П. Голос минувшего на чужой стороне.
Самойлов А., Бузинов В., Крыщук Н. Расставание с мифами.
Найман А. Рассказы о…
Булах А.Г., Булах-Гардина Т.Д., Булах К.Г., Шуйский В.К. Мир искусства в доме на Потемкинской.
Булах А.Г., Булах-Гардина Т.Д., Булах К.Г., Шуйский В.К. Мир искусства в доме на Потемкинской.
Булах А.Г., Булах-Гардина Т.Д., Булах К.Г., Шуйский В.К. Мир искусства в доме на Потемкинской.

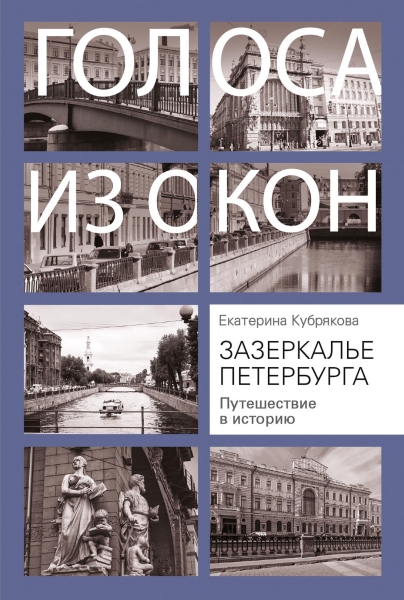

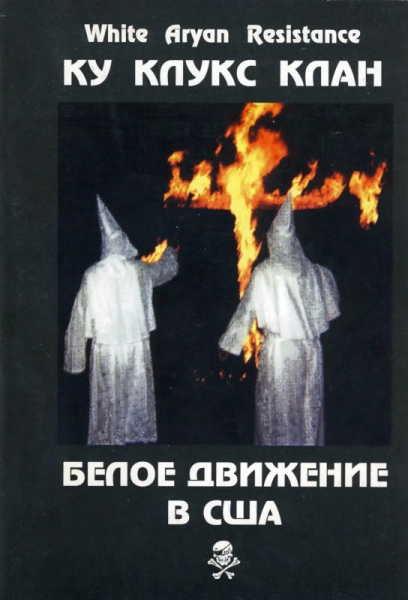


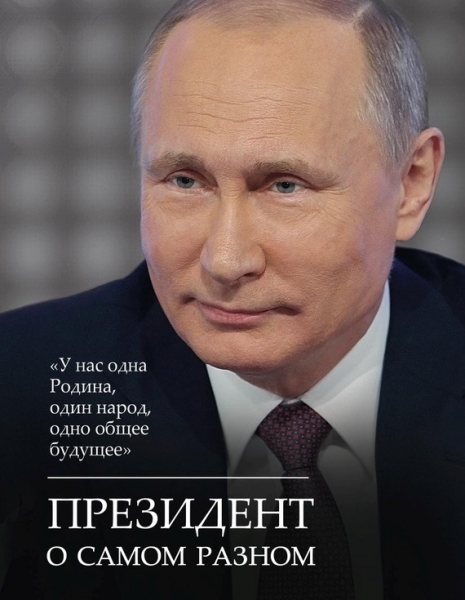
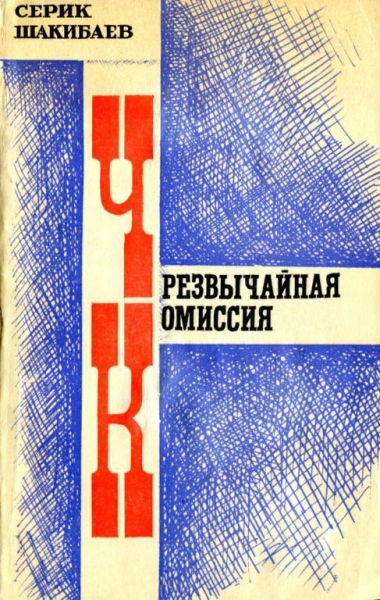
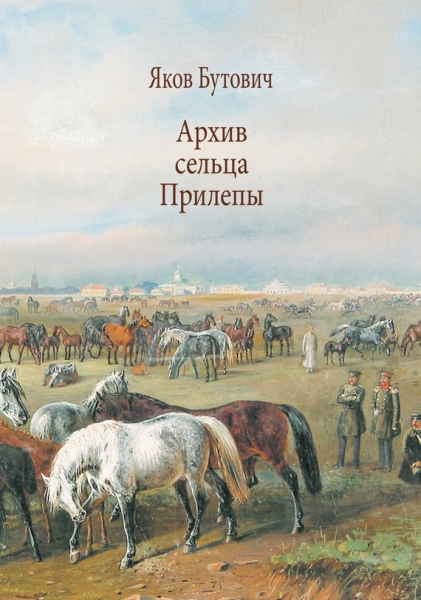

Комментарии к книге «Зазеркалье Петербурга. Путешествие в историю», Екатерина Вячеславовна Кубрякова
Всего 0 комментариев